13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Зандер Лев Александрович
Зандер Л.А. О Ф. А. Степуне и о некоторых его книгах
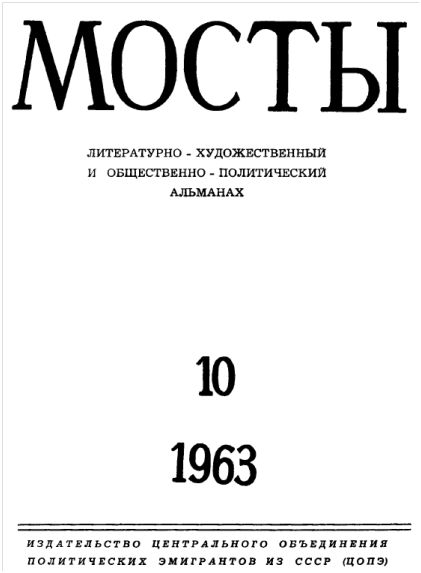
Germany. München
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Файл в формате PDF взят с сайта http://www.emigrantika.ru/
Л. ЗАНДЕР
О Ф. А. Степуне и о некоторых его книгах
I
С Федором Августовичем Степуном меня связывает не только долголетняя дружба и сотрудничество, но и некоторая общность судьбы. Оба мы, окончив наше учение в России, поехали для дальнейшего усовершенствования в Германию (и оба — в тот же незабвенный Гейдельберг), потом, по возвращении, оба не нашли себе места в официальной академической среде и были принуждены идти «своим путем» (который в конечном итоге привел нас обоих к академическим кафедрам). Это позволяет мне сделать некоторые выводы и сравнения, выходящие из пределов личных биографий и принадлежащих к факторам «культурно-историческим», как их называл наш общий учитель Виндельбанд.
В своем устремлении в Германию мы были не одиноки. И о. Сергий Булгаков, и Б. П. Вышеславцев, и С. Л. Франк и многие другие шли этим путем, по разному его оценивая и по разному воспринимая то, что нам предлагала немецкая академическая жизнь. Но основной импульс был у нас один, и на нем следует остановиться.
О людях нашего стиля ядовито и несправедливо писал В. Ф. Эрн:
«чтобы попасть в Афины, необходимо ’перелететь’
... на крыльях лебединых
Двойную грань пространства и веков...1)
Это далекое и трудное путешествие (некоторым философам) казалось, очевидно, 'несовременным'. 'Крыльям' они предпочли билеты II класса, 'двойной грани’ — русско-немецкую границу, античным Афинам — современные: Фрейбург, Гейдельберг, Марбург, Вюрцбург и прочие университетские города несвященной Германской империи. Запасшись там философскими товарами са-
1) Стих Вл. Соловьева.
318
мой последней выделки, они приехали в Россию и тут, окруженные варварством, почувствовали себя носителями высшей культуры. . .» и т. д. 2)
Если отбросить журнальный тон этих слов, то по существу они являются не только упреком и осуждением, но и ставят перед нами (даже теперь, по прошествии полустолетия) серьезную проблему. Как могли мы просмотреть, что подлинной страной философии, мудрости, Логоса является Россия? Как могли мы первородству христианской мудрости Востока предпочесть рационализм бесплодной немецкой науки? Как могли мы — искатели подлинной философии — подменить православие неокантианством? Об этом хорошо пишет о. Г. Флоровский:
«Психология философов становится у нас в те годы религиозной. И даже русское неокантианство имело тогда своеобразный смысл. Гносеологическая критика оказывается как бы методом духовной жизни, — и именно методом жизни, а не только мысли. И такие книги, как 'Предмет знания’ Г. Риккерта или 'Логика' Г. Когена, не читались ли тогда именно в качестве практических руководств для личных упражнений, точно аскетические трактаты?» 3)
Да. Федор Августович вероятно подтвердит, что в Гейдельберг мы ехали с психологией паломников: что мы искали не просто знания (или, упаси Боже, дипломов), а мудрости. И я посейчас помню, с каким благоговением я подал Виндельбанду второй (систематический) том его «Прелюдий», прося написать мне несколько слов поучения. Увы, он меня жестоко разочаровал. «Что же мне написать вам?» — спросил он; потом нацарапал что-то и вернул мне книгу. Поблагодарив его, я вышел и открыл томик, думая найти в нем некое откровение, но на первой странице стояло только: «В. Виндельбанд. Гейдельберг. 1913...» Но это мелочь, только отсутствие воображения у большого ученого. А его лекции, которые открывали перед нами бесконечные перспективы, переносили нас вглубь веков, знакомили — да, лично знакомили — с Гераклитом и Платоном, с Джиордано Бруно и с Декартом; его семинары, в которых он ясно понимал не только то, о чем мы говорили, но и то, о чем мы хотели, но не умели говорить и что мы должны были бы сказать, навсегда останутся в нашей благодарной памяти...
Что же влекло нас в этот мир? Наука и только наука — отвечает современник Ф. А. Степуна, подвизавшийся не в Гейдельберге, а в Марбурге:
«Если ходячая философия говорит о том, что думает тот или другой писатель, а ходячая психология — о том, как думает средний человек; если формальная логика учит, как надо думать в булочной, чтобы не обсчитаться сдачей, то Марбургскую школу интересовало, как думает наука в ее двадцати-
2) В. Эрн. «Борьба за Логос» (Москва, 1911), стр. 73 и след.
3) Пути русского богословия. Париж, 1937, стр. 485.
319
пятивековом непрекращающемся авторстве, у горячих начал и исходов мировых открытий. В таком как бы авторизованном самой историей расположении, философия вновь молодела и умнела до неузнаваемости, превращаясь из проблематической дисциплины в исконную дисциплину о проблемах, каковой ей и подобает быть» 4).
Но вот: перечитывая воспоминания Пастернака о Марбурге и воспоминания Ф. А. Степуна о Гейдельберге, ясно видишь различие этих двух знаменитых школ. Марбург (Коген, Натори) весь захвачен пафосом чистой науки; к жизни (к «психологизму») он скорее равнодушен: критика чистого разума, критика чистой воли, критика чистого чувства. . . 5) «Жизнь есть
метафизическая связь трансцендентальных предпосылок... они — не жизнь, а тень суждений»
(так характеризовал марбургскую философию Андрей Белый 6); или «никто, мыслящий о ничто» — по словам о. С. Булгакова. В Гейдельберге — совсем иное; конечно, это тоже неокантианство; но все оно обращено к жизненным ценностям, к воле к их созданию, к творчеству — в конечном итоге — к культуре. В этом последнем понятии — разгадка всего. Думая о нашем прошлом, спрашивая себя, что влекло нас в Германию, чем пленяла нас Европа, мы неизменно приходим к тому же ответу: своей культурой. Эрн упрекал нас в том, что мы духовную культуру Востока подменили технической цивилизацией Запада; о. Сергий Булгаков писал:
«Пришла новая волна упоения миром.. . первая встреча с Западом, и первые ее восторги: 'культурность’, комфорт, социал-демократия. ..»
Мне думается, что дело здесь не в «комфорте». Читая воспоминания о Гейдельбергской жизни Ф. А. (равными им по красочности являются только строки «Охранной грамоты» Пастернака), вспоминая собственную жизнь, видишь, что ни о каком особенном комфорте здесь речи нет. Жизнь в студенческой среде в Германии вероятно была даже проще, беднее, чем жизнь нашего круга людей в дореволюционной России. И все же прав был Достоевский, когда писал:
«Святая Русь страна деревянная, нищая и ... опасная, страна тщеславных нищих в высших слоях своих, а в огромном большинстве живет в избушках на курьих ножках» 7).
Но этой русской безотрадности мы противопоставили отнюдь не «каменное строение» Европы, в которой еще есть на что опереться
4) Б. Пастернак. Охранная грамота, стр. 90 в томе Чеховского издательства «Опальные повести».
5) Заглавия книг Г. Когена.
6) Сборник «Урна», стр. 66.
7) Бесы, том II, глава VI.
320
(там же), а идею культуры, понятой как достоинство человеческой личности, как благоустроение жизни, как свободу и инициативу творчества — все начала, господствовавшие, как нам казалось, в жизни Европы... Я думаю, что притягательная сила культуры, как духовного и материального устроения жизни, была сильна и у Достоевского (который вообще по отношению к Европе был несправедлив и пристрастен, знал ее к тому же поверхностно): как он описывает жизнь в Эмсе, восхищаясь трудовой дисциплиной девушек, подающих больным минеральную воду, и немецкой прислуги, работающей так, «как у нас не работают»!
«Здесь каждый принял свое состояние так, как оно есть, и на этом успокоился, не завидуя и не подозревая, по-видимому, еще ничего — по крайней мере в огромнейшем большинстве. Но труд, все-таки, прельщает, труд установившийся, веками сложившийся, с обозначившимся методом, с приемами, достающимися каждому чуть не со дня рождения, а потому каждый умеет подойти к своему делу и овладеть им вполне». 8)
А все очарование Версилова не является ли результатом его «европеизма», как «единственного европейца» среди ограниченных национализмом враждующих народов?.. Может быть лучшим определением того, что нас влекло в Германию и чему мы ехали туда учиться, будет любимое слово Достоевского, которое он употреблял в совершенно ином контексте: благообразие жизни. А сюда входит и трудовой принцип, и дисциплина воли, и известный интеллектуальный уровень, и общие условия жизни, и все вообще, чем нас пленила и пленяет Европа, несмотря на все разочарования в ней, о которых так глубоко и остро писали и Герцен, и Леонтьев, и Толстой и которые так больно ударили и по нашей психологии и продолжают нас бить, начиная с 1914 года и по наши дни...
В этой нашей устремленности к культуре был однако один большой пробел, вернее односторонность. Европа являлась нам в своем немецком аспекте; Германия была для нас не только представительницей Европы, но едва ли не заслоняла собою другие лики Европы — французский, английский, итальянский, испанский — не менее значительные, чем германский. Эта абберация была очень распространенной; как на пример ее укажем на описку такого глубокого ума, как о. Сергия (тогда профессора Сергея Николаевича) Булгакова. В своем предисловии к «Свету Невечернему» он пишет: «С тех пор, как Петр прорубил свое окно в Германию...» (sic!) и далее сетует на «засилие» Германии над русской душой. И правда — все мы ехали учиться в Германию, все мы увлекались неокантианством; и никто не думал и даже не знал имен Леона Блуа, Шарля Пеги, Маритэна...
Но для чего пишу я об этом, говоря о Ф. А. Степуне? Для того,
8) Дневник писателя за 1876 г., стр. 330, 332.
321
чтобы показать его философское становление и определить (насколько это возможно) духовный генезис его личности и деятельности. А в структуре его души и творчества европейская и в частности германская традиция имеют огромное значение и можно сказать определяют собой его духовный лик. Он — европеец в лучшем смысле этого слова, он — представитель западной культуры, западного трудолюбия, западной честности и ответственности, и эта печать лежит на всем, что он делал, говорил и писал. С полным правом он может повторить слова Достоевского: «Мы во всяком случае и прежде всего джентельмены» 9).
Однако эта «апология от культуры» (понятой при этом в качестве духовной силы и идеального устремления) не является ответом на упрек В. Ф. Эрна: «просмотрели Россию, не поняли, не увидели ее святости, которая в существе своем культурнее всякой культуры. ..» Но здесь имеются смягчающие обстоятельства. О культурности православия легко говорить теперь, когда о. Сергий Булгаков, о. Павел Флоренский и вся славная плеяда русских философов «серебряного века» уже прошла «трудный путь от православия к современности и обратно» 10). Но ведь тогда этого не было! Тогда только редкие голоса (Гоголь, Федор Бухарев, Достоевский) говорили о том, что потом получило наименование «Православной культуры». Это словосочетание казалось еще столь неожиданным и странным, что даже в 1923 году берлинский издатель сборника «Православие и культура» (задуманного о. Василием, тогда профессором В. В. Зеньковским) ездил по разным «экспертам», справляясь, можно ли ставить рядом эти два слова. А когда в 1928 году мне пришлось читать доклад о «Православной культуре» на одном международном съезде, то один видный греческий богослов иронически спрашивал меня: «Что же, вы будете говорить нам о православных локомотивах и православных автомобилях? Культура может быть только одна — общечеловеческая; и православию до нее дела нет.. .» Мне пришлось объяснять ему, что культура и техника две вещи разные, что культура есть система ценностей (а не просто знаний и навыков), что если нельзя говорить о православных автомобилях, то можно говорить о православном отношении к автомобилям и к той духовной свистопляске, которая видит смысл жизни в быстроте движения и в преодолении пространства 11).
9) Преступление и наказание, стр. 579.
10) Слово о. С. Булгакова в предисловии к «Свету Невечернему».
11) Ср. по этому поводу проповедь арх. Никанора (Бровковича) «О вреде железных дорог, пара и вообще об опасностях слишком быстрого движения жизни», произнесенной им в 1885 году при открытии Одесского вокзала. О ней пишет Константин Леонтьев («Восток, Россия и славянство», том II. Москва, 1885, стр. 387), цитируя Православное обозрение, октябрь 1884, что является явной ошибкой, так как са?ло событие помечено 1885 годом.
322
Этим дело не исчерпывается: в нашем историческом отрезке православие и культура находятся не только в состоянии «развода», но часто рассматриваются, как начала друг с другом несовместимые и друг другу враждебные. И на этом фронте идет ожесточенная и разнообразная борьба: церковники поносят культуру (имея главным образом в виду ее представителей — интеллигенцию), «интеллигенты» отвечают обличениями церковной действительности в дикости и непросвещенности. И только небольшая группа «церковной интеллигенции» — людей, для которых понятия культа и культуры принадлежат к одному корню не только филологически, но и жизненно — ведет борьбу не отрицательную, а положительную, не разрушительную, а созидательную, отстаивая единство веры и знания, Церкви и всех областей культуры и утверждая всеобъемлющую полноту христианской жизни.. . Но борьба эта — упорная и жестокая, и коренится она не в фактических данных, а в духовных установках: в недоверии, в предвзятости, в подозрительности и т. п. И ведется она с переменным успехом в разные периоды и на разных участках фронта. В годы нашей молодости возможности «встречи» только намечались (удача и прекращение «религиозно-философских собраний»); но те, кто верил в возможность не только «народного» (вернее «простонародного») православия, все же не могли не применить к себе стиха Мережковского:
Дерзновенны наши речи,
но на смерть обречены
слишком ранние предтечи
слишком медленной весны...
В связи с этим можно ли удивляться тому, что в жажде «культуры» мы обращались туда, где нам ее давали «в готовом виде»; в Церкви, которая ее создала и в каком-то смысле хранила, ее надо было «открывать», расчищая древние фрески и иконы, угадывая в крюках красоту старинных распевов, вычитывая в творениях отцов ответы на вопросы социальной жизни, отыскивая в богослужебных текстах истины гносеологии, этики, космологии. В то время эта работа только начиналась; но надо признаться, что и сейчас она является для нас более «проектом» и «планом», чем расчищенной картиной или отрытым в земле дворцом... В нашем увлечении западной культурой мы были жертвами той исторической трагедии, вследствие которой «Пушкин не знал Св. Серафима, а Св. Серафим не знал Пушкина».12)
Но будучи «жертвами», мы оказались и «водоразделом». Ибо на культурно-неокантианских, нейтрально-благожелательных позициях удержались очень немногие. Путь большинства из нас определил
12) Слова о. Сергия Булгакова.
323
ся к христианству и в этом мы видим «не наше, не смутные мерцания настроений, не ’имагинацию’, но голос истории — превозмогающую силу Церкви».13) Однако сила эта проникла и проработала наше сознание не одинаково, и это определило различие типов русской религиозно-философской мысли. Почти все мыслители этой школы, или, вернее, этого направления — православные, в смысле их фактической принадлежности к Церкви. Но что касается их мысли, то некоторые из них целиком вдохновлялись православным вероучением, другие обращались к великим христианским мыслителям вне зависимости от их вероисповедания; некоторые чувствовали себя ответственными перед церковным сознанием, другие ощущали себя «свободными теософами» (выражение Н. А. Бердяева). Были, наконец, и такие, которые вполне отожествили себя с церковным сознанием и говорили, учили и обличали от имени Церкви...
Ф. А. Степун принадлежит к средней группе. Он убежденный христианин; он принадлежит к православной Церкви, но православие является для него одной из форм вселенского христианства. С некоторым приближением можно сказать, что православие является для него — «вероисповеданием», а не «Церковью». А Церковь — шире вероисповедания. В этом смысле он остается верным заветам Вл. Соловьева, который всегда боролся против провинциализма «греко-российства» и в своем искании вселенского христианства предвосхитил современные движения экуменизма. Можно поэтому сказать, что Ф. А. является христианином «убежденным», а не «бытовым»; и это обстоятельство имеет в его творчестве очень большое значение. Ибо он внес в свое христианское миросозерцание ту честность мысли и ту бескомпромиссность нравственной воли, которые так сильны в кантианстве всех оттенков. И это придает его писаниям и словам совершенно особую силу и значительность: слова у него не расходятся с делом; и компромиссов (которые часто шокируют нас в «бытовом исповедничестве») он не допускает. Христианство для него — не система теоретических истин и не институт Церкви, а жизнь, существование (слово это не передает характера термина Existenz, каковым он пользуется, противополагая безбожие христианству).
В этом смысле о нем можно сказать, что он не забыл и не изменил ничему доброму, чему его учили в Гейдельберге, но вознес все это на высшую ступень религиозного сознания, соединив восточное вдохновение с западной принципиальностью и показав на примере, по каким путям может плодотворно идти экуменический синтез.
Мы уже упоминали о его верности заветам Вл. Соловьева. Боль-
13) о. С. Булгаков. В Айя Софии (в «Русской мысли», 1923, VI-VIII, перепечатано в Автобиографических заметках. Париж, 1946, стр. 102).
324
шой портрет последнего висит в его рабочем кабинете. Для меня каждая встреча с проникновенными глазами этого «рыцаря-монаха» 14) является подлинным переживанием. Ведь все мы в молодости увлекались Соловьевым, «шли за ним» 15). И у всех нас висел этот портрет. . . Но затем увлечения молодости прошли, и многое в Соловьеве подверглось преодолению, переработке, изменению. Но первая философская любовь осталась в душе, как благоуханное воспоминание о первых восторгах мысли, о первых взлетах души в горний мир созерцаний. И вот, входя в комнату Ф. А. и видя знакомые черты Соловьева и слыша голос самого хозяина, верного свидетеля этих прошедших годов, молодеешь, просветляешься и чувствуешь, что твоя душа снова раскрыта для философии, снова жаждет мудрости Слова, забывая обо всех разочарованиях долгой жизни. И не в этом ли тайна вечной молодости самого Ф. А., над идеализмом которого как будто не властно время — ибо знания и опыт не убили в нем юношеского энтузиазма, которым он стихийно заражает каждого, кого встречает на своем жизненном пути.
II
Для людей нашего поколения определяющей школой жизни была война. Ф. А. Степун не только пережил ее в качестве офицера-артиллериста, участвовавшего и в боях, и в отступлениях, и в вынужденном лежании в лазарете, но и осознал весь ее трагизм с точки зрения личной судьбы отдельного человека, культурного одичания целых народов и, наконец, метафизически — как страшного явления жизни, своего рода рока, перед которым человеческая мысль изнемогает и остается в недоумении и растерянности. Все это нашло место в его небольшой книжечке, скромно озаглавленной «Из писем прапорщика-артиллериста», прекрасно написанной и чрезвычайно богатой по своему содержанию. Книжку эту можно бегло прочитать, но ее можно и изучать, ибо в ней содержится не только художественные описания фактов (а картины, рисуемые автором, остаются в памяти навсегда), но целая философия — жизненная проверка всего, что Ф. А. передумал и перечитал в годы своего «учения». И поскольку война означала вечное передвижение с места на место и от одной человеческой души к другой, можно сказать, что эта книжка содержит в себе рассказ о годах странствий
14) Так озаглавил свою статью о Соловьеве А. Блок (в сборнике изд. Путь, посвященном Вл. Соловьеву).
15) Заключительные слова статьи о Вл. Соловьеве С. Н. Булгакова в сборнике «От марксизма к идеализму» (СПБ, 1903).
325
(Wanderjahre), сменивших годы учения (Lehrjahre) современного нам Вильгельма Мейстера...
Три указанных плана, которые мы различаем в этой книге, соответствуют трем началам, о которых нам говорил наш учитель Виндельбанд: лично — биографическому, национально — культурно-историческому, и «прагматически» — вневременному и философскому. Первый касается жизни и судьбы самого Ф. А.; о них более подробно и систематически рассказано в его воспоминаниях. Но целый ряд замечаний о том, что он испытывал на войне, представляет собой огромный психологический интерес. Приведем два примера:
Во Львове, в нарядном ресторане, в котором «мы топтали голубые ковры грязными походными сапогами», сосед по столу —
«вынимая изо рта прекрасную сигару изредка взглядывал на нас и на лице его сказывалось чувство безусловного превосходства над нами. Я посмотрел на себя в зеркало и почувствовал, что он прав: на меня смотрел краснорожий микроцефал с тупым выражением большой физической усталости в глазах — и больше ничего. Конечно, война громадная вещь, громадная проблема, громадное переживание — но эта проблема до поры до времени мною куда-то складывается. Я же сейчас туп, глух, глуп и замкнут. Душа лежит в груди свернувшись ежом: извне неуязвимая, внутри снулая».
И сейчас же (то есть меньше чем через месяц, следуя датировке писем):
«Шрапнели продолжали рваться вокруг нас. Основное настроение этой минуты — безусловная и наивная радость. До чего противоречиво существо человека! Решительно можно сказать, что себя самого человеку никогда не понять. Бой — который я отрицал всем сердцем, всем разумом и всем существом своим, меня радует и веселит, веселит настолько, что впадая в несколько преувеличенный и ложный тон, я не без основания мог бы воскликнуть, что бой для мужа, все равно что бал для юноши. Хотя, конечно, надо заметить, что наш первый бой был вряд ли одним из тех боев, что составляют и сущность и ужас войны...»
Эта неожиданность и непонятность собственных реакций на происходящее становится понемногу основной установкой Ф. А. по отношению к той реальности, которую можно воспринимать и передавать, но о которой нельзя «философствовать».
«Хуже всего (пишет он) ужаснейшая ложь нашей идеологии. 'Отечественная война’, 'Война за освобождение угнетенных народностей’, 'Война за культуру и свободу’, 'Война и св. София’, 'От Канта к Круппу’ 16) — все это отвратительно тем, что из всего этого смотрят на мир не живые, взволнованные
16) Серия докладов и лекций на тему «Война и культура» (изд. Сытина, Москва. 1915); кн. Т. Н. Трубецкой — Национальный вопрос. Константинополь и св. София; его же — Смысл войны (изд. Путь, М., 1914); от Канта к Круппу — статья В. Ф. Эрна (в сборнике его статей Меч и крест, М., 1915) и т. д...
326
чувством и мыслью пытливые человеческие глаза, а какие-то слепые бельма публицистической неточности и философского доктринерства.. .»
И он приводит ряд отвратительных примеров того, что он сам видел на войне и что непосредственно производимым впечатлением способно опровергнуть все аргументы, пытающиеся философски понять и осмыслить происходящее.
Но в одном он не прав: его гнев (справедливый по существу) заставляет его сплеча осуждать всех, кто вообще думает о войне, может быть ошибаясь в ее современной оценке, но безусловно честно стремясь проникнуть в глубь времени и выяснить основные линии человеческой истории. Если держаться только фактов (которые нудят нас к благоговейному молчанию), то теряет смысл всякая историософия, а следовательно и принципиальная политика. С большим блеском и острой иронией описывает он заседание Московского религиозно-философского общества. Под условными буквами Ν, X, Υ и т. п. мы легко узнаем и докладчика — С. Н. Булгакова, и других корифеев Московской школы — Е. Н. Трубецкого, В. Ф. Эрна и других.
«Мое появление на костылях вызвало по отношению ко мне громадный приток ярко выраженных симпатий, но... видел бы ты, как быстро эта прибойная волна отхлынула от меня, как только выяснилось, что я не ранен, а выброшен из саней. Мне кажется, что если бы я умер от моей ноги, мне все равно не простили бы такой ненарядной смерти... Прения по докладу затянулись далеко за полночь и мне было на этот раз определенно тяжело и неприятно их слушать. Все время перед глазами стояло озеро Бабит и бурые болота боевых участков под Ригой. Куда-то проходили цепи серых сибирских стрелков, все время в ушах трещали пулеметы, раскатывались орудийные выстрелы, стонали раненые — и не ладно врывались во все это на все лады произносимые слова о святой Софии... Несколько дней спустя после доклада я был у X и застал там профессора референта. Говорили почти все время на темы реферата. Многое, что в публичном заседании меня определенно коробило, производило в уютной и одухотворенной квартире поэта гораздо более приятное впечатление.
В этот вечер я узнал между прочим главную причину нашей войны с немцами. По словам Υ она заключается в том, что Лютер отверг культ Богоматери, на что, конечно, нельзя возражать указанием, что половина Германии католична; X же видит причину в том, что Гретхен не замолила греха Фауста. Наши сибиряки кончают таким образом молитву Гретхен и спасают душу Фауста. Я знаю, что обо всем рассказываю тебе несколько односторонне, и заранее соглашаюсь, что в формуле X есть и своя глубина, и своя красота, и своя историко-философская правда. Но все же мне сейчас глубоко чужд такой метод мышления. Реальность войны, реальность вещей и сущностей так властно стоит передо мной в последнее время, что я решительно отказываюсь рассматривать войну, как дополнительную молитву Гретхен. Все это полно бле-
327
стящей талантливости и субъективной виртуозности, но все это не то пред лицом суровой, трагической действительности. Гадает X «по звездам», но иной раз я боюсь, что все его ослепительные формулы в конце концов лишь прожекторы, заливающие искусственным светом сложно отточенные грани его изощренной личности». 17)
Мы привели эту длинную цитату и стихотворение В. Иванова потому, что они чрезвычайно характерны для того положительного влияния, которое имела война на душу русских мыслящих людей. Она знаменовала собой обращение от переутонченной «отвлеченной грезы» к «реализму действительной жизни» (выражение Достоевского). Об этой бесполезности жизни, превращенной в систему символов и проблем, с большой болью и горечью писал еще Блок (в 1908):
«Все эти образованные и обозленные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе, их супруги и свояченицы в приличных кофточках, многодумные философы и лоснящиеся от самодовольства попы знают, что за дверями стоят нищие духом, которым нужны дела. Вместо дел — уродливое мельканье слов... А на улице — ветер, проститутки мерзнут, люди голодают, их вешают; а в стране — «реакция»; а в России жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти болтуны в лоск исхудали от своих исканий, никому в свете, кроме 'утонченных натур’ ненужных — ничего в России бы не убавилось и не прибавилось! ..» («Религиозные искания» и народ).
Все это характеризует эпоху и проблематику, в которых жил и к которым был причастен Ф. А. И большой его заслугой, доказательством «огнеупорности» его души является то, что во всей этой безобразной «разваливающейся людской каше» (Блок, там же), он не потерял ни чувства реальности, ни здравых оценок и вместе с тем не изменил «кормчим звездам» религии, смысла, красоты... А ведь
17) Характеристика, данная «любимому поэту X», самый стиль его мышления и, наконец, взятые в кавычки слова «по звездам» раскрывают псевдоним: речь очевидно идет о Вячеславе Иванове, «Вячеславе Великолепном», авторе книги «По звездам» (СПБ, 1909). Но ведь и В. Иванову была знакома тоска по реальности:
Своеобразный русский ум, —
Как пламень русский ум опасен:
Так он неудержим, так ясен,
Так весел он — и так угрюм.
Подобно стрелке неуклонной,
Он видит полюс в зыбь и муть;
Он в жизнь от грезы отвлеченной
Пугливой воле кажет путь.
Как чрез туманы взор орлиный
Прослеживает прах долины,
Он здраво мыслит о земле,
В мистической купаясь мгле...
(Кормчие звезды, стр. 77).
328
в синтезе этих двух начал, вернее, устремлений — смысл и современной проблематики, трагедия современного человечества, двоящегося между абстрактным искусством и практическим строительством и накоплением. С полным правом можно повторить в наше время карикатурные слова Степана Трофимовича Верховенского:
«Знаете ли вы. . . что без науки можно прожить человечеству, без хлеба можно, без одной только красоты невозможно, ибо совсем нечего будет делать на свете! Вся тайна тут, вся история тут! Сама наука не простоит минуты без красоты — обратится в хамство, гвоздя не выдумаете!.. Не уступлю!» (Бесы, том II, часть III, главы Ι/ΙΙΙ).
Мечта и красота получили в жизни и творчестве Ф. А. особую и специальную форму в его любви к театру (См. его книги «Основные проблемы театра» и «Жизнь и творчество»). О силе этой любви к иному говорят некоторые страницы и военных воспоминаний. Так — Новый год на войне, в австрийской деревне:
«О маске, мечте и соблазне была сегодня моя новогодняя речь. Когда я ее говорил, мою душу заметала метель, в снежном тумане проносилась тройка, сквозь прорезы маски на меня смотрели чьи-то давно мне знакомые, где-то за пределами жизни виданные мною глаза 18). Звон глухих бубенцов сливался со звоном бокалов, а над всем этим миром лилась странная сладостная тревожная песнь. Было бесконечно грустно и бесконечно весело, ошеломляло и удивляло то, что удивительна вовсе не война, а эта вечная мелодия Нового года, и в душе восходила радость, что мир крови и лжи отступил перед миром великой и безбрежной лирической стихии.. .»
Но такая победа в поэзии возможна только в редкие минуты затишья. А в остальном: война — это
«Ночь, дождь, глина, мокрые ноги, горячий затылок, лихорадочная бредовая тоска о прошедшем и сладкая мечта о грядущем, проклятие безответного повиновения и проклятие безответственного приказания, развратная ругань, 'мордобитие’ перед атакой, отчаянный страх смерти, боль, крики, ненависть, одинокое умирание, помешательство, самоубийство, исступление неразрешимых вопрошаний: почему, зачем, во имя чего? А кругом гул снарядов, адские озарения красным огнем... Война есть безумие, смерть и разрзчпение, потому она может быть действительно понята лишь окончательно разрушенным душевно и телесно — сумасшедшим и мертвецом. Все же, что можем сказать о ней мы, оставшиеся в живых и в здравом уме, если и не абсолютно неверно, то глубоко недостаточно».
18) Это — стихи Блока: «Вот счастие мое на тройке в сребристый дым унесено, летит на тройке, потонуло — в снегу времен, в дали веков»; и — «А под маской было звездно, улыбалась чья-то повесть, короталась тихо ночь».
329
Этим смиренным признанием границ человеческого слова и человеческого суждения о грозной и таинственной реальности заканчивается книга.
III
В 1947 году под заглавием «Прошедшее и непреходящее» 19) вышли (по-немецки) три тома воспоминаний Ф. А. Степуна. В последствие эта замечательная книга появилась и по-русски под заглавием «Бывшее и несбывшееся» (в Чеховском издательстве, в Нью-Йорке, т. I и II). Написанная в виде воспоминаний, она далеко выходит за пределы простого повествования и является исключительным по своей яркости монументом, отражающим целую эпоху русской жизни.
Сначала два слова о ее форме. Ф. А. любит противополагать два понятия: «глаза» и «точки зрения». (Он озаглавил так одну из своих статей, об этом же он говорит и во II томе на стр. 123, а мы слышали это противоположение и в его устной беседе). Его книга является лучшим объяснением того, что он хочет этим сказать: когда смотришь на жизнь с какой-либо «точки зрения», то видишь не саму действительность, а только то, что в ней хочешь видеть; в результате возникает картина, которую можно назвать стилизацией, препаратом. Если же начнешь на ту же жизнь смотреть «глазами» (но для этого надо их иметь), то она предстанет во всей своей подлинности, конкретности, непосредственности и оригинальности. И тогда центр интереса перемещается в то, что видишь... Этим даром «живого глаза» Ф. А. обладает в высшей степени. Он видит то, чего другой бы не увидел, мимо чего прошел бы не заметив (в этом отношении его дар можно сравнить с единственным даром В. В. Розанова). Поэтому все, о чем он пишет — живет; все в его описании — ярко, увлекательно, интересно; все приковывает внимание, возбуждает симпатию, запоминается, как собственное переживание. Прочитав его книгу, во-первых, жалеешь, что кончил чтение, а во-вторых, — что не сможешь снова прочесть ее в первый раз...
Искусство это, однако, объясняется не только способностью «видеть». Для того, чтобы приобщить к этому «видению» читателя, надо еще уметь рассказать о виденном; и здесь сказывается другой — словесный — дар автора: он — замечательный стилист. Несколькими словами, двумя-тремя чертами он рисует портрет, живописует пейзаж, рассказывает событие и притом так, что читатель чувствует себя не зрителем, не слушателем, а участником той жизни, о кото-
19) „Vergangenes und Unvergängliches". Bd. I, II, III. bei J. Kosel-Verlag München, 1947-1950.
330
рой идет речь. Поэтому воспоминания Ф. А. Степуна читаются с неослабным интересом: взяв книгу в руки, не выпускаешь ее, пока не прочтешь до конца. .. Все это относится к форме; но не менее значительно и содержание. Оно охватывает целое полустолетие русской жизни, причем описывается очень различная среда: жизнь Ф. А. Степуна была очень богата впечатлениями. Сначала мы видим русскую деревню и фабрику (которой управлял отец автора); затем — детство и школьные годы в Москве; военная среда в провинции (отбывание воинской повинности — своего рода русский Sturm und Drang). Потом годы учения в Гейдельберге, быт русского революционного студенчества на фоне благоустроенной буржуазной Германии. Возвращение в Россию, лекционные поездки в отдельные города (даже в Туркестан и на Кавказ), жизнь обеих столиц до 1914 года; первая мировая война. .. Второй том посвящен революции (две главы: февраль и октябрь), политической работе в армии и в центре, затем — жизнь во взбаламученной деревне, и наконец — в эмиграции. В трактовке этого богатого материала сказывается широкий духовный диапазон автора. Все три плана жизни: лично-биографический, культурно-исторический и вневременно-философский находят в воспоминаниях Ф. А. свое место.
1) Воспоминания являются первым долгом автобиографией. Ф. А. пишет откровенно и порою даже страстно. Его повествование столь непосредственно и интимно, что близким становится не только он сам, но и те, о ком он с такой любовью пишет: его мать, его жена, его братья, его юношеские увлечения. При этом он не боится признаваться в своих ошибках, делится своими сомнениями, но нет в нем и ложной (почти что всегда неискренней) скромности: он говорит о себе, как о «я», а не как о каком-то постороннем «он».
2) Описать по настоящему «канунную» Москву, значит написать историю русской культуры, говорит Ф. А. (I, 255). Но книга его и есть очерк русской культуры и при этом такой яркий и полный, что мы по нему ощущаем самую плоть русской жизни. И хотя книга Ф. А. Степуна не претендует быть исследованием, а только «материалом для будущего историка» (стр. 8), лучшего «введения» в историю русской культуры конца XIX и начала XX вв. я не знаю.
3) Сам Ф. А. Степун писал свою книгу не только как историк: он хотел быть в ней и социологом, и психологом, и философом. Поэтому в ней много рассуждений, диагнозов и прогнозов русской жизни — всегда интересных, будящих мысль, волнующих чувство, но часто спорных. Книга Ф. А. Степуна легко может стать отправной точкой для интересного спора; мы и находим таковой в 46 книжке «Нового журнала», в статье М. М. Карповича «Комментарии», в конце которой он говорит:
«Я вижу, что своему несогласию с Ф. А. С. я уделил непропорционально
331
много места; думаю, впрочем, что это почти неизбежно: о согласии можно просто заявить, несогласие же приходится обосновывать. К тому же воспоминания Ф. А. С. так задевают за живое и поднимают столько 'самых важных вопросов’, что спорить с ним очень интересно и для спорящего очень полезно» (стр. 237).
Вполне присоединяясь к этим словам, я хотел бы указать и на иную возможность восприятия «спорных» мыслей автора. Эта возможность прекрасно формулирована в словах Шарля Пеги;
«Настоящие философы знают, что они стоят не друг против друга, а рядом друг с другом — оба рядом — перед одной и той же действительностью, всегда более таинственной и непостижимой (чем их мысли).. . Поэтому речь идет совсем не о том, чтобы 'убедить противника’ (в 'убедить' всегда звучит 'победить'). Будем лучше искать не ту мысль, с которой мы согласны, а ту, которая более глубока или более внимательна или — еще лучше — более благочестива, строга и свободна. В особенности же будем стремиться оставаться верными жизни: это выше всего. . .»
Переводя эти мысли на язык Ф. А. Степуна, можно сказать, что становясь на путь спора, мы неизбежно начинаем говорить о «точках зрения» и переносим центр тяжести на наше убеждение. Если же мы встанем на путь объективного познавания (и любования) и, оставив на время наши оценки, будем только смотреть (глазами!), то мысль другого предстанет нам не как объективная истина, но как некий образ созерцания и понимания, который имеет свое значение и смысл, даже если мы с ним не согласны. Следуя этому пути, я воздержусь здесь от спора с Ф. А. по вопросу, который меня особенно сильно задевает (о возможности христианской философии); обсуждение его могло бы стать темой особой статьи или даже целой книги (подобной работе Roger Меhl’я — La situation du philosophe), но тогда мне бы пришлось говорить о самой вере и о философии, а не о взгляде Ф. А. Степуна...
Спорность философских положений в книге Ф. А. не позволяет мне отнести их к третьему Виндельбандовскому плану — вневременно-философскому. В своих мыслях Ф. А. остается сыном своего времени и его диагнозы принадлежат поэтому к плану культурно-историческому. Но есть в его книге и «вечное», то, что останется и чему можно будет у него учиться и тогда, когда все исторические оценки и перспективы в корне изменятся. Это — его отношение к людям и к событиям, которое я считаю глубоко христианским — не по сознательному убеждению, не по волевой направленности, а по самому его существу, по его природе.
«Есть дурной и хороший глаз» — писал Блок. Глаза Ф. А. не только дальнозорки и остры — они хороши, потому что они умеют видеть доброе — даже там, где его как будто нет. В его характеристиках самых разнообразных людей мы почти не встречаем осуж-
332
дения. Это не сентиментальное благодушие: он умеет говорить очень острые слова (ср., например, его характеристики М. М. Филоненко, II, 149, или военного министра генерала Верховского, II, 182). Но характеристика никогда не становится под его пером осуждением и в большинстве случаев он пишет о том добром, что он в человеке увидел. В этом сказывается его огромная доброжелательность и его человечность. Он любит людей, любит жизнь, а любить можно только то, что прекрасно и добро; но для этого нужно его видеть; и в этом ясновидении добра он достигает порой подлинного пафоса. Возьмите его характеристику страшных лет голода и террора, когда, по его словам, «сердце каждого человека билось не в собственной груди, а в холодной руке невидимого чекиста» (II, 203). Вот как он описывает духовную сущность пережитого:
«Не только верующим, но и неверующим становилась понятной молитва о хлебе насущном, так как вся Россия, за исключением большевистской головки, ела свой ломоть черного хлеба, как вынутую просфору, боясь обронить хоть крошку на пол. Тепло, простор, уют исчезли из наших квартир, но в новых, часто убогих убежищах, глубже ощущалось счастье иметь свой собственный угол, крышу над головой. Маленькие железные печурки, по прозванию 'буржуйки’, вокруг которых постоянно торчали холод и голод, благодарно и первобытно ощущались почти что священными очагами жизни. По всей линии разрушающейся цивилизации новый советский быт почти вплотную придвигался к бытию. Становясь необычайным, все привычное своеобразно преображалось и тем преображало нашу жизнь.. . Всем нам становилось по-новому ясно, что есть любовь, дружба, чем поэт отличается от версификатора, подлинный философ от профессора философии, герой от позера и коренной русский человек от случайного по Руси прохожего. . .
Жизнь на 'вершинах' становилась биологической необходимостью.. . Без веры в свой долг, в свою звезду, в свою сз'дьбу, в Бога нельзя было трястись в тифозном вагоне за хлебом для стариков и детей, нельзя было быть уверенным, что близкий человек не предаст тебя на допросе и что ты сам скорее умрешь, чем предашь его. Так всякий час, всякий взор, всякий жест наполнялись предельной серьезностью и первозданным значением» (II, 204-205).
Эту способность видеть добро в людях, в событиях, в природе — вопреки всему, что его скрывает и затемняет — я считаю самой ценной и непреходящей чертой в творчестве Ф. А. Степуна. Благодаря ей книга его приобретает огромную духовную назидательность — в буквальном смысле этого ответственного слова: она помогает нам созидать наш дух, сохранять в нем образ Божий, обуреваемый соблазнами, которые несет с собой наше страшное время.
И книга его, которая не претендует быть ни трактатом по аскетике, ни проповедью христианства, на самом деле является жизненным свидетельством того, что «Свет во тьме светит и тьма не объяла его» (Иоан. I, 5).
333
IV
Христианин, ученый, художник, политический деятель, борец за правду — все эти стихии Ф. А. Степуна слиты воедино в его книге о большевизме и христианской жизни 20). К сожалению, книга эта вышла только по-немецки, и только несколько ее глав были напечатаны в русских повременных изданиях. 21) Это обстоятельство заставляет нас дать русскому читателю не краткую рецензию, а более подробное изложение ее содержания, чтобы ознакомить его с высказанными в ней мыслями Ф. А.
На первый взгляд кажется, что его книга состоит из независимых один от другого этюдов. Более вдумчивое отношение к ней показывает однако единство замысла и внутреннюю связь затронутых автором вопросов. Это единство в значительной мере определяется самочувствием и самосознанием автора: 1) как русского европейца, 2) как христианина, 3) как ответственного за свои слова и выводы ученого.
Чрезвычайно важным является то обстоятельство, что Ф. А. Степун — общепризнанный авторитет в немецкой науке; это придает его «русскому европеизму» совершенно особую значительность и убедительность. Однако автор прекрасно знает и о тех предубеждениях, с которыми ему придется бороться. Он пишет:
«Если кто-нибудь позволит себе высказать предположение, что все культурные связи Советской России являются искусственными маневрами, входящими в состав общего стратегического плана, и отнюдь не означают отказа от идейного миссионерства, то его сейчас же объявят сторонником русского мифотворчества до-большевистской эпохи, и отношение к нему будет полупочтительным, полунасмешливым» (стр. 10).
Имея это в виду, он спрашивает себя сам: возможно ли для русского («каждый русский чувствует себя в каком-то смысле виновным в русской трагедии», пишет он) объективное отношение к большевизму? И отвечает: да, возможно, если относиться к предмету своего изучения с должным вниманием и объективностью. Последнее автором безусловно выполнено: в этом главная ценность его книги. Это, однако, не все: обычная, общепринятая социологическая научность зиждется, обыкновенно, на внешних фактах, на статистике и учете; автор видит дальше и учитывает то, что лежит позади явлений: психологию, убеждения, верования. Он враг научного релятивизма и противополагает афоризму Зиммеля о том, что «истина не является относительной только потому, что она сама говорит об отношениях», евангельское — «познаете истину и исти-
20) Der Bolschewismus und die christliche Existenz. Kosel-Verlag. München 1959, S. 297.
21) В «Новом журнале», в «Мостах», в «Гранях».
334
на сделает вас свободными». Поэтому и человек для него — не феномен (экономический, психологический, социологический и, даже, религиозный), а образ Божий, как бы затемнен и искажен он не был.. . Эти мысли лежат в основании двух первых глав книги: «Социологическая объективность и христианское бытие» и «Борьба либеральной и тоталитарной демократий за понятие свободы».
Следующие две главы, «Немецкая романтика и философия истории славянофилов» и «Россия между Европой и Азией», ставят вопрос о том, какому миру, европейскому или азиатскому, принадлежит Россия. Вопрос этот имеет свою историю; чрезвычайно интересными являются исторические справки о тех западных недоброжелателях России, которые стремились оттеснить ее в Азию; среди последних: французский историк Анри Мартэн (1810-1883) и современный мыслитель и общественный деятель Анри Массис, которого автор сближает с Моррассои (из-за его нетерпимого католицизма) и с Муссолини (по признаку фанатического национализма). Их мысли находят себе своеобразное продолжение и развитие в писаниях евразийцев, во главе с кн. Н. Трубецким.
«Разница между французами и русскими только в том, что русские мыслители особенно высоко ценят именно те характерные черты России, которые являются наиболее неприемлемыми для французов» (стр. 83).
Анализ этих точек зрения является для автора тем трамплином, отталкиваясь от которого он обосновывает свою точку зрения русского европейца. Россия принадлежит к Европе; Византия, которая оформила духовный лик России, не только принадлежит к тому же миру, что и западное латинство, но, более того, лежит в основе последнего. Татарские влияния, как бы глубоки они ни были, являются в русской истории эпизодами; об этом говорит вся русская культура, об этом громко свидетельствуют творения таких русских гениев, которые по справедливости могут считаться полномочными представителями России: Гоголя, Достоевского, Вл. Соловьева.
Эти же мысли автора являются предметом двух следующих глав: «Духовный лик и стиль русской культуры» и «Москва — Третий Рим».
Характерной чертой России, в отличие от Западной Европы, автор считает отсутствие в русской жизни и мысли строгих очертаний и твердых форм (это однако не является, по его мнению, недостатком, но придает русской культуре особенный характер). Отсутствие отточенных линий отмечается автором всюду: в русской природе (которую лучше всего определить словами «даль зовет»; описанию русской природы посвящены удивительные по своей художественности страницы); в крестьянском хозяйстве, не знавшем до столыпинской реформы земельной собственности, то есть точных границ «своего» участка; в жизни церкви, в которой личное влияние стар-
335
цев было всегда значительнее канонических определений церковной власти; в русской мысли, для которой «мысль изреченная есть ложь»... Этот стих Тютчева развернут автором в более дифференцированную формулу Киреевского:
«До тех пор, пока мысль остается ясной и способной быть выраженной словами, она еще не может определить собою душу и волю. Только когда она углубляется до невыразимости, может она считаться зрелой и действенной». . . 22)
Эта черта внешней неоформленности придает всей русской жизни особую глубину и полет и объясняет очень многое в русском характере и культуре. И если дух этой культуры, под влиянием большевизма, претерпевает глубокие изменения, то стиль ее остается неизменным. Вследствие этого лик России двоится и одновременно вызывает и большие надежды, и страх, и опасения за ее будущее (стр. 138).
«Москва — Третий Рим»: эта тема, волновавшая русское общество с конца 15 века, еще в большей степени волнует сейчас западную науку и мысль. 23) Изучение и разрешение этой проблемы таким мыслителем, как Ф. А. Степун, является поэтому особенно важным. Ему глубоко чужда та —
«натуралистически-мифологическая терминология, которая полагает, что большевизм есть псевдоморфоза русской религиозности. .. я предпочитаю говорить об этой теме, придавая ей этически-религиозный смысл и определять большевизм, как грехопадение русской идеи» (стр. 145).
Но проблема «Третьего Рима» этим не снимается и автор показывает, как она возникла и как развивалась и раскрывалась на протяжении духовной и политической истории последних веков. С точки зрения государственной, его внимание привлекают идеологии Иоанна Грозного и Петра Великого, как в чертах их сходства, так и в различиях; с духовной стороны его особенно интересует борьба свв. Иосифа Волоцкого и Нила Сорского. Он признает факт своеобразного цезарепапизма Петровского периода —
«мумифицирования церкви, которое способствовало развитию антитеистических демонических сил в псевдоцеркви, иерархически и авторитарно построенной большевистской партии, которая первоначально ощущала свое при-
22) То обстоятельство, что эта философская установка отнюдь не является своеобразным «русским чудачеством», но выражает собою определенный духовный тип, явствует из сравнения ее с некоторыми представителями современной французской мысли, принадлежащими антиинтеллектуалистической традиции Бергсона; в особенности см. Ш. Пеги, Ж. Онимюс
23) Ср. (немецкие) работы X. Шедер (Москва — Третий Рим); де Фрис (Москва — Третий Рим); X. Ранер (От первого до третьего Рима); Э. Саркисьянц (Россия и восточный мессианизм); И. Бохатец (Идеология империализма и философия жизни Достоевского).
336
звание и свою программу не только как политическую теорию, но и как благовестив о спасении» (стр. 155).
Условия, в которые было поставлено русское христианство, повели, с одной стороны, к его внемирности, а с другой — к его духовному углублению. И это равнодушие церкви к системе «субъективных публичных прав» (термин Еллинека) дало ей силу и возможность перенести страшное гонение со стороны атеистического государства.
В заключение этой главы автор анализирует современное положение церкви в Советской России, основанное на парадоксальном признании церковью безбожной власти с одной стороны, и на предоставлении церкви какой-то, пусть ущербленной, возможности существования в социалистическом государстве. Однако идеал Третьего Рима не покидает, по его мнению, церковного сознания и в этом его трагическом положении. Основываясь на некоторых высказываниях представителей Московской патриархии, он полагает, что Московский патриарх и в настоящее время лелеет мечту о возглавлении и руководстве всем христианским миром. Это положение кажется нам более чем спорным, ибо, основываясь на высказываниях, подобных тем, которые автор цитирует, можно было бы воскресить идею не только третьего, но и второго Рима, поскольку православие греков также претендует не только на абсолютную истинность, но и на руководящую роль в христианстве; двуглавый орел является в Греции и в настоящее время наиболее распространенным символом национально-религиозного самосознания, а король и сейчас носит византийский титул Базилевса...
Еще более неприемлемым представляется нам сближение современной мечты о Третьем Риме с идеями Константина Леонтьева (стр. 179). Сходство здесь чисто кажущееся и внешнее: по содержанию — отрицание Запада (хотя индустриализация России является, наоборот, ее дурной европеизацией); по методу — сильная и ни перед чем не останавливающаяся власть. Но Леонтьев мыслил отнюдь не формально: ему нужна была не сильная власть вообще, а власть православного монарха, может быть даже непременно русского православного монарха: «К чему нам Россия не самодержавная и не православная» писал он. А последним критерием в оценке жизненных явлений у него, во все периоды его жизни, была красота, может быть даже красивость, какой в высшей степени лишена серая будничная жизнь современной России. И если уж ставить вопрос, «с кем» был бы Леонтьев в наши дни, то, несмотря на всю любовь к нему, мы должны предположить, что он, вероятнее всего, оказался бы в рядах зарубежной церкви, и притом среди наиболее острых и пессимистических ее представителей, начисто отрицающих все настоящее и живущих ожиданием конца истории... Это,
337
конечно, нисколько не противоречит предположению автора, что Московский патриарх может в своих мыслях и высказываниях вдохновляться гением Леонтьева.
Две главы книги, «Пролетарская революция и революционный орден русской интеллигенции» и «Пророческий анализ Достоевского русской революции», посвящены идейному анализу исторических корней большевизма. Автор ставит вопрос о том, кто является подлинным субъектом русской революции, кто ее взлелеял и осуществил. И отвечает: русская интеллигенция, понятая как своеобразный боевой орден, имеющий свою идеологию, свою мораль и свою организацию. Принятая в коммунистических кругах теория о марксистском характере русской революции, т. е. о том, что она явилась восстанием пролетариата против буржуазии, является по мнению автора отчасти мифом, отчасти подделкой фактов. Он доказывает это не только ссылкой на то, что в России не было ни пролетариата, ни настоящей буржуазии, но и путем анализа социологических диагнозов России, принадлежащих создателям русского марксизма — Плеханова и (раннего) Ленина. Для того, чтобы революция соответствовала требованиям марксизма, пролетариат нужно было создать, и Ленин —
«железной рукой заставил крестьян войти в колхозы, в которых они перестали быть крестьянами, но не стали пролетариями, превратившись в крепостных самодержавно управляемого государственного хозяйства» (стр. 87).
Основной социологической проблемой русской революции был скачок из средневековой патриархальной монархии в индустриализированный технический социализм, минуя неизбежный, по Марксу, период дифференциации и борьбы классов и развития политического сознания у пролетариата. Революция явилась поэтому результатом не диалектики истории и экономической закономерности, а, скорее, насилием над естественным развитием России, осуществленным фанатической волей революционной интеллигенции. Определяя последнюю, автор следует Анненкову, который говорил:
«Все мы образуем боевой орден, который не имеет написанного статута, но знает всех своих членов, разбросанных по всей России, и борется, не принуждаемый никем, против государственного порядка; одни его ненавидят, другие его страшно любят».
Анализу природы этого ордена посвящены интереснейшие и поучительнейшие страницы книги; они раскрывают его культурно-политическое кредо (Европа и Свобода, борьба с самодержавием, вера в революцию), его моральный характер (абстрактная идейность и беспредельная жертвенность), его тактику (характеристика террора народовольцев, столь отличного от большевистского террора) ; в заключение автор дает яркую характеристику идеологов и вождей ордена: Ткачева, Нечаева, Бакунина.
338
Контуры революции расширяются и она предстоит нам, как огромная, страшная разрушительная сила — скорее псевдо-церковь, чем партия, скорее миф, чем программа. Результатом этого анализа является убедительное (мы бы сказали, даже научно доказанное) опровержение постоянно встречаемого в западной литературе и науке убеждения, что большевизм является, в сущности, продолжением царского режима; что церковь и при царях была подчинена государству и что то же осталось и при большевизме; что монархия была империалистичной и что коммунисты продолжают ее политику; что свободы в России никогда не было и т. д. и т. д. и что, следовательно, все осталось по старому. Подобное воззрение (ему на Западе посвящены целые тома) автор считает «безответственно слепым». Он говорит:
«Монархия жила наследием христианской истины; она ее, правда, постоянно нарушала и искажала; поэтому справедливо обвинять монархию в тяжких грехах и возлагать на нее частичную ответственность за появление большевизма. Но именно эти обвинения монархии являются свидетельством о ее укорененности в духе христианства. Ибо видеть и сознавать греховность можно только при условии веры в истину» (стр. 220).
В связи с этим понятно, что современная советская интеллигенция имеет мало общего с прежним интеллигентским орденом. Прежние интеллигенты были «профессионалами идеологических построений и явными дилетантами в практической жизни. Представители советской интеллигенции большей частью только ’спецы’». Это противоположение двух стилей национальной элиты ставит целый ряд проблем, которые автор не разрешает, высказывая только одно общее пожелание: «Старая интеллигенция должна воскреснуть, но в новом облике». Это продолжает мысль Достоевского, который своего любимого героя Алешу Карамазова (о нем автор упоминает, заканчивая эту главу) неизменно мыслил и называл «будущим деятелем».
Следующая, предпоследняя, глава иллюстрирует анализ сущности большевизма примерами героев «Бесов» Достоевского. Автор справедливо считает этот гениальный роман наиболее глубоким объяснением русской трагедии. Достоевский мыслил образами, но все его герои воплощают идеи, и в этом отношении «Бесы» являются не только изображением русской действительности, но и диалектикой таких идей, как свобода, справедливость, власть, за которыми ясно чувствуется сознаваемая и несознаваемая сущность всякой жизни и всякой мысли — отношение человека к Богу, без Которого и вне Которого ему остается только одно: покончить с собой...
Из предшествующего изложения видно, как много тем и вопросов затронуто в книге Ф. А. Степуна. Еще более удивительным является богатство приведенных в ней данных. В книге немного стра-
339
ниц, а впечатление, оставляемое ею — как от большого исследования не только по истории русской культуры, но и по философии культуры вообще. Не удивительно поэтому, что внутренняя диалектика мысли привела автора к последней главе, озаглавленной «Псевдовера большевизма и малодушие западного христианства». С большим мужеством, делая соответствующие оговорки, автор показывает психологическое превосходство новой псевдорелигии, — ложной в своем содержании, но фанатически убежденной в своей истинности и жизненности, — над половинчатостью и неуверенностью современного культурного, утонченного, но усталого христианства. Особенно опасными представляются ему те течения, которые разрывают веру во Христа и веру в Церковь и стремятся или к бесцерковному христианству (он цитирует К. Ясперса) или же принимают церковь, как этически культурное установление, но не верят в живого и воскресшего Христа. . .
Перед лицом нового варварства, которое несет с собой большевизм, пред лицом обесчеловечивания человека и отрицанием тех основных начал европейской культуры, которые, — пусть в искаженном виде, — все же являются наследием христианства, автор ставит вопрос о тех принципах, держась за которые можно ожидать нового расцвета вечных истин. К ним он причисляет начала личности, свободы и права. Но он провозглашает их не в той абстрактно-обезличенной форме, каковую они получили в современном демократическом истолковании, а с глубиной и силой, которые придаются им христианским пониманием жизни. И этим исповеданием религиозной веры, воплощаемой в конкретных формах социального мышления, объясняется тот оптимизм, который дает автору возможность, — вопреки всем пессимистическим данным, изобилующим в его книге, — закончить ее оптимистическим аккордом:
«Истина всегда побеждает. Но форма этой победы зависит от человека. Эта форма приобретает положительный характер, когда люди верят в истину и стремятся к ее осуществлению. Она становится отрицательной, если люди слепо и упорно с нею борются. В этом последнем случае истина побеждает тем, что разрушает и уничтожает то, что ей враждебно противостоит. Эта трагическая форма победы истины, по-видимому, от нас недалека».
340
Страница сгенерирована за 0.09 секунд !
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
