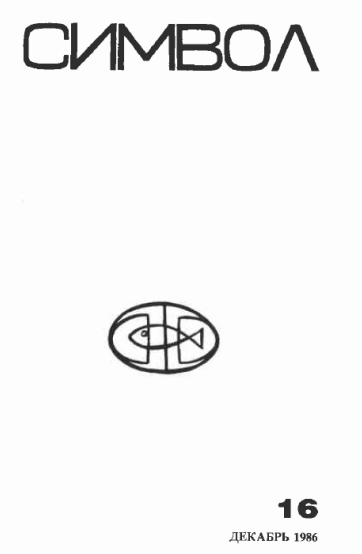13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Гёррис А.
Гёррис А. Вера и неверие с точки зрения психоанализа
PARIS
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
А. ГЁРРЕС
ВЕРА И НЕВЕРИЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПСИХОАНАЛИЗА
ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ теории в отношении религии, веры или неверия вызывают обычно недоверие, что вполне справедливо. Они дают слишком много оснований для подозрений в том, что в гораздо большей мере служат оправданием позиций, занимаемых их авторами, чем содержат объективную информацию. В частности, многие психоаналитики утверждают, что религиозные вопросы играют очень незначительную роль в анализе, являясь главным образом маскировкой, скрывающей более существенные вещи. Кроме того, согласно распространенным взглядам, метафизическая озабоченность или равнодушие практически не имеют отношения к происхождению и лечению неврозов. Поэтому проблемы такого рода остаются вне специальных интересов аналитиков как не имеющие прямого отношения к их деятельности. Вначале у меня не было уверенности в том, что психоанализ может что-либо прояснить в этой области. Впоследствии, когда я отчетливо осознал, что некоторые существенные факторы, определившие историю сознания, могли ускользнуть от психоаналитического исследования, я стремился описывать только то, что обнаруживалось с очевидностью. Речь идет о некоторых фактах, с которыми я сталкивался по большей части в психоаналитической литературе, но которые были, как правило, установлены другими методами. Именно это и подразумевается в заголовке данной статьи.
86
Я исхожу из того факта, что пациенты, подвергающиеся психоаналитическому исследованию, более или менее строго придерживаются основного правила анализа, то есть говорят обо всем, что приходит в голову, без какого бы то ни было отбора, критики или умолчания. Они рассказывают историю своей жизни, упоминают об основных событиях, говорят о том, что их беспокоит, о своих планах, надеждах, о Боге и мире. Естественно, затрагиваются вопросы о вере и неверии, которые часто могут быть весьма горестными для пациента. Перед аналитиками проходят самые разные люди: верующие и неверующие, ревностные христиане и теплохладные, атеисты и марксисты, позитивисты и антропософы. Самую большую группу составляют люди, которые не знают, что думать, и которые «поставили свой шатер» где-то между верой и неверием. Многие же создали для себя некую философию невозможности определенного решения этого вопроса, приняв ее теоретически или исходя из практического предположения, что человек не имеет возможности прийти к определенным религиозным убеждениям. Другими словами, такие люди относятся к так называемым агностикам. Помимо тех аспектов, которые представляются совершенно очевидными, будет, пожалуй, верным сказать о людях, принадлежащих ко всем этим группам, что они не вполне уверены в своей позиции, или иногда не уверены в ней, или же утрачивают уверенность в ходе анализа. Вспоминается одна мудрая еврейская шутка о некоем Соломоне, который был атеистом, но каждую субботу исправно посещал синагогу. Раввин очень удивился этому и однажды спросил его: «Соломон, почему ты каждую субботу ходишь в синагогу, ведь ты же атеист?» — «Конечно, я атеист, — ответил Соломон, — но я не знаю, может быть, я неправ?»
Многие люди в ходе психоаналитических сеансов обнаруживают такую же позицию, как Соломон из этой шутки. У пациентов-христиан присутствует еще и другой фактор, дающий заметно двойственную картину. Чувство вины может возникать у них как из-за сомнения в вере, так и из-за того, что они крепки в своей вере и тверды в своих убеждениях 1). В первом случае чувство вины обусловлено тем, что они осознают свою обязанность верить и, следовательно, всяческие сомнения полагают незаконными. Во втором случае они, напротив, как современные люди, считают себя обязанными сомневаться, наличие же веры лишает их позицию последовательности и делает ее интеллектуально уязвимой. Современный человек почитает сомнение своего рода
88
обязанностью. А значит, в оценке вещей наше сознание оказывается в странном положении — оно тяготеет одновременно к вере и к неверию. На деле в процессе психоанализа нередко имеет место утрата веры, так как пациент слишком долго удовлетворялся детским доверием к авторитету старших, который, разумеется, не может быть надежным основанием веры.
* * *
Еще более странным было обнаружить, что атеисты, агностики, позитивисты и марксисты обнаруживают такое же раздвоение, как и христиане. Они испытывают чувство вины из-за того, что, вероятно, по причине своего атеизма или гностицизма они утрачивают подлинный смысл и предназначение своей жизни. Однако стоит им усомниться в правильности своей атеистической или агностической позиции, они попадают из огня да в полымя нового ощущения вины из-за того, что они встали на тот же самый путь выдавания желаемого за действительное, конформизма, наивности или метафизической потребности в безопасности, в которых они упрекали верующих.
Обращаясь к психоанализу, верующий стремится выяснить, не является ли его вера ошибкой, выдаванием желаемого за действительное — желаемого, к которому он прилепился, не имея достаточной смелости для того, чтобы преодолеть свою детскую зависимость от требований родителей и учителей и самому понести всю тяжесть обнаженной бессмысленности мира или победить страх перед неразрешимыми вопросами, которые ставит перед ним мир. Наконец, есть также христиане, мучимые страхом, что их вера, возможно, есть трусливое подчинение угрожающему могуществу злого Бога.
Скрытая или открытая ненависть к Богу, смерти которого они радуются, и холодная антипатия к Иисусу Христу как к безвкусной модели совершенства присутствует во многих откровенных рассказах о себе как верующих, так и неверующих и является как бы цепью, связующей христиан, атеистов и агностиков. Бывает, что неверующие в спокойные минуты подчас спрашивают себя, не является ли их неверие ошибкой, возникающей из стремления выдавать желаемое за действительное, благодаря которому можно легко избежать строгих требований со стороны Бога, бытие которого они отрицают, и вместо этого держаться комфорта, своеволия и строптивости2). Фрейд, по всей вероятности, не согласился бы с несколько гротескным замечанием Карла Барта
89
о том, что «одной из самых глубоких особенностей человека является неискоренимое стремление быть правым». Мы, конечно, знаем философов, утверждающих, что ничто божественное не существует, причем они проповедуют без малейшей боязни впасть в ошибку. Для них утверждение: «Бог — создание человеческой фантазии, божественное — абсурд» представляется непреложной истиной. В лучшем случае они говорят, что не существует ни одного основательного доказательства для подтверждения того, что божественное существует и что все разумные доводы опровергают такое предположение; поэтому атеизм вполне разумен, или, по крайней мере, гораздо более разумен, чем вера. Впрочем, многие люди, придерживающиеся такой точки зрения, все же чувствуют, что она базируется не на безупречном, неуязвимом основании, не на неотвратимой очевидности, но содержит лишь иррациональные факторы и, возможно, отчасти определяется также тенденциями, которые они сами не могут осознать со всей ясностью.
В ином положении находятся многие из агностиков. Они настаивают на необходимости уклониться от самонадеянных утверждений в безошибочности, исходящих как со стороны атеистов, так и со стороны верующих, позиции которых представляются им одинаково спорными. Для агностиков характерен критический скептицизм научного типа. Человек, говорят они, занимает не такое положение, чтобы он мог судить о реальности в целом, как это делают верующие или атеисты. Единственно честным будет воздерживаться от любых утверждений в отношении всего того, что мы не можем утверждать с достоверностью. В то же время в практике психоанализа иногда становится очевидным, причем, разумеется, без всякого вмешательства со стороны аналитика, что, пусть искренняя и разумная, позиция агностика в некоторых пунктах наталкивается на критику со стороны сознания самого пациента. В ходе психоанализа некоторые люди начинают вдруг понимать, что даже в своем агностицизме они все же приняли метафизическое решение, которое они должны оправдать, хотя это как раз то, чего они желали бы избежать, так как они отвергают любые формы метафизики. Суть метафизического решения, к которому они с неизбежностью приходят, состоит в утверждении того, что бытие в целом, со всем его смыслом и безотчетностью, глубиной и банальностью, — бытие это по своей сути остается совершенно непонятным и непроницаемым для человеческого разума. Мы, говорят они, остаемся в замкнутом
90
освещенном круге событий и феноменов, и у нас нет каких-либо постижимых путей для выхода из него. Именно в таком положении находится человек по отношению ко всем окружающим его предметам, к миру и к бытию вообще. При всем своем антиметафизическом сознании агностик в то же время чувствует, что он не может уклониться от принятия какой-то точки зрения, и фактически он так или иначе занимает какую-то позицию. Тем самым он, в сущности, признает, что метафизический вопрос не может быть оставлен без ответа: умолчание, утверждение его бессмысленности или индифферентность по отношению к нему являются своего рода ответом на этот вопрос. Агностики утверждают, что все сущее, его смысл и исходные начала характеризуются, по крайней мере для нас, непознаваемостью, закрытостью или пустотой, и поэтому всякий вопрошающий о смысле сущего обращает свой вопрос к чему-то бессодержательному, пустому и туманному. Рассуждая таким образом, ответственность за непознаваемость существующего агностики приписывают самому бытию, Богу или реальности, но ни в коем случае не себе. Это отнюдь не способ воздержаться от суждения, но скорее — как раз весьма откровенное метафизическое суждение или, в лучшем случае, суждение экзистенциальное, имеющее целью оправдать свою беспомощность. Божественное не отрицается агностиками прямо, но и не получает у них, естественно, хотя бы сколько-то серьезного рассмотрения. Оно для них — как бы пустой звук и относится к сфере, их не касающейся, а значит, не принимаемой ими в расчет. Это по-своему верно и полностью соответствует древнему афоризму: ultra passe nemo tenetur — ни от кого нельзя ждать невозможного. В самом деле, к чему затруднять себя размышлениями о совершенно непознаваемых сознании и воле, равно как и о непознаваемом, даже если и существующем, но неприступном божестве, раз все равно нельзя узнать что-либо ни об этой воле, ни об этом божестве.
Религиозная индифферентность часто коренится в горьком ощущении безнадежности достичь какой-либо ясности в вопросах религии. Насущные жизненные проблемы подчас не оставляют места для того необычайного духовного напряжения, которое требуется здесь. Трезвая оценка собственных сил и возможностей, казалось бы, должна была исключить всякие попытки, обреченные на неудачу. Но тот факт, что каждый человек в ходе своей жизни все же принимает то или иное религиозное решение, определяя свое отношение к таким проблемам, как Бог, воля Божья,
91
откровение Божье, приводит к вопросу о том, правомочно ли предоставлять это решение воле случая, произволу неясных ощущений, непроверенных предрассудков и предубеждений. Поскольку направляющая истина не представляет собою очевидного свидетельства для любого человека, но каждый все же как-то определяет направление своей жизни, поиски ответов неизбежно замыкаются в пределах тех границ, которые определяются индивидуальностью каждого человека. И то, что мы вправе ожидать, скажем, от водителя трамвая, будет, очевидно, отличаться от воззрений и кругозора, свойственных интеллектуалу. Но едва ли можно отрицать, что люди интеллектуального труда, чьи решения во многом зависят от их профессионального окружения, формирующего культурную атмосферу, в которой они живут (а в большинстве случаев оказывающего воздействие также и на более конкретные и серьезные вещи), при столкновении с религиозными вопросами стараются уйти от личного ответа и отступают на позиции расхожей научности, ссылаясь на свою некомпетентность в метафизических вопросах. (Точно таким же образом они поступают, когда дело касается политических проблем.) Извиняющие обстоятельства в этих случаях могут быть найдены в изобилии, однако настоящее оправдание заключается, пожалуй, лишь в некоем заблуждении. Здесь мы сталкиваемся с ярким примером того, как безнадежность поиска разрушает само устремление, в то время как неминуемость принятия действительного решения, по существу, не осознается, хотя, казалось бы, совершенно ясно, что можно жить правильно или неправильно, но не нейтрально.
Иногда пациента в ходе анализа осеняет мысль, что прежние произвольные рамки, которыми он сам ограничил свои усилия в религиозном поиске, определялись не столько собственной инертностью, нивелирующим давлением среды или ложными идеями научной требовательности, сколько почти бессознательным сопротивлением по отношению к малопонятным и грозным требованиям со стороны Бога. Фактически, для очень многих людей Евангелие представляется скорее угнетающей, чем радостной вестью, поскольку требования его ложатся на них тяжким грузом, а будущее обещает быть тревожным и унылым, что, в свою очередь, порождает ощущение неадекватности, бесполезности каких бы то ни было усилий и даже неполноценности. Многие так называемые трудности веры, на самом деле — трудности надежды. Люди очень хорошо видят пределы своих конкретных возможностей, тогда как спасение и помощь
92
более опосредованны. Вследствие такого рода причин совестливые люди часто теряют доверие к себе. Непоследовательность и противоречивость во взгляде на самого себя и на окружающий мир часто в ходе психоанализа становятся более очевидными, чем в повседневной жизни. В результате начинают возникать вопросы типа: действительно ли непознаваемость божественного, как дающего смысл всему существующему, установлена с полной достоверностью? Быть может люди, которые проповедуют эти идеи, вовсе не заблуждаются? И так ли уж безошибочны наши собственные представления на этот счет? А все то, что неизбежно займет центральное место в нашей интеллектуальной жизни, когда увянет наш интерес к проблеме божественного, и что станет фокусом наших мыслей и желаний, — все то, чему мы посвятим свою жизнь и свои постоянные и наиболее важные устремления, а именно семья, работа, коллеги, политика, развлечения, самосохранение и продолжение рода, достижение целей и наслаждение, если говорить языком Фрейда, будет ли все это достаточным, чтобы заполнить нашу жизнь? Насколько мы вправе отдавать этому все свое внимание и всю свою жизнь? И не правы ли те, кто говорит, что мы должны любить не те или иные вещи и не тех или иных людей, но Господа Бога нашего всем сердцем своим, всей душою своею и всею крепостью своею, ему одному поклоняться и ему одному служить? Быть может, говорит пациент, мой разумный и утонченный агностицизм является всего лишь искусственной схемой, придерживаясь которой я лишаю своего самого главного партнера его прав. Так как, в конце концов, даже Бог, существование которого всего лишь возможность, который был лишь смутно узнан и есть не более чем предположение, — даже такой Бог должен был бы иметь права, которые человеку следовало бы признавать. Анна Фрейд открыла, что желание уклониться от заповедей и от наказания, которое является вероятной психологической причиной отрицания Бога и даже самой возможности богопознания, — это желание представляет собой центральный момент невроза. Она проанализировала поведение одного мальчика, который, кроме всего прочего, обращал на себя внимание крайне кощунственным отрицанием Бога и протестом против любого авторитета. «Это был мальчик лет восьми, маленький безвредный трусишка, дрожавший от страха, если на него лаяла собака, боявшийся пройти вечером по темному коридору, и который, что называется и мухи не обидит. Его первый опыт пылкой эмоциональной привязанности, сопровождавшийся неумеренным
93
интересом к собственному детородному органу был разрушен воспитательными усилиями и травматическими последствиями медицинской операции. В качестве защиты против новых посягательств на него у мальчика остался неискоренимый страх перед наказанием за нарушение плотских запретов, — страх, называемый в психоанализе кастрационным комплексом. Этот страх привел его к отрицанию всякого авторитета. Если он слышал, что кто-либо имеет ту или иную власть или силу, он говорил себе: "значит, этот человек также в силах наказать и меня”. Поэтому он отвергал любого возможного земного или небесного правителя. Чем больше был его страх перед возможностью появления такого правителя, тем отчаяннее он низвергал его своими в общем-то совершенно безвредными нападками на любые авторитеты. Этот шумный способ защиты был, однако, не единственным. Несмотря на то что он отрицал Бога, он тайно молился по вечерам, стоя на коленях, вынуждаемый к этому своими страхами. Он рассуждал следующим образом: "Конечно, никакого Бога нет. Но вдруг он все же существует, так что лучше быть с ним в хороших отношениях”».
Нетрудно заметить, что этот короткий анализ ставит под сомнение всю аргументацию Фрейда, направленную против религии, так как отсюда следует, что чувство опасности и стремление выдавать желаемое за действительное могут быть мотивом не только религиозности, но в такой же степени и атеизма. Психология оказывается здесь палкой о двух концах.
Психоанализ открывает нам, что чаще всего в основе самых разных «деноминаций», конечно, лежит не атеизм или агностицизм в чистом виде, а некая фундаментальная склонность к мысленному уходу от вопроса, сопряженная с позицией, которую мы назвали бы «решимостью» (decisionism). Уход от вопроса выражается в этих случаях примерно следующим образом: «Я вообще не в состоянии рассудочным путем прийти к выбору той или иной философии; у меня нет ничего из того, что необходимо для такого выбора — ни способностей, ни знаний, ни времени. Поэтому как моряк, потерпевший кораблекрушение, хватается за обломок мачты, так и мне остается лишь следовать тем убеждениям, которые у меня сложились, независимо от того, является ли необходимость зарабатывать деньги принципом наслаждения, обязанностью, преступлением или повелением председателя Мао. Закон, которому я следую, — закон правдоподобия». Не лучше обстоит дело и с тем, что называется существом веры: «Я никогда не был
94
в состоянии составить какое-то определенное мнение в вопросе о Боге или выбрать какую-либо позицию в ученых спорах. Кто прав? Бультман или Папа? Воскресал ли Христос из мертвых или рассказ о воскресении надо демифологизировать? Должен ли я искать спасения у католиков или, скажем, у менонитов, или я должен последовать дзен-буддизму?» Такие мысли, возникающие в процессе психоанализа, представляют собой проблему самосознания даже для христиан. Имеем ли мы право считать несомненной истиной то, что признается верой? Ведь, в конце концов, мы не философы-профессионалы и поэтому даже не знаем о тех многочисленных трудностях, которые необходимо разрешить, чтобы понять, что полное знание о Боге невозможно. И даже если мы в состоянии признать бытие Божие, можем ли мы позволить себе, несмотря на все проблемы, которыми занимаются богословие, экзегетика, сравнительное исследование религий, считать справедливым убеждение, согласно которому исторический Иисус Христос является истинным представителем Божества и, следовательно, окончательным авторитетом для всего человечества до конца истории? Не должны ли мы быть высококвалифицированными специалистами в истории, текстуальной критике, археологии, а если уж размышляем над проблемой чудесного, то и в естественных науках, а также в других дисциплинах для того, чтобы приблизиться хотя бы к хорошо обоснованной вероятности всего этого, которая, разумеется, все же существенно отличается от уверенности. Не является ли в этом случае скромность агностика более уместной, когда он говорит: «Да, конечно, профессор богословия, вероятно, может интеллектуально оправдать свою веру, апостолы, несомненно, могли сделать то же самое, хотя они и не были профессорами богословия, но поскольку я сам не апостол и не профессор, то я, будучи человеком честным, не могу последовать их примеру и, вероятно, никогда не смогу этого сделать и в будущем. Моя вера была бы либо иррациональным скачком, который невозможно оправдать ни разумом, ни интеллектуальной честностью, либо фиксацией авторитетов детства — отца, матери, священника и учителя, которые не могут быть удовлетворительными, поскольку ни один из них также не знал апостолов. Даже в том случае, если я буду стараться заставить мой разум поверить профессорам, потому что они, в конце концов, умные люди и честные ученые, то и в этом случае я столкнусь с тем, что ученые и профессора далеко не во всем согласны друг с другом, и за довольно большой уже промежуток времени можно было
95
убедиться в том, что они в чем-то очень напоминают разборчивых покупателей, вкусы которых меняются с каждым поколением. Профессора, ученые и все остальные совсем не похожи на прочное каменное основание, на котором можно строить свою духовную жизнь. Моя вера, таким образом, была бы не больше, чем примитивное расхожее мнение дилетанта, которое не устоит перед лицом самой элементарной критики. Средний человек, не специалист и не интеллектуал, не может определять свою жизненную позицию путем рационального размышления, формируя свое решение на основании строго научных методов, в то же время для него должен существовать какой-то путь для того, чтобы прийти к честному и ответственному решению по части веры и неверия.
Эта тревога верующих увеличивается еще и от сознания того, что их собратья по вере нередко исповедуют некое псевдо-христианство, основанное на католическом или протестантском комплексе непогрешимости. Всем известна иногда встречающаяся высокомерная и неприступная твердость в вере, которая должна была бы стать достоянием только непревзойденных мастеров подавления мысли и исполнителей недобросовестных апологетических трюков. Конечно, не следует забывать, что неприступная твердость в вере была также свойственна и многим исключительно искренним и мудрым людям. Но это несколько другая тема, к которой мы вернемся позже.
* * *
Все приведенные соображения приводят нас к признанию существования некоего общего основания, характерного как для христиан, так и для нехристиан. Все они ощущают, что могут придерживаться каких-то взглядов, либо основываясь на интуиции, либо на том, что им кажется наиболее правдоподобным. Но то, что человеку представляется наиболее вероятным и правдоподобным, в наше время все менее и менее определяется обязательным вероучением той или иной деноминации, и — все более и более некоей синтетической глубоко личной метафизикой, состоящей из элементов самого разнообразного происхождения, которые кажутся человеку правдоподобными вследствие особенностей его личной судьбы и того окружения, в котором он сформировался. Иррациональная решимость является неизбежным результатом интуиции, а вовсе не понимания того, что отдельные вероятностные допущения, по существу, обязаны своим правдоподобием биографическим случайностям, и потому никто вообще не может надеяться
96
обосновать свои философские убеждения на прочном рациональном или научном фундаменте.
Личные верования, которые формируются таким образом, обнаруживают некоторые типичные черты. Психоаналитик довольно часто встречается с неясной верой в Бога, лишенного всех неприемлемых для данного лица черт, присущих христианской идее Бога. Бог таких людей предъявляет к ним некоторые требования , но требования эти по своему объему и природе соответствуют противоречивой выборке нравственных правил, которые случилось избрать индивиду и которые он признает как приемлемые. В целом этот личный Бог имеет дружескую склонность без осуждения взирать на удовольствия, которые позволяет себе человек. Этот Бог готов принять верующего в него таким, каков он есть. Поскольку требования в данном случае весьма умеренны, то его может удовлетворить даже посредственность3). От sola gratia (только благодатью) и sola fide (только верой) Реформации необходимо было лишь убрать sola scriptura (только Писанием) (и целые поколения прилежно и успешно работали в этом направлении) в результате чего было выработано мертвое божество буржуазного декадентского христианства, которое никому не причиняет беспокойства, которое все понимает и все автоматически прощает даже тогда, когда его и не просят об этом: «Конечно же, он простит, ведь это его профессия». Это бедное божество так неизмеримо радуется уже добровольному проявлению простого признания его существования, что готово дать за это любую награду, если только оно может что-либо дать. В то же время такого sola fide оказывается совершенно достаточно, чтобы рассеять любые размышления о наказании или страх перед ними: «Нет адского огня». Тот факт, что уродливая грубость эмпирического мира крови и слез не подтверждает такую успокоительную идею о Боге, может быть с легкостью оставлен без внимания до тех пор, пока трагические обстоятельства земной жизни не вторгаются заметным образом в жизнь данного человека. Исповедание такого рода веры в Бога не нуждается ни в организации, ни в иерархии для того, чтобы сформировать незримое общество, которое в настоящее время представляет собой, по-видимому, самую большую и наиболее привлекательную «церковь». Это общество дает своим членам такие преимущества, с которыми не может конкурировать ни одна из форм христианства, так как оно позволяет приобщиться к религии, лишенной бремени каких бы то ни было конкретных форм веры. Оно позволяет жить «с Богом»
97
и одновременно не затрагивает примата эголатрии, культа собственного «я», самовосхваления и самопрощения. Априорное решение, принятое в пользу такого взгляда на мир, согласно которому каждый должен получать от жизни все, что можно, остается совершенно не затронутым этой «верой». Христианство и его требования, по всей вероятности, гораздо реже отвергаются людьми просто неверующими, чем сторонниками этого устойчивого и совершенно спонтанного предпочтения секуляризованной формы религиозной веры в нетребовательного и удобного Бога и в его, вследствие этого, более приемлемую Церковь. Такое секуляризованное отношение к Богу поддерживается примером и согласием большинства ближних, а также всеми психологическими мотивами и выгодами, доставляемыми конформизмом. В результате этого мы находим в таком обществе очень мало сомневающихся в вере. Их традиция располагает наибольшим количеством наставительной литературы, так как газеты и журналы гораздо более заинтересованы в сохранении такой веры, чем в сообщении информации. Сила такого общества — в обоюдной поддержке, неприступной самоочевидности и бесспорной общей убежденности. Обязательным условием участия в нем является постоянное уклонение от размышлений, сомнений и вопросов о человеке и о реальности в целом. Вот почему эта «церковь» налагает на своих членов строгие интеллектуальные табу, запрещающие все метафизические вопросы как бессмысленные, примитивные, неразрешимые и ненаучные. Ее аскетическая дисциплина состоит в отказе от вопросов, ее каноническое право включает все условности и обычаи, которые гарантируют постоянную поддержку этой веры и, сверх того, разрушительны для противоположной веры. Ее этика состоит в неустанном отстаивании многочисленных важных вещей, вместо одной необходимой, и в коварном утверждении, что христианская мораль просто не действует в современном реальном мире. Возможно, что существование такой латентной формы веры дает ответ на вопрос о причинах метафизического легкомыслия столь большого числа людей. Ибо по вполне очевидным причинам люди не обращают внимания на те или иные проблемы, если они уже получили на них ответы в более или менее удовлетворительной форме со стороны этой туманной «веры», которая не подвергалась опасности проверки ее с помощью последовательной логической критики. То, что, на первый взгляд, представляется нежеланием думать, на деле вполне может быть инстинктивным логическим решением,
98
в соответствии с которым человек определенно отказывается расстаться с удобным и вполне удовлетворяющим его Богом.
Если все это так, то становится вполне понятно, что имеют в виду, когда сетуют на религиозную индифферентность. На самом же деле, напротив, стремление избежать сложных проблем, размышлений и дискуссий довольно часто является скорее всего лишь способом предотвратить нарушение с трудом достигнутого хрупкого равновесия. Между их «богом» и его должниками заключен своего рода взаимный пакт о ненападении. Благополучное существование позволяет удерживать прирученное божество под надежным замком и таким образом дает возможность иметь религию, которой это божество не может повредить своим вмешательством и которая, следовательно, вообще не должна подвергаться риску. Такая форма веры посредством устранения всего того, что внушает трепет, успешно синтезировала божество, которое представляется вполне терпимым с точки зрения умственной гигиены. Так что суть дела, как мы видим, заключается главным образом в устранении страха. Разумеется, в конце концов все это приводит к метафизическому обнищанию и скуке, а отсутствие духовных событий должно компенсироваться другими ощущениями, например сексуальностью и агрессивностью.
Одним из важных мотивов формирования личного богословия такого рода, несомненно, является тот факт, что традиционное церковное богословие иногда преподносится в такой форме, что выглядит совершенно неприемлемым и абсурдным, провоцируя тем самым страстную реакцию.
Описанное личное богословие и его Бог, очевидно, представляют собой продукт мышления, привыкшего выдавать желаемое за действительное, но именно это и составляет мучительную проблему. Как только человек становится полностью зависимым от общепринятых концепций правдоподобности, он делается жертвой обмана и сам становится обманщиком. Придерживаясь лишь того, что является наиболее популярным, человек беспомощно погружается в бездонный пропасть произвола. Он придерживается как истинного того, что больше всего ему подходит и является наиболее удобным; характер мышления, при котором желаемое принимается за действительное, становится судьбой. В противоположность прагматическому физическому миру, в котором такой подход скоро приводит к конфликту с реальностью и доставляет индивиду, стремящемуся принимать желаемое за действительное, болезненные потрясения, мир метафизики не является
99
столь устойчивым. Богословские заблуждения не причиняют боли своим носителям. «Земля дарит нам знание о нас самих, оказывая нам сопротивление», — говорил Сент-Экзюпери. Небеса не оказывают нам сопротивления. Они не препятствуют нашей неверности. Они довольно безжалостно предоставляют человека его собственным ошибкам и самообману.
В то время как ощущения боли и неприязни являются средствами, поддерживающими жизнь организма, обеспечивая его ориентацию, очевидно, что в отношении метафизической ориентации человек лишен столь решающей помощи. Всем известно, что довольно большое число людей вообще никогда не испытывали религиозного голода, мучительного чувства вины или болезненных угрызений совести; еще меньше такие люди переживают что-либо подобное ощущению необходимости избавления. Благая Весть, по-видимому, не отвечает запросам современного человека и не находит заметного отклика в его душе. Почему потребность в кислороде неизбежно побуждает человека дышать, между тем как потребность в пище, столь же необходимой для поддержания собственного существования, так редко поддерживается ощущениями нехватки самого главного?
Такие блага, как истина, добро и спасение, вероятно, должны быть получаемы и хранимы только в условиях свободы; разум и совесть в этом отношении находятся в других условиях по сравнению со стремлением к самосохранению. Органы, ведующие духовной ориентацией, нуждаются в упражнении, а будучи недостаточно употребляемы в жизни, они ужасающим образом атрофируются.
Все это имеет прямое отношение к достоинству человека. Если мы будем пренебрегать духовными размышлениями и молитвой и задыхаться, если каждый наш грех будет немедленно наказываться интеллектуальной или физической болью, а каждый импульс любви к Богу и ближнему будет вознаграждаться экстазом удовольствия, мы, вероятно, будем вести себя вполне добродетельно, но наша добродетельность будет походить на поведение дрессированных крыс. Отсутствие принуждения через доставление боли или наслаждения во всех наиболее существенных сферах жизни духа, делает жизнь человека рискованной, но в то же время доставляет ей достоинство свободы, ради которой и существует такое явление, как личностный дух. При этом следует признать совершенно удивительным то обстоятельство, что мы почти лишены помощи, которая давалась упомянутым крысам.
100
* * *
В ходе психоанализа лиц, которые основательно знакомы с христианством и которые называют или должны были бы называть себя христианами, ответ обычно дается после основательно продуманных сомнений. Такие пациенты не могут идентифицировать себя со своим собственным скептицизмом и найти таким образом утешение. Они рассказывают о себе примерно следующим образом. Так уж случилось в моей жизни, что я узнал о Христе, который теперь постоянно смотрит на меня и спрашивает: «Что ты думаешь обо мне? Считаешь ли ты меня лжецом, фантазером, шизофреником или отделываешься от меня, признав меня гениальной личностью? Можешь ли ты пройти мимо меня, не дав ответа? Можешь ли ты отвергнуть мой призыв? Я ведь сказал тебе, что я не просто один среди многих: я единственный, кто имеет нечто сказать тебе с абсолютной властью. Ты сейчас в положении судьи. Я спрашиваю тебя здесь и сейчас. Имею ли я право требовать, чтобы ты поверил в меня или нет? Решай!» Человек, перед которым встают подобные вопросы, в течение довольно долгого времени может вполне обоснованно и честно говорить: «Возможно, ты прав, но я просто этого не знаю; я не могу ответить на твой вопрос». Но его совесть, однажды потревоженная, будет продолжать безжалостно вопрошать его: «А может быть, здесь просто какая-то ошибка с твоей стороны, легкомыслие, нечестность, твое нежелание знать? Ты не можешь омыть свои руки в невинности простого незнания, ты не можешь избежать необходимости вынести решение точно так же, как этого не мог избежать Понтий Пилат. Каждый человек, который меня встречает, должен вынести обо мне свой приговор, точно так же, как я вынесу свой приговор о нем». Наша совесть в этом случае побуждается простым и по большей части не отчетливо осознаваемым нравственным принципом, который может быть сформулирован следующим образом: если кто-то говорит мне некую истину, в которую я сам не могу поверить, или сообщает мне какие-то новости и если личность этого человека, образ его жизни и все, что я знаю о нем или могу знать, свидетельствуют о том, что он вполне заслуживает доверия, то я буду несправедлив к нему, если я ему не поверю. Я поступлю нечестно по отношению к нему, а тем самым и по отношению к тому, что он мне сообщил. Я не знаю, является ли такая позиция самоочевидным принципом и могут ли философы-моралисты его доказать, но я знаю, что большинство людей признают его обязательным. Если им
101
самим не верят, когда они говорят правду, они негодуют. Они требуют веры себе не как какой-то привилегии, но как некоего долга по отношению к ним. Невозможно же дарить то, что принадлежит по праву. Среди людей, которые доверяют друг другу, принято принимать на веру то, что невозможно проверить. Представляется правильным применять этот же принцип и к личности Иисуса Христа. Таким образом, возникает вопрос: разве наш собрат — Иисус Христос не является такой же личностью, как и мы, с такими же правами? Если ваша совесть хотя бы раз допустит мысль о том, что его человеческие права соответствуют тому, что он говорил о себе, и что, следовательно, он вполне достоин того, чтобы быть услышанным и понятым, как человек, заслуживающий полного доверия, то начинается некоторый процесс развития, результат которого не может быть предсказан с уверенностью. Однако нередко он приводит к тому, что люди чувствуют себя вынужденными признать наличие таких прав у Христа. Но, узнавая об этих правах и признавая их, я уже становлюсь верующим христианином или, по крайней мере, близким к этому. Вера — это признание права.
Вплоть до этого пункта все обстоит хорошо. Все это годится для случаев непосредственного столкновения с Христом. Для учеников Христа вера, вероятно, была единственно, по человеческим понятиям, возможным, единственно разумным отношением к Христу. Но ведь сам-то я не встречался с Христом, а лишь с рассказами о нем, и никто не знает точно, где пролегают границы, отделяющие исторические факты от легенд и богословия общины, не говоря уже о непримиримых противоречиях, содержащихся в этих сообщениях. Тот факт, что наиболее важная для человеческого существования вещь, — общение с Богом, — предстает в такой несовершенной форме, ставит нас перед проблемой невероятности христианства. Разберем основные аспекты этой проблемы, помимо тех, которых мы уже коснулись.
В высшей степени неправдоподобно, чтобы Божественный призыв, обращенный ко всем — ученым и неграмотным, мудрым и немощным разумом, интеллектуально независимым и зависимым — был бы доступен лишь в форме освещенных неопределенным полусветом противоречий спорных свидетельств, которые трудно отделить от мифов и легенд, окутывающих предание. Невероятность избрания столь странной формы Откровения и полное отсутствие надежды рассеять этот мрак, безусловно, делают ненужными любые усилия, направленные на то, чтобы
102
выяснить, насколько заслуживают доверия Евангелия, их авторы и сама Церковь, которая их проповедует. В высшей степени невероятно, чтобы доступ к истинам, необходимым для спасения, пролегал через столь трудные, ненадежные и рискованные интеллектуальные тропы, которые предполагаются богословами. Вполне возможно, что «Grammar of Assent» («Грамматика согласия») Ньюмена и «Hearers the Word» («Слушатели Слова») Карла Ранера являются вершинами современной гносеологии, но у кого хватит времени, интеллекта и образования, чтобы изучить их?
Совершенно справедливо, что еще со времени Иоанна и Павла христианство всегда было ученой и академической религией, но кажется неправдоподобным и невероятным, что оно убедительно только для утонченных интеллектуалов и религиозно одаренных людей.
Свет мира, который постигается только эзотерическими кружками или замкнутыми христианскими общинами, выглядит неубедительно.
Наконец, сама Церковь венчает эту невероятность христианства. Для нехристиан Церкви представляются общинами, занятыми своими внутренними проблемами самопрославления и самообоснования. Очень трудно утверждать, что Церковь — это свет миру, ибо в ней нет ничего выдающегося; и она не представляет собой знака, указывающего свет, или среду, в которой Христос видится как свеет. Скорее она подобна стене, заслоняющей Его. Для слишком многих очевидная неспособность христианства обратить своих собственных последователей и сделать их похожими на того, чье имя они носят, становится указанием на то, что в христианстве отсутствуют благодать и сила Божья, преобразующие мир.
Неправдоподобность того, что в христианстве заключена истина, усиливается, кроме того, старыми соображениями, которые и возникли для того, чтобы доказать его невероятность. Первое из них получило свое классическое выражение у Дэвида Юма. Оно может быть суммировано в виде формулы: то, что совершенно необычно, является невозможным и, следовательно, невероятным. Если, утверждает Юм, несколько человек, вполне достойных доверия и отличающихся чрезвычайной уравновешенностью, благоразумием и хорошей репутацией, стали бы единодушно убеждать меня в том, что недавно умершая и похороненная королева Англии воскресла из мертвых и встретилась им, то я никогда бы не смог поверить им.
103
Идея Юма представляет собой принцип, который является основанием для многих, отвергающих веру. Однако дань уважения, отдаваемая известному философу, слишком велика, так как позиция Юма предполагает некоторое метафизическое знание о том, что возможно и что невозможно и не соответствует современной тенденции соблюдать значительную осторожность в онтологических утверждениях.
Едва ли можно оспаривать, что данная аксиома о невероятности совершенно необычного, выдвинутая Юмом, сознательно или бессознательно стала фундаментальным принципом многих адвокатов демифологизации и врагов веры. Но что бы кто ни думал о воскресении королевы Англии (принцип, имеющий смысл лишь для домашнего пользования) многие люди без труда видят, что данное рассуждение ни в коем случае не имеет универсальной логической доказательности. Очевидно, нет такого метафизического или логического закона, согласно которому свободное действие. Бога должно совершаться лишь в границах обычного и обязательно соответствовать законам природы. Благодаря тому что многие наши современники воздерживаются от определенного метафизического решения, нам гораздо легче теперь понять, что Бог, для которого необычное является невозможным, будет вовсе и не Бог.
Эта сама по себе простая мысль имеет далеко идущие последствия. Если кто-либо однажды перестанет считать необычное невозможным, тогда в контексте спасительных действий Божьих необычное станет вполне вероятным и, таким образом, перестанет быть неправдоподобным. Иисус Христос явил себя в своем служении не только как личность, заслуживающая самого безграничного доверия, но и как носитель несомненных проявлений силы. Если Бог желает сообщить нечто о себе и открыть свое присутствие в истории, то трудно и даже невозможно представить как иначе это может произойти, если не путем «необычных» действий. Как можно будет отделить и узнать Откровение среди однообразного потока исторических событий и психологических обстоятельств, если оно не будет содержать необычных, удивительных и экстраординарных черт? Если в контексте Божественного Откровения «чудеса» не будут чем-то необычным, чрезвычайным или невозможным, то и само Откровение будет совершенно незаметным по сравнению с окружающими его событиями. В свете серьезных подтверждений истинности евангельских событий, в свете постоянных утверждений их авторов, что они не были
104
сочинителями или фантазерами, но свидетелями и очевидцами, готовыми клятвенно подтвердить то, что они видели и пережили, в свете отчетливого и настойчивого стремления библейских писателей отделить свое повествование от массы легендарного материала, циркулировавшего в те далекие времена, простейшей гипотезой, беспристрастно объясняющей происхождение тех сведений, о которых сообщается в этих источниках, кстати сказать, принимаемой даже многими современными экзегетами, будет допущение того, что наиболее важные события произошли именно таким образом, как о них сказано. Даже слова: «Христос воскрес, воистину воскрес» представляют собой, по крайней мере в контексте всех собранных свидетельств, наиболее разумное объяснение тех или иных исторических событий из всех когда-либо происшедших. Все другие объяснения будут лучше только в том случае, если будет установлено, что это простейшее объяснение является невозможным и абсурдным.
К чему же тогда та удивительная тирания, которую люди накладывают на себя и на других и которая состоит в том, что они не могут принимать за истину то, что представляется необычным? Почему идея Юма пользуется таким признанием даже со стороны тех, кто его никогда не читал? Может быть, здесь все дело лишь в чисто риторическом воздействии, как например в том вопросе, который был поставлен Руссо: «Бог может делать чудеса? Но это означало бы, что он нарушил бы те самые законы, которые он создал. Если этот вопрос задан серьезно, то это безбожный вопрос, если только он не был бы абсурдным». Эта цитата из Руссо также не претендует на логическую строгость, ее сила чисто риторическая.
* * *
Психология может предложить только предположительное объяснение того, почему современное сознание сталкивается с такими трудностями при рассмотрении суверенности Бога, который «отменяет» моральные законы, прощая грешников, и физические законы, когда воскрешает мертвых и успокаивает бурю. Возможно, здесь присутствуют зависть и негодование против этой непредсказуемой суверенной свободы, которая сокрушает священные социальные законы, которая «низлагает сильных с престолов и возносит смиренных... алчущих исполняет благ и богатящихся отпускает ни с чем», и это негодование, быть может, и возникает как раз у тех, кто уходит ни с чем? Не стал же Бог, находящийся
105
над всеми законами, мистическим источником страха для этого страстного стремления к комфортной безопасности — стремления, которое со времен Декарта слишком часто определяло основные направления развития науки и философии? Или же это представляет собой пример реакции против богословия номинализма, в котором Бог в силу абсолютно произвольного каприза мог, например, воплотиться в осла или обратить какое-либо зло, даже ложь, зависть, ненависть, в добро, повелев злу свершиться, а добру не состояться, как учил Вильям Оккам, пророк Оксфорда и Швабии. Может быть, здесь имеет место какое-то безотчетное страдание, возникающее от негодования по поводу любого явления, возвышающегося над ординарностью. Разве раб не завидует необъяснимому превосходству хозяина? Или, быть может, здесь присутствует удовольствие твари от сознания возможности формулировать правила для своего творца, по крайней мере в том, что касается законов природы? Быть может, мы очарованы удовольствием, которое доставляет метафизическая дерзость, диктовать мировому Духу, что является возможным, а что — нет? Во всяком случае, Иисус Христос, пренебрегавший законами, был соблазном для иудейской веры в закон, точно так же как он представляется безумием для современной науки с ее благоговением перед законами природы. Революция, сдвинувшая камень от дверей гроба, так же мало простилась ему впоследствии, как до этого не прощалась ему революция против закона книжников. Вероятно, мотивы и в том, и в другом случае одинаковы. Идентификация себя с законом, даже если он всего лишь юмовский закон человеческих обычаев и связей, делает нас хозяевами, судьями и догматиками, лицемерами, книжниками и фарисеями. По всей вероятности, Евангелие не уделяло бы так много места столкновениям с фанатиками закона, если бы позиция книжников не была главной опасностью, постоянно грозящей человечеству.
Другое столь же спекулятивное предположение указывает на одну психологическую особенность, которая входит в состав невроза принуждения. Для человека свойственно двойственное отношение к закону. Есть некоторое удовольствие в хаосе, в капризе, — «беспорядок доставляет удовольствие фантазии», — в разрушении порядка и организованности, в неприбранности и грязи. Есть свое удовольствие в ненависти к прекрасному, благородному и изысканному. Но вот — законы ограничивают свободу самоуправства и потому провоцируют революции. Такого рода ситуации, заключающие в себе соблазн невротического
106
бунта, часто вызывают противоположную реакцию суетливого идолопоклонства перед юридическими методами регуляции: принудительную ритуализацию, педантичность, законничество, скрупулезность, веру в букву закона, в науку и образование, суетливый методологический фетишизм или, по крайней мере, страстную устремленность к щепетильной точности. Стремление к принуждению такого рода также имеет свою кульминацию в удовольствии, получаемом от ненависти к свободе и к тем, кто свободен, ненависти к инициативе, непосредственности и фантазии, ненависти к неожиданному и непредвиденному. В современном мире наука имеет почти богоподобную власть над умами людей. В то же время современный ученый, как тип, характеризуется значительной склонностью к такого рода принуждению, без которого он не сможет выполнять свою работу. Вполне вероятно, что доминирование неизменной необходимости беспокойного оградительного следования закону и стремление к прогнозированию и контролю над явлениями объясняют как протест против свободной спонтанности библейских событий, так и принятие принципов Юма и Руссо, несмотря на полное отсутствие их рационалистической самоочевидности.
Во всяком случае, как только человек начинает понимать, что утверждение Библии «невозможное человеку возможно Богу», по существу, имеет со своей стороны больше оснований, чем формула Юма «непривычное для человека является невозможным для Бога», начинается цепная реакция, которая может революционизировать отношение к вопросу о вероятном вообще. Определенные обстоятельства постепенно или сразу могут существенно изменить всю перспективу невероятности христианства и позволят человеку попытаться посмотреть на него с позиции его вполне вероятной истинности. Конечно, это скорее всего произойдет в том случае, если человек встретится с другими людьми, уже знакомыми с этой проблемой. В то же время часто встречающаяся нестабильность необоснованной экзистенциальной позиции может иногда приводить к интеллектуальным переворотам даже в отсутствие таких контактов. Изменение перспективы лучше всего описывается на основании опыта тех, кто сам в ней живет. Если исключить тех людей, которые «сохранили непосредственность детской веры», и тех, которые посвятили много усилий на то, чтобы найти интеллектуальное обоснование и оправдание своей вере, то мы увидим, что вера, характеризующаяся высоким уровнем разумности, критическим скептицизмом и весьма отчетливым
107
осознанием всех ее сложных проблем, встречается у лиц, обладающих удивительно непоколебимой и даже простодушной верой. Это внутреннее состояние, которое, конечно, весьма удивительно само по себе, может быть для большей психологической ясности сведено к формуле, которая столь проста, что легко ускользает от наблюдения. Для этих людей, — если мы позволим себе, насколько это возможно, временно отстраниться от того, что богословы называют светом веры, — христианство по своей вероятности стоит, так сказать, на первом месте. Это отношение имеет свою типичную предысторию, которая часто очень хорошо соответствует описанию кардинала Ньюмена4). Их умственное развитие позволяет им сформировать такую точку зрения, в которой многие линии, кажущиеся другим людям размытыми, распределяются таким образом, что образуют четкую картину. То, что беспокоит и сбивает с толку других людей, для них представляется дополнительным подтверждением, потому что становится значимым в перспективе их видения. Возможно, это объясняется тем, что такое понимание реальности (если только христианская идея Бога занимает в человеческом сознании место, которое допускает восприятие исторической и человеческой реальности как единого целого) становится почти принудительным по своей вероятности. Даже постоянно возникающий вопрос о реальности как целом создает в этом случае такое внутреннее расположение, которое делает этих людей восприимчивыми к ответам, даваемым верою. А ведь именно отказ от этого вопроса означает гибель веры.
Другой фактор, благодаря которому вера представляется естественной для тех, кто ее исповедует, состоит в отсутствии у них альтернативы. Даже самое мимолетное, примитивное, ничтожное и рудиментарное знание о Бога, которое возможно благодаря нашей способности к отвлеченному мышлению, создающему лоскутную умозрительную картину из случайно схваченных и разрозненных явлений, — даже такое знание о нем вознаграждает того, кому оно доступно, светом, который светит и другим. Этот свет вероятности и правдоподобия поднимает метафизические запросы личности на такой уровень, который исключает многие другие позиции с самого начала. Верующий может легко допустить, что имеются сотни марксистов, позитивистов, экзистенциалистов и прагматиков, которые в интеллектуальном отношении значительно превосходят его. Тем не менее, он может заявить о своем праве считать эти и многие другие идеологии банальными и попросту
108
неумными, когда они претендуют на то, что готовы дать объяснение реальности как целого, или декларируют такую вещь невозможной. Другие интерпретации человечества как реальности, по отношению к которым данный упрек, конечно, неприложим (основываются ли они на идеях Сократа, Гегеля или Будды), оставляют вопрос, поставленный Иисусом Христом, без ответа, и, следовательно, сбрасывают со счетов значительную часть исторической и мыслительной реальности. С незапамятных времен и по сию пору люди при помощи интеллекта постоянно попирали памятники свидетельств. Верующий допускает, что люди более высокого интеллектуального уровня лучше, чем он, понимают многие вещи, но он сомневается в том, смогут ли эти люди использовать свой интеллект наиболее рациональным образом. В отношении целого ряда вопросов они даже не достигают того уровня осведомленности, на котором находится он сам 5).
Уровень, до которого поднимаются вопросы, поставленные «с точки зрения всеобщности», с самого начала исключает множество ответов как не имеющих отношения к делу.
Этот процесс исключения имеет еще один аспект. Любому верующему, ощущающему иногда область веры как своего рода тюрьму, из которой он стремится освободиться, знакомо осознание того, что он не может этого сделать до тех пор, пока крепко держится критерия наибольшей вероятности (правдоподобия), который, собственно, и является тем, что его удерживает. В противоположном случае он должен был бы не принимать во внимание реальность, удерживающую его внимание. Интеллектуально он должен был бы отстранить от себя вопросы, на которые он по-настоящему должен был бы ответить и которых он не может избежать. И даже банальный опыт повседневности сам по себе содержит элементы, которые «методом исключения» укрепляют веру. Для такого верующего очевидно, что, независимо от личности, происхождения и авторитета Христа, дух Евангелия соответствует тем требованиям к человеку, относящимся к его образу мысли и поступкам, которые можно было бы считать исходящими от Святого Бога, даже если бы это не было откровением. Он чувствует, что все самое лучшее, что только есть в нем, — любовь истина, чувство справедливости, степень чистоты и благородства, которая для него достижима, властно побуждает его к признанию их соответствия с Евангелием, до тех пор пока он не уступит этому безнадежному унынию; и тогда все, что утверждает Евангелие и к чему оно стремится, ускользает,
109
становится чем-то недостижимым. И все то, что повсюду выдвигается общественной жизнью на первый план, — «Дер Шпигель», или «Плейбой», или разговоры вокруг коктейля, — как общепринятая форма человеческого поведения и жизни, конечно, должно быть в значительной степени признано ошибочным, если рассматривать все это по отношению к основной дели.
Даже рискуя вызвать досаду некоторых верующих, мы все же укажем на тот факт, что для многих людей простые мысли, содержащиеся в традиционных доказательствах бытия Божьего, являются вполне разумными идеями, которые поддерживают их в жизни и дают обоснование нравственности, даже несмотря на то, что такие люди не в состоянии точно сформулировать свои аргументы или опровергнуть возражения, выдвинутые Кантом или Виттгенштейном. То, что мир своим существованием, своей структурой, законами, биологической и духовной жизнью обязан творческому принципу, превосходящему мир, не представляется чем-то невероятным или неразумным, даже если этому нет подходящего демонстративного доказательства. Первые слова Библии: «В начале сотворил Бог небо и землю» для многих людей, несмотря на все гносеологические возражения, представляются одним из наиболее логичных утверждений, существующих на человеческом языке, хотя они были впервые произнесены не в Афинах и тем более не в Оксфорде или Кенигсберге, а в шатре кочевников-семитов. Любой, кто воспринимает утверждение о божественном происхождении мира как вполне здравую идею, будет способен всерьез отнестись к христианскому ответу на вопрос о значении бытия как целого. Если в постижимом для нас бытии наш опыт обнаруживает наличие разумных структур, имеющих организацию и смысл, а также отмечает явления, которые представляются непонятными и бессмысленными (хотя абсолютная абсурдность их едва ли может быть доказана), то гораздо более вероятным будет допустить, что бытие в целом является чем-то, имеющим смысл, нежели отрицать это. Даже утверждение абсурдности бытия возникает благодаря необходимости для человека принимать неабсурдные, осмысленные решения, что само по себе означает осмысленную жизнь и деятельность. Как могла возникнуть такая необходимость, если сама реальность, в том числе человеческая реальность, является бессмысленной в своей основе? Иногда спонтанно, иногда после долгих размышлений, многие люди приходят к мысли о том, что представляется более вероятным и, самое главное, более разумным считать, что
110
реальность есть в конечном счете некое значимое целое, а не какая-то безумная, бесцельная шутка, бесполезное страдание. Человек ощущает себя как сущность, стремящуюся к счастью и полноте. Он сам, по определению Эрнста Блоха, «лаборатория возможного блаженства». Он также знает, что у него нет шансов надеяться на исполнение всего этого в настоящих условиях жизни. Даже величайшее счастье максимального числа людей в бесклассовом обществе, отмена всех сексуальных табу и запретов будут лишь скучной пародией на исполнение его безграничного стремления к счастью. Эмпирический мир, как он есть, является миром абсурда. Почему абсурд должен быть наиболее вероятным?
Очевидно, что человеческая жизнь между рождением и смертью со всем ее великолепием и гнусностью не дает удовлетворительного ответа. То, что происходит в ней, представляется неисполнением божественного плана, а скорее бездарным делом, недостойным усилий. Мир становится осмысленным только в том случае, если он является прологом, предзнаменованием. Если бы христианство было не Божественным Откровением, а человеческой фантазией, или же просто стремлением выдать желаемое за действительное, оно даже в этом случае было бы больше всего похожим на удивительную догадку о человеческом самоосуществлении, на нечто придуманное, всегда имеющее печать определенной ограниченности, потому что творение, в котором разумное бытие заканчивается как бесцельная шутка, было бы проклятием и насмешкой его создателя. Те, кому данное обоснование, выводимое из наибольшей вероятности, показалось произвольным, будут, возможно, удивлены тем, что основная идея в скрытом виде является частью обоснования нескольких направлений скептического критицизма в современной философии. Макс Хоркхеймер и Теодор Адорно говорят о себе, к изумлению многих своих сподвижников, как о философах-деистах. Обоснования, которые они выдвигают, хорошо совпадают с нашим ходом рассуждений. Хоркхеймер, например, пишет, выражая при этом собственные убеждения: «Если бы меня попросили объяснить, почему Кант столь твердо держался веры в Бога, я не смог бы предложить в ответ ничего более подходящего, чем одно место из Виктора Гюго. Приведу его на память. Старая женщина переходит улицу. Она воспитала детей, получив ничтожную благодарность. Она работала и жила в бедности, любила и осталась одинокой. Но она далека от мысли о ненависти и помогает там, где может. Кое-кто, видя, как она идет по улице, говорит: для нее обязательно должно быть
111
”завтра”. Другими словами, христианское учение о том, что совершенный Бог создал мир, предназначенный к совершенству, о том, что он вызывал к жизни разумные существа, для того чтобы они имели совершенное счастье и совершенную любовь, представляется в самом деле более обоснованным и вероятным, чем предположение, что он сотворил мир, который движется к небытию и в котором счастье и любовь дарятся лишь в качестве краткой трагической мистификации. Разве было бы это добром, и такой мир разве был бы достоин Бога?»
Немаловажную роль играет и обратное утверждение — о неминуемом наказании зла. Для многих людей право и справедливость являются, так сказать, самой яркой звездой на небосклоне их метафизического сознания. В самом деле, неискоренимая убежденность в том, что человек как личность обладает правами, которые ни одно другое лицо не может нарушить, невозможно обосновать только с биологической или позитивистской точек зрения. Так, для людей, которые сами жестоко страдали или были непосредственными свидетелями беззаконий, кои, казалось, вопили к небесам об отмщении, представляется непостижимым, чтобы циничные преступники типа, скажем, Гитлера, возвратились обратно в небытие вместе с миллионами других менее значительных, но столь же гадких мерзавцев. Конечно, здесь присутствуют обычные мотивы мести, но даже и они имеют не только личный, но и трансцендентный характер.
Столь же абсурдным было бы представление о божестве, совершенно индифферентном к поведению своих созданий.
Коль скоро мы мыслим Бога как сотворившего мир не для того, чтобы бросить его на произвол случайности, а для того, чтобы вести его к некоторой цели, то опять же представляется более правдоподобным, что действия Божьи в тварном мире не будут совершаться в тайне, так сказать, «за спиной мира», но будут носить исторически постижимый характер, доступный для человеческого понимания. Если такое постижение будет отсутствовать в фактической истории повседневной жизни человечества, то эта последняя становится весьма сомнительной, поскольку она в этом случае содержала бы в себе непроницаемую бессмысленность, некую метафизическую ненужность.
Если же имеется некоторый сокрытый от нас текст, который может сделать мир понятным, то он мог бы быть передан нам тремя способами. Во-первых, через нашу верность тому, что представляется для нас очевидным, будь то марксизм, экзистенциализм
112
или популярная пресса. Во-вторых, мы могли бы обратиться с этой целью к историческим фигурам как посланникам Бога, которые, властно определяя себя именно в таком качестве, имеют право на наше к ним особое отношение. И наконец, это мог бы быть некий мистический способ, в соответствии с которым Бог безошибочно говорил бы истины нашему сердцу. Следует ли считать христианство неистинным из-за того, что оно признает все эти возможности и отвергает бессмысленность?
* * *
Благодаря экзистенциальной оценке общих вероятностей такого рода, действующей в качестве довольно мягкого довода, поскольку не включает властного принуждения безапелляционных доказательств, кажущихся неоспоримыми, можно поставить вопрос об историческом вызове со стороны личности Иисуса. Приготовление к вере состоит не только в постоянном внимании к самому решающему вопросу: что есть реальность в целом? Такое приготовление включает также мужественное вопрошание о личности Иисуса Христа. (Ведь этот вопрос также может остаться не заданным.) В чем же причина безжалостной неустранимости этого вопроса, — сама история поднимает его, даже тогда, когда мы желаем его отстранить, — приводящей к тому, что все ответы, которые стремятся обойти призыв этого Человека, оказываются несостоятельными? Его существование есть часть реальности, которая принуждает каждого принять конкретное решение. Но если принять во внимание (а именно это и следует сделать) возможность того, что божественные призывы могли быть обращены к человечеству не просто в виде разбросанных и двусмысленных явлений, перемешанных с человеческими спекуляциями и ошибками, содержащимися в мудрых преданиях всего мира, но могли быть даны тем, кто внимательно ищет их в очевидной и доступной для понимания форме, тогда фигура Иисуса из Назарета предстанет для нас как совершенно уникальная, хотя бы потому, что о нем одном говорилось, что он должен прийти вслед за многими посланниками Божьими как тот, который не сравним ни с кем, потому что он есть свет миру, «путь, истина и жизнь». В этом случае неизбежным становится вопрос, который мы поставили в самом начале: не есть ли вера — признание прав некоего лица, а отказ от такого признания — не будет ли он несправедливостью или даже оскорблением, если данное лицо действительно является тем, чем оно себя провозглашает?
113
Контакт с этой личностью добавляет ко всем нашим доказательствам вероятности еще и непреодолимую силу личного опыта. В этом опыте верующий открывает глубину и простор надежде и любви, которых искало его сердце и нашло наконец в этом объекте поклонения; он обнаруживает, насколько он отдалился от того, каким он был до этого, и как отлично его существование в этом новом качестве от того, каким оно было прежде, наедине с самим собой. Он погружается внутрь себя и как бы движется к своему собственному центру. Становится ли этот опыт постоянным и основным содержанием его жизни или нет, зависит, конечно, также и от мотивов веры, о которых Евангелие от Иоанна говорит: «Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно» (гл. 7, ст. 17). Едва ли стоит говорить, что данное условие делает значимость всех предыдущих весьма относительной. Тем не менее, будет полезным повторить их.
Вера, о которой здесь говорилось, представляет собой прежде всего безусловное доверие к определенной личности, подобное тому, какое мы находим в счастливом браке, в дружбе или в каком-либо другом надежном человеческом союзе. В этой статье мы не рассматривали «догматическую» веру, которая включает веру не только в Иисуса Христа, но также и в Церковь как авторитетную хранительницу его основополагающей вести, а также в ее содержание, точно сформулированное в правилах веры. В признании авторитета Церкви общие представления о правдоподобии веры, о которых шла речь, играют свою роль. Христиане считают вполне безосновательным утверждение, что Иисус оставил свою весть в истории без всякой охраны, полагаясь единственно на субъективную индивидуальную интерпретацию, ничего не противопоставив возможности серьезных искажений ее в процессе передачи. Тексты Священного Писания содержат также свидетельства об основании и наделении властью некоего организованного общества, наделенного правом, обязанностью и способностью к правильной интерпретации его слов и дел. Христиане также указывают на тот факт, что история Вселенской Церкви постоянно сопровождалась знамениями, раскрывающими содержание Благой Вести. Об этих знамениях сам Иисус говорил в своих заповедях и наставлениях, и он обещал их своим ученикам. В основе отношения христиан к Церкви лежит ощущение того, что необыкновенное и героически решительное отношение к жизни, которое абсолютно изменяет личность в духе Евангелия и которое мы находим у святых, можно найти в исключительном и характерном
114
изобилии можно найти и в этой Церкви. Они основывают свое признание Церкви на том убеждении, что даже в своем отношении к Богу каждый человек выступает не только как изолированный «данный индивидуум», но как некое социальное существо, принадлежащее к определенному обществу, как новый Народ Божий. Обоснование такого взгляда на нас самих лежит не просто в антропологических представлениях, но исходит из основной темы Ветхого Завета. Более того, существует очень много людей, которые как верующие ощущают отчетливую потребность жить в общине, посвятившей себя молитве и служению, при максимальном общении друг с другом.
Для людей, которых эта Церковь ведет и наставляет и которые имели то, что можно назвать общением с Иисусом Христом, свойственно также ощущение благодарности за обретение с ее помощью центра собственной жизни и за неисчислимую помощь, которую они от нее получают. В этом ощущении благодарности получают свое точное значение и оценку те основания, в соответствии с которыми Церковь определяет себя как посредницу Христа. Этот процесс также может вести к созданию прочного переплетения конвергентных вероятностей.
Такие люди говорят, что по мере роста их внутреннего контакта, понимания и единства с личностью Христа Церковь все более убедительным образом проявляет себя той средой, в которой ощущается его присутствие и осуществляется связь с ним.
Вопрос об экзистенциальных вероятностях остается существенным даже тогда, когда человек начинает понимать, что вера только тогда достигает своей подлинности как твердая и определенная вера, когда она выходит за пределы вероятного вообще. Ибо здесь, так же как и во всех других аспектах человеческого развития, окончательные формы достигаются только прохождением через предварительные формы.
Однако фактически преждевременная настойчивость именно на конечных формах часто мешает развитию предварительных форм, которые являются приемлемыми и просто необходимыми человеку в процессе становления.
Для многих людей вера стала бы более «естественной» и доступной, если бы она не была отгорожена слишком поспешной и настойчивой уверенностью их ближних в несомненности веры вообще и несомненности догматов в частности. Все это имеет свое положительное значение и является необходимым, но в свое время. И будет, конечно, совершенно ошибочным стремление
115
понуждать к действиям, которые еще невозможны на некоторых стадиях интеллектуального развития.
Все предшествующие рассуждения, несомненно, вызовут возражение — не исчезла ли за этими вычислениями вероятности собственно вера? Такого намерения, разумеется, не было. Но я полагаю, что в данном случае здесь переплетаются две разные вещи, одна из которых — вычисление вероятности — представляется более подходящей для анализа. Возможно, что ее следует рассматривать как некую субструктуру веры.
Вопрос о реальности в целом и об участии в ней конкретной личности в настоящий момент интеллектуальной истории находится как бы под знаком безнадежности, которая, впрочем, не только ведет к отказу от его решения, но и нуждается в преодолении. Многие люди сегодня понимают, что ни наука, ни философия не могут быть ориентирами в реальной жизни. В тех случаях, когда они все же избираются в качестве ориентира и должны быть оправданы, как таковые, вновь с неизбежностью возникает вопрос, который был уже однажды отвергнут: не понуждаем ли мы самих себя к сверхусилиям, которые не являются необходимыми, когда с гордостью и безнадежностью решаем задачу самопросвещения, вверяясь нашей собственной разумности? Каким бы ни был уровень наших знаний о существовании Бога, совершенно несомненно, что своими собственными усилиями мы можем постичь его замыслы в значительно меньшей мере, чем мысли любого из наших собратьев по человечеству. Если, однако, люди должны, в принципе, ясно выражать свои мысли, для того чтобы они стали доступны всем, то резонно будет спросить: не было ли людям уже давно сообщено о замыслах Бога? И если такая возможность не исключается, возникает новая перспектива для решения данной проблемы, появляются новые вероятности, формирующие новую картину, подобно тому как некогда звезды открыли трем мудрецам ту единственную, которая стала для путеводной и помогла им найти то, что они и должны были принять. Они твердо следовали ее свету. И, насколько мы знаем, они нашли то, что искали.
ПРИМЕЧАНИЯ
1) Наиболее важное различие между неврозом и обоснованным чувством вины не разбирается нами в данном случае, так как мы интересуемся главным образом
116
не тем, происходит ли чувство вины в результате фиксации на требованиях и идеалах, связанных с детскими авторитетами, или из других источников такого рода, но тем, что оно может также содержать и рационально обоснованные упреки самому себе. Мы исходим из того, что пациент признает себя ответственным за свои суждения и за свои ошибки.
2) К счастью, имеется область, которая в этом отношении напоминает область веры, — это область морального решения. Многие люди не представляют, каким образом можно философски обосновать, почему нельзя отравлять собственную тетку для того, чтобы завладеть ее деньгами; впрочем, и многие современные философы тоже сказали бы, что доказать такое утверждение невозможно. Тем не менее, все согласились бы с тем, что благодаря какому-то необъяснимому убеждению они знают, что делать этого нельзя, и поэтому воздерживаются от отравления и вообще от убийства почтенной леди. Существует некая экзистенциальная логика, свойственная даже среднему человеку, никогда специально не изучавшему данный предмет, и эта экзистенциальная логика позволяет даже людям с довольно низким коэффициентом интеллектуальности не уподобляться животным, но жить как разумные человеческие существа.
3)В данном весьма негативном описании нельзя забывать о том, что здесь также может действовать одна вполне понятная тенденция. Многие люди, не уклоняющиеся от необходимых требований, предъявляемых к ним обстоятельствами, тем не менее обеспокоены тем, что некоторые формы христианства, с которыми они так или иначе столкнулись, настолько лишены чувства меры, что это становится угрожающим для психологического равновесия и гуманности. Несомненно, что в «пуританстве» всех деноминаций проявляются враждебность к удовольствиям, мазохизм, ригористическая жестокость и другие зловещие силы, которые создают впечатление, что любое соприкосновение с христианством является разрушительным.
4) «Грамматика Согласия» (Grammar of Assent). За подобными решениями скорее всего стоят обстоятельства, не поддающиеся анализу. У всех нас есть такие твердые и точные убеждения, которые мы едва ли сможем удовлетворительно обосновать. Убедительным является их конвергенция, формирование некоей сети из связанных между собой частей и то, что они взаимно дополняют друг друга. Отдельные причины, на которые могут ссылаться, являются лишь отдельными узелками сети, которая в действительности не может быть представлена одновременно вся целиком, и все же каждый узелок видится как часть этой единой сети. Через каждую отдельную вероятность, которая может быть выражена, просвечивает не вполне ясное основание, связанное с ней, некий целостный контекст, который не может быть ни точно выражен, ни рассмотрен без опасения разрушить его. Ньюмен дает утонченный анализ логического комплекса такого рода согласия, который играет ведущую роль в царстве практического знания. Кажется, однако, что он переоценивает возможности и, следовательно, обязанности среднего человека, прокладывающего путь в процессе взвешивания всех «за» и «против».
117
Его ответ, вероятно, должен был бы состоять в том, что в данном случае, как и во всех действиях, имеющих значение для спасения, ни от кого нельзя требовать больше того, на что он способен, так что успех обещан даже самому неуклюжему усилию, сделанному в противовес лености сердца.
5) Такое отношение может показаться чрезвычайно самонадеянным противоположной партии этой дискуссии, и оно в самом деле в некоторых случаях является составной частью наиболее замечательных и неудачных комбинаций с личной самонадеянностью. Оно неоднократно впадает в ошибки, так как слишком поспешно распространяет свое презрение на метафизическую несостоятельность отвергаемой идеологии, при этом вторгаясь и в те области, в которых эта последняя обнаруживает, очевидно, более высокий уровень понимания.
118
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.