13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Бердяев Николай Александрович
Бердяев Н.А. В защиту христианской свободы (Письмо в редакцию Современных записок)
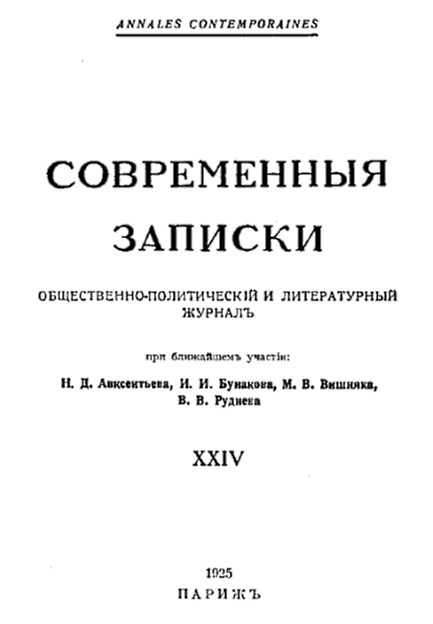
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
ANNALES CONTEMPORAINES
СОВРЕМЕННЫЯ
ЗАПИСКИ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ И ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ЖУРНАЛ
при ближайшем участии:
Н. Д. Авксентьева, И. И. Бунакова, М. В. Вишняка,
В. В. Руднева
XXIV
1025
ПАРИЖ
Бердяев Н. А.
В защиту христианской свободы
(Письмо в редакцию).
Редакция «Современных Записок» была так любезна, что после многочисленных нападений на меня на страницах этого журнала она согласилась предоставить мне возможность дать принципиальный ответь, разъясняющий мои взгляды. Я совсем не предполагаю вступать в мелочную полемику и даже не думаю называть имена моих критиков. Меня интересуют самые проблемы, и я чувствую потребность разъяснить мой образ мыслей, который остался плохо понятым и иногда бывал до неузнаваемости искажен. За последние два года в русской заграничной среде я был предметом некоторого внимания критики, письменной и устной, исходившей из разных лагерей. Но нет ничего печальнее русской критики идей. Она никогда не пишется по существу и никогда не интересуется духовным миром, который раскрывается в тех или иных идеях, никогда не интересуется поставленными проблемами. Русская критика идей остается исключительно утилитарно - публицистической, она всегда занята изобличением «вредного направления» и дискредитированием противника, который может оказать дурное влияние. Может быть и вообще «критика» есть жанр, не имеющий права на существование. Действительный смысл имел бы лишь духовный диалог. Только платоновский диалог есть настоящее общение мыслей, общение идей. Для критики, направленной против меня, характерно уже то, что она главным образом избрала своим предметом мою книгу «Философия неравенства» и мало обратила внимания на мои книги «Смысл истории» и «Миросозерцание Достоевского». Между тем как существенны для моего образа мыслей именно две последние книги, они имеют миросозерцательное значение. Книга же «Философия неравенства» представляет более благоприятный материал для излюбленных у нас методов критики, но гораздо менее существенна для характеристики моих
285
286
взглядов. В совершенное отчаяние может привести тот инертный консерватизм мышления, та невозможность выйти из слишком привычных категорий, которые встречаются у большей части критиков. Из полемики по поводу моих книг я узнал, что я враг свободы и что против меня нужно защищать и оправдывать свободу. Так говорят русские критики. Но вот появляются на немецком языке мои книги с Миросозерцание Достоевского» и «Смысл истории». Кейзерлингь, один из самых известных немецких философов и писателей, пишет предисловие к немецкому переводу моей книги «Смысл истории» и говорит в нем, что я могу быть назван настоящим философом свободы. В двух немецких статьях по поводу появления на немецком языке книги «Миросозерцание Достоевского» также говорится, что я более, чем кто-либо философ свободы. Западно - европейские люди, интересующиеся миром идей и совершенно не заинтересованные в борьбе против «вредного направления», сразу же верно почувствовали, что исконная проблема всего моего миросозерцания есть проблема свободы и что положительный пафос мой есть пафос свободы. Защита свободы духа есть основной движущий мотив всего мною написанного. Это должно быть ясно для всякого, кто с вниманием и с интересом к самим проблемам читал мои книги «Миросозерцание Достоевского» и «Смысл истории» или более старые мои книги «Философия свободы» и «Смысл творчества». Книга «Философия неравенства» представляет страстную и негодующую реакцию против русской революции. Но и в этой книге двигал мной не страх свободы, как мне хотят приписать, а страх за свободу, страх за человеческое лицо. Я ощутил революцию, как окончательное истребление духа свободы и свободы духа. В этом моя проблема. Пусть меня именуют «реакционером», ненавистником революции. Словами меня нельзя испугать: я знаю, что я «реакционер» и ненавистник революции из страстной любви к свободе духа, к лицу человека. Я давно, очень давно уже ощутил, что так называемые «левые» и «революционные» направления не любят свободы духа и готовят окончательное ее истребление. Самые замечательные и творческие русские люди пали жертвой нелюбви к свободе нашего традиционного «левого» лагеря. Свободу духа всегда мало любили на земле, — это ведь аристократическая любовь. Я не думаю, чтобы она была в так называемом «правом» лагере. «Правый» лагерь в этом отношении не менее «демократичен», чем «левый» лагерь. Но я знаю, что настоящая любовь к свободе
287
духа была у нас лишь у тех мыслителей и писателей, которые не были признаны «левым» лагерем, и ее не было у тех, которых он признавал своими властителями дум. Хомяков, Достоевский, Вл. Соловьев более любили свободу духа и утверждали ее, чем Белинский, Чернышевский. Михайловский, Плеханов, которые духовно, по основам своего миросозерцания подготовляли Ленина. Свобода есть категория духа и предполагает бытие духа. Это — философская аксиома. Те, которые отрицают дух, могут говорить о свободе лишь во внешнем, несущественном и произвольном смысле. Свобода в этом случае не имеет источника, не имеет бытийственной сферы своего пребывания и не имеет оправдания. И всякое мировоззрение, отрицающее дух и духовный мир, в силу внутренней логики должно кончаться Лениным. Это есть имманентная кара. Смешно и жалко защищать свободу религиозной совести, когда отрицаешь религиозную совесть, смешно и жалко защищать свободу мысли, когда отрицаешь самостоятельное значение мысли, смешно и жалко защищать свободу слова, когда не прядаешь никакой цены слову и рассматриваешь его лишь как утилитарное орудие, смешно и жалко защищать права человеческой личности, когда не признаешь реальности, бытийственности человеческой личности, смешно и жалко говорить о свободе, когда свободу рассматриваешь лишь как продукт общественных отношений и общественной среды! О свободе внутренне имеет право говорить лишь тот, кто знает свободу, как реальность духовного опыта и духовной жизни, а не тот, кто добивается свободы, как продукта общественного принуждения, и знает в своем внутреннем опыте лишь реальность рабства. Все это элементарные аксиомы не только религии, но и философии.
Моя книга «Новое средневековье» была воспринята в русских «прогрессивных» кругах главным образом со стороны ее устрашающего названия. Я был признан отчаянным реакционером, мракобесом, сторонником «мрака средневековья». Кстати о «мраке средневековья». «Мрак средневековья» выдумали просветители XYIII в., которые не знала и не понимали истории. Но очень неловко говорить о «мраке средневековья» тем, которые стоят на уровне современных исторических знаний о средневековье. Оценка средневековья давно уже изменилась среди культурных историков. Давно уже установлено, что средневековье, если не считать первых веков варваризации после падения античной культуры, было временем великой и своеобразной духовной культуры, не-
288
обычайного и творчески оригинального напряжения мысли в схоластике и мистике, временем великих святых, духовных орденов и народных религиозных движений, временем художественного творчества, создавшего готику и живопись примитивов, «Божественную Комедию». Дайте и поэзию трубадуров, временем выковывания личности в монашестве и рыцарстве, что средневековье знало свое христианское Возрожденье. О средневековой философии написано теперь огромное количество исследований и монографий, которые окончательно реабилитируют средневековую философию и делают невозможным старое мнение, что между Платоном и Декартом было пустое место*). Средневековая философия была выше и глубже, просвещённые, чем философия нашей эпохи. Слова «реакционный» и «революционный», «правый» и «левый» потеряли в наше время всякое реальное значение, стали пустыми звуками. Мне представляется ужасной отсталостью и реакционностью самое употребление этих слов и категорий.
Я знаю, что «левые» меня считают «правым», а «правые» считают «левым», что направление мое может быть названо реакционно-революционным. Но это двусмысленное положение меня мало беспокоит, потому что я остаюсь в очень хорошем обществе. О Вл. Соловьеве никто никогда не мог решить, «правый» он или «левый», и решить нельзя было, потому что он действительно был вне этого противоположения и над ним. Он действительно стоял вне традиционных русских направлений. И напрасно сейчас хотят противопоставить мне Вл. Соловьева и меня бить им. Смею думать, что он был бы со мной, а не с теми, которые мне его хотят противопоставить, и во мне более увидел бы своего духовного наследника, чем в них. Духовно мне очень близок Вл. Соловьев, хотя я и не разделяю многих его идей. И в защите человека, в защите свободы я гораздо радикальнее, чем Вл. Соловьев. Назову еще другие имена, с которыми я разделяю невозможность принять кличку «правого» или «левого». Таковы в сущности были классические славянофилы, таков был и Достоевский, Достоевский «Легенды о Великом Инквизиторе».
*) Жильсон говорит: «Nous osons affirmer qu’à celui qui le considérera sans parti pris, le XIII siede n’apparaîtra pas comme moins riche en gloires philosophiques que les époques de Descartes et de Leibnitz ou de Kant et d'A. Comte». «Le thomisme». Стр. 6.
289
А на Западе? Решите, «правый» или «левый» был Карлейл или Рескин? Карлейль был ненавистник демократии, парламентаризма, радикализма и всего духа современной цивилизации и вместе с тем он был своеобразный революционер, он обличал неправду буржуазно - капиталистического общества и стремился к радикальному его перерождению. Был ли «правым» или «левым» Ницше, ненавистник демократии, социализма, современного прогресса и вместе с тем революционер духа? А Леон Блуа, величайший католический писатель Франции новейшего времени, самое глубокое в ней духовное явление, — был ли он «правым» или «левым»? Когда Л Блуа спросили, к какой он принадлежит партии, он ответил: «я принадлежу Богу, Единому и Троичному в Лицах, и больше никому и ничему». Л Блуа пламенно ненавидел прогресс, гуманизм, демократию, социализм, всю передовую цивилизацию нового времени и изобличал их лож. Но он же, как революционер духа, изобличал ложь и смрад буржуазного общества, ждал великого духовного переворота в мире, великой манифестации духа, он не верил ни в какие реставрации прошлого, ни в какие возвраты. Сам Ж. Местр, имеющий в учебниках репутацию крайнего реакционера и правого, таким не был, был бесконечно сложнее. Он не любил правых эмигрантов своего времени, не хотел насильственной кровавой контр - революции, он ждал новой эпохи в христианстве, верил в манифестацию Св. Духа, был своеобразным «иллюминатом», и обычные «правые» дурно к нему относились. Я мог бы привести много примеров людей, которые своим явлением, своей жизнью и своей мыслью, своей судьбой отразили вульгарное противоположение на «правых» и «левых», на «реакционеров» и «революционеров», и у нас же все еще продолжается устаревшее, дореволюционное разделение на «правых» и «левых» и не преодолена дурная привычка отождествлять эти категории с категориями моральными. Прежде в «левом» лагере принято было считать всякого «правого» дурным, безнравственным человеком, почти злодеем. Теперь в «правом» лагере всякого «левого» считают злодеем и дурным человеком. Я никогда не верил и не верю ни в «левую», ни в «правую» мораль. Наше общественное мнение не достигло еще той духовной и нравственной эмансипации, после которой видно становится лицо человеческое. В русской заграничной среде господствуют призрачные оценки и люди поедают друг друга во имя фантазмов. В этом отношении было великое преимущество жиз-
290
ни в Советской России. Так люди поставлены непосредственно перед страшным, антихристовым злом, перед лицом смерти и в великом духовном напряжении должны защищать свои последние святыни. Это делает людей более существенными, более онтологическими и вырабатывает более братские отношения между людьми. Там никто уже не интересуется, «правый» ли человек или «левый», монархист или демократ, а интересуются, за правду ли он или за ложь, за божеское или за диавольское. Но я слышу и «с права» и «с лева» голоса, которые говорят мне, что не быть ни «правым», ни «левым», значит быть вне жизни, значит проповедовать отвлеченную духовность, уйти из мира. Люди, которые привыкли жить в мире «правой» и «левой» политики, которые погружены в бурление политических страстей, думают, что это и есть истинно реальный мир. Люди эти легко принимают фантазмы за реальности. Когда дается ход страстям и они безудержно развиваются, то из них созидается своеобразный мир фантазмов, принимаемых за реальности. Есть своя неотвратимая диалектика в политических страстях, в разложении политических воль, воль к господству, и в страстной ненависти к противнику. Ткется лживая, злобная, пустая ткань жизни, лже-жизнь, лже-реальность, фантасмагория! И нет возможности добраться до онтологического ядра в фантасмагорическом мире политики, не только государственной, но и церковной и всякой политики.
Посмотрим, действительно ли быть «правым» или «левым» значит быть в жизни. Всякая «левая» политика упразднена принципиально и фактически русской революцией, большевизмом. «Левые» революционные начала достигли до своего предела и внутренне изобличены. Нет уже той исторической реальности, в отношении к которой можно было бы быть «левым» и делать революцию. «Левые», гордо считающие себя хранителями истинных революционных начал, «левые» незамаранные большевизмом, скажут, что большевизм не осуществил их идеалов свободы и равенства, осуществил противоположное, и что их «левость» и революционность и заключается в стремлении осуществить эти попранные большевиками идеалы. Эта аргументация имеет лишь внешнее обличие убедительности. Революции всегда выставляли своими лозунгами свободу и равенство и всегда их попирали. Так было и во французской революции, не только в русской. И это попирание происходить не только в разгар революции, в исступлении революционных страстей, — оно продолжается и в мир-
291
ных и длительных, эволюционных последствиях революции. Общество XIX в., созданное революцией, представляет собой надругательство над идеалами свободы, равенства и братства. Социалисты всегда это утверждали. Но таким надругательством над социалистическим идеалом, над социалистической свободой и социалистическим равенством, будет общество, которое создастся в результате социалистических революций. Подлинная свобода, равенство и братство возможны лишь в христианском обществе, не внешне обозначающем себя христианским, а внутренне осуществляющем Правду Христову. Безбожная, революционная свобода и равенство всегда оборачивались величайшей тиранией и величайшим неравенством. Достоевский это гениально показал. И «левые», чистые от злодейств большевиков, напрасно думают, что они осуществили бы настоящую свободу и настоящее равенство. У них нет тех духовных начал, которые могут воспрепятствовать большевистскому концу всякого «левого» революционного пути. Они просто не додумывают до конца, не доходят до конца, останавливаются на пол пути, в нейтральном состоянии, не делают последнего выбора, который большевики делают, беря на себя ответственность до конца. «Левые», революционное направление не могут осуществить свободы, потому что они не знают тех духовных сил, которые только н могут положить предел тирании общества над человеческой личностью. Для них человек не духовное существо, а исключительно общественное существо, и судьба человека отдается в безраздельную власть общества. И последнее слово на этом пути говорит коммунизм. Внешняя общественность для «левого», революционного миросозерцания есть верховная и последняя реальность, от нее всего ждут, ждут и освобождения личности. Ей приносится в жертву дух. Эта внешняя общественность и есть та фантасмагория, которую признают за единственную реальность жизни. Тот объявляется стоящим вне жизни, кто не погружен в эту фантасмагорию. Утверждать, что можно и должно сделать «революцию» против большевизма, есть злоупотребление словами и самообман. Большевизм и есть квинтэссенция мирового революционного движения, предельное его выражение. Революция именно к этому ведет, а не к тому прекрасному, о чем мечтали. Против большевизма можно сделать только контр - революцию, а не революцию, и все противники большевизма — контр - революционеры. Эсеры, меньшевики, кадеты, все демократы сейчас обречены на большую или меньшую контр-революционность. «Левее» большевиков
292
продвинуться невозможно. «Левость» сейчас есть пребывание в безвоздушном пространстве, есть пережиток дореволюционных идеологий. Но лучше ли «правые»?
«Правые» окончательно вращаются в сфере фикций и фантазмов. Они не понимают, что революция случилась, как бы она ни была отвратительна, и что Россия вступила в совершенно новый исторический период. Нужно сказать, что «правые» и «левые» одинаково реставраторы, — одни хотят реставрировать наше «правое» прошлое, другие — наше «левое» прошлое. Ни те, ни другие не чувствуют, что мы вступили в новое измерение исторического бытия и что впереди нет ничего похожего ни на старое «правое», ни на старое «левое» *). «Правые» в очень сильной степени живут подозрительностью, близкой к умопомешательству, и злобой. Но подозрительность и злоба создает мир фантазмов, призрачный мир. В подозрительности и злобе нет ничего реального. Подозрительность и злоба есть начало сумасшествия. Эти состояния порождают галлюцинации. Реставрационные вожделения и замыслы не заключают в себе начала реального, не имеют никакого социального базиса в пореволюционной России. У некоторых «правых», особенно у «правой» молодежи, участвовавшей в белом движении, есть здоровое религиозное и национальное чувство, которое отсутствует у «левых». Но это здоровое религиозное и национальное чувство совсем не должно приводить к «правости» в старом смысле слова, оно ново и обращено к грядущему возрождению, а не реставрации. Слишком сильная душевная реакция и слишком сильная эмоциональность многое тут спутывают. Происходит смешение моментов религиозно - национальных с моментами государственно - бытовыми. Новая творческая «правость» более обращена к будущему, чем старая инертная «левость». Но это и не следует именовать «правостью», это есть духовное обновление, творческая духовная реакция против русского нигилизма, против ложной психологии и ложных идей дореволюционной русской интеллигенции. Подлинные реальные процессы и реальные перерождения происходят вне сфер старой «левости» и «правости», революционности и реакционности. В период исторических процессов и переворотов самые реальные про-
*) Единственно пореволюционное направление в эмиграции- евразийство. У меня есть радикальные религиозно-культурные разногласия с евразийцами, но политически я им более сочувствую, чем другим направлениям.
293
цессы происходят в глубине, в подпочве, а не на поверхности. Это всегда прежде всего процессы духовные, порождающие новую душевную ткань. На поверхности, во внешней общественности, в жизни государства, в политике все разлагается, все изжито. В глубине же, в подпочвенном слое, в жизни духа слагается новая жизнь. И она сможет выявиться, воплотиться во внешних формах лишь тогда, когда пройдет острый кризис, когда мир начнет успокаиваться после катастроф и потрясений. Вот это и есть главная причина, по которой я не с «правыми», и не с «левыми», и не с средними, почему я не верю в реальность и жизненность в наши дни политики, связанной со старыми категориями и оценками, и почему я убежден, что быть вне «правых» и «левых» и значит быть в самой жизни, а не вне жизни. На вопрос, «правый» я или «левый», я не обязан отвечать, потому что отрицаю всякий смысл за самой постановкой вопроса. Все это лучше понимают русские люди, живущие в России, чем русские люди, живущие за границей. Там все более онтологично, более существенно, более жизненно — элементарно. Там действует последнее зло, которое есть великий проявитель последнего добра. Там совершается выбор и выбор этот уводит людей из серединного царства. Мои слова, «или братство во Христе или товарищество в антихристе» были восприняты особенно одиозно. Но ведь слова эти говорят лишь о том, что наступило время выбора, что дальше нельзя задерживаться в переходном, промежуточном состоянии. Эти слова должны быть близки и понятны каждому христианину. Они лишь выражают тему «Откровения Св. Иоанна». И понимать эти слова нужно не так, что товарищество в антихристе лучше, чем гуманистическая демократия, совсем не так. Коммунизм, товарищество в антихристе гораздо хуже, чем гуманистическая демократиями представляет предельное зло. В гуманистической демократии может произойти выбор иной, выбор братства во Христе. Но лучше, чтобы выбор наконец произошел, вот что лучше. В нейтральном серединном состоянии, между небом и преисподней, между Богом и диаволом нельзя бесконечно оставаться. Вот что я хотел сказать. И думаю, что русский народ поставил этот вопрос перед всем миром.
Наибольший интерес и наибольшую вражду вызвали мои суждения о демократии. Я не думаю, чтобы это был самый важный и вообще особенно важный вопрос. Он представляется важным лишь от ложной поглощенности политикой в старом смысле слова. Меня всегда интересовал не столько политиче-
294
ский вопрос о демократии, сколько вопрос духовный. Не я один заметил, а давно уже заметили наиболее острые мыслители разных направлений, что в демократиях нет свободы духа и что демократии обычно обозначают ослабление и умаление духа и духовной жизни. Современная европейская демократия антирелигиозна и она выражает упадок веры в жизни народов. Народы обращенные к небу и к вечности не создали бы демократии в современном смысле слова. Политическая демократия обладает тем свойством, что она переводит жизненную энергию народов из внутреннего во внешнее устроение жизни. Она духовно рассеивает, а не сосредотачивает. Она до крайности доводит политицизм, направляет волю к властвованию, к борьбе политических страстей, она отдает жизнь во власть профессиональных политиков, т, е. обычно людей духовно пустых. Политическая демократия особенно благоприятна для создания самодовлеющей сферы политики, которая есть сфера фантасмагорическая, болезненный нарост на народном организме. В жизни современных демократических обществ нарушаются элементарные основы духовной гигиены. Понимание власти, как права и притязания, а не обязанности и тяготы, несовместимо с христианским сознанием. Также несовместима с основами христианской нравственности, христианского понимания добра, борьба политических партий и разъярение политических страстей. Вера в то, что внешняя политическая форма может разрешить основные задачи жизни, может привести к обновлению жизни, совершенно противоположна вере христианской, которая не допускает такого преувеличения внешних политических форм. Я думаю, что вера в политические формы вообще падает в нашу эпоху. Все политические формы изжиты и все они несут с собой разочарование. Вопрос о политических и государственных формах есть вообще второстепенный и не особенно важный вопрос, как для России, так и для Европы. Новая история безмерно преувеличила значение политических форм и политики в жизни народов. Она кончается и с ней кончайся и политицизм, вера в политику. Это относится не только к «левым», к демократам, но и к «правым», к монархизму. Думать, что самый главный и самый жизненный вопрос для России есть вопрос о монархии, — есть такая же ложь, как и думать, что самый главный и жизненный вопрос есть вопрос о республике. Нельзя вкладывать своего положительного пафоса ни в то, ни в другое. Социальный и духовный реализм, реализм жизненных социальных и духовных процессов, окончательно побеждает политический форма-
295
лизм, легитимизм монархический и демократический. Вот в чем моя мысль. Социалисты давно уже критиковали политическую демократию с точки зрения социального реализма. И они были правы. Торжество социального реализма, т. е. реальных социальных интересов профессиональных, трудовых, социальных групп общества, приведет к крушению политических демократий с парламентами, с политическими партиями, с политицизмом, и создаст трудовое общество с профессиональным представительством, общество цеховое, корпоративное, синдикалистское. Оно будет народным, но не демократическим в современном смысле. Центральным является вопрос социальный, а не вопрос политический, организация труда, а не формы государства. Что социальный вес трудящихся народных масс безмерно увеличится, что нет возврата к сословно-дворянскому или классово - буржуазному строю, это для меня аксиома. Я решительно об этом говорю в «Новом средневековье», но никто не обратил на это внимания. Но народное, трудовое общество может иметь иерархическое строение власти, в его политическом устройстве могут быть монархические и аристократические элементы. Я верю в социальную демократию, но не верю в политическую демократию. И я думаю, что в социализме больше правды, чем в буржуазной демократии. На этой точке зрения стоит христианский социализм. Демократия и народ не то же самое. Демократия живет сегодняшним днем, народ живет на протяжении целой истории.
Это неверно, что тон и движущий мотив демократии есть уважение к человеческому лицу, есть утверждение достоинства человеческого лица. В современной демократической цивилизации есть страшное неуважение к человеческому лицу, невнимание к живому человеческому лицу. Демократическое царство знает отвлеченного человека и отвлеченные человеческие количества, живого, конкретного человека, лица человеческого не знает и знать не хочет. Демократия по природе своей не хочет знать внутренней жизни человеческой личности, относится к ней пренебрежительно, для нее не существует качественного своеобразия лица. Не в демократии, а в христианстве открылось абсолютное значение человеческого лица. Христианство поведало миру, что душа человеческая стоит больше, чем все царства мира, и открыло внутри человека бесконечную духовную жизнь. Это религиозное откровение о человеческом лице, о его богосыновском достоинстве, не может иметь адекватного выражения ни в какой форме общественности, оно имеет духовную, а не общественную природу, оно не находило себе выражения в ста-
296
рых теократических государствах и не находит его в новых демократических обществах. Ничто абсолютное по своему значению не вмещается в природно - исторической действительности. В этом отношении одинаково неверен и ошибочен и оптимизм правый, консервативный и оптимизм левый, прогрессивный или революционный. Демократию пытаются обосновать на автономии человеческого лица и противопоставить ее гетерономному, авторитарному сознанию. Но это очень большое недоразумение и самообман. Новая история со времен Ренессанса и реформации принесла с собой автономию всех сфер человеческой жизни н творчества, автономию науки и философии, автономию морали, автономию искусства, автономию права, государства и хозяйства, автономию самой религии. Все было освобождено, все перестало быть подчиненным высшему духовному центру. Но стал ли автономен и свободен от этого человек, человеческое лицо? Все освобождается, все делается автономным, кроме самого человека. Человек окончательно попадает в рабство к разным автономным началам. И по истине можно удивляться тому самоотвержению и самопожертвованию, которые проявил человек новой истории, освобождая науку, мораль, государство, хозяйство и пр. Сам он превратился в орудие освобожденных им сфер. Пресловутая автономная мораль Канта отнюдь не означает автономии человека, человеческого лица. В автономной морали Канта о человеке совершенно забыто и человек окончательно порабощен отвлеченной моралью. Кант отрицает нравственный опыт и нравственную жизнь человека, борения человеческого духа. Трансцендентальный субъект, категорический императив не есть человек и ничего человеческого в этих отвлеченных тиранах нет. Демократия есть политическая автономия, общественная автономия, автономия самостоятельной сферы, но не есть автономия и свобода самого человека. Человек так же оказывается порабощенным демократической общественности, как он порабощен категорическому императиву, автономной морали. Демократическая общественность не знает ни духовных, ни политических способов защиты человеческого лица, его свободной и независимой духовной жизни от тирании освободившейся сферы — отвлеченной общественности. И истинным путем нужно признать путь противоположный тому, которым шла новая история со своей автономией всех сфер, — нужно связать общественность, связать мораль, связать все сферы жизни, подчинить их духовному центру и освободить наконец самого человека, его лицо, его вечный дух. В сфере общественной наиболее
297
благоприятно для свободы человека, для свободы дула, представляет меньшее зло, если не большее добро, сочетание нескольких взаимоограничивающих начал, не допускающих безграничного господства отвлеченного государства, общества или народа над конкретным и живым человеческим лицом, т. е. общественный плюрализм, а не монизм — сочетание начал демократических с началами аристократическими и монархическими, тоже ограниченными по своей природе *). Демократия есть форма народного самодержавия, есть абсолютизм общества. Но всякое самодержавие и всякий абсолютизм должны быть преодолены кроме самодержавия и абсолютизма Церкви Христовой, которая не может быть воплощена при помощи средств и форм царства кесаря, внешней общественности и внешней государственности. В Церкви принципиально разрешается и преодолевается трагический конфликт личности и общества, который наполняет всю историю и который неразрешим во внешних государственных и общественных формах. Для Церкви человеческое лицо, его временная и вечная судьба, имеет абсолютное значение и она бесконечно внимательна ко всякому лицу, занята его спасением. И вместе с тем Церковь есть общество Христово, есть соборность, в ней все человеческие лица, живые и умершие, сращены и соединены в одно тело и одну душу, составляют Христов род. Жизнь Церкви основана на сочетании свободы с любовью. Окончательно это будет явлено лишь в Царстве Божьем, которое нам заповедано искать прежде всего и превыше всего. И никакое сращение Церкви с царством кесаря, с государством и обществом мира сего, не может явить Царства Божьего, которое приходит неприметно. Царство Божье так же не есть монархия, как не есть и демократия. Старая связь и старая срощенность Церкви с царством кесаря разорвалась. В этом отношении произошла не только внешняя революция, но и революция внутренняя, духовная. И реставрировать старую связь невозможно и не должно. Церковь вступила в совсем новую эпоху.
Секуляризация общества и культуры совсем для меня не является источником зла. Секуляризация лишь правдиво и искренно все обозначает своими именами. Если государство, мо-
*) Сильная власть президента в не парламентском американском типе республики есть в сущности монархическое начало. Аристократическое начало может быть мыслимо как представительство качественным элементов общества и их фактический удельный вес, а не как начало сословное.
298
раль, наука, хозяйство не являются реально христианскими, то и не следует их так наименовать. Самое большее зло в жизни есть ложь и лицемерие. Никто не может быть насильственно и принудительно христианским. Христианство не допускает равенства между истиной и ложью, оно знает единую Истину, единую истинную веру. Христианство, как, впрочем, и всякая подлинная вера, эксклюзивно и ничего общего не имеет с либерализмом, всегда скептическим и индифферентным. Христианской вере глубоко чуждо и противоположно безразличие современной демократии к истине и лжи, ее беспредметность и бессодержательность. Христианство не может считать такой строй общества своим. Правительства демократических республик легко переходят от индифферентизма к утеснению Церкви, к прикрытым формам гонения. Так было во Франции. Но вполне секуляризованная, антирелигиозная по своему духу демократия имеет значение, как правдивое и адекватное выражение духовного состояния народов. Насильственное восстановление старых теократий, старых христианских монархий невозможно и недопустимо с христианской точки зрения. Это я всегда и повсюду утверждал. Я бы хотел, чтобы свободно, из духовного состояния народов создалось общество совсем не похожее на современные бездушные и уродливые демократические республики. Но критика демократии для меня есть прежде всего критика духовного состояния общества. Вопрос же о политической форме является уже второстепенным. Совершенно неверно понимают мои критики и мое отношение к гуманизму и новой истории. Думают, что я просто ненавижу гуманизм, желаю его истребить и отрицаю за ним всякий смысл. Но мое мнение в этом вопросе, впрочем, как и все мое понимание истории, по существу и принципиально приводит к антиномии и пародоксии. Гуманизм разлагается и кончается, в нем была ложь, которая ведет к истреблению человека. Но гуманизм поставил великую тему и опыт гуманизма имел положительный смысл. Л. Блуа где-то написал: «Souffrir passe, avoir souffert ne passe jamais». Это великая истина духовного развитая. Гуманизм, новая история могут и должны быть преодолены и уже преодолеваются. Но то, что был гуманизм, была новая история, не пройдет никогда. Остается обогащающий и усложняющий опыт. Это я пытался показать в моей книге о Достоевском. Гуманизм поставил тему для христианского сознания, не разрешенную еще в христианстве святоотеческом. И в христианском возрождении, которым будет сопровождаться конец новой истории, будет много нового. Религиозная проблема о че-
299
ловеке и человеческом творчестве стоит в центре моей мысли, ей полны все мои произведения. Тема о свободе и есть одно из выражений темы о человеке. Я и с гуманизмом борюсь только потому, что испугался за человека, ужаснулся истреблению человеческого образа в гуманистическом обществе, в гуманистической цивилизации, но к огорчению моему мне не удалось обратить внимание критиков на эту тему о человеке.
Во всех моих книгах я всегда утверждал и утверждаю, что христианство есть религия свободы. Это есть специфически свойственный мне подход к христианству. Но как христианство понимает и оправдывает свободу? Христианское понимание и оправдание свободы ничего общего не имеет с либеральным пониманием и оправданием. Смешение христианства с либерализмом в вопросе о свободе возможно лишь со стороны, у людей внутренне чуждых христианству. Либерализм хочет установить равенство между всеми истинами или точнее между истиной и ложью. Либерализм не знает истины, равнодушен к ней, не имеет силы сделать выбора. Либерализм знает и утверждает лишь свободу формальную, беспредметную. Свобода для либерализма всегда есть право, притязание, а не обязанность. Либерализм защищает свободу религиозной совести, не имея никакой уверенности в том, что религиозная совесть существует, что религиозная вера имеет какой-либо реальный предмет. Такой род либерализма свойственен всем демократическим и вообще «левым» направлениям. Он порожден неверием. Только коммунисты порвали с ним, потому что имеют свою противоположную веру. Христианство знает истину, оно не ставит Пилатовского вопроса «что есть истина?» Но значить ли это, что христианство во имя этой Истины отрицает свободу? Наше мышление так испорчено либерализмом, что мы не понимаем другой свободы, по другому обоснованной. Христианство утверждает свободу в тысячу раз больше, чем либерализм, но не потому, что истину оно уравнивает с ложью, а потому, что сама Истина христианства есть Истина о свободе, что свобода входить в содержание христианской веры, ибо христианство есть религия свободы и без свободы духа христианство теряет всякий смысл. Христианство защищает свободу не формально, а содержательно, предметно. Свобода в христианстве не право, а долг, обязанность. Бог хочет, чтобы человек был свободен, Богу нужны только свободные, рабы Ему не нужны. Я не раз говорил в своих книгах: человек может отказаться от свободы и легко отказывается, ему совсем не так нужна свобода, но Бог нуждается в
300
свободе человека и не может перестать требовать свободы человека, ибо таков его замысел о человеке и мире. Вот на какой глубине обосновывается свобода в христианстве. Свобода не легкая вещь, свобода — бремя, тягота, она порождает неистощимые страдания жизни, трагизм жизни. И человек призван к тому, чтобы до конца нести бремя и тяготу свободы, исполнить долг свободы. Это есть центральная мысль моей книги «Миросозерцание Достоевского». Бог положил смысл мира в свободе и отрицание свободы духа, свободы совести есть богопротивление. Бог хочет, чтобы свобода человека себя обнаруживала и выражала.
Христианство совсем не веротерпимо в формально - либеральном смысле этого слова. Оно не может быть индифферентно к тому, исповедуют ли люди истинную или ложную веру. Вся энергия христианства не может не быть направлена на то, чтобы люди исповедовали истинную веру. Но христианству свойственно бесконечное уважение и внимание ко всякой человеческой душе, к ее индивидуальному пути, к свободе духа в принятии Истины. Истинная вера может быть принята лишь через свободу и тогда лишь она имеет цену. Насилие в делах веры есть чудовищное искажение людьми самого существа христианства, соблазн и отступничество от христианства. Мы должны быть бесконечно терпимы не к лжи и не к ложным верованиям, а к человеческой душе, к ее опыту, к ее пути, к ее внутренней свободе. Человек должен пройти через соблазны и сомнения и изнутри преодолеть их. Насильственно никого нельзя спасти. Фанатизм есть неспособность вместить истину о христианской свободе, есть помешательство, сумасшествие от неспособности вместить эту небесную истину. Христианскую свободу у нас горячо защищали славянофилы — Хомяков, Ю. Самарин, И. Аксаков, потом Достоевский, посвятивший теме о свободе все свое творчество, и Вл. Соловьев. Они были более радикальны и более существенны в защите свободы, чем наши либеральные и «левые» безрелигиозные направления. Идея свободы есть основная идея, выношенная русской религиозной мыслью XIX века. В этой религиозной идее свободы таилась возможность настоящего христианского возрождения и обновления, творческого движения в христианстве. Но эта возможность была загублена той борьбой, которую вели «левые» и «правые», одинаково чуждые и враждебные свободе духа. Русская религиозно - философская и религиозно - общественная мысль была не замечена, не оценена, не получила сколько-нибудь широкого влияния. И ответственность за это падает на ту традиционно «ле-
301
вую» интеллигенцию, начиная с Белинского, которая была в сознаний своем глубоко реакционной и отсталой, враждебной духу творчества, враждебной духу свободы, гасительницей духа. Это — неопровержимый факт. Предпочитать Белинского Хомякову, Чернышевского Достоевскому, Плеханова Вл. Соловьеву и значит быть реакционером духа, мракобесом, значит готовить Ленина и окончательное рабство духа. И я уже лет двадцать веду борьбу против мракобесия и реакционности русской интеллигенции, отрицавшей все значительное, оригинальное, великое в духовной жизни России и Европы. Но этой реакционности и мракобесию «левых» противостоит реакционность и мракобесье «правых», которые также не замечали и не чтили этот творческий национальный гений. Для них не нужен был человек, как К. Леонтьев, который остался чуждым и непонятным романтиком. Лишь духовно ординарный и незначительный Катков оказался по плечу, как и духовно ординарный и незначительный Чернышевский. «Правые», так же как и «левые», боялись свободы духа, раскрывавшейся в русской религиозной мысли. Утилитаристами были и те, и другие и все великие пали у нас жертвой этого утилитаризма. Утилитаризм несовместим со свободой духа, с духом свободы, утилитаризм «правый» и «левый» одинаково. И сейчас в русской заграничной эмиграционной среде есть реакционно - мракобесное «правое» течение, фактически преобладающее, которое не хочет знать наследия нашей национальной религиозной мысли — свободы духа, христианской свободы, выношенной и провозглашенной величайшими нашими людьми, Хомяковым, Достоевским, Вл. Соловьевым. Остатки «левых» хотели бы защитить свободу против этого течения, но они сами всегда свободу духа отражали и попирали, они не имеют духовных основ, которые уполномочивали бы их защищать свободу. Внутри России лучше, там более изменилась ткань души, там не имеют никакого веса старые дореволюционные направления, «левые» и «правые», там в трагическом и страдальческом опыте переживания последнего и страшного насилия жизненно вынашивается правда свободы духа, и она не ставится в обязательную связь с политическими формами.
Мы, христиане, не можем не хотеть победы христианства в мире. Мы должны всем существом своим хотеть осуществления Христовой правды в жизни. Но христианство может стремиться лишь к внутреннему, а не внешнему господству. Царство Божье приходит неприметно. Христианский мир вступает в эпоху разделения и выбора. Ложная прикованность бесконеч-
302
ного духа к конечной плоти приходить к концу. И реакционной в религиозной жизни является именно эта исключительная обращенность к исторической плоти. Отсюда рождались все насилия. Духовному миру и духовной жизни насилие по существу, онтологически чуждо, оно рождалось всегда от сращения духа с природно-исторической плотью, от смешения двух планов бытия «Где Дух Господень, там и свобода». «К свободе призваны вы, братия». «Итак сыны свободны». Сейчас христианский мир меняет свои одежды. Дух всегда стремится воплотиться. Но воплощение духа не есть порабощение духа относительной и преходящей плоти, а есть просветление и одухотворение плоти изнутри. Насилие в духовной жизни есть нарушение должного иерархического соподчинения между духом и плотью, господство плоти над духом. Насилие может иметь место лишь в царстве кесаря и оно там неустранимо, пока человек живет в греховной природе, но оно не может иметь никакого места в духовной жизни, в церкви, в Царстве Божьем. И православные русские люди, которые хотят насилий в религиозной жизни и готовятся к ним в России, освобожденной от большевизма, не понимают природы христианства и не понимают нашей исторической эпохи. В христианском сознании заложено глубокое оправдание относительного исторического пессимизма. И в этом пессимизме есть что-то освобождающее. Нет никаких оснований ждать внешнего господства христианства в России и в мире. Христианство живет качеством, а не количеством. Христианство в России, как и повсюду в мире, перестает быть народной религией по преимуществу. Народ, простецы, в значительной массе своей уходят в полу - просвещение, в материализм и социализм, переживают первое увлечение марксизмом, дарвинизмом и пр. Интеллигенция же, верхний культурный слой возвращается к христианской вере. Религиозное возрождение в Россия сейчас выносится по преимуществу интеллигенцией. Тоже самое происходит в Европе, в католичестве. Во Франции католическое движение есть почти исключительно движение интеллектуалов, а не народа, который в массе равнодушен к вере. Это меняет стиль христианства. Старый бытовой, простонародный стиль православия кончился и его нельзя восстановить. К самому среднему христианину предъявляются несоизмеримо более высокие требования. Старая православная психология, пассивная, движимая боязнью и страхом всяких соблазнов, вечно ожидающая защиты от государства, не годна для новой эпохи. Христианство вступает в период безмерно большей усложненности, обращенности к но-
303
вым душам, трагически пережившим проблематику человека и мира. В мире происходить огромная по размерам духовная революция. И когда я говорю, что кончается новая история и начинается новое средневековье, я имею прежде всего ввиду, что начинается новая жизнь.
Николай Бердяев.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
