13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Тареев Михаил Михайлович, проф.
Тареев М. М. Достоевский, как религиозный мыслитель
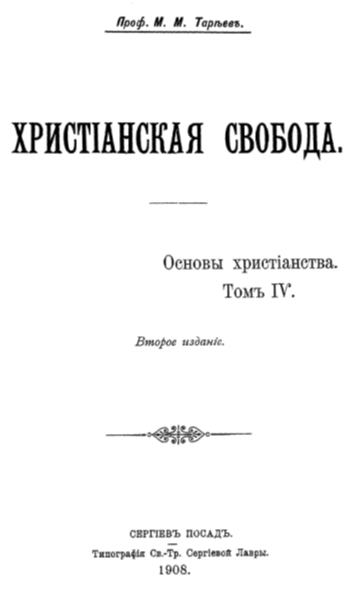
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
Достоевский, как религиозный мыслитель
Ф. М. Достоевский—единственный у нас и неподражаемый писатель-художник во многих отношениях и прежде всего в том отношении, что только он взял на себя и блестяще выполнил задачу нарисовать живой образ святого человека.
Нет ничего легче, как написать житие святого в византийском стиле: для этого дела существуют житийные трафареты, которые обычно и применяются мастерами писаний этого сорта. Задача этих писаний облегчается до последней степени отвлеченно-аскетическим идеалом византийской святости. Христианский аскет, спасая свою душу, устремляет все свое внимание и все свое усилие на то, чтобы уединиться от жизни, порвать все нити, связывающие его с живыми людьми, подавить в себе все интересы, все страстные движения, сосредоточиться на одной мысли о Боге и будущей блаженной жизни. Житийный святой—заживо погребенный, и путь его подвигов—путь постепен-
246 .
ного умирания. Установилось предание—писать христианских святых акварелью, а не масляными красками. В их житиях все условно, символично, над всем доминирует одна идея, одна мысль, в них всякое касание плоти вытравляется небесною высотою духа.
Но совершенно иное дело и до чрезвычайности трудно— представить христиански-идеального человека в будничной обстановке и в житейских столкновениях. Трудность здесь предстоит не только с субъективной стороны, т. е. чтобы сам писатель был способен подняться на высоту христианского идеала,—но и со стороны объективной, поскольку наличная жизнь общества не дает образцов христианского совершенства. Здесь «задача не в том лишь, чтобы художник-писатель, в меру субъективной восприимчивости, уловил черты данной действительности и скомбинировал их в эстетическом образе, но и в том, чтобы он пошел далее исторической действительности, предварил ее грядущее развитие,—задача не только художественно-гносеологическая, но и творческая. В этом случае художественное творчество становится религиозным делом. Такое религиозное значение имеют писания Ф. М. Достоевского.
Л. Н. Толстой не мог художественно уловить и воспроизвести положительную сторону христианского идеала; его христианские типы выступают пред читателем только с смешной стороны; позднее он постигнул высоту христианского идеала лишь умом, словесно, и говорит о нем в форме проповедей, преимущественно обличительного характера. Не то мы видим у Ф. М. Достоевского: среди его художественных типов мы встречаем живые образы христианской высоты. Таковы—князь Лев Николаевич Мышкин (идиот) и Алеша Карамазов.
Князь Лев Николаевич Мышкин выделяется из окружающего его общества необычайным «простодушием» и поразительною «искренностью». Евангельский закон духовной жизни: «если вы не будете как дети, то не войдете в царствие Божие»—исполняется на нем до типичности. Это отмечается уже на первых страницах романа. В первый раз мы встречаем его в вагоне петербургско-варшавского поезда, возвращающимся из-за границы, оде-
247
тым очень легко не по сезону и не по-русски. «В руках его болтался тощий узелок из старого, полинялого фуляра, заключавший, кажется, все его дорожное достояние». Его «черноволосый сосед», как оказалось, Рогожин, завязывает с ним разговор вопросом, обращенным к нему «с тою неделикатною усмешкою, в которой так бесцеремонно и небрежно выражается иногда людское удовольствие при неудачах ближнего:
— Зябко?
И повел плечами.
— Очень, ответил тот с чрезвычайною готовностью,— и заметьте, это еще оттепель. Что-ж, если бы мороз? Я даже не думал, что у нас так холодно. Отвык.
— Из-за границы что-ль?
— Да, из Швейцарии.
— Фью! Эк ведь вас!..
Черноволосый присвистнул и захохотал.
Завязался разговор. Готовность белокурого молодого человека в швейцарском плаще отвечать на все вопросы своего черномазого соседа была удивительная и без всякого подозрения совершенной небрежности, неуместности и праздности иных вопросов. Отвечая, он объявил между прочим, что действительно долго не был в России, слишком четыре года, что отправлен был за границу по болезни, по какой-то странной нервной болезни, в роде падучей или Виттовой пляски, каких-то дрожаний и судорог. Слушая его, черномазый несколько раз усмехался; особенно засмеялся он, когда на вопрос: «что-же, вылечили?»—белокурый отвечал, что «нет, не вылечили».
— Хе! Денег что, должно быть, даром переплатили, а мы-то им здесь верим, язвительно заметил черномазый»...
Последовали разъяснения швейцарского пациента о бескорыстии лечившего его доктора, о том, что содержавший его господин Павлищев два года назад помер, что у него только дальняя родственница генеральша Епанчина, которая, однако, не ответила ему на письмо.
— «Так с тем и приехал.
— Куда-же приехали-то?
— То-есть, где остановлюсь?.. Да не знаю еще, право… так...
248
—Не решились еще?"
Снова раздался хохот.
— «И небось в этом узелке вся ваша суть заключается? спросил черномазый.
Оказалось, что и это было так: белокурый молодой человек тотчас-же и с необыкновенною поспешностью в этом признался».
Когда его собеседники—Рогожин и ввязавшийся в разговор чиновник—выразили сомнение в действительности его родства с генеральшей Епанчиной, он отвечал:
— «О, вы угадали опять,—ведь действительно почти ошибаюсь, то есть почти что не родственница; до того даже, что я, право, нисколько и не удивился тогда, что мне туда не ответили. Я так и ждал»...
На вопрос об имени, Лев Николаевич Мышкин «с полною и немедленною готовностью» назвал себя. Чиновник в раздумье заметил, что «князей Мышкиных уж что-то нигде не встречается».
— «О, еще-бы! тотчас-же ответил князь:—князей Мышкиных теперь и совсем нет, кроме меня; мне кажется, я последний. А что касается до отцов и дедов, то они у нас и однодворцами были. Отец мой был, впрочем, армии подпоручик, из юнкеров»...
Таков первый выход князя Мышкина. Совершенно чуждый побуждениям болтливости и навязчивости, он столь же вполне не знает замкнутости и лукавства. Без малейшей тени гордости, он, на обращенные к нему вопросы, открывает всю свою душу, все слабые стороны своего состояния и положения. Он оказывает себя решительно таким, каков он на самом деле, говорит то, что думает и чувствует. Он нисколько не рисуется, он не обнаруживает ни малейшей заботы расположить к себе собеседников, импонировать ,им, его слова и его внешность не прикрывают его души и его состояния, он говорит непосредственно, от сердца к сердцу. Он видит в себе лишь то, что можно видеть в нем со стороны, смотрит на себя объективно, без малейшего пристрастия,—и это-то именно притягивает к нему, привязывает. Всякий видит, что князя нечего опасаться, что он сам себя нисколько не бережет. И это величайшее хри-
249
стианское смирение не стоит ему никакого усилия. У него все это выходит само собою, непреднамеренно, без потуг, без насилия над собою.
И с этими чертами христианского характера князь Мышкин остается все время пред читателем, с ними входит во всевозможные житейские конфликты и легко выходит из положений самых затруднительных, самых запутанных. Вот два примера наиболее ярких.
... »У Гани в глазах помутилось, и он, совсем забывшись, изо всей силы замахнулся на сестру. Удар пришелся бы ей непременно в лицо. Но вдруг другая рука остановила на лету Ганину руку.
Между ним и сестрой стоял князь.
— Полноте, довольно! проговорил он настойчиво, но тоже весь дрожа, как от чрезвычайно сильного потрясения.
— Да вечно, что ли, ты мне дорогу переступать будешь заревел Ганя, бросив руку Вари, и освободившеюся рукой, в последней степени бешенства, со всего размаху дал князю пощечину.
— Ах, всплеснул руками Коля:—ах, Боже мой!
Раздались восклицания со всех сторон. Князь побледнел. Странным и укоряющим взглядом поглядел он Гане прямо в глаза; губы его дрожали и силились что-то проговорить; какая-то странная и совершенно неподходящая улыбка кривила их.
— Ну, это пусть мне... а ея... все-таки не дам!., тихо проговорил он, наконец, но вдруг не выдержал, бросил Ганю, закрыл руками лицо, отошел в угол, стал лицом к стене и прерывающимся голосом проговорил:
— О, как вы будете стыдиться своего поступка!
Ганя, действительно, стоял как уничтоженный. Коля бросился обнимать и целовать князя; за ним затеснились Рогожин, Варя, Птицын, Нина Александровна, все, даже старик Ардалион Александрович.
— Ничего, ничего! бормотал князь на все стороны, с тою же неподходящею улыбкой.
— И будешь каяться! закричал Рогожин:—будешь стыдиться, Ганька, что такую... овцу (он не мог приискать
250
другого слова) оскорбил! Князь, душа ты моя, брось их; плюнь им, поедем! Узнаешь, как любит Рогожин!
Настасья Филипповна была тоже очень поражена и поступком Гани, и ответом князя»...
Князю не только не было стыдно смотреть в глаза всем видевшим его позор, но его все полюбили после этого последнею любовью, благоговейною любовью: христианское смирение являлось в ореоле обаятельного геройства.
Позор пощечины—это крайний пробный камень христианского характера. И князь Мышкин выдержал это испытание без малейшей фальшивой нотки, без малейшей рисовки и неискренности.
Князь Мышкин выходил и из иных испытаний, может быть не столь резких, но более запутанных, требовавших более тонких проявлений смирения, более глубоких основ христианского характера.
Ожидалась свадьба князя с Настасьей Филипповной, которая имела дурную репутацию. Громадная толпа жадной до скандалов публики ожидала зрелища. И скандал разыгрался более крупный, чем ждали,—невеста сбежала, когда князь уже был в церкви.
...»Князь вышел из церкви, по-видимому, спокойный и бодрый; так, по крайней мере, многие заметили и потом рассказывали. Казалось, ему очень хотелось добраться до дому и остаться поскорей одному; но этого ему не дали. Вслед за ним вошли в комнату некоторые из приглашенных... Кроме того, весь дом был буквально осажден праздною публикой. Еще с террасы услыхал князь, как Келлер и Лебедев вступили в жестокий спор с некоторыми, совершенно неизвестными, хотя на вид и чиновными людьми, во что-бы то ни стало желавшими войти на террасу. Князь подошел к спорившим, осведомился в чем дело, и вежливо отстранив Лебедева и Келлера, деликатно обратился к одному уже седому и плотному господину, стоявшему на ступеньках крыльца во главе нескольких других желающих, и пригласил его сделать честь удостоить его своим посещением. Господин законфузился, но однако-ж пошел; за ним другой, третий. Из всей толпы выискалось человек семь-восемь посетителей, которые и вошли, стараясь сделать это как
251
можно развязнее; но более охотников не оказалось, и вскоре, в толпе же, стали осуждать выскочек. Вошедших усадили, начался разговор, стали подавать чай,—все это чрезвычайно прилично, скромно, к некоторому удивлению вошедших. Было, конечно, несколько попыток под веселить разговор и навести на «надлежащую» тему; произнесено было несколько нескромных вопросов, сделано несколько «лихих» замечаний. Князь отвечал всем так просто и радушно, и в тоже время с таким достоинством, с такою доверчивостью к порядочности своих гостей, что нескромные вопросы затихли сами собой. Мало помалу разговор начал становиться почти серьезным... Прошел почти час, чай отпили, и после чаю гостям стало, наконец, совестно еще дольше сидеть. Доктор и седой господин с жаром простились с князем; да и все прощались с жаром и с шумом. Произносились пожелания и мнения, в роде того, что «горевать нечего и что, может быть, оно все этак и к лучшему», и прочее. Были, правда, попытки спросить шампанского, но старшие из гостей остановили младших. Когда все разошлись, Келлер нагнулся к Лебедеву и сообщил ему: «мы бы с тобой затеяли крик, подрались, осрамились, притянули бы полицию; а он, вон, друзей себе приобрел новых!» Лебедев вздохнул и произнес: «Утаил от премудрых и разумных и открыл младенцам»...
В лице князя мы видим, что смирение есть величайшая сила, под час ничем не заменимая.
Вместе с непритязательностью, князь обладал свойством крайней нестяжательности и доверчивости. В Россию он приехал, имея в кармане лишь несколько мелких монет. Генерал Епанчин дает ему двадцать пять рублей,—эти деньги он раздает (Иволгину и Терентьевой) в самом скором времени... Судьба посылает ему вскоре значительное наследство, но он распоряжался им «глупо», по отзыву генерала Епанчина: «явились, например, кредиторы покойного купца, по документам спорным, ничтожным, а иные, пронюхав о князе, так и вовсе без документов, и что же? Князь почти всех удовлетворил, несмотря на представления друзей о том, что все эти лю-
252
дишки и кредиторишки совершенно без прав; и потому только удовлетворил, что действительно оказалось, что некоторые из них в самом деле пострадали». На этой же почве князь столкнулся с мошеннической шайкой, сгруппировавшейся около Бурдовского. Ему удалось не только с чрезвычайною легкостью раскрыть это мошенничество, но и сделать своими друзьями членов этой группы, к которой иные примкнули по неведению.
— «Я вам должна сказать,—говорила Аглая Настасье Филипповне,—что я ни одного человека не встречала в жизни подобного ему по благородному простодушию и безграничной доверчивости. Всякий, кто захочет, тот и может его обмануть и кто бы ни обманул его, он потом всякому простит»...
С христианским смирением в князе Мышкине соединялась крепкая любовь ко всему слабому и страдающему, к детям, больным, униженным, несчастным. Это еще открылось в нем во время его пребывания в швейцарской деревне в отношении к детям той деревни и к одной несчастной девушке Мари.
«Дети надо мной—рассказывал позднее князь—смеялись, а потом даже камнями стали в меня кидать, когда подглядели, что я поцеловал Мари».
Мари—жалкая, слабая, худенькая девушка, дочь бедной матери, была соблазнена и брошена проезжим французским комми. Ее покрыл страшный позор: все смотрели на нее как на гадину; старики осуждали и бранили, молодые смеялись, женщины бранили ее, осуждали, смотрели с таким презрением, как на паука какого, дети ходили за ней толпой, дразнили ее и кидали в нее грязью. После смерти матери и проповеди священника, который назвал ее виновницей этой смерти, положение больной, голодной, оборванной девушки стало совершенно невыносимое.
«Мне захотелось что-нибудь сделать Мари; ей очень надо было денег дать, но денег там у меня никогда не было ни копейки. У меня была маленькая бриллиантовая булавка, и я ее продал одному перекупщику... Я долго старался встретить Мари одну; наконец, мы встретились за деревней, у изгороди, на боковой тропинке в гору, за деревом. Тут я ей дал восемь франков (все полученное за бу-
253
лавку) и сказал ей, чтоб она берегла, потому что у меня больше уж не будет, а потом поцеловал ее и сказал, чтоб она не думала, что у меня какое-нибудь нехорошее намерение, и что целую я ее не потому, что влюблен в нее, а потому, что мне ее очень жаль и что я с самого начала ее нисколько за виноватую не почитал, а только за несчастную. Мне очень хотелось тут-же и утешить, и уверить ее, что она не должна себя такою низкою считать пред всеми, но она, кажется, не поняла. Я это сейчас заметил, хотя она все время почти молчала и стояла предо мной, потупив глаза и ужасно стыдясь. Когда я кончил, она мне руку поцеловала, и я тотчас-же взял ее руку и хотел поцеловать, но она поскорей отдернула. Вдруг в это время нас подглядели дети, целая толпа; я потом узнал, что они давно за мной подсматривали. Они начали свистать, хлопать в ладошки и смеяться, а Мари бросилась бежать. Я хотел было говорить, но они в меня стали камнями кидать. В тот-же день все узнали, вся деревня; все обрушилось опять на Мари: ее еще пуще стали не любить.—Я слыхал даже, что ее хотели присудить к наказанию, но, слава Богу, прошло так; за то уж дети ей проходу не стали давать, дразнили пуще прежнего, грязью кидались; гонят ее, она бежит от них с своею слабою грудью, задохнется, они за ней, кричат, бранятся. Один раз я даже бросился с ними драться. Потом я стал им говорить, говорил каждый день, как только мог. Они останавливались и слушали, хотя все еще бранились. Я им рассказал, какая Мари несчастная; скоро они перестали браниться и стали отходить молча. Мало по малу мы стали разговаривать, я от них ничего не таил; я им все рассказал. Они очень любопытно слушали и скоро стали жалеть Мари... Скоро все стали любить ее, а вместе с тем и меня вдруг стали любить». Последние дни несчастной девушки—она вскоре умерла—были скрашены этою любовью. Когда же она умерла, «тут детей и удержать нельзя было: они убрали ей весь гроб цветами и надели ей венок на голову».
С такою же любовью ко всему страдающему князь Мышкин живет и в свое пребывание в России, которое описывает автор. Он сам себе совершенно не принадле-
254
жить, чувство долга и внимание к чужим делам совершенно владеют им. Он идет туда, где в нем нуждаются, где считает полезным свое присутствие; дела других и их горести он признает своими делами и горестями. И он жертвует собою,—жертвует не только своим имуществом, своим спокойствием, забывает о необходимом отдыхе, о сне и еде, он жертвует даже такими своими интересами, которыми обычно не считается возможным жертвовать. Еще швейцарские дети поняли его любовь к Мари как любовь к невесте. «Я не разуверял их, что я вовсе не люблю Мари, то есть не влюблен в нее, что мне ее только очень жаль было; я по всему видел, что им так больше хотелось, как они сами вообразили и положили промеж себя, и потому молчал и показывал вид, что они угадали»... Что вообразили дети об его отношениях к Мари, то было действительностью позднее в его отношениях к Настасье Филипповне. Эта, тоже несчастная девушка, хотя и не жалкая по внешности, пожелала брака своего с князем и он, имея уже невестой Аглаю, которую любил, согласился на это. «Не любовью любил он Настасью Филипповну, а жалостью». И это составило драму в жизни князя, которой он не вынес...
Был ли князь Мышкин смешон? По-видимому, он ставится в самые смешные, самые невозможные положения; но в сущности он никогда не бывает смешон. Над ним много смеются и издеваются, но смеются только те, которые «были недостойны понять» его душу. Этот смех всегда падал на голову смеющихся, как смех над святыней, всегда клеймил низких людей, неспособных подняться до высокого и прекрасного. И сами эти смеявшиеся и негодовавшие—почти все—стряхивали с себя эту смешливость, этот гнев, и прилеплялись к князю. И в конце концов все его необычайно любили, в нем нуждались; хорошие души радовались с ним, плохие становились в его присутствии лучше; он носил с собою особую атмосферу, которая всех невольно захватывала, во всех вызывала лучшие стороны, всех делала детьми, простыми, искренними.
255
Ганя, сначала возненавидевший князя, потом стал с ним откровенным и признался ему:
— Вы первый из благородных людей мне попались...
Негодяй Келлер, главный участник в мошенническом деле Бурдовского, «пришел рассказать князю всю свою жизнь». Он открывался ему во всей своей низости, «с необыкновенною готовностью признавался в таких делах, что возможности не было представить себе, как это можно про такие дела рассказывать».
— Вам,—говорил он князю,—единственно вам одному, и единственно для того, чтобы помочь своему развитию! Больше никому; умру и под саваном унесу мою тайну!..
— Ну, вот вам,—говорил князю Лебедев,—одному только вам объявлю истину, потому что вы проницаете человека... Другому не сказал бы—засмеется, или плюнет; но вы, князь, вы рассудите по-человечески...
Епанчины—мать и дочери—любили князя восторженно. Особенно Аглая.
— С вами, говорила она князю,—я хочу все, все говорить, даже про самое главное, когда захочу... Я хочу хоть с одним человеком обо всем говорить как с собой...
Иногда князь не приносил никакой пользы, но «есть люди, которых почему-то приятно видеть подле себя в иную тяжелую минуту».
И при всем том князь не был дитя по уму. О нем нельзя сказать, что он не умел отличить правой руки от левой, добра от зла, он не стоял в полосе буддийского безразличия. В своей простоте, он почти всегда оказывается ясновидящим; он хорошо понимает мотивы людей; способный почти все прощать, он стыдится за низкую ложь других, иногда негодует.
По намерению автора, в князе нет ничего смешного. В нем лишь есть нечто, по чему он необходимо должен страдать,—его одинокость среди людей, его иночество. Он—не от мира сего. И это-то выражается в его символическом идиотизме. И далее—один в поле не воин: князь-идиот бессилен в борьбе с обстоятельствами, с людскими страстями, с мирским злом,—и он гибнет, впадая в свой прежний идиотизм.
Болезненный идиотизм князя—единственное, что оста-
256
вляет недоконченною великую задачу: автор выполнил ее блестяще, но все же не довел до конца. Идиотизм князя .образует изначальную его природную неполноту, ненормальность, тогда как вполне живой святой человек должен быть природно-нормальным.
Такой природно-нормальный святой—Алеша Карамазов. Я не буду о нем говорить, потому что говорил о нем в другом месте (Типы религиозно-нравственной жизни)... Но замечу, что и в лице Алеши Карамазова картина живой святости не доведена до конца, так как Алеша оставлен автором лишь на пороге жизни.
Кроме указанной разности, Алеша Карамазов—точная копия князя Мышкина.
Кроме этих двух типов, у Достоевского выводятся и другие святые. Старец Зосима и Макар Иванович—святые с наклоном к аскетизму и созерцательности.
Герои Достоевского чаще всего—добрые люди.
— Мы все до комизма предобрые люди,—говорит один из них.
«Подросток» хочет могущества и богатства единственно для того, чтобы отдать все свои миллионы людям.
Раскольников убивает старуху-процентщицу, чтобы получить возможность делать добро.
— Я хотел только первый шаг сделать—поставить себя в независимое положение, достичь средств, а там все бы загладилось неизмеримою, сравнительно, пользою. Я хотел добра людям»...
Почти все герои Достоевского, как бы они ни стояли низко в этическом отношении, как бы ни глубоко падали, имеют в сердце своем и искры добра, или христианского самоотречения, или гуманитарного героизма, или жажды правды и высшей гармонии.
Подобно тому, как древние христианские апологеты подмечали в истории языческого мира семена Логоса и называли языческих мудрецов христианами до Христа, и Достоевский в среде преступников, общественных отбросов, за стенами мертвого дома, в котором: сам провел несколько лет, подслушивает биение доброго сердца и сильной воли. «И сколько в этих стенах погребено напрасно молодости, сколько великих сил по-
257
гибло здесь даром! Ведь надо уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ. Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный народ из всего народа нашего».
Рядом с образами христианской святости, любви и смирения, с образами князя Мышкина и Алеши Карамазова, Достоевский дает изображение самого глубокого падения, до которого может дойти человек, последних бездн отрицания, всей силы страстей и безудержности преступлений.
Толстой с наибольшею любовью останавливается на бытовых картинах, на обычных явлениях семейной и общественной жизни, с наибольшим вниманием описывает нормальное развитие этих явлений, их общечеловеческую, историческую сторону. Такие картины в художестве Достоевского почти отсутствуют, он берет моменты и случаи, он описывает то, что лишь может случиться, что иногда бывает—при необычном стечении условий и обстоятельств, что даже в иных отношениях представляется невероятным. Эти комбинации случаев и обстоятельств, эти необычные стечения и совпадения нужны ему не сами по себе, а как канва, на которой раскрывается внутренний мир человека, как рамки, в которые вставляются человеческие характеры. И снова—внутренний мир человека его интересует не с своей общепсихической стороны, не в нормальном развитии обычных характеров, а в высших пунктах, до которых иногда достигает это развитие, в религиозно-философских просветах, в крайних откровениях последней правды, в тех переживаниях, которые чем реже, тем любопытнее. Крайнее развитие страстей, переступающих обычные грани и облекающихся в русле высшего детерминизма в изощренные логические формы, и крайнее развитие смелых и новых идей, воплощенных в живые и сильные чувства— возлюбленная сфера его гения. С напряженным вниманием он всматривается в ту точку, где ложь становится правдой и правда ложью, где отрицание приобретает положительную силу и утверждение доходит до расслабляющих высот, где вера впадает в неверие и неверие становится верой, где любовь перерождается в ненависть и из не-
258
нависти вырастает любовь. Выступление души из обычных граней, преступление обычных законов, индивидуальное раскрытие душевной мощи, причудливая комбинация душевных сил, крайнее напряжение страстей, изгибы индивидуального опыта в ту и другую сторону и, следовательно, в сторону падения—вот к чему Достоевский приковывает взоры своих читателей. Пробыть неделю среди его героев—это все равно, что провести ее в психиатрическом отделении, или в исповедальне. Все эти Раскольниковы, Мышкины, Рогожины, Карамазовы действуют в условиях уже начинающейся болезни, какой-нибудь горячки, нервного расстройства,—в болезненных условиях, которые ценны тем, что они сбрасывают с человека обычные путы общежития, принятое сдерживание, что в -них душа открывается в своей стихийно-бессознательной природе.
— Послушайте,—говорила Лиза Алеше Карамазову,—теперь вашего брата судят за то, что он отца убил, и все любят, что он отца убил.
— Любят, что отца убил?
— Любят, все любят! Все говорят, что это ужасно, но про себя ужасно· любят. Я первая люблю.
— В ваших словах про всех есть несколько правды, проговорил тихо Алеша.
И во всех героях Достоевского, в идиотизме Мышкина, в карамазовщине, в логике Раскольникова—во всех есть несколько правды, во всех открывается человеческая природа, обычно прикрытая тысячелетним покровом культурного уравнения, общежительного сглаживания. Деревянных фигур, мертвых душ в роде жениха Лужина, образ которых ничего не затрагивает в душе читателя, у Достоевского почти нет. Самое крайнее унижение, в которое впадает человек, самая последняя степень нравственного падения, до которого он доходит—в изображении Достоевского не стирает с него человеческого лика, не порывает его родства с душою читателя. Именно то обстоятельство, что его герои на самом дне своего нравственного падения сохраняют черты человеческого сердца, искры добра,—это обстоятельство оттеняет человеческий характер их нравственной гибели,
259
делает эту гибель понятною читателям, вызывает к ним напряженное сочувствие,—но вместе с тем выдвигает ее с самой тяжелой стороны.
Читатель Достоевского яснее всего видит, до чего может человек падать, какая низость может вмещаться в его сердце, до какой бездны отрицания и неверия он может доходить.
Мармеладов, нося в своем сердце «болезненную любовь к жене и семье», пропивает последние крохи семейного обихода, отнимает у них последний кусок хлеба. И что кусок хлеба: его дочь Соня пожертвовала для семьи своим телом, приняла на себя страдание разврата,—и пьяный отец берет у нее деньги на пьянство.
—Сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить!.. Вот этот самый полуштоф-с на ее деньги и куплен, произнес Мармеладов, обращаясь к Раскольникову.—Тридцать копеек вынесла, своими руками, последние, все что было, сам видел...
Свидригайлов, при несомненной нестяжательности и благородстве, при способности к высшему взгляду на жизнь и к чувству мировой скорби, «ни к кому никогда не имевший большой ненависти и даже мстить никогда особенно не желавший», поражает последними глубинами цинизма и разврата.
— Это самый развращенный и погибший в пороках человек, из всех подобного рода людей! говорил о Свидригайлове Лужин.—Я имею значительное основание предполагать, что Марфа Петровна, имевшая несчастье столь полюбить его и выкупить из долгов, восемь лет назад, послужила ему еще и в другом отношении: единственно ее стараниями и жертвами затушено было, в самом начале, уголовное дело, с примесью зверского и, так сказать, фантастического душегубства, за которое он весьма и весьма мог бы прогуляться в Сибирь... Здесь жила да и теперь, кажется, проживает, некоторая Ресслих, иностранка и сверх того мелкая процентщица, занимающаяся и другими делами. С этою-то Ресслих господин Свидригайлов находился издавна в некоторых весьма близких и таинственных отношениях. У нее жила дальняя родственница, племянница, кажется, глухонемая, девочка
260
лет пятнадцати и даже четырнадцати, которую эта Ресслих беспредельно ненавидела и каждым куском попрекала; даже бесчеловечно била. Раз она найдена была на чердаке удавившеюся. Присуждено, что от самоубийства. После обыкновенных процедур тем дело и кончилось, но впоследствии явился, однако, донос, что ребенок был... жестоко оскорблен Свидригайловым...
Когда Свидригайлов рассказывал Раскольникову о своей любви к детям и привел несколько случаев из своих отношений к девочкам, тот не мог не почувствовать отвращения и сердечного содрогания.
— Оставьте, оставьте ваши подлые, низкие анекдоты, развратный, низкий, сладострастный человек!
Николай Ставрогин, человек громадной силы воли, перенесший пощечину с величием князя Мышкина, имевший мужество пренебрегать мнением общества и бросивший ему вызов своим браком с юродивой Лебядкиной, таил в себе и «необыкновенную способность к преступлению».
— Правда-ли, что вы—злобно говорил ему Шатов— правда-ли, что вы принадлежали в Петербурге к скотскому сладострастному секретному обществу? Правда-ли, что маркиз де-Сад мог бы у вас поучиться? Правда-ли, что вы заманивали и развращали детей?..
Карамазовщина, давшая нам прекрасный, бесподобный в литературе, образ «раннего человеколюбца» Алеши, показала вместе с тем и глубину нравственного падения и бездну религиозного отрицания.
Отец этой семьи—Федор Павлович Карамазов— «развратный сладострастник и подлейший комедиант». Так его определяет собственный сын его Дмитрий Федорович.
Федор Павлович открыл всю свою душу в беседе с своим младшим сыном
— Я, милейший Алексей Федорович, как можно дольше на свете намерен прожить, было бы вам это известно, а потому мне каждая копейка нужна, и чем дольше буду жить, тем она будет нужнее. Теперь я пока все-таки мужчина, пятьдесят пять всего, но я хочу и еще лет двадцать на линии мужчины состоять, так ведь состареюсь— поган стану, не пойдут они ко мне тогда доброю волей,
261
ну вот тут-то денежки мне и понадобятся. Так вот я теперь и подкапливаю все побольше, да побольше, для одного себя-с, милый сын мой Алексей Федорович, было бы вам известно, потому что я в скверне моей до конца хочу прожить, было бы вам это известно. В скверне-то слаще: все ее ругают, а все в ней живут, только все тайком, а я открыто. Вот за простодушие-то это мое на меня все сквернавцы и накинулись. А в рай твой, Алексей Федорович, я не хочу, это было бы тебе известно, да порядочному человеку оно даже в рай-то твой и неприлично, если даже там и есть он. По моему, заснул и не проснулся, и нет ничего, поминайте меня, коли хотите, а не хотите, так черт вас дери. Вот моя философия.
Из этой философии вытекали и соответствующие правила жизни.
— Для меня,—говорил он своим деткам,—для меня... Эх вы ребята! Деточки, поросяточки вы маленькие, для меня... даже во всю мою жизнь не было безобразной женщины, вот мое правило!..
Смердякова, родившегося от уродливой нищенки Лизаветы Смердящей, молва называла сыном Федора Павловича.
Эта карамазовщина таится и действует и во всех детках Федора Павловича. Все они, при всем различии своих характеров, способны к высоким порывам и обладают истинно-добрым сердцем,—не только Алеша, святой человек, но и Дмитрий, весь сказавшийся в своем надорванном сновидении о плачущих деревенских детях, голодных, иззябших, почерневших от черной беды, и Иван, который возится с мужиченком... И все они, при своих высоких порывах, все они—дети своего отца, Карамазовы,—не только распущенный кутила Дмитрий, прожженный страстью, трепещущий при одной мысли об инфернальном изгибе, «который отозвался даже в пальчике мизинчике на левой ножке» любимой женщины, не только Иван, который, по словам Смердякова, «изо всех детей наиболее на Федора Павловича похож вышел, с одною с ним душою», но и Алеша.
— Я, признался он Лизе,—я уж до многого, до многого прикоснулся... Ах, ведь и я Карамазов!...
262
Иван Карамазов дальше своих братьев пошел в области сомнения религиозного и этического. В отношении к Богу он провозгласил бунт,—и этот бунт на столько твердо обоснован, что освободиться от его кошмара читателю стоит громадного напряжения и мысли и воли. В области этической он выставил принцип «все позволено», решительно перевернувший нравственное сознание людей нашего поколения.
В лице «подростка» автор, по его собственным словам (в Дневнике писателя), «взял душу безгрешную, но уже загаженную страшною возможностью разврата».
Князь Сергей Сокольский также «страстно уважает благородство, но только в идеале. Он всю жизнь беспрерывно клянет себя и раскаивается, но никогда не исправляется. Ищет большего подвига, но пакостит по мелочам». Высота идеалов и низость жизни—таков князь Сокольский...
Спустимся от главных персонажей к второстепенным, от второстепенных к третьестепенным—и во всех найдем то же сочетание высоких порывов и низких поступков.
Келлер в умилении признается князю Мышкину:
— Благороден, благороден, рыцарски благороден! Но знаете, князь, все только в мечтах и, так сказать, в кураже, на дележе никогда не выходит...
То же твердит князю и Лебедев.
— Ну, вот вам, одному только вам объявлю истину, потому что вы проницаете человека: и слова, и дело, и ложь, и правда—все у меня вместе и совершенно искренно...
Итак, высоки выведенные у Достоевского типы христианской святости и безмерно низки его герои в своем нравственном падении, в своем духовном растлении. Но между теми и другими нет непроходимой пропасти: его святые—живые люди, а его грешники сохраняют искры добра в самом последнем смраде своего нравственного растления.
Прежде, чем поставлена проблема высшего синтеза, последней гармонии, для ее разрешения уже даны основы в самом понимании духовной высоты и плотской низости.
263
Однако не трудно видеть, что эти основы имеют характер исключительно психологический, но никак не принципиальный. Мы видим в душе человеческой наслоения разных переживаний, подобно как в общественной жизни мы одновременно наблюдаем слои, оставшиеся от разных исторических эпох и налегающие один на другой. Получается причудливое смешение, в общем ослабляющее каждую сторону человеческой жизни, стирающее разнообразные краски порывов в одной серой бесцветности), но в частности приводящее ко многим трагическим конфликтам. Эволюционная наука говорит о дисгармониях не только в социальном и семейном инстинктах человека, но и в устройстве и функциях его телесных органов. Приспособление организма, как душевного, так и телесного, к изменяющимся условиям требует значительного времени, отсюда временные дисгармонии являются неизбежными. Эти дисгармонии составляют факт нашей жизни, который сам по себе не дает еще никаких принципиальных выводов. Из того, что есть в наличности, нет прямого перехода к тому, что должно быть: для этого требуются посредствующие звенья. Дисгармонию нужно осмыслить, а для этого нужно возвести ее к какому-нибудь высшему принципу, стоящему вне той и другой стороны,—только в этом случае она становится фактом высшего порядка, объединяется в высшем синтезе. Разумеется, эволюционная теория такого примирения знать не хочет и с презрением отбрасывает всякие высшие идеи. ее последнее упование—нефункционирующие рудиментарные органы, и она одинаково смотрит на дисгармонии, как физиологические, так и социальные. Эволюция погасит инстинкты, противоречащие новым социальным условиям. С течением времени человек будет естественно добродетельным, вполне социальным,—служение обществу не будет доставлять ему ничего, кроме удовольствия, и сведется к мотивам исключительно эгоистическим. Добродетель будет разумным эгоизмом. Конечно, отпадут и все чрезмерно-небесные порывы, порожденные в дни юности человеческого рода; добро совпадет с общественною пользою. Но за то скроются и дикие кровожадные инстинкты, и все выровняется в житейском благоразумии.
264
Но религиозный взгляд на жизнь не может довольствоваться этими эволюционными чаяниями. Во-первых, религия хочет каждому моменту исторической жизни придать неслучайное значение, каждую эпоху записать в небесной книге вечности. Душа человеческая не то же, что физиологическая функция, и муки душевной дисгармонии не могут быть достаточно искуплены грядущим уравнением. Высший синтез требуется для каждого времени. Во-вторых, некоторые виды дисгармонии составляются из таких половин, из которых ни одною не хочется пожертвовать. # Легко решить вопрос о слепой кишке, но трудно сказать, что нам дороже, клокотание ли земных страстей или тишина небесного покоя, мучение ли страданий и борьбы или блаженство нирваны. Во всяком случае идеал «человеческих выгод, высчитанных средним числом из статистических цифр и из научно-экономических формул», нужно признать не удовлетворяющим человека, потому что в этом «реестре» не включена «самая выгодная выгода, которая человеку дороже всего»—выгода личного почина, индивидуальных ощущений, своей воли. Счастье не «в самом счастии», а в личных и своеобразных усилиях к его достижению. Краски жизни, клокотание страстей, своеволие «может быть выгоднее всех выгод даже и в таком случае, если приносит нам явный вред и противоречит самым здравым заключениям нашего рассудка о выгодах,—потому что во всяком случае сохраняет нам самое главное и самое дорогое, то есть нашу личность и нашу индивидуальность». Еще вопрос, пожелает ли человек—в своих высших созерцаниях и последних мечтах—расстаться с своими страстями-страданиями, с дисгармонией света и тьмы, пожелает ли он всеобщего уравнения и окончательной «осанны»: ведь эта «осанна» означала бы конец жизни, конец всего, что придает картине сочность.
—Что-же бы вышло после моей-то «осанны»? Тотчас бы все угасло на свете и не стало бы случаться никаких происшествий... Я ведь знаю, тут есть секрет, но секрет мне ни за что не хотят открыть... Но пока не открыт секрет, для меня существует две правды: одна тамошняя, ихняя, мне пока совсем не известная, а другая моя. И еще неизвестно, которая будет почище»...
265
Пока мы живем, наша религия—в примирении обеих половин дисгармонии, в синтезе обоих полюсов жизни. Психологически-случайная совместимость двух полюсов делает возможным высший синтез, но только возможным, составляет его условие и только условие. Существенно же синтезом предполагается принцип, лежащий вне дисгармонирующих сторон, выше их, над ними.
Такой принцип Достоевский указывает в самой жизни. Он исповедует его устами Ивана Карамазова.
— Не веруй я в жизнь, разуверься я в дорогой женщине, разуверься в порядке вещей, убедись даже, что все, напротив, беспорядочный, проклятый и, может быть, бесовский хаос, порази меня хоть все ужасы человеческого разочарования,—а я все-таки захочу жить и уж как припал к этому кубку, то не оторвусь от него, пока его весь не осилю!.. Все победит моя молодость—всякое разочарование, всякое отвращение к жизни. Я спрашивал себя много раз: есть ли в мире такое отчаяние, чтобы победило во мне эту исступленную и неприличную, может быть, жажду жизни, и решил, что, кажется, нет такого... Эту жажду жизни иные чахоточные сопляки-моралисты называют часто подлою, особенно поэты. Черта-то она отчасти Карамазовская, это правда, жажда-то эта жизни, несмотря ни на что, но почему-ж она подлая? Центростремительной силы еще страшно много на нашей планете. Жить хочется, и я живу, хотя бы и вопреки логике. Пусть я не верю в порядок вещей, но дороги мне клейкие, распускающиеся весной листочки, дорого голубое небо, дорог иной человек, которого иной раз не знаешь за что любишь, дорог иной подвиг человеческий, в который давно уже, может быть, перестал и верить, а все-таки по старой памяти чтишь его сердцем... Клейкие весенние листочки, голубое небо люблю я, вот что! Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь, первые свои молодые силы любишь... Понимаешь ты что-нибудь в моей ахинее, Алешка, аль нет? засмеялся вдруг Иван.
— Слишком понимаю, Иван: нутром и чревом хочется любить,—прекрасно ты это сказал, и рад я ужасно за то, что тебе так жить хочется, воскликнул Алеша.—Я думаю, что все должны прежде всего на свете жизнь полюбить..
266
— Жизнь полюбить больше, чем смысл ее?
— Непременно так, полюбить прежде логики, как ты говоришь, непременно чтобы прежде логики, и тогда только я и смысл пойму. Вот что мне давно уже мерещится. Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь...
Достоевским сказано много новых слов. Но, может быть, самое драгоценное его новое слово есть это слово о жизни, о любви к жизни больше, чем к смыслу ее. Жизнь важнее всяких мыслей о жизни,—чувство жизни важнее всяких чувств, осложняющих жизнь. Пусть жизнь красивая, жизнь осмысленная выше просто жизни, но жизнь, самая жизнь, существеннее всяких определений и всяких направлений жизни. Сама жизнь есть тайна, и сознание жизни, ее ощущение, есть первый базис религии: жизнь в самом существе своем мистична и религиозна. Первая молитва человека—есть благоговение к жизни, торжественное прислушивание к ней. Жизнь, как таковая, есть неизбежный и непосредственный путь к Богу. Кто живет, тот уже тем самым познает Бога и служит Ему. Напротив, безжизненная святость, высота измышленных идеалов, головных идей есть фикция, fata morgana, сновидение. То правда, что жизнь зарождается в кровях и тине, и развивается она в плотских страстях,—и все это претит брезгливому духу: кажется, что по мере сокращения жизни с нее стряхивается эта тина, охлаждается этот жар, и она становится чище. Но это пустое мечтание: в живой крови душа человека, и чрез живую кровь он восходит к Богу.
— Страшно много человеку на земле терпеть,—говорил Дмитрий Алеше,—страшно много ему бед! Я, брат, почти только об этом и думаю, об этом униженном человеке, потому что я сам такой человек.
Чтоб из низости душою
Мог подняться человек,
С древней матерью землею
Он вступи в союз на век.
Я иду и не знаю: в вонь ли я попал и позор или в свет и радость. Вот ведь где беда, ибо все на свете загадка! И когда мне случалось погружаться в самый, в
267
самый глубокий позор разврата (а мне только это и случалось), то я всегда это стихотворение читал. Исправляло оно меня? Никогда! Потому что я Карамазов. Потому что если уж полечу в бездну, то так-таки прямо, головой вниз и вверх пятами, и даже доволен, что именно в унизительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой. И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Пусть я проклят, пусть я низок и подл, но пусть и я целую край той ризы, в которую облекается Бог мой; пусть я иду в то же самое время вслед за чертом, но я все-таки и Твой сын, Господи, и люблю Тебя, и ощущаю радость, без которой миру нельзя стоять и быть...
Находясь позднее в тюрьме, по подозрению в отцеубийстве, и в ожидании каторги, Дмитрий Карамазов спасает себя тою же любовью к жизни.
— Мы будем в цепях, и не будет воли, но тогда, в великом горе нашем, мы вновь воскреснем в радость, без которой человеку жить невозможно, а Богу быть, ибо Бог дает радость, это Его привилегия, великая... Тогда мы, подземные человеки, запоем из недр земли трагический гимн Богу, у которого радость! Да здравствует Бог и Его радость! Люблю Его!.. Нет, жизнь полна, жизнь есть и под землею!.. Да и что такое страдание? Не боюсь его, хотя бы оно было бесчисленно... И, кажется, столько во мне этой силы теперь, что я все поборю, все страдания, только чтобы сказать и говорить себе поминутно: я есмь! В тысяче мук—я есмь, в пытке корчусь— но есмь!...
Жажда жизни и ее радость спасает Дмитрия Карамазова и в позоре разврата и в муке страданий. И Алеша Карамазов в самую тяжелую минуту своей жизни спасается «союзом с землей»,—«он целовал ее плача, рыдая и обливая своими слезами, и исступленно клялся любить ее, любить во веки веков»... Таков был и завет его святого старца—«облить землю слезами радости». И юродивая Лебядкина, жена Ставрогина, лепечет о том, что «Бог и природа есть все одно», что «Богородица—великая мать сыра земля есть», что нужно в молитве целовать землю.
Сама жизнь, как принцип мысли и чувства, примиряет
268
дисгармонирующие стороны, противоположные полюсы,— сама жизнь составляет всепримиряюшее религиозное содержание. Добро и зло, блаженство и страдание, нравственная высота и позор падения имеют нечто общее, стоящее над ними и примиряющее их: это расцвет жизни, радость бытия. Выше отвлеченного добра, головных идеалов, живое добро, живой человек, но и во зле, в смраде разврата тоже живет человек и поет гимн Богу. Зло бывает абсолютно отвратительным, когда оно становится отвлеченным принципом, сокращает человеческую жизнь, когда «не человек съедает идею, а идея съедает человека»; но при этом условии и добро «пахнет мертвечинкой». Добро ценно, потому что оно делает человека живым, но и позор падения, муки страдания не абсолютно отвратительны, если они покрывают живого человека, если они пронизываются ощущением жизни, радостью бытия. И это соединение полюсов в сфере жизни до такой степени реально и действенно, что и святой человек, если он—живой, до многого «прикасается», многое «понимает»,—и жажда жизни уже носит в себе залог добра.
— Ты, говорил Версилов подростку,—ты так хочешь жить и так жаждешь жить, что дай, кажется, тебе три жизни, тебе и тех будет мало; ну, а такие большею· частью добряки.
Кто любит жизнь, тот не может не быть добрым в последней скверне падения, на самом дне разврата. Но, само собою понятно, не эти искры добра, сохраняющегося на дне падения, дают высшее решение всепримиряющей гармонии, ибо это значило бы, что выше всего добро и что разделение полюсов неустранимо. Нет, не добро, обильное на одном полюсе и скудное на другом, дает последнее примирение, а религия,—жизнь, как религиозный: принцип. Радость жизни, обращающая сердце к Богу, может быть у грешника столь же сильною, как и у праведника; вера блудного сына сильнее согревала его сердце, чем холодное законническое самодовольство старшого сына, душа его горела пламенною любовью к всепрощающему Отцу, нисколько не ослабленною от его развратной жизни, а скорее усиленною этим сознанием своей низо-
269
сти. Не добрые дела спасают человека, искупают его грехи, а религиозная вера.
— И всех рассудит и простит, и добрых и злых, и премудрых и смирных... И когда уже кончит над всеми, тогда возглаголет и нам: «Выходите, скажет, и вы! Выходите пьяненькие, выходите слабенькие, выходите соромники»! И мы выйдем все, не стыдясь, и станем. И скажет: «Свиньи вы! Образа звериного и печати его; но приидите и вы!» И возглаголят премудрые, возглаголят разумные: «Господи! Почто сих приемлеши?» Искажет: «Потому их приемлю, премудрые, потому приемлю, разумные, что ни единый из сих сам не считал себя достойным сего»... И прострет к нам руци Свои, и мы припадем... и заплачем... и все поймем! Тогда все поймем!., и все поймут...
Гак судил пьяным языком своим Мармеладов. И святой старец Зосима поучал:
— Братья, не бойтесь греха людей, любите человека и во грехе его, ибо сие уж подобие божеской любви и есть верх любви на земле. Любите все создание Божие, и целое, и каждую песчинку. Каждый листик, каждый луч Божий любите. Любите животных, любите растения, любите всякую вещь. Будешь любить всякую вещь и тайну Божию постигнешь в вещах...
Божеская любовь к людям, к праведникам и грешникам, есть та же любовь, что и любовь к каждой вещи,— любовь, переступающая за грани различий добра и зла.
__________
Религиозная радость жизни дает высшую гармонию, лежащую за границами этических полюсов. Но принцип жизни делает лишь половину дела.
— Половина твоего дела сделана, Иван, и приобретена: ты жить любишь. Теперь надо постараться тебе о второй твоей половине, и ты спасен.
Принцип жизни есть половина дела, потому что все-же он не уничтожает внутреннего различия добра и зла, нравственной высоты и нравственной низости, все-же изнутри дисгармония остается непримиренной. Этот остаток примиряется, по-видимому, по принципу красоты: в обоих полюсах может быть одна и та же красота.
270
— Красота—это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут... Иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и во истину, во истину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает, что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В Содоме ли красота? Верь, что в Содоме-то она и сидит для огромного большинства людей... Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы— сердца людей...
Красота обоих полюсов это не то же, что отмеченное выше психологически-случайное совмещение дисгармонирующих сторон — «прикасание ко всему» святых душ и искры добра, сохраненные в смраде падения. Теперь речь идет о принципиальном примирении полюсов, о совпадении их в их последних пунктах. То совмещение, например, означает, что и преступник, несмотря на свое преступление, удерживает в своей душе что-нибудь доброе, какие-нибудь добрые чувства, добрые мысли, любовь к кому-нибудь, а это принципиальное примирение значит то, что само преступление может быть совершено во имя добра, ради каких-нибудь высших побуждений, что возвышенная любовь к человечеству, смело доведенная до последних выводов, приводит к преступлению препятствий, что преступление разрешается «по совести», с ее санкцией, с религиозным освящением. Преступники, носящие в своей душе какую-нибудь любовь к добру, несмотря на падение, были давно известны, а мысль о разрешении преступления по совести «впервые» пришла Раскольникову.
— У меня тогда одна мысль выдумалась, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал...
Так вот в таком принципиальном значении для при-
271
мирения разных полюсов Достоевский и применяет идею красоты. Добро, помимо чувства долга, которым оно определяется, содержит в себе и красоту, но и зло, в своих сознательных и крайних проявлениях, содержит ту же красоту.
В самой священной книге сказано: «Ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден, или горяч! Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих».
Теплохладность, вялое служение добру, когда человек не смеет поднести к своим устам отравленный кубок зла, но не может и всецело прилепиться к добру,—эта теплохладность имеет в себе что-то абсолютно отвратительное. Напротив, в решительной холодности, в решительном служении земле, в решительном поклонении злу—есть что-то эстетически-великое, захватывающее душу, увлекательное.
Воплощение этой всепримиряющей красоты в душе человека, в душе избранных людей, некоторых «особенных» людей, чувствующих одну и ту же красоту в обоих полюсах и как бы пророчествующих грядущее мировое примирение добра и зла—более всего привлекало к себе внимание Достоевского.
О Раскольникове Разумихин говорит:
— Точно в нем два противоположные характера поочередно сменяются.
Князь Мышкин любит одновременно Настасью Филипповну и Аглаю «двумя разными любвями», т. е. Настасью· Филипповну любит жалостью, и по жалости хочет жениться на ней—«так только просто жениться», а Аглаю в то же время любит муже-женскою любовью.
— Я люблю Настасью Филипповну всей душой!
— И в то же время уверяли в своей любви Аглаю Ивановну?
— О, да, да!
— Как же? Стало быть, обеих хотите любить?
— О, да, да!
Версилов тот же тип. Он говорит о себе:
— Я бесконечно силен непосредственною силою уживчивости с чем бы то ни было. Меня ничем не разру-
272
шишь, ничем не истребишь и ничем не удивишь. Я могу чувствовать преудобнейшим образом два противоположные чувства в одно и то же время.
Преимущественно Версилов чувствует это «соприкосновение противоположностей» в области любви: у него тоже две любви—одна к Софье Андреевне, матери «подростка» («более, так сказать, гуманная и общечеловеческая любовь, чем простая любовь») и другая к иным женщинам, например, к Катерине Николаевне (любовь простая, страстная).
В один из переходов от одной любви к другой, он говорил Софье Андреевне:
— Прощай, Соня, я отправляюсь опять странствовать, как уже несколько раз от тебя отправлялся... Ну, конечно, когда-нибудь приду к тебе опять—в этом смысле ты неминуема.
И вот как он изображает свое внутреннее состояние при этом:
— Знаете, мне кажется, что я весь точно раздваиваюсь,— мысленно раздваиваюсь и ужасно этого боюсь. Точно подле вас стоит ваш двойник; вы сами умны и разумны, а тот непременно хочет сделать подле вас какую-нибудь бессмыслицу, и иногда превеселую вещь; и вдруг вы замечаете, что это вы сами хотите сделать эту веселую вещь, и Бог знает зачем, то есть как-то нехотя хотите, сопротивляясь из всех сил хотите. Я знал, однажды, одного доктора, который на похоронах своего отца, в церкви, вдруг засвистал...
Версилов взял в руки образ и изо всех сил ударил его об угол печки: образ раскололся ровно на два куска.
Тоже у Версилова и в других отношениях: «всемирное боление за всех» и самый неприкрытый эгоизм, высота порывов, сила веры, вериги—и клокотание· страстей, атеизм...
Одновременное ощущение двух бездн—это вся природа и Дмитрия Карамазова. Психолог-прокурор, рассуждая о характере Дмитрия Карамазова, о его способности к благородным порывам и к отвратительным поступкам, находит эту способность наиболее открывающею глубины его души.
273
— Обыкновенно в жизни бывает так, что при двух противоположностях правду надо искать посредине; в настоящем случае это буквально не так. Вероятнее всего, что в первом случае он был искренно благороден, а во втором случае также искренно низок. Почему? А вот именно потому, что мы натуры широкие, Карамазовския, способные вмещать всевозможные противоположности и разом созерцать обе бездны, бездну над нами, бездну высших идеалов, и бездну под нами, бездну самого низшего и зловонного падения... Ощущение низости падения так же необходимо этим разнузданным, безудержным натурам, как и ощущение высшего благородства... Именно им нужна эта неестественная смесь постоянно и беспрерывно. Две бездны в один и тот же момент,—без того мы несчастны и неудовлетворены, существование наше не полно. Мы широки, широки как вся наша матушка Россия, мы все вместим и со всем уживемся!
Николай Ставрогин—тот же тип и при том наиболее яркий, наиболее рельефно-выраженный. Душа его души— «жажда контрастов». Он был способен к самому возвышенному великодушию, и в то же время в его душе таилась злоба, холодная, спокойная и разумная, стало быть, самая отвратительная, самая страшная, какая может быть. В одно и то же время он насаждает в сердце Шатова Бога и родину, проповедует ему фанатическую идею народа-богоносца, и в то же самое время, в те же самые дни, отравляет сердце Кирилова ядом решительного атеизма. Он не знал различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнью для человечества,—в обоих полюсах он находил совпадение красоты, одинаковость наслаждения. Накануне своей смерти, своего самоубийства, он признавался любимой девушке:
— Я пробовал везде мою силу. Вы мне советовали это, «чтоб узнать себя». На пробах для себя и для показу она оказывалась беспредельною. На ваших глазах я снес пощечину от вашего брата; я признался в браке (с Лебядкиной) публично... Я могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие.
274
Идея всепримиряющей силы красоты, эстетического совпадения полюсов, одинаковости наслаждения в добре и зле— есть одна из самых смелых идей, какие только могли зародиться в душе Достоевского.
И что же—имеем ли мы в этой идее окончательное примирение противоположностей, дает ли она последнюю гармонию, можно ли считать высший синтез достигнутым?
Мы не имеем оснований отвечать на этот вопрос утвердительно. Действительного синтеза противоположностей красота не дает. Это мы с несомненностью можем установить на всех «необыкновенных людях» Достоевского, в которых обнаруживается совпадение противоположностей.
Все «необыкновенные люди», носители одинаковости наслаждения в обоих полюсах, могут быть разделены на три разряда. В первых двух разрядах дисгармонирующие стороны представлены неодинаково, не с равною реальностью, но так, что или добро действует лишь в виде головных идеалов, в виде пустых отвлеченных мечтаний, зло же проявляется в сочных красках, в глубоких страстях, или, напротив, земные чувства и злые помыслы шевелятся в душе слишком слабо, теоретически бесцветно, отвлеченно, тогда как любовь к добру всецело и прочно владеет душою. Лишь в третьем разряде «необыкновенных людей» мы наблюдаем равную силу обоих полюсов. Итак, первый разряд—люди с реальною наклонностью к земле и отвлеченными мечтами о возвышенном и прекрасном; второй разряд—люди с реальным устремлением к небу и с слабым чувством земли, с отвлеченною мыслью о зле; третий разряд—люди с равным наклоном к добру и злу.
Первый тип—герой «подполья» и Дмитрий Карамазов. Вот исповедь перваго.
— Кончалась полоса моего развратика и мне становилось ужасно тошно... Но у меня был выход, все примирявший, это—спасаться во «все прекрасное и высокое», конечно в мечтах. Мечтал я ужасно, мечтал по три месяца сряду... Я делался вдруг героем... Мечты особенно слаще и сильнее приходили ко мне после развратика, приходили с раскаянием и слезами, с проклятиями и востор-
275
гами. Бывали мгновения такого положительного упоения, такого счастья, что даже малейшей насмешки внутри меня не ощущалось, ей Богу. Была вера, надежда, любовь. Я слепо верил тогда, что каким-то чудом, каким-нибудь внешним обстоятельством все это вдруг раздвинется, расширится—и вот я выступлю вдруг на свет Божий, чуть-ли не на белом коне и не в лавровом венке. Второстепенной роли я и понять не мог и вот именно потому-то, в действительности, очень спокойно занимал последнюю. Либо герой, либо грязь, средины не было. Это-то меня и сгубило, потому что в грязи я утешал себя тем, что в другое время бываю герой, а герой прикрывал собою грязь. Замечательно, что эти приливы «всего прекрасного и высокого» приходили ко мне и во время развратика, и именно тогда, когда я уже на самом дне находился, приходили так, отдельными вспышечками, как будто напоминая о себе, но не истребляли однако ж развратика своим появлением; напротив, как будто подживляли его контрастом... Но сколько любви, Господи, сколько любви переживал я в этих мечтах моих, в этих «спасеньях во все прекрасное и высокое»; хоть и фантастической любви, хоть и никогда ни к чему человеческому на деле не прилагавшейся, но до того было ее много, этой любви, что потом, на деле, уж и потребности даже не ощущалось ее прилагать...
Таков и Дмитрий Карамазов. Он всю свою жизнь, «с диогеновым фонарем», ищет благородства и вместе с тем живет жизнью безалаберною, безобразною, пьяною, грязною. Он говорит о себе, о своей прожитой жизни Алеше: «любил разврат, любил и срам разврата, любил жестокость: разве я не клоп, не злое насекомое? Сказано — Карамазов!» Дмитрий Федорович — сладострастно-злое насекомое. Идеал Мадонны, который он носит в своей душе вместе с этим содомским идеалом, глубоко запрятан в его сердце, выглядывает оттуда робко и бездейственно. «Когда мне случалось погружаться в самый, в самый глубокий позор разврата (а мне только это и случалось), то я всегда стихотворение о Церере читал. Исправляло оно меня? Никогда! Потому что я Карамазов. Потому что если уж полечу в бездну, то так-таки прямо,
276
головой вниз и вверх пятами»... Так действительно жил. Дмитрий Федорович. Впрочем, в те дни свои, которые описываются в романе, он переживает под громом особых обстоятельств нечто новое, — он переживает возрождение, воскресение. «Брат, говорит он Алеше, находясь в тюрьме,—я в себе в эти два последние месяца нового человека ощутил. Воскрес во мне новый человек! Был заключен во мне, но никогда бы не явился, если бы не этот гром».
От Дмитрия Карамазова, одновременно ощущавшего две бездны, чрез героя подполья, чрез князя Сокольского, мы постепенно спускаемся к Мармеладову, Келлеру, Лебедеву, которые не знали никаких бездн, но жили просто в. грязи, сохраняя смутное воспоминание и о царстве Божием, которые не могли подниматься на высоту своих искр, на высоту своих добрых минут, единственно от нравственной слабости, от бессилия пред требованиями общественной среды. Этим Мармеладовым недостает просто культурности, для них все их спасение, маленькое, обывательское спасение, придет от общественной эволюции, от развития экономических и социальных условий. Не боги же обжигают кирпичи, и не религия нужна, чтобы излечить человека от алкоголизма, дебоширства, ростовщичества, мошенничества. Это легко видеть; но примечательно, что переход от необыкновенных людей двойных полюсов к этим слабеньким и пьяненьким совершается с поразительною постепенностью, — указать границы между ними решительно нет никакой возможности. И широта Дмитрия Карамазова имеет в себе слишком много стихийно-некультурных элементов, она всецело от его нравственной слабости, от его душевной распущенности. Личные добрые задатки и дикость среды, высота отвлеченных идеалов и сила социальной неустроенности—таковы родники его внутренней трагедии. Очевидно, первый разряд необыкновенных людей ни на один шаг не выводит нас за пределы стихийно-психической совместимости разных душевных слоев, ни на одну пядь не подвигает нас к высоте принципиального примирения полюсов. Дмитрий Карамазов весь от стихийно-прошлого, и ничего в нем нет принципиально-грядущего..
277
То же самое нужно сказать и об остальных двух разрядах.
Второй разряд—люди с реальным устремлением к небу и с слабым чувством земли, с отвлеченною мыслью о зле. Таковы—князь Мышкин, Раскольников, Кирилов.
Объясняя Евгению Павловичу о своих «двух любвях» к Настасье Филипповне и к Аглае и давая ему поручение о чем-то переговорить с Аглаей, растолковать ей, что он, женясь на Настасье Филипповне, нисколько не противоречит своей любви к Аглае, князь высказывает вместе с тем и невольное чувство какой-то вины.
— О, да, я виноват! Вероятнее всего, что я во всем виноват! Я еще не знаю, в чем именно, но я виноват... Тут есть что-то такое, чего я не могу вам объяснить, Евгений Павлович, и слов не имею, но... Аглая Ивановна поймет! О, я всегда верил, что она поймет.
— Нет, князь, не поймет! Аглая Ивановна любила как женщина, как человек, а не как... отвлеченный дух. Знаете ли, что, бедный мой князь: вернее всего, что вы ни ту, ни другую никогда не любили!
Настасью Филипповну любовью-жалостью князь любил, но простою любовью князь не любил ни Настасью Филипповну, ни Аглаю. И в этом была его вина, и отсюда его «две любви», в которых он не мог разобраться.
— А до женского пола вы, князь, охотник большой?
— Я н-н-нет! Яведь... Вы, может быть не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.
Вот откуда вина князя. Живой-святой во всех отношениях, князь в единственном отношении оказался мертвой мумией—в том отношении, в котором он раздвоился, раскололся на два полюса, в отношении к женщине.
Совмещение двух полюсов, «двух любвей» в одном сердце в данном случае служит несомненным свидетельством природной немощи, ненормальности.
Что о князе Мышкине, то же самое следует сказать и об Алеше Карамазове. В нем мы видим в сущности одно небесное, духовное. Если он говорит о себе Лизе, что «он до многого прикоснулся», что он понимает страшную злобу людскую, то ведь это слова, только слова, ко-
278
торые не подтверждаются ни одною черточкой в ходе романа. Равным образом и его любовь к Лизе Хохлаковой, несмотря на поцелуй, есть любовь какая-то детская, бескровная. Не по-детски развитая Лиза просто говорит ему однажды: «Вы в мужья не годитесь. Я за вас выйду, и вдруг дам записку, чтобы снести тому, которого полюблю после вас (напр. Ивана Федоровича). Вы возьмете и непременно отнесете, да еще ответ принесете». Такая бескровная, безревностная любовь не удовлетворяет Лизу...
Ту же самую немощь, что у князя Мышкина,—совершенно в другом отношении, в отношении к преступлению, мы наблюдаем и в Раскольникове. Конечно, эта немощь, немощь к преступлению,—одна из тех, в которых совершается сила Божия, но для эстетики не существует этической точки зрения, она только знает два полюса и одинаковость наслаждения в них,—и нам достаточно в этом месте отметить лишь бледность одного из полюсов. Раскольников—глубокий человеколюбец. Любовь к людям пронизывает его до мозга костей. Напротив, способность к преступлению в нем чисто-теоретическая—«книжные мечты, теоретически-раздраженное сердце». Поэтому никак не случайно то, что Раскольников преступления не выносит. Его преступление для добрых целей это—скороспелое смешение доброго сердца с головною теорией.
У Кирилова головной, выдуманный (внушенный Ставрогиным) атеизм соединяется с самым добродушнейшим, добросердечием. Этот атеист, решивший убить себя, единственно чтобы доказать своеволие (первое атеистически-теоретическое самоубийство, как у Раскольникова первое теоретическое преступление), и в то же время зажигающий лампадку, потому что «старуха любит», забавляющий мячиком ребенка и радующийся рождению младенца у Шатовых, этот атеист, которого «села идея"—самое тяжелое, самое жалкое создание художественного творчества.
Теперь обратимся к третьему разряду необыкновенных людей. Это—Версилов, Иван Карамазов, Свидригайлов и особенно Ставрогин. У них равный наклон к тому и другому полюсу. Но это «преудобнейшее» приспособление ко всяким обстоятельствам далеко не может быть при-
279
знано вершиной человеческого развития. Одинаковость наслаждения в обоих полюсах, при более внимательном наблюдении, оказывается не идеальным соединением, а стихийно-хаотическим смешением, которое может быть одобрено разве только пошлым житейским благоразумием. Это не идеальная, вершина, это—жалкая пошлая средника, не смеющая пристать ни к тому, ни к другому берегу. Герой подполья проницательно рассуждает об этой отвратительной черте наших «романтиков». У нас «надзвездных натур» не водится «в их чистом состоянии». Наши романтики умеют отлично обделывать свои делишки, всему уступят политично, все обойдут, умеют соединить надзвездные мечтания с казенными квартирками, пенсиончиками, чинами; их главная забота—сохранить себя, «сберечь свою душу», как ювелирскую вещицу какую-нибудь. Вот что означает эта «способность к самым противоречивейшим ощущениям»; вот почему наши «широкия» натуры, даже при самом последнем падении, никогда не теряют своего идеала.
Под эту мерку Версилов вполне подходит. Он сам сознается в своем благоразумии.
— Я бесконечно силен непосредственною силою уживчивости с чем бы то ни было, столь свойственною всем умным русским людям («умным романтикам») нашего поколения. Меня ничем не разрушишь, ничем не оскорбишь и ничем не удивишь. Я живуч как дворовая собака. Я могу чувствовать преудобнейшим образом два противоположные чувства в одно и то же время—и, уж конечно, не по моей воле. Но тем не менее знаю, что это бесчестно, главное потому, что уж слишком благоразумно...
Влюбленный в Версилова и вдумчиво наблюдающий его «подросток» приходит к выводу, что «Версилов ни к какому чувству, кроме безграничного самолюбия, и не может быть способен».
Но можно видеть, что поставление себя в центре мироздания при несоответствующей фактической силе, импонируя душам слабым и мягкосердечным, повергая их в восторженное благоговение, должно казаться смешным для наблюдателей более самобытных. Смешно это срединное.
280
смешение крайностей, эта благоразумная уживчивость, столь не соответствующая высоким претензиям.
— Мне всегда казалось в вас что-то смешное.
Это говорит Версилову Катерина Николаевна.
Князь Мышкин, Раскольников, Кирилов, Дмитрий Карамазов не смешны 1), а Версилов, Иван Карамазов, Свидригайлов, Ставрогин смешны и смешливы: смех ходит за ними по пятам, как зеркало, отражающее их срединную пошлость.
Что такое Иван Карамазов при всей дерзости своего религиозного сомнения, при всей смелости своего этического отрицания, внушающий восторженное благоговение экзальтированным женщинам и рабскую преданность фанатикам-лакеям Смердяковым? Этот лакей-Смердяков, родственный Ивану Карамазову по духу (и по плоти), так определяет характер своего «идола»:
— Умны вы очень-с. Деньги любите, почет тоже любите, потому что очень горды, прелесть женскую чрезмерно любите, а пуще всего в покойном довольстве жить и чтобы никому не кланяться,—это пуще всего-с.
Любовь к покою и гордость—это две основные черты в характере Ивана Карамазова, и та и другая говорят о срединной пошлости его. Эти характеры не могут не быть гордыми, тщеславными.
Еще с большею яркостью, чем в лакее Смердякове, характер Ивана отражается в его кошмаре-черте, этом «воплощении его мыслей и чувств, только самых гадких и глупых». Это именно «пошлый черт», отвратительный по своей мещанской срединности, по своему лакейству.
— Я никогда не был таким лакеем! Почему-же душа моя могла породить такого лакея?
Да в том-то и дело, что Иван всегда был таким лакеем. Его гордый ум, блуждающий от одного полюса к другому, так как ему, как избранному, все позволено,—его гордый ум служит лишь фоном, на котором
1) Хотя сам Дмитрий Карамазов «заливается» «неожиданным» и неудержимым смехом, но это какой-то дикий, трагический смех,— и проницательные наблюдатели видели в нем никак не смешные черты.
281
вырисовывается его лакейская пошлость. В самую важную минуту своей жизни, когда Смердяков, гипнотизируя его, условливался с ним об убийстве отца, «он (Иван Федорович) вдруг, к удивлению Смердякова, засмеялся и быстро пошел в калитку, продолжая смеяться». На следующее утро, уезжая в Чермашню, как того желал Смердяков, он прощался с ним «с каким-то нервным смешком»...
Свидригайлов, человек «эстетики и комфорта», пришел путем собственного опыта к выводу: «беда быть широким без особенной гениальности». Беда в широте, превосходящей меру фактической силы, а это может случиться при всякой степени силы, потому что всякую степень силы может превзойти еще большая степень широты, претензий, гордости. Последние дни и последние часы, в которые мы застаем Свидригайлова, поражают и угнетают душу читателя беспросветною серостью, беспроглядным туманом мелкого непрерывного дождя: все возможно, все испытано, но ничто не доходит до последней глубины души, все скользит по ее поверхности, ко всему потерян вкус. И такова была вся его жизнь: ни к чему никогда не имел ненависти, даже мстить не желал, но не испытывал и всеохватывающей любви; спорить тоже не любил, не горячился... Серо и бесцветно!
Но особенно выпукло эта лакейская пошлость вырисовывается в лице Николая Ставрогина.
Его сила на пробу—для себя и для показу—оказывалась беспредельною. Но эта беспредельность именно не природная, а искусственная, рассудочная и, главным образом, показная. По-видимому, он вынес пощечину с тем же величием, как и князь Мышкин, но извнутри это были два совершенно разные явления. У князя Мышкина это было непосредственно и природно, а у Ставрогина искусственно, намеренно, «ретортно» (как сказал бы герой подполья). У князя совершенно не было гордости, по замечанию Аглаи, а Ставрогин был непомерно горд, мелочно-тщеславен, самодовольный аристократ выше среднего порядка, мещанин-аристократ, лакей-аристократ.
— Вы атеист, говорил Ставрогину Шатов, — потому что вы барич. Вы потеряли различие зла и добра, потому
282
что перестали свой народ узнавать... Я тоже барич, сын вашего крепостного лакея Пашки...
Не верить в Бога по гордости, отрицать различие добра и зла по аристократическому самодовольству,—да может ли быть что-нибудь пошлее этого! «Я не верю в Бога, в которого верит простой народ, я не признаю общеобязательного долга, потому что у меня брюки лучшего, чем у других, покроя!» Только лакейская, смердяковская душа может так рассуждать, только лакей может не понимать, что различие какой бы то ни было меры ничтожно пред бесконечностью.
— Вы никого не оскорбляете, и вас все ненавидят; вы смотрите всем ровней, и вас все боятся. К вам никто не подойдет потрепать вас по плечу. Вы ужасный аристократ.
Так говорил Ставрогину Петр Верховенский в восторге идолопоклонничества, ни мало не подозревая, что он имеет пред собою отвратительного идола. Ставрогин боится, более всего на свете, показаться смешным: полная противоположность князю Мышкину.
И брак его на Лебядкиной тоже не от природы, а от гордых мыслей, от надрыва. Он объявляет о своем браке с Лебядкиной «с беспредельным высокомерием». Князь Мышкин чувствовал бы и поступил бы совсем иначе. И при всем своем презрении к обществу, Ставрогин желает смерти своей жены: сыграл роль и нужно· отделаться от чужой одежды. Он знает других женщин, принимая их ласки с равнодушием избалованного барченка, а может быть с бессилием истощившегося развратника...
И все, что ни делает Ставрогин, каждый его великолепный подвиг имеет балаганную основу, оказывается паясничаньем плохого актера. На дуэли с Маврикием Николаевичем он ведет себя героем: выдерживает выстрел противника и сам стреляет в сторону. Кирилову, его секунданту, без усилий удается показать ему, что он вел себя как балаганный Петрушка и что ему должно быть стыдно.
— Если мне, говорил Кирилов, легко бремя, потому что от природы, то, может быть, вам труднее бремя,
283
потому что такая природа. Очень нечего стыдиться, а только немного... Вы не сильный человек.
При кажущейся силе, при показной силе, Ставрогин извнутри не сильный человек. Он именно «бродит с краю», вопреки противоположному мнению Шатова; он блуждает от одного берега к другому.
— Яничтожный характер, признается он Кирилову.
Еще откровеннее высказывается он в письме к Дарье Павловне.
— Я могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю оттого удовольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую удовольствие. Но и то и другое чувство всегда слишком мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком не сильны: руководить не могут. На бревне можно переплыть реку, а на щепке нет...
Беда Ставрогина, как и Свидригайлова,—широта натуры при внутреннем бессилии; его демон, как и черт Ивана Карамазова,—демон срединной пошлости: «это просто маленький, гаденький, золотушный бесенок с насморком, из неудавшихся».
Его беда в том, что он, обладая природою внутренне бессильною, лез однако в сильные люди, хотя и не признался в этом Кирилову. Снова скажем, совсем не в степени силы или бессилия тут дело,—он все-таки был очень сильный человек,—а в том, что его претензии превосходили его силу, что он искусственно, с надрывом, строил свою жизнь. Он жил не по природе, а по ретортным рецептам, рассудочно смешивал разные части. И поэтому он не имел непосредственности чувства, не отдавался всецело ни в ту, ни в другую сторону. Кирилов говорил о нем:
— Ставрогин если верует, то не верует, что он верует. Если же не верует, то не верует, что он не верует. (То же можно сказать и об Иване Карамазове).
Ставрогин имеет своего демона и свои «галюсинации»; имеет он и своего лакея, свою «обезьяну»—Петра Верховенского, как Иван Карамазов—Смердякова.
Петр Степанович Верховенский решительно на все способен: для него убить человека то же, что зарезать курицу. Он на все способен по страшной душевной пу-
284
стоте, по деревянной бесчувственности, по ужасному подлому легкомыслию.
Петр Степанович связан с Ставрогиным так же неразрывно и так же совершает для него (преступления, как Смердяков для Ивана Карамазова.
— Я шут, говорил Верховенский Ставрогину, но вы— главная моя половина.
— Вы «ладья», старая вы, дырявая, дровяная барка на слом!
— Вы дрянной, блудливый, изломанный барченок!
Внешняя, показная сила не отвечала внутреннему бессилию Ставрогина. Он обладал громадной физической силой и был писаный красавец, но лицо его напоминало маску.
— Заговорите хоть раз в жизни голосом человеческим, молил Ставрогина Шатов.
Изломанность, несогласованность внутреннего и внешнего, блудливость—таков характер Ставрогина. И он сам, извнутри, лучше чем кто-либо, знает свою слабую, смешную сторону.
— Мне ужасно хочется смеяться, все смеяться, беспрерывно, долго, много. Я точно заряжен смехом...
И этот смех от Ставрогина передается всем близким к нему людям, всем, кто, обманутые им, его видом, благоговели пред ним, обожали его, кланялись ему, молились на него.
Сцена, когда Марья Тимофеевна, жалкая жена Ставрогина, признается, что считала его князем (например князем Мышкиным), а теперь видит его самозванство,—объясняет ему своим бредовым, исступленным, но глубоко проникновенным языком, что настоящий князь, сокол, не постыдился бы своей жены пред светом, что он не выносит поднятой на себя тяжести, что он не сокол, а филин, сова слепая, Гришка Отрепьев—эта сцена исполнена необычайного трагизма.
— Я вам должна признаться, говорила Ставрогину Лиза,—у меня укрепилась мысль, что у вас что-то есть на душе ужасное, грязное и кровавое, и... и в то же время такое, что ставит вас в ужасно смешном виде. Берегитесь мне открывать, если правда: я вас засмею. Я буду хохотать над вами всю вашу жизнь.
285
Над Ставрогиным не смеется лишь Даша, которая заранее обрекла себя на роль сиделки, унизительную и унижающую Ставрогина.
Мы видим, что все «необыкновенные люди», возвышающиеся до всепримиряющей силы красоты, до одинаковости наслаждения в обоих полюсах, все они, всех разрядов, на самом деле не достигают той высоты, на которую «лезут», не доходят до идеальной гармонии,—все они суть психические типы и не имеют в себе ничего принципиально-пророческого, все они продукт сложных условий культуры, а не предвосхитители грядущего, все они относятся к прошлому, а не к будущему.
— Я тысячу раз дивился—говорит «подросток»—на эту способность человека (и, кажется, русского человека по преимуществу) лелеять в душе своей высочайший идеал рядом с величайшею подлостью, и все совершенно искренно. Широкость ли это особенная в русском человеке, которая его далеко поведет, или просто подлость,—вот вопрос.
Может быть ни то ни другое. Вот как на этот вопрос отвечает В. С. Соловьев.
— «Россия—великая окраина Европы в сторону Азии. При таком своем окраинном положении отечество наше естественно гораздо более прочих европейских стран испытывает воздействие азиатского элемента, в чем и состоит вся наша мнимая самобытность. У нас изначала, а особенно со времен Батые, азиатский элемент в природу вошел, второю душою сделался, так что немцы могли бы про нас со вздохом сказать:
Zwei Seelen wohnen, ach! in ihrer Brust,
Die eine will sich топ der andern trennen.
Совсем отделаться от своей второй души нам невозможно, да и не нужно—мы ведь и ей тоже кое чем обязаны, но чтобы в такой коллизии не разорваться нам на части, необходимо, чтобы решительно одолела и возобладала одна душа и, разумеется, лучшая»...
Принцип красоты, одинаковой на обоих полюсах, не выводит человека из той психической совместимости противоположностей, из той натуральной «широкости», которая может служить естественной основой решения рели-
286
гиозной проблемы, но еще не составляет самого решения. Эстетическое примирение есть лишь призрак, фантом, явление порядка историко-культурного, или даже патологического, подобно тем странным секундам, которые предшествуют припадкам падучей болезни.
«В эпилептическом состоянии князя Мышкина была одна степень почти пред самым припадком (если только припадок приходил наяву), когда вдруг, среди грусти, душевного мрака, давления, мгновениями как-бы воспламенялся его мозг, и с необыкновенным порывом напрягались разом все жизненные силы его. Ощущение жизни, самосознание почти удесятерялось в эти мгновения, продолжавшиеся как молния. Ум, сердце озарялись необыкновенным светом; все волнения, все сомнения его, все беспокойства как-бы умиротворялись разом, разрешались в какое-то высшее спокойствие, полное ясной, гармоничной радости и надежды, полное разума и окончательной причины. Но эти моменты, эти проблески были еще только предчувствием той окончательной секунды (никогда не более секунды), с которой начинался самый припадок. Эта секунда была, конечно, невыносима. Раздумывая об этом мгновении впоследствии, уже в здоровом состоянии, он часто говорил сам себе: что ведь все эти молнии и проблески высшего самоощущения и самосознания, а, стало быть, и «высшего -бытия», не что иное как болезнь, как нарушение нормального состояния, а если так, то это вовсе не высшее бытие, а, напротив, должно быть причислено к самому низшему. И однако-же он все-таки дошел до чрезвычайно парадоксального вывода: «что же в том, что это болезнь?» решил он, «какое до того дело, что это напряжение ненормальное, если самый результат, если минута ощущения, припоминаемая и рассматриваемая уже в здоровом состоянии, оказывается в высшей степени гармонией, красотой, дает неслыханное и негаданное дотоле чувство полноты, меры, примирения и встревоженного молитвенного слития с самым высшим синтезом жизни?» В том же, что это действительно «красота и молитва», что это действительно «высший синтез жизни», в этом он сомневаться не мог... Если в самый последний сознательный момент пред припадком ему случалось успевать ясно и созна-
287
тельно сказать себе: «да, за этот момент можно отдать всю жизнь!» то, конечно, этот момент сам по себе и стоил всей жизни»...
«Действительность ощущения» не может подлежать сомнению. Но ведь вся сила не в явлении, а в его толковании. Между тем «в оценке этой минуты, без сомнения, заключалась ошибка». В самом деле. Как ни блаженна была для князя Мышкина эта минута, но «отупение, душевный мрак, идиотизм стояли пред ним ярким последствием этих высочайших минут». Можно ли признать эти «высочайшие минуты» последним синтезом, если за ними следовали такие мрачные последствия? Что же это за высшее примирение, если оно столь бессильно пред лицом мрачной действительности? Что за красота в этом «отупении и идиотизме»?... Тут весьма важно то, что красота, как второй синтетический принцип, приходит к отрицанию первого, самого основного принципа—жизни. Если «за этот момент можно отдать всю жизнь», то во всяком случае это не будет жертва жизнью ради высшей формы жизни, ради ее высшей полноты, ради «жизни с избытком», как это бывает с самопожертвованием любви,— это будет жертва жизнью ради того, что есть самое решительное отрицание жизни и что влечет за собою ужаснейший мрак «отупения и идиотизма».
Кирилов, тоже переживавший подобные минуты и придававший им пророческое значение предуказания на то время, когда «не будет времени», ждал, что человек «переменится физически». Но пока нет этих физических перемен, пока красота бессильна пред природою,— и «высший синтез» есть только болезненный самообман
И все-же не эта природная изолированность, субъективность, составляет последнюю немощь красоты: ее самое окончательное крушение в том, что полюсы имеют характер этический и потому эстетическое безразличие лежит совершенно в иной плоскости. Одинаковая температура двух тел разной массы не делает их одинаковыми по весу и не уничтожает этого весового различия их. Одинаковость наслаждения в обоих полюсах можно вполне признать, но различие полюсов по своей этической стороне от этого не ослабляется. И когда эстетика зани-
288
мает свое место, она не сталкивается с этикой, красота и добро могут мирно уживаться, как две стороны многогранной жизни. Но когда красота претендует сыграть высшую роль всепримиряющего принципа, дерзает одолеть добро в его специфических чертах, стереть его характерные краски, тогда добро становится в оборонительное положение, мощно и яростно отражает выпады красоты.
Достоевский решительно и ярко ставит вопрос о сравнительной силе добра и красоты,—и решает этот вопрос в смысле преобладающего могущества добра. В этом отношении решающее значение имеет опыт Раскольникова, который приводит к окончательному выводу: для человека добро выше всего. В сфере отношений человека к человеку эстетическое совпадение противоположностей является не только природно-бессильным, но просто· теоретическим измышлением, фантастическим бредом. Собственно человеческий абсолют есть добро. Язык Достоевского ближе всего подходит к языку, философии категорического императива.
И в том, что Достоевский, столь глубоко и оригинально· проникший в тайну эстетического совпадения обоих полюсов, одинаковости наслаждения, не остановился однако на эстетическом примирении, не соблазнился скороспелой гармонией,—в этом нужно видеть его незаурядную нравственную мощь и выдающееся чувство правды, гениально-смелую любовь к истине.
_____________
Итак, мы имеем в мировоззрении Достоевского два основных понятия—реальная жизнь и высшее добро,—и синтетическая проблема сводится к примирению жизни и добра. Если любовь к жизни есть половина дела, половина в деле спасения человека, то другою половиною нужно признать добро, а в сочетании этих половин дается цельное совершенство.
Проблема добра имеет у Достоевского оригинальную постановку именно от этого сочетания добра с жизнью. Эта новая постановка этической проблемы распадается на две задачи.
Во-первых нужно указать значение добра для жизни, жизненное значение высшего идеала.
289
Эту задачу Достоевский решает с достаточною определенностью.
«Весь закон бытия человеческого—говорил Степан Трофимович—в том, чтобы человек всегда мог преклониться пред безмерно великим. Если лишить людей безмерно великого, то не станут они жить и умрут в отчаянии. Безмерное и бесконечное так же необходимо человеку, как и та малая планета, на которой он обитает»...
То же говорит и старец Зосима.
«Многое на земле от нас скрыто, но взамен того даровано нам тайное сокровенное ощущение живой связи нашей с миром иным, с миром горним и высшим, да и корни наших мыслей и чувств не здесь, а в мирах иных. Бог взял семена из миров иных и посеял на сей земле и взростил сад Свой, и взошло все, что могло взойти, но взрощенное живет и живо лишь чувством соприкосновения своего таинственным мирам иным; если ослабевает или уничтожается в тебе сие чувство, то умирает и взрощенное в тебе. Тогда станешь к жизни равнодушен и даже возненавидишь ее».
Итак, вторая половина—высшее начало жизни—столь же необходима человеку, как и сама жизнь; только это высшее начало дает последнее оправдание самой жизни.
Во-вторых. Если высшее начало есть именно добро, и если оно оправдывает, или освящает, жизнь, если оно должно быть вставлено в рамку полной реальной жизни, если оно не есть аскетически-самодовлеющее начало (в чем и состоит оригинальность мысли Достоевского), то оно в существе своем должно быть понято, как начало, разнородное наряду с природно-историческою стороною жизни. Красота, по своему стихийному характеру, не выделяет человека из природы, но уравнивает его с природою,—она будит в нем самом природно-стихийную основу. Напротив, добро есть начало специфически человеческое, не природно-божественное, или стихийно-божественное, а богочеловеческое.
Верх над конечным возьмет бесконечное,
Верою в наше святое значение
290
Мы же возбудим течение встречное
Против течения!
Понять доброе течение, как течение природное, значит устранить самую проблему высшего синтеза. Но вместе с тем нельзя остановиться и на одном противоборстве, потому что это делало бы синтез безусловно невозможным. Все это невольно толкает на путь признания разнородности сфер—природно-исторической и нравственно-человеческой. Но Достоевский подойдя вплоть к этой истине, не переступил ее порога,—и она образует предел его поступательного движения. Он остановился на противоборстве и не мог через него перешагнуть. В философии «подполья» и в мысли Ивана Карамазова признается наличность дисгармонии между законами природно-исторической жизни и нравственно-человеческим началом «Боже, да что мне за дело до законов природы и арифметики, когда мне эти законы и дважды два четыре не нравятся». Человеку «мерзит примириться» с этою природно-историческою необходимостью.
Достоевский, как зачарованный, не мог оторвать своих глаз от этой бездны,—и не имел веры подняться над нею.
Ипполит выражает чувства Достоевского по поводу картины в доме Рогожина.
... «На картине этой изображен Христос, только что снятый со креста. Живописцы обыкновенно повадились изображать Христа и на кресте, и снятого со креста, все еще с оттенком необыкновенной красоты в лице; эту красоту они ищут сохранить Ему даже при самых страшных муках. В картине же Рогожина о красоте и слова нет; это в полном виде труп человека, вынесшего бесконечные муки еще до креста, раны, истязания, битье от стражи, битье от народа, когда Он нес на себе крест и упал под крестом, и, наконец, крестную муку в продолжение шести часов... тут одна природа, и воистину таков и должен быть труп человека, кто бы он ни был, после таких мук. Я знаю, что христианская церковь установила еще в первые века, что Христос страдал не образно, а действительно, и что тело его, стало быть, было подчинено на кресте закону природы вполне и со-
291
вершенно. На картине это лицо страшно разбито ударами, вспухшее, со страшными, вспухшими и окровавленными синяками, глаза открыты, зрачки скосились; большие, открытые белки глаз блещут каким-то мертвенным, стеклянным отблеском... Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их теперь даже Тот, Который побеждал природу при жизни своей? Природа мерещится при взгляде на эту картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или в виде какой-нибудь громадной машины новейшего устройства, которая бессмысленно захватила, раздробила и поглотила в себя, глухо и бесчувственно, великое и бесценное Существо—такое Существо, Которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей земли, которая и создалась-то, может быть, единственно для одного только появления этого Существа! Картиной этою как будто именно выражается это понятие ô темной, наглой и бессмысленно-вечной силе, которой все подчинено».
Те же слова повторяет Кирилов и те же чувства пережил Алеша Карамазов при гробе своего возлюбленного старца, по поводу преждевременно открывшегося тления его...
Ужас бесконечной силы, отовсюду обнимающей человека, этой темной, глухой и немой природы, этого огромного и отвратительного тарантула—Достоевский знал этот ужас. И что бы он ни понимал своим огромным умом, сердцем своим он не переносил этого ужаса. Сердцем своим он не принимал истины природной необходимости.
«Бог повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных».
Этой евангельской истины Достоевский не мог вместить. Также не понимал он, не вмещал в своем сердце, и естественных законов истории, которые приводили его к бунту Ивана Карамазова.
«Думаете ли вы, что галилеяне, которых кровь Пилат смешал с жертвами их, были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам»...
292
Но Иван Карамазов не знал этой евангельской истины, и он не мог вынести несправедливых страданий, ради них он не принимал истории.
— «Не хочу гармонии, из-за любви к человечеству не хочу. Я хочу оставаться лучше со страданиями неотомщенными. Лучше уж я останусь при неотомщенном страдании моем и неутоленном негодовании моем, хотя бы я был и не прав. Слишком дорого оценили гармонию, не по карману нашему вовсе столько платить за вход. А потому свой билет на вход спешу возвратить обратно. Не Бога я не принимаю, я только билет Ему почтительнейше возвращаю.
Природа не знает наших различий между добром и злом, между праведниками и грешниками, у нее измерение совершенно другое. Здоровье и болезнь, крепость и немощь, тепло и холод, бури и землетрясения распределяются в решительной независимости от мерок правды и греха. В природе нельзя искать нравственного удовлетворения; нельзя к ней применять и нравственного негодования. Равным образом и история совершается по своим независимым законам: они захватывают человека и он может вмешиваться в ее течение, добро и зло могут быть историческими силами, но целого совпадения здесь никогда не может быть, по существу эти две области различны.
Как в познании, так и в деятельности: не вынося законов природы и истории, Достоевский, по тем же мотивам, во имя высшей любви к человеку, не принимал и законничества, не принимал закономерного общественного устроения человеческого счастья. Отрицательное отношение Достоевского к экономически-освободительному движению— ради атеистического или нигилистического мировоззрения, связанного с этим движением—есть в высшей степени примечательный факт. Ведь очевидно, что высшая любовь к человеку и общественное устроение человеческого счастья, устроение «хрустального дворца», западная культура — не исключают одно другое, хотя и не вполне совпадают. И вот это несовпадение в том, что уходит в глубину человеческой души, заставляло Достоевского идти против того, за что он должен был стоять по свойствам своего сердца. Разве это не поучительный факт? Но Досто-
293
евский не мог быть последовательным в этом отрицании: нужно лишь сопоставить, с одной стороны, его «Бесов», теорию Петра Верховенского, мечтавшего отдать весь мир папе или пустить молву о самозванце, вообще насильно устроить человечество, теорию Шигалева об искусственном понижении психического уровня человечества, и с другой стороны—Великого Инквизитора, чтобы видеть, что «идея эта еще не была решена в сердце» Достоевского и что он, как «мученик», «любил забавляться своим отчаянием». Я указываю на факт, который среди критиков Достоевского пользуется полною общеизвестностью и разнообразными толкованиями: с своей стороны причину этого факта я указываю единственно в смешении разнородных сфер—личной веры с ее абсолютностью, беспредельностью, безмерностью, и условно общественной закономерности.
Не принимая евангельской истины, Достоевский не по-евангельски обсуждал и религиозное значение народа. Не догадываясь о причинах своей трагедии, он искал для себя «почвы» и думал найти ее в народной религии, считая ненавистное ему общественное движение делом наносным. Он переоценивал религиозное значение народности. Он считал религию делом народным. Он полагал, что религия только в том случае есть движение величественное и глубокое, если оно совершается в недрах народной жизни,—он вместе с тем полагал, что народная душа находит свое глубочайшее выражение не в чем-либо другом, как в религии. «Цель всего движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание Бога, Бога своего, непременно собственного, и вера-в Него как в единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог»...
Этих воззрений на религию мы не можем назвать доста-
294
точно глубокими и, главное, евангельскими. Народная религия, это правда, есть одна из ступеней в религиозной эволюции. Религия пережила три фазиса—натуралистический, народный и личный. Но народная религия есть лишь один из фазисов в религиозной эволюции—не вечный и не высший. В век Христа, все религии, как еврейская, так и языческие-классические, стояли на ступени народной, но именно евангелие знаменует перерождение народной (еврейской) религии в религию личную. Евангельский Отец Небесный есть «мой Отец», «твой Отец»; но это не Отец того или другого народа. И ныне религии одних народов остались на ступени натуралистической, других — на ступени народной, но наша религия—есть религия личная, мы уже не можем возвратиться к низшим религиозным ступеням. Можно вполне согласиться с тою мыслью, что обобщенные боги, объединенные, экклектические, свидетельствуют об упадке народно-религиозной жизни, но наш Бог не есть такое обобщение, это Бог человека, как лица, и потому именно—Бог, не знающий национальных и государственных границ.
Переоценивая религиозное значение народности, Достоевский народною религией России, религией русского народа, считал православие. О православии русского народа он говорил все то, что можно сказать о древней еврейской религии. Как еврея нельзя было представить без его национальной религии, как назначением еврейского народа было—привести все народы к религии Иеговы и чрез то доставить господство богоизбранному народу, так и Достоевский утверждал, что «неправославный не может быть русским», что «все, все, чего ищет русский народ, заключается для него в православии,—в одном православии и правда, и спасение народа русского» и что «главнейшее предизбранное назначение народа русского в судьбах всего человечества и состоит в том, чтоб сохранившийся в православии божественный лик Христа, когда придет время, — явить всему миру, потерявшему свои пути».
Необходимо заметить, что «православие» Достоевский «понимал» весьма возвышенно и «духовно». Все, что он говорит о рабском виде Христа, как преимущественно-
295
возлюбленном У русского народа,—о страдании русского народа и его смирении, об его идеале «всемирного боления», «всемирного объединения», «нравственного разрешения» всех вопросов, волнующих теперь Европу—и политических, и общественных и экономических,—все это до глубины проникнуто библейским духом. Смело можно сказать, что Достоевский в понимании православия русского народа стоит на высоте древних еврейских пророков, которые предназначали еврейскому народу великую миссию—благовествовать всему миру мир, правду и спасение... Но и высота еврейских пророков есть относительная высота, неизмеримо превзойденная в евангелии. И еврейские пророки не могли стать выше той ограниченности, которая существенно заключалась в самой идее народной богоизбранности. Для них эта ограниченность была в неразрывной связи дела Иеговы с делом народа,—в том, что служение еврейского народа делу Иеговы безостаточно совпадало с служением Иеговы славе еврейского народа. И в этом единственная причина, почему Христос был отвергнут евреями. И Достоевский стоит на высоте еврейских пророков, а не на высоте евангелия. И для него христианско-православная идея, нравственное разрешение всех вопросов—есть то же, что славянская идея, русское разрешение вопросов. И он религиозно падал даже до того, что говорил о своем «кровном отвращении до ненависти» к Европе, проповедовал о захвате русскими Константинополя во имя высших христианских соображений (как в наши дни по тем же соображениям говорили о захвате русскими Манчжурии), — проповедовал о неразрывном союзе православия с определенною формою государственного правления и т. д.
В том, что Достоевский называл православие национально-русскою формою христианства, заключается глубокая идея. Но и его, как Кирилова (еще раз повторим эти слова), села идея, а не он сел идею. Ему показалось это историческое явление, историческая форма христианства, идеальным явлением христианского духа, идеальною формою его,—он не сумел оценить его с высоты вечной евангельской идеи.
Легко видеть, какое следствие эта национальная ограничен-
296
ность влекла за собою в существенном решении христианской проблемы. «Иудеи ищут знамения». Как натуралистическая, так и общественно-народная религия не может существовать без чуда. На этих ступенях религиозного сознания еще нет места признанию особых сфер природной и исторической необходимости, оно требует непрерывного вмешательства Промысла в течение природы и в ход истории. Природная необходимость и общественно-историческая закономерность могут быть религиозно освящены лишь на высшей ступени религиозного сознания, на высоте духовно-личной религии. Духовно-личная абсолютность дает наряду с собою место природной необходимости и общественно-исторической условности. Лишь в этом случае религиозная святость воплощается в полноте природной жизни и в условности общественной деятельности,—лишь в этом случае князь Мышкин мог бы освободиться от своей природной болезненности и Алеша Карамазов мог бы вступить в мужеский возраст семейной и общественной жизни.
___________
Любопытную интерпретацию художественных концепций Ф. М. Достоевского мы находим в книге Д. С. Мережковского Религия Л. Толстого и Достоевского.
Автор христианскую религию хочет понять, как отрицание нравственности, преступление ее законов. «Христианство есть явление не нравственное, а религиозное, сверхнравственное, преступающее чрез все пределы и преграды нравственного закона, явление величайшей свободы по ту сторону добра и зла». Вместе с этим религиозность он усматривает именно в этой свободе субъекта, в своеволии лица, в антитеизме, в антихристианстве, в человеко-божестве. «Бунт против человечества (т. е. отрицание нравственности), против Бога, против Христа—вот восходящие ступени этой новой нравственной эволюции.· Безграничная свобода, безграничное Я, обожествленное Я, Я— Бог,—вот последнее слово этой религии». Итак, нравственность не как автономия разума, а как безграничная свобода, и религия не как вера, а как самобожество.
Блестящих представителей новой религии автор, о котором речь, видит—исторического в Наполеоне, лите-
297
ратурного в Раскольникове («Преступление и Наказание» Достоевского).
Наполеон—«безмерный во всем, но еще более странный, не только переступает за все черты, но и выходит из всех рамок; своим темпераментом, своими инстинктами, своими способностями, своим воображением, своими страстями, своею нравственностью он кажется отлитым в особой форме, из другого металла, чем его сограждане и современники.—Он смотрит на человеческое существо, как на обстоятельство или на вещь, но не как на себе подобного. У него нет ни любви, ни ненависти к людям: он один—все для себя—остальные существа лишь цифры.— Непроизвольно он смотрит на себя как на существо, единственное в мире, созданное, чтобы властвовать.—Я имею право на все ваши жалобы возражать вечным Я, ответил он однажды на заслуженные упреки одного близкого ему человека и затем прибавил: «я не похож ни на кого, я не принимаю ничьих условий... Я, говорил он, не такой человек, как все, и законы нравственности и общественных условий не могут иметь для меня значения». Кратко сказать, Наполеон—гениальный носитель крайнего своеволия, безграничной свободы, и не на словах, а на деле, в действии. Раскольников говорит о нем: «настоящий властелин, кому все разрешается, громит Тулон, делает резню в Париже, забывает армию в Египте, тратит полмиллиона в московском походе и отделывается каламбуром в Вильне,—ему все разрешается». На это своеволие, на эту свободу Мережковский смотрит религиозно, свято: Наполеон создавал религию. Ему лишь недоставало сознания своего религиозного значения, недоставало религиозного сознания: способность действия в нем перевешивала способность созерцания. Он «сам не знал, что творит, сам не ведал, коего он духа». Но «своею жизнью, примером своим, величием своего счастья и величием своей гибели он потряс, как еще никто никогда не потрясал, глубочайшие основы всей христианской и дохристианской нравственности; помимо воли, против воли своей, начал переоценку всех цен, возбудил небывалые сомнения в первоначальнейших откровениях человеческой совести».
298
Раскольников—двойник Наполеона. «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил... У меня тогда одна мысль выдумалась, которую никто и никогда еще до меня не выдумывал». Преступление Раскольникова совершенно особенное, своеобразное. «Надо понять до конца всю действительную новизну и небывалость этой мысли: все прежние злодейства совершались, все равно по расчету или из страсти, но для какой-нибудь цели; если бы преступник отрекся от цели, освободился от страсти, то мог бы не делать того, что сделал; Раскольников, первый из людей, выдумывает и совершает действительно небывалое, неведомое в мире, новое преступление, такое, какого никто и никогда не совершал до него, преступление нового порядка нравственных измерений—преступление для преступления—без расчета, без цели, без страсти, по крайней мере, без страсти сердца, только с холодною, отвлеченною страстью ума, познания любопытства, опыта. На опыте желает он узнать, испробовать последнюю сущность того, что люди называют «злом» и «добром», желает узнать последние пределы человеческой свободы. И он узнал их».
Что же он узнал? При ответе на этот вопрос Достоевский и Мережковский расходятся. По Достоевскому, Раскольников не вынес преступления своего и это так и должно быть, так и разумно. Правда, у Достоевского не так просто представляется дело, как оно просто для арифметически-юридического разума—пред законом согрешил, по закону и пострадай. Пред людьми Раскольников не признает себя виновным; он возмущается и пред юридическим наказанием страданием от людей. Он согрешил против самого себя, «принцип убил»; и страдание его внутреннее, свое,—«внутреннее проклятие». Но за этою сложностью скрывается прямая мысль, что Раскольников не вынес своего преступления, остался побежденным, не вынес внутреннего проклятия. «Я был в каторге, пишет Достоевский в Дневнике, и видал преступников, «решеных» преступников. Это была долгая школа. Ни один из них не переставал себя считать преступником. С виду это был страшный и жестокий народ. «Куражились», впрочем, только из глупеньких,
299
новенькие, и над ними смеялись. Большею частью народ был мрачный, задумчивый. Про преступления свои никто не говорил. Никогда не слыхал я никакого ропота. О преступлениях своих даже и нельзя было вслух говорить. Случалось, что раздавалось чье-нибудь слово с вызовом и вывертом, и—«вся каторга», как один человек, осаживала выскочку. Про это не принято было говорить. Но, верно говорю, может, ни один из них не миновал долгого душевного страдания внутри себя, самого очищающего и укрепляющего». Иначе смотрит на Преступление и Наказание Раскольникова Мережковский. Он поправляет Достоевского: «все, что следует далее (в романе, т.-е. покаяние и воскресение Раскольникова), до такой степени искусственно и неискусно приставлено, прилеплено, что само собою отпадает, как маска с живого лица». Также Шестов отзывается о «сверхчеловеке» в системе Ницше, также оба они отбрасывают христианство Толстого, как нарост на его язычестве. Это «исправление» есть уже сознание бессилия понять и обнять. Не всего Толстого понимает Мережковский, н не всего Достоевского он понимает, он объясняет их односторонне, тенденциозно.
По мысли Мережковского, ценность опыта нового преступления Раскольникова совершенно иная. «Выводы опыта превзошли его ожидания: он думал, что человек свободен; но он все-таки не думал, что человек до такой степени свободен. Этой-то беспредельности свободы и не вынес он: она раздавила его больше, чем вся тяжесть карающего закона». Римляне во святом святых иерусалимского храма увидали лишь голые белые стены. «Раскольников таким же бесстрашным циническим взором, как римские легионеры, заглянул туда, куда никто из людей до него не заглядывал—во святое святых человеческой совести. И он увидел или ему кажется, что он увидел «ничто», пустое место, пустой воздух, белые голые стены. В такой мере он этого не ожидал: когда он шел попробовать, то ведь все-таки сомневался—иначе и пробовать было бы не зачем—и не только сомневался, но, может быть, и надеялся, даже прямо желал, конечно сам того не подозревая, чтобы не так то было «просто»,
300
как ему кажется, «взять все за хвост и стряхнуть к черту». И вот он узнал наверное, что извне это действительно очень трудно и опасно, но зато внутри—а внутри-то для него самое важное, единственно важное — еще гораздо проще, чем он предполагал. От этой-то простоты ему и сделалось страшно: ему сделалось страшно оттого, что вообще нет ничего страшного. Ужас им овладел, больше которого в мире нет, и от которого бежит вся природа—ужас пустоты, ужас ничего».
Эти выводы Мережковского мы должны признать несоответствующими действительному настроению Раскольникова. «И неужели, говорил Раскольников, ты думаешь, Соня, что я не знал, например, хоть того, что если уж начал я себя спрашивать и допрашивать, имею-ль я право и власть иметь, то, стало быть, не имею права власть иметь. Или что если задаю вопрос: вошь-ли человек? то, стало быть, уж не вошь человек для меня, а вошь для того, кому этого и в голову не заходит, и кто прямо без вопросов идет... Уж если я столько дней промучился, пошел-ли бы Наполеон или нет? так ведь уж ясно чувствовал, что я не Наполеон... заранее предчувствовал, что скажу себе это уже после того, как убью! Да разве с этаким ужасом что-нибудь может сравниться! О, пошлость! О, пошлость!"
Ужас пустоты, ужас неимоверной легкости, воздушности, беспредельности—это со стороны Мережковского не наблюдение над Раскольниковым, а фантазирование.
В том, что Раскольников не вынес свободы, Мережковский видит его слабость. «Трагедия Раскольникова заключается не в том, что, вообразив себя бронзовым, оказался он перстным, но лишь в том, что тело у него действительно все не из бронзы, а душа не вся из бронзы, и ошибка его не в том, что он полез в новое слово, а лишь в том, что он полез и в новое действие, тогда как рожден был только для нового слова. Впрочем, и это противоречие, этот разрыв созерцания и действия—вовсе не личная слабость Раскольникова, а слабость вообще всех людей новой европейской культуры. Наполеон слабее в созерцании, чем в действии. Раскольников наоборот».
301
Мережковский относится с сожалением к слабости Раскольникова. И все-же он высоко ценит его опыт. Он называет этот опыт религиозным. «Борьба, которая происходит в Раскольникове, неизмеримо глубже, чем политика, глубже, чем нравственность: это борьба двух первозданнейших религиозных стихий человеческого духа... Не укоров совести испугался он, а молчания совести, не подавляющего сознания вины своей, а неизмеримо более подавляющего сознания своей невинности, не грозящего наказания, а неизбежной безнаказанности... Это наш ужас, наша трагедия, никогда еще не совершавшаяся в мире, новая трагедия свободы, противоположная старой трагедии совести, новое, открытое нами, как бы четвертое, трагическое измерение мира и духа. Эта наш ужас, и если мы от него погибаем, то и гордиться вправе перед всеми веками величием этого ужаса».
Напротив, по мысли Достоевского в слабости Раскольникова его спасение. Чем более Раскольников возмущается пред насильственной карою от людей («тем-то ведь и ужасна внешняя кара закона, что отнимает у преступника всякую возможность внутреннего добровольного искупления»), чем сильнее презирает он свою слабость, свою пошлость, чем более страдает он от сознания: «не вошь человек для меня, а сам я сквернее и гаже, чем убитая вошь»; тем вернее он в глазах Достоевского идет по пути спасения. До последней строки романа Раскольников не знает спасительности своих страданий, не подозревает, и в этом его трагедия; но Достоевский ведет своего героя безошибочно. В нагло-откровенном Порфирии с его жестокими словами о Раскольникове: «пусть его погуляет пока, пусть,—ведь я и без того· знаю, что он моя жертвочка» проглядывает образ автора.
Оценке опыта Раскольникова с точки зрения самого Достоевского помогает замечательный параллелизм его· преступления с преступлением Сони. «Разве ты не то же сделала? говорит ей Раскольников. Ты тоже переступила... смогла переступить. Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь... Свою (это все равно!). Ты могла жить духом и разумом, а кончишь на Сенной... Мы вместе
302
прокляты, вместе и пойдем—по одной дороге!» В лице Сони менее всего можно видеть жрицу свободной любви, разгульного веселья, ее преступление менее всего состояло в нравственной пустоте, воздушности, беспредельности; она—жертва общественного строя, общественной нужды, она брошена обществом в пасть разврата. Она «великая грешница», но и ее преступление не внешне-противозаконническое, не внешне-юридическое, а внутреннее, против своей личности, и ее проклятие внутреннее,—то, что она стала жить жизнью «без духа и разума». Таково же, как преступление, так и проклятие Раскольникова: он «принцип убил». Юридически законническая невинность, невиновность пред людьми, и внутреннее проклятие—вот тяжесть Раскольникова, которую Мережковский тенденциозно проглядел.
В лице Раскольникова мы должны видеть, говоря научным языком, отрицателя морали утилитарной, законнической, и носителя морали автономной. Столкновение той и другой морали, переход от морали общественно-законнической, общественно-утилитарной к морали разумно-автономной—вот главная тема романа Преступление и Наказание. И эта тема раскрыта Достоевским с такою тонкостью, которою тем более восхищаешься, чем более изучаешь преступление Раскольникова. Поразительна эта тонкость при той сложности и запутанности, в которой выступают и в действительности, и в романе, эти две морали. По-видимому, одна незаметно переходит в другую, и в этом дана возможность искушения, пред которым не устоял Раскольников.
Легкими штрихами в романе отмечается сердечность Раскольникова, его любвеобильность. Было бы грубою ошибкой со стороны критики соблазниться этою легкостью и признать в сердечности Раскольникова второстепенную черту. Эта легкость кричит, обращает на себя особенное внимание; подобно шипящему свисту на рыночном шуме. Вот жемчужины Раскольниковской любви: он любит мать и сестру, дает деньги Мармеладовым при первом посещении—«загреб сколько пришлось медных денег» (при своей крайней нищете), вступается за пьяную девушку—20 копеек городовому, плачет во сне над кля-
303
чей, дает пятак уличной певице, три пятака Дуклиде, отдает на похороны Мармеладова последние деньги, присланные ему матерью, отдает «уцелевший пятак» нищей— и это в то время, когда душа его разрывалась от мучений. В высшей степени примечательна и любовь Раскольникова к своей бывшей невесте. «Больная такая девочка была, вспоминает сам Раскольников,—совсем хворая; нищим любила подавать и о монастыре все мечтала, и раз залилась слезами, когда мне об этом стала говорить... Дурнушка такая собою. Право не знаю, за что к ней я тогда привязался, кажется, за то, что всегда больная... Будь она еще хромая, аль горбатая, я бы, кажется, еще больше ее полюбил». Уже во время суда «бывший студент Рузумихин откопал откуда-то сведения и представил доказательства, что преступник Раскольников, в бытность свою в университете, из последних средств своих помогал одному своему бедному и чахоточному университетскому товарищу и почти содержал его в продолжение полугода. Когда же тот умер, ходил за оставшимся в живых, старым и расслабленным отцом умершего товарища (который содержал и кормил своего отца своими трудами), поместил, наконец, этого старика в больницу, и когда тот тоже умер, похоронил его... Сама бывшая хозяйка Раскольникова, мать умершей невесты его, вдова Зарницына, засвидетельствовала тоже, что когда они еще жили в другом доме, у Пяти Углов, Раскольников, во время пожара, ночью, вытащил из одной квартиры, уже загоревшейся, двух маленьких детей, и был при этом обожжен. Этот факт был тщательно расследован и довольно хорошо засвидетельствован многими свидетелями». Раскольников это рыцарь жалости, христианской любви. Преступление его—преступление человека с любвеобильным сердцем. «Не вошь человек для меня», говорит Раскольников (подчеркнуто у Достоевского). «Да как вы, говорит Соня Раскольникову,—вы, такой... (курсив Достоевского) могли на это решиться?.. Да что это!» Правда, отмечается также жестокость Раскольникова. Разумихин отзывается о нем: «Великодушен и добр. Иногда, впрочем, холоден и бесчувствен до бесчеловечия, точно в нем два противоположные характера сме-
304
няются». Это «соприкосновение противоположностей» Мережковский схватывает с жадностью. Он видит в Раскольникове то же «совпадение красоты в обоих полюсах», как и в Свидригайлове, Ставрогине. Он придает первенствующее значение в характере Раскольникова его наполеоновской жестокости, считая его сердечность «слабым остатком» человечности. Но это крайне тенденциозное, ложное освещение характера Раскольникова. Мережковский проглядывает то обстоятельство, что кроме единственного преступления—убийства старухи и ее сестры, которого он «не вынес», во всем романе не указано ни одного факта жестокости Раскольникова, (так же, как совсем не делается намека на сладострастие), напротив отмечается с ударением, что доброта в нем была сердечная, а жестокость—умственная, отвлеченная. «Он был молод, отвлеченен и, стало быть, жесток». Его мечты о Наполеоне, о бесчеловечии героев—это отвлеченные мечты. В частности, и его преступление имеет тот же двойной характер. С одной стороны оно сердечно связано с его добротой. «Единичное зло и сто добрых дел», говоря словами Свидригайлова. Преступлением, по словам самого Раскольникова, он «хотел только поставить себя в независимое положение, первый шаг сделать, достичь средств, и там все бы загладилось неизмеримою, сравнительно, пользой». С другой стороны, в основе его преступления лежала мысль о героизме, о том, что пророку все позволено. Эту двойственность в характере преступления следует иметь в виду,—и нужно при этом обратить особое внимание на то, что доброта в нем была сердечная, а мечты о Наполеоне—отвлеченные. Эта двойственность так именно оценивается и самим Раскольниковым. После преступления он называет свои мечты о Наполеоне в «прямой» речи с Соней вздором: «Это все вздор, почти одна болтовня». Главное—заботы о матери и сестре. «Я хотел добра людям». Но и тогда эти мечты, как мысль, он одобряет: «вся эта мысль была вовсе не так глупа». По отвлеченности мечты о Наполеоне преступление Раскольникова было плодом теории. «Игривая острота ума и отвлеченные доводы рассудка вас соблазняют-с», говорит ему Порфирий. По ясновидению этого прозорливца, Раскол-
305
ников при своих отвлеченных выкладках ошибся в «действительности и натуре» своей. «Тут, говорит он о преступлении Раскольникова,—книжные мечты-с, тут теоретически раздраженное сердце; тут видна решимость на первый шаг, но решимость особого рода,—решился, да как с горы упал, или с колокольни слетел, да и на преступление-то словно не своими ногами пришел». Он «теорию выдумал». И Свидригайлов говорил Дуне: «тут своего рода теория... Собственная теорийка; так себе теория». Но кроме этой отвлеченной мечты в Раскольникове, в его преступлении, живое нравственное начало. В нем борятся нравственность с казуистикой, которая «выточилась как бритва». Ему прежде всего важно «нравственное разрешение вопроса». Теоретичность преступления—это его высшая сознательность; но для · идеи романа имеет существенное значение не сама по себе теоретическая сознательность, приводящая к безвоздушности, к белой стене, а нравственная окраска сознания. Раскольникову хотелось не просто перешагнуть, а «разрешить своей совести перешагнуть чрез иные препятствия, и единственно в том только случае, если исполнение идеи (иногда спасительной, может быть, для всего человечества) того потребует». Не безвоздушная сознательность, а сознательность преступления при свете совести—вот в чем единственная оригинальность Раскольникова. «Что действительно оригинально (курсив Достоевского) во всем этом,—говорил Раскольникову Разумихин,—и действительно принадлежит одному тебе, к моему ужасу, это то, что все-таки кровь по совести разрешаешь... Ведь это разрешение крови по совести, это... это по моему страшнее, чем бы официальное разрешение кровь проливать, законное».
Этическая точка зрения играла в Преступлении и Наказании первенствующую роль. «Я хотел Наполеоном сделаться, оттого и убил.—Я задал себе один раз такой вопрос: что если бы, например, на моем месте случился Наполеон, и не было бы у него, чтобы карьеру начать, ни Тулона, ни Египта, ни перехода через Мон-Блан, а была бы, вместо всех этих красивых и монументальных вещей, просто-запросто, одна какая-нибудь смешная старушонка регистраторша, которую еще вдобавок надо убить,
306
чтобы из сундука у нее деньги стащить, ну, так решился ли бы он на это, если бы другого выхода не было? Не покоробился-ли бы оттого, что это уж слишком не монументально и грешно?»... В эти слова нужно вникнуть. Чем ничтожнее эта старушонка, регистраторша, ростовщица, тем сильнее вырисовывается любовь Раскольникова к человеку. «Не вошь человек для меня». Это основной тон всего романа. Эстетика скрывает нравственность; великолепие войны, гром пушек требуют громадной толпы, но совершенно скрывают человека. Нужно бросить эстетику, чтобы добраться до человека, до этики. «Я решительно не понимаю: почему лупить в людей бомбами правильною осадою—более почтенная форма? Боязнь эстетики есть первый признак бессилия!» Раскольников отбросил эстетику, он наметил себе жалкую старушонку и он стал сильнее Наполеона. «Я наконец догадался, что не только его не покоробило бы, но и даже и в голову бы ему не пришло, что это не монументально... и даже не понял бы он совсем, чего тут коробиться». Но эта-то кажущаяся сила великого Наполеона есть его действительное бессилие, а слабость Раскольникова—его сила. Наполеон и не заметил бы немонументальности этого преступления, потому что он не знал ценности человека. Для него человек был вещью. Поэтому для Наполеона переход от Тулона и Египта к старушонке был бы переходом от великого к смешному. Но для Раскольникова это есть переход от эстетически-величественного к нравственно-великому. Он заметил ничтожество старухи, потому что он видел в ней человека. Святость человека для человека в этой немонументальной форме предстала Раскольникову с силою категорического императива. На это Мережковский не обратил внимания и тем оказался несравненно ниже Достоевского, ниже его мысли. «Пред Наполеоном, пишет Мережковский, у Раскольникова есть даже некоторое преимущество; он видит не только внешние, но и внутренние преграды, задержки, которые должен преступить, чтобы право иметь. Наполеон их вовсе не видит. Может быть впрочем, эта слепота и была отчасти источником силы его»... Некоторое? отчасти? только? Нет, все величие Наполеона в его слепоте
307
и все преимущество Раскольникова в ясности его сознания. Против общественно нравственного закона Наполеон шел с полным сознанием, но внутренне-разумного сознания святости человеческой личности у него не было. Раскольниковской проблемы никогда пред ним не могло возникнуть. Напротив, для Раскольникова самый роковой вопрос—святость человека для человека. Вопрос Преступления и Наказания это вопрос, можно ли соединить свободу Наполеона с сознанием Раскольникова. Прежде, в Вечных Спутниках Мережковский это понимал лучше, хотя и не вполне. «Есть что-то поистине ужасающее и почти нечеловеческое в таких фанатиках идеи, как Робеспьер и Кальвин. Посылая на костер за Бога или под гильотину за свободу тысячи невинных, проливая кровь рекой, они искренно считают себя благодетелями человеческого рода и великими праведниками... Корсари Жюльен постоянно рисуются, как будто играют роль, наивно верят в свою правоту и силу. А герой Достоевского уже сомневается, прав ли он. Те умирают непримиримыми, а для него это состояние гордого одиночества и разрыва с людьми только временный кризис, переход к другому миросозерцанию». Но уже и тогда Мережковский видел этот переход не в том, в чем он действительно состоит. «Раскольников дошел путем ожесточенного протеста до отрицания нравственных законов, до того, что наконец сверг с себя, как ненужное бремя, как предрассудок, все обязательства долга. На этой ледяной теоретической высоте, в этом одиночестве, кончается всякая жизнь. И Раскольников неминуемо должен бы погибнуть, если бы в душе его не было скрыто другое начало. Достоевский довел его до момента, когда в нем пробуждается подавленное, но не убитое религиозное чувство». Итак, другое начало, будто, только в конце пробуждается, а во время преступления оно подавлено. Но это слишком вяло для Раскольникова. Другое начало на самом деле уже действует в нем во время преступления, доставляя ему глубокие страдания и не допуская его до ледяной высоты, «Настоящие герои, великие преступники закона не плачут и не умиляются. Кальвин, Робеспьер, Торквемада не чувствовали чужих страданий—в этом их сила,
308
их цельность; они как будто высечены из одной глыбы гранита; а в герое Достоевского есть уже вечный источник слабости—раздвоенность, расколотость воли... Горе великим преступникам закона, если в их душе, сожженной страстью идеи, сохранилось хоть что-нибудь человеческое! Горе людям из бронзы, если хоть один уголок их сердца остался живым! Довольно слабого крика совести, чтобы они проснулись, поняли и погибли». Вот к чему свелось новое миросозерцание—к слабому остатку совести, к исконной раздвоенности! Это слишком слабо для Достоевского! Нет, отличие Раскольникова от Наполеона не в слабых остатках прошлого, а в совершенно новом принципе. «Фанатизм идеи только одна сторона его характера. В нем есть и нежность, и любовь, и жалость к людям, и слезы умиления. Вот в чем его слабость, вот что его губит». Но в этой слабости новая сила Раскольникова, которая его не губит, а спасает, которая возносит его выше Наполеона. Дело в том именно, что его жалость к людям не есть лишь слабый отзвук природы, остаток прошлого, но это новый принцип, сознанный в своей абсолютности. Чтобы понять Раскольникова не нужно· опускаться ниже Наполеона, но нужно идти дальше: в Раскольникове весь Наполеон, но он более, чем Наполеон. «Преступление? говорит Раскольников... Какое преступление?... То, что я убил гадкую, зловредную вошь, старушонку-процентщицу, которую убить сорок грехов прощается, которая из бедных сок высасывала,—и это-то преступление?» Да, преступление; даже такой человек не вошь для человека, даже такого человека убить значит принцип убить. Это не отзвук природной жалости, это любовь, возведенная на высоту абсолютного принципа. Этика с· характером автономной абсолютности, на высоте религиозного принципа—вот сущность Раскольникова, вот сила, пред которою уступает своеволие Наполеона. Гений и эстетика должны стушеваться пред немонументальною абсолютностью автономной этики. Неэстетично, и потому тяжело, в этом трагедия. Но это муки нового рождения, муки перерождения Наполеона в Алешу Карамазова, «Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в ра-
309
дость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ея; но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Вместо зловредной вши, старушонки-процентщицы, родился человек в душе Раскольникова, не вынесшего преступления, потому что для него человек не вошь. На место монументальной эстетики великого своеволия новая красота внутренней силы, автономного разума. «Все мне позволено, но не все» я хочу. На место безграничного своеволия безграничное и свободное самоограничение. Наполеон, Торквемада, Робеспьер это образы прошлого, это зерно, которое должно сгнить в сердце Раскольникова, чтобы народился Алеша Карамазов. Они оправдываются в сердце Раскольникова, но оправдание прошлого не дает своеволия для будущего; оправдываясь как природное, эстетическое явление прошлого, эти образы исчезают в нравственной силе будущего. Понять Раскольникова как тип, слабейший Наполеона, значит возвратиться к Неронам и Робеспьерам. Нужно понять его как внутренне-сильнейший тип. «Все хорошо, говорил Кирилов («Бесы»).—Человек несчастлив потому, что он не знает, что он счастлив, только потому. Кто с голоду умрет и кто обидит и обесчестит девочку—хорошо.» И кто размозжит голову за ребенка, и то хорошо; и кто не размозжит, и то хорошо... Должно не только терпеть, но и любить необходимое». Но ведь это только по отношению к прошлому, только созерцание прошлого, только мертвая точка настоящего,—для действия в будущем, для жизни нужно иное. «Они не хороши, говорил Кирилов далее,—потому, что не знают, что они хороши. Когда узнают, то не будут насиловать девочку. Надо им узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши, все до единого».. Так и для Кирилова рок—в прошлом, добро—в будущем. И это иное, равное року в прошлом, столь же абсолютное и несокрушимое, хотя и. внутреннее, нежное, слабое,—это человеческая автономия. Это не «что-нибудь человеческое», это «человеческое, слишком человеческое», это — человеческое на ступени абсолютного, божественного, это—нравственное на высоте религиозного. Это именно свое у человека до абсо-
310
лютности, до божественности, до неотъемлемости. «Раскольников, по мнению Мережковского, испытал подобное тому, что должен бы испытать человек, который вдруг потерял бы ощущение веса и плотности своего тела: никаких преград, никаких задержек; всюду пустота, воздушность, беспредельность; ни верху, ни низу; никакой точки опоры». Это, сказали мы, фантазирование Мережковского. До такого состояния Раскольников не дошел, потому что другое начало в нем уже действовало во время преступления. Конечно, то состояние, если бы он «вынес» преступление, предполагается, только предполагается,—но это не состояние воздушности, беспочвенности, а состояние бездушности, бессмысленности, как если бы человек духовно «убил себя», призвал на себя безумие, вырвал собственное сердце, осквернил свою святыню, «убил свой принцип», остался «без разума и духа». Сознавать приближение безумия это— величайшее страдание, но разумно желать безумия невозможно. И Раскольников, убил лишь руками, но «не вынес» преступления, поэтому на самом деле своего принципа он не убил, как не мертва была и Соня, «живя: в грязи, которую ненавидела». Вместе с этим нужно также признать жалкою фантазией и рассуждения Мережковского об одиночестве Раскольникова: по его мнению, это— одиночество достигнутой высоты по ту сторону добра и зла. Правда, Раскольников после преступления не может выносить общества матери и сестры, но это было для него· «безвыходное и тяжелое уединение». Да и уединение это. было не безусловно, и это самое главное. В то время как мысль о Дуне и матери наводила на него панический страх», он искал общества Сони, которая стала для него· «своею». «У меня одна ты теперь, говорил он ей... Я при шел к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдем. Никто ничего не поймет, из людей, если ты будешь говорить им, а я понял. Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел... Ты-тоже переступила. Но ты выдержать не можешь, и если останешься одна, сойдешь с ума, как и я. Стало быть, нам вместе идти, по одной дороге». Ну, есть ли здесь хоть один намек на «могущество и уединение»! Почему Раскольников, ища общества Сони, избегал матери и сестры, это для Сони было очень понятно. «А жить-
311
то, говорила она ему,—жить-то как будешь? Жить-то с чем будешь? Разве это теперь возможно? Ну, как ты с матерью будешь говорить? (О, с ними-то, с ними что теперь будет!) Да что я! Ведь ты уж бросил мать и сестру. Вот ведь уж бросил же, бросил. О, Господи! воскликнула она.—Ведь он уже это все знает сам! Ну как же, как же без человека-то прожить! Что с тобой теперь будет!» В этих же чувствах Раскольникова, в его отношении к матери и сестре, и особенно к Соне, в его природе, в его сердечности — лежит причина его возрождения. С точки зрения Достоевского, воскресение Раскольникова более всего понятно, вполне естественно, совершенно безыскусственно. Раскольников страдает потому, что его природа не отвечает его отвлеченным мечтам, его мысли,—он презирает себя по своей теории. Затем, он страдает от тех, кого любит. «Идя к Соне, он чувствовал, что в ней вся его надежда и весь исход; он думал сложить хоть часть своих мук, и вдруг теперь, когда все сердце ее обратилось к нему, он вдруг почувствовал н сознал, что он стал беспримерно несчастнее, чем был прежде». Равным образом, ему не удавалось и отчуждение от матери и сестры. Временная ненависть к ним была кажущеюся, под нею скрывалась любовь, вскоре снова выплывшая наверх. «О, восклицал он,—если бы я был один, и никто не любил меня, и сам бы я никого никогда не любил! Не было бы всего этого», т.-е. страданий, которые заставили его открыться. Раскольников не догадывается, что то (внутреннее) страдание и это страдание было одно и то же: любовь, которая тяжестью сковывала его отвлеченную мысль,—любовь делала для него страданиями отношения к Соне и родным. Он также не понимал, что в возрастании этих страданий, когда он стал еще несчастнее от взаимной любви, особенно от любви к Соне, было его воскресение. Он воскрес тогда, когда его любовь достигла абсолютности, бесконечности. Как это глубочайше правдиво, глубочайше по-христиански. Раскольников на поверхности своего сознания, в -своих-мыслях до конца презирает, свое малодушие, а в то же время в глубине его души растет его любовь. И незаметно для него подошло воскресение. «Как это слу-
312
чилось, он и сам не знал, но вдруг что-то как бы подхватило его и как бы бросило к ее ногам (Сони). Он плакал и обнимал ее колени. В первое мгновение она ужасно испугалась, и все лицо ее помертвело. Она вскочила с места и, задрожав, смотрела на него. Но тотчас же, в тот же миг она все поняла. В глазах ее засветилось бесконечное счастье; она поняла, и для нее уже не было сомнения, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута». Вот это слово любит и объясняет воскресение. Тут не в мыслях его перемена произошла, не одна теория победила другую, а «жизнь наступила вместо диалектики». И как это у Достоевского именно безыскусственно: на одних и тех же страницах он показывает нам последние отзвуки внутренней драмы Раскольникова, его теоретическое презрение к своему малодушию и эту воскрешающую силу любви. Критику нужно сделаться рабом своей идеи, чтобы видеть здесь у Достоевского «неискусную приставку»!
Светлое человечески божественное прежде всего противоположно стихийно-бессознательному, величественно-эстетическому. Но у него есть еще другая противоположность— общественно-утилитарная. Наполеоны и Робеспьеры, посылая тысячи на костер, нарушая общественно-моральные законы, могли считать себя благодетелями человечества, потому что у них и отрицание и утверждение относилось к той же области: одних резали, чтобы другим было хорошо. То и другое соизмеримо. Иное дело при новом измерении, когда достоинство личности возносится на высоту религиозную. Здесь уже личность является несоизмеримою с общественно-утилитарным. А между тем, по-видимому, границы здесь нельзя провести. В этом—искушение. «Я хотел только первый шаг сделать—поставить себя в независимое положение, достичь средств, и там все бы загладилось неизмеримою, сравнительно, пользою. Я хотел добра людям». Для добра людям, для пользы обществу—убить одну мерзкую старушонку: разве это не соблазнительно? И вот, при видимой соблазнительности, оказывается нельзя: убить старушонку оказывается убить принцип. Человек выше общества; старушонка, как человек, выше общественной пользы; любовь к человеку выше любви к людям, к обществу.
313
Только в человеке абсолютное, но не в общественно-утилитарном. Это—религия. Это личная религия, духовная, а не религия толпы. Что именно в этом одновременном отрицании утилитарной этики и утверждении святости личности была религия для Достоевского, это видно из следующих слов его Пушкинской речи. «Какое может быть счастье (и для самого деятеля, и для общества), если оно основано на чужом несчастий? Позвольте, представьте, что вы сами возводите здание судьбы человеческой с целью в финале -осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. И вот, представьте себе тоже, что для этого необходимо и неминуемо надо замучить всего только одно человеческое существо, мало того—пусть даже не столь достойное, смешное даже на иной взгляд существо, не Шекспира какого-нибудь... И вот только его надо опозорить, обесчестить и замучить и на слезах (его) возвести наше здание! Согласитесь ли вы быть архитектором такого здания на этом условии? И можете ли вы допустить хоть на минуту идею, что люди, для которых выстроили это здание, согласились бы сами принять от вас такое счастье, если в фундаменте его заложено страдание, положим, хоть и ничтожного существа, но безжалостно и несправедливо замученного и, приняв это счастье, остаться навеки счастливыми? Тут... перейти предела нельзя». Так Достоевский возносит добро с утилитарной низости до религиозной высоты личной святыни. Для него абсолютная ценность в человеческой личности, в человеческой жизни, все равно — в чужой или своей; здесь единственное преступление—гибель жизни, все равно,-своей или чужой. Раскольников убил чужую жизнь; Соня «умертвила и предала себя» ради других: умертвила, потому что потеряла «жизнь духом и разумом», и потому умертвила себя напрасно, личностью своею пожертвовала для общественной пользы. Она—великая грешница и ее проклятие одинаково с проклятием Раскольникова. В святости личности предел жертвы. Жертва для другого должна быть беспредельною физически, любовь—до смерти, но не до погубления чужой жизни, не до потери своей духовной личности. При истинной жертве духовная личность возрастает до абсолютности. «Кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Эта любовь к человеку выше
314
общественно-утилитарного закона. Равным образом, и страдание от преступления против этой любви глубже юридического наказания. Вот почему Раскольников не признает себя виновным пред людьми, виновным с точки зрения общественно-законнической.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
