13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Тареев Михаил Михайлович, проф.
Тареев М. М. О книге г. Зарина «Аскетизм» (Версия журнала «Богословский вестник»)
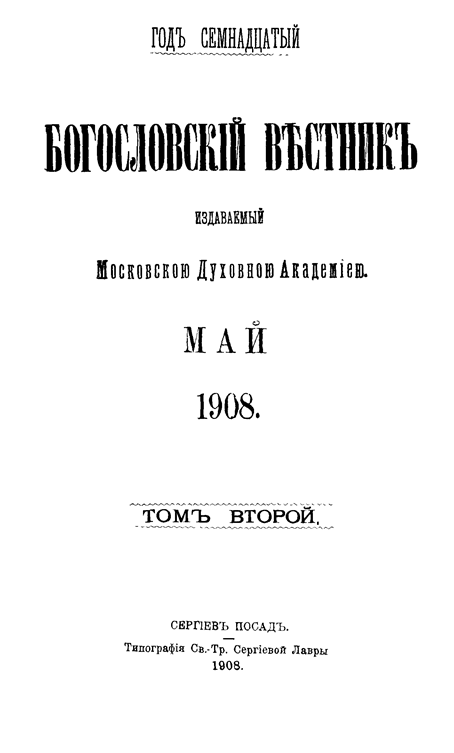
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Тареев М. М.
О книге г. Зарина «Аскетизм».
[Начало.]
I.
Десять истекших месяцев до такой степени были поглощены у меня печатанием «Основ христианства», что я не имел возможности внимательно следить за нового литературою по своему предмету. Я отмечал для себя по рецензиям, обозрениям и объявлениям нужное и важное, выписывал, но не читал. И за это время у меня накопилось множество ученых трудов по нравственной науке, на которые я с жадностью набросился, лишь только освободился от своей всепоглощающей работы. И первою книгою, за которую я принялся, было ученейшее «этико-богословское» исследование Сергея Зарина Аскетизм по православно-христианскому учению. Том первый: основоположительный, в двух книгах, из которых книга первая дает критический обзор важнейшей литературы вопроса (VIII+ХХХ+ 388 стр.), а вторая содержит опыт систематического раскрытия вопроса (ХI+ХV+693 стр.). Всего 1145 страниц. Почти на каждой странице подавляющее обилие цитат, греческих и латинских текстов. Я припомнил недавний магистерский диспут г. Зарина, восторженные отзывы официальных рецензентов, газетный шум. Зарин—второй Болотов: такая молва пронеслась по нашему богословскому миру. Было поведано, что труд г. Зарина свидетельствует «о бесконечном трудолюбии автора, о глубоком проникновении его в предмет, о прекрасном авторском настроении внутреннем... Все отдельные понятия, о которых тут трактуется, выяснены на основании святоотеческих данных весьма обильных. В этом заключается заслуга автора не-
141
142
сомненная... Автор отличается необыкновенным трудолюбием, он прочитал множество святоотеческих творений на их оригинальном языке, проштудировал массу более или менее выдающихся пособий, отнесся к ним необыкновенно внимательно, добросовестно, самостоятельно; все свои положения обосновывает надежными—библейскими, святоотеческими данными». Рецензент—панегирист писал, что «автором проштудировано до 88 томов святоотеческих творений» и «что сущность дела, принципиальная сторона его установлены автором твердо на твердейшем библейском и святоотеческом основании».
В виду этих предварительных данных я приступил к чтению грандиозного труда г. Зарина с изощренным вниманием, с напряженным благоговейным чувством.
И первое внешнее впечатление от этих книг было радостное, бодрящее, открывающее твердую почву под ногами и широкие дали в будущем. Взяв в руки этот «основоположительный» увесистый том, напечатанный на великолепной бумаге, четким и солидным шрифтом, украшенный оглавлениями, предисловиями, введениями, заключениями, указателями, делениями, подразделениями, вводными положениями и выводными тезисами, историко-филологическими справками по каждому вопросу, бесконечными цитатами и примечаниями к каждому почти слову текста, невольно радуешься за наше богословие как за науку. Характер религиозной литературы наших дней составляет самый выгодный фон, на котором выделяется такая ученая работа.
Никто не будет спорить против того, что главною причиною незавидного положения русского богословия, сравнительно с западным, главным врагом русского богословия, является лубочная богословская письменность. Наша богословская наука не дорожит своею репутацией, не имеет самоуважения, не держит высоко своего знамени, не воспитывает в своих адептах чувства профессиональной чести, сознания ответственного и полезного дела; вместе с тем она не пользуется уважением и со стороны интеллигентного общества. Это объясняется первее всего тем, что в широкой богословской области не отмежованы отделы научно-критический и популярно-фельетонный: в сознании читателей эти отделы безраздельно сливаются, и признаки
143
низшей религиозной письменности усвояются высшему богословию, богословской науке. Вред этого смешения сказывается из подотделов научного богословия собственно на том, которым обнимается религиозное мышление,—не на церковно-исторической науке, а именно на богословии.
Не трудно понять, что более ими менее устойчивую ценность в богословской области имеют труды или чисто исторические, излагающие объективную правду, или же такие, содержанием которых служит религиозное мышление, личное богословское творчество. В первых стушевывается личность автора; напротив, все значение вторых в личном элементе, в последовательном миросозерцании, в определенной авторской физиономии. Первые ничего не теряют, появляясь анонимными, и они, конечно, должны подготовить и уступить место последующим более совершенным исследованиям; во-вторых — вложенная душа автора, личные переживания, религиозные надежды и страдания имеют вечную, незаменимую ценность. Наша среда ценит первого сорта работы, понимая лишь объективность исследования в смысле безличности, бесцветности литературного труда; но она совершенно неподготовлена и неспособна ценить работы второго рода. Последние работы нашею средою совершенно не принимаются и остаются в ней чуждым, не перевариваемым телом. И здесь возможны разные ступени отчуждения.
Наряду с указанными двумя типами богословской литературы мыслим третий—популярное изложение известных истин теоретических и практических, в целях дидактических и назидательных. Эта популярная богословская литература относится к ученому богословию, историческому и религиозно-философскому, так же, как лубочные картины, которые трудно не встретить в каждой деревенской избе, к художественным произведениям. Но тут нужно установить то важное различие, что границу между лубочной мазней и художественной работой, в общем конечно, признает все интеллигентное общество, тогда как нет такого общего признания особенных областей богословия популярно проповеднического и научного, — эти области обычно смешиваются. Обильною, как песок морской, популярною письменностью безнадежно поглощается научное
144
богословие,—и нет ни малейших следов общественной тенденции различно относиться к тем и другим книгам. Для общества, интересующегося религиозно-церковными вопросами, и для общества, не интересующегося этими вопросами, вся богословская литература, начиная с указаний легчайшего пути в царство Божие и кончая критической философией христианства, сваливается в одну кучу.
Назидательная церковная письменность в России появилась одновременно с христианством, во всяком случае задолго до нарождения у нас ученого богословия, и она всегда была обильна. В последние же дни она увеличилась сотрудничеством светской интеллигенции. Да, в наше время много светских лиц занимается религиозно-церковными вопросами. Спасение, антихрист, Дух Святый, аскетизм—ревностно обсуждаются светскими писателями. И несомненно одно: брошюрочно-фельетонная литература, выходящая из-под пера этих писателей, нимало не обогащает ученого богословия, но тесно примыкает к назидательной области.
Различие между церковной назидательной письменностью и новейшим светским богословским фельетонизмом должно быть отмечено: в последнем уже не передается принятое учение, но как бы прокладываются «новые пути». Однако, это не есть личное религиозное творчество, потому что здесь доминируют программно-партийные цели. Весь светский религиозный фельетонизм без остатка распределяется по рамкам освободительно-социального движения, и каждое его течение тесно примыкает к тому или другому освободительному направлению. Здесь богословие стоит на службе у политики, и личное религиозное творчество заменяется партийными программами. Здесь по-своему также проповедуют, поучают, обличают, и знать не хотят критических научно-богословских приемов. Чревовещание и произвол уступают лишь одной границе партийной программы, а затем—беспредельны. Пишут об аскетизме, духе святом, церкви, но не твердо выговаривают эти святые слова.
Мало пользы богословской науке приносит этот богословский фельетонизм, а лучше сказать он не приносит
145
богословию ничего кроме вреда. Timeo Danaos et dona ferentes 1).
Шумят, что наше богословие было доселе схоластично, мертво, что его нужно оживить, поставить ближе к жизни,— шумят и злоупотребляют этими копеечными истинами. Ныне громко провозглашать и доказывать этот призыв не значит быть героем, но значит ломиться в открытую дверь: кто ныне уже не исполнен ненавистью к схоластическому богословию и не чувствует жажды живого религиозного мышления? Но ныне центр тяжести в другом вопросе: в чем именно жизненность богословского мышления? В том ли, что религиозное знание должно иметь утилитарный характер, должно стоять на службе у временных практических интересов, или в том, что религиозное знание должно быть поставлено на почву живого личного опыта и лишь из этой личной глубины приводить к практическим выводам, которых заранее и предвидеть нельзя? И то и другое направление идет против схоластицизма, но между ними самими громадная разница. Ведь одно дело ценить каждое знание по его практической пользе
1) Это чувствуют и более умные из светских писателей. Вот слова, которые принадлежат Л. Шестову. « ...В своей статье О новом религиозном сознании, в которой Бердяев впервые начинает говорить о Христе, богочеловеке, человекобоге и т. п. он обрывается, заикается, словом обнаруживает все признаки того, что попал в чужую и незнакомую ему область, где приходится двигаться наугад и ощупью. Между прочим, следует отметить тот любопытный факт, что все наши писатели, пришедшие к христианству путем эволюции, никак не могут научиться по-настоящему выговаривать святые слова. Даже Мережковский, вот уже столько лет упражняющийся на богословские темы, не дошел до сих пор до сколько-нибудь значительной виртуозности, несмотря на свое несомненное литературное дарование. Настоящего тона нет. В роде того, как человек в зрелом возрасте изучивший новый язык. Всегда узнаешь в нем иностранца. То же и Булгаков. Он оригинально решил трудную задачу и с первых же статей стал выговаривать слово Христос тем же тоном, которым прежде произносил слово Маркс. И все-таки Булгаков, несмотря на все преимущество простоты и естественности манеры (ибо ее не пришлось менять), не удовлетворяет чуткого слуха»... Они сами «видно, это чувствуют и от религиозных исканий переходят к вопросам церкви, к церковной политике. Здесь, пожалуй, они будут на своем месте. Политика, вопросы общественного устройства старое, близкое, родное дело»... О писателях более мелкого калибра и говорить нечего.
146
для данного времени, и иное дело — знать собственную ценность науки. И это имеет значение по отношению к каждой науке, в частности к богословской.
Что всякая наука должна иметь практические результаты, это выше сомнения. Можно вполне согласиться с тем, что по этому вопросу говорит Паульсен. «Практические задачи возникают раньше и являются более важными, чем теоретические проблемы. Если мы скажем, что науки возникли для решения практических задач, то в этом не будет большой ошибки. Знания, по крайней мере при их первоначальном возникновении, являются средствами для практических целей: анатомия и физиология—для врачебного искусства, геометрия—для измерения земли. И философия, или теоретическое знание вообще, возникла первоначально благодаря вопросу о значении и задачах жизни»... Это так. Но ведь также несомненно, что «ныне различаются два вида научных дисциплин: теоретические и практические, теория и прикладные знания, собственно науки и учения об искусствах. Цель первых — познание, цель последних—преобразование вещей при помощи человеческой деятельности: они указывают, как изменить вещи применительно к нашим целям». Но все дело в том, ограничить ли пределы теоретического знания ближайшими практическими интересами, или же предоставить ему развиваться своими собственными интересами? Есть ли практическая польза результат теоретической науки, или же ее цель? В решении этого—второго—вопроса едва-ли можно не согласиться с Пуанкаре, по мнению которого, «нельзя сказать, чтобы действие было целью науки. Должны ли мы осудить исследования, произведенные над Сириусом, под тем предлогом, что мы вероятно никогда не предпримем никаких действий по отношению к этой звезде?"
То же самое нужно сказать, в частности, и о религиозном знании, о богословской науке. Что богословие должно быть живо и действенно, это ныне стало общим местом, из которого нельзя извлечь никаких значительных выводов. На пути к последним стоит более реальный вопрос о том, связано ли богословие, как наука, непосредственно с современными проблемами религиозно-церковной и социально-политической практики, должно ли оно ограни-
147
чиваться служением этим проблемам, должно ли оно управляться программными симпатиями, или же богословие есть наука с автономным содержанием, с которым нужно считаться, приятно ли это нам или неприятно, соответствует ли это интересам времени или не соответствует. В действительности же желают, чтобы богословие прислуживалось к общественным партиям, или консервативным или прогрессивным, чтобы оно руководилось партийными симпатиями монархическими, конституционными, социалистическими, социал-демократическими, социал-революционными, анархическими. Не по существу богословия, не потому, чтобы богословие было неразрывно связано с временными политическими веяниями, а потому, что издавна привыкли и ныне кажется всем весьма удобным—пользоваться религией в политических интересах, на богословие претендуют все политические партии. Анархизм хочет иметь свое богословие (напр. г. Чулков), социализм—свое (христианский социализм), монархизм — свое, церковная политика — свое, конституционные партии также включают в свои программы церковно-богословские вопросы и т. д. Все хотят опираться на богословие, все хотят на место богословской науки поставить фельетонно-брошюрочное производство. одни партии опираются и претендуют на богословие между прочим, краешком своих программ, а другие утверждаются на богословии всем своим основанием, хотят поглотить все богословие, но большой разницы тут нет. Одинаково отрицают богословие, как автономную науку, одинаково близоруко смотрят на ту пользу, которую может оказать богословское знание. Забывают, что знанием можно только пользоваться, к нему нужно прислушиваться, открытым законам нужно повиноваться. Naturae non imperatur nisi parendo.
Религиозная наука по существу своего объекта, а не только по общим научным основаниям, имеет уклон к решительной свободе от субъективных интересов минуты. Религиозно относиться к жизни это и значит смотреть на жизнь с точки зрения вечности. Христианская религия, как религия абсолютная, адекватно выражается лишь в личном религиозном творчестве и не имеет иного отношения к общественным формам, к временным интересам, как только чрез посредство личного творчества. Фельетонизм,
148
брошюрочный кругозор, программная близорукость эссенциально противны христианскому богословию, как науке. Но вместе с тем на высоте христианского отношения к жизни никак не может удержаться толпа, для которой жизненность христианства доступна единственно в смысле публицистического кругозора. Вот почему нет другой такой области, где бы дурная популярность, вульгарность, фельетонизм и шарлатанство приносили столь громадный вред делу и пользовались столь широким распространением, как в богословии. Впрочем — аналогию с богословием может дать медицина. Как ни велико и существенно различие между научной медициной и знахарским шарлатанством, однако последнее в некультурном обществе слишком успешно оспаривает у медицины ее значение. Защищая объективную ценность науки, Пуанкаре пишет: «Правила игры представляют произвольное соглашение; можно было бы принять соглашение противоположного содержания, которое не оказалось бы хуже. Вопреки этому наука есть такое правило действия, которое приводит к успеху вообще только при том условии, чтобы правило с противоположным содержанием не имело успеха. Когда я говорю: для добывания водорода действуйте кислотой на цинк,—я формулирую правило приводящее к успеху. Я мог бы сказать: действуйте дистиллированной водой на золото, — это было бы также правило, но оно не вело бы к успеху». Против этих слов Пуанкаре нельзя спорить; однако высказанный им тезис не во всех областях пользуется одинаковою очевидностью. Конечно, в области инженерного строительства первый же опыт—постройка моста, туннеля— проведет не переступаемую границу между знанием и шарлатанством. Но вот в медицинской области далеко не для всех очевидно различие между наукой и знахарством, или по крайней мере не все истолковывают это различие в пользу науки. Медицинская наука скромна; она признается, что не все болезни излечимы, что не всякая болезнь излечима при всяких условиях, что она зависит от организма, которому лишь помогает. Напротив, знахарское шарлатанство обещает чудеса, внушает надежду на излечимость всех болезней и поддерживает эту надежду так называемыми «лошадиными дозами». В силу этих обстоя-
149
тельств медицина в низко-культурном обществе не может конкурировать с знахарством. И во всяком случае сама медицина, собственными средствами, бессильна бороться с своим конкурентом. Но еще печальнее положение научного богословия. Оно видит рядом с собою религиозное шарлатанство, которое то обещает своим адептам власть над природными силами, магическую помощь, то рекомендует религию как надежнейший и вернейший путь социального и политического благоустройства. В наше время особенно вошел в моду последний вид религиозно-богословского шарлатанства—богословско-фельетонная игра на социально-политических симпатиях, пред которыми не может устоять толпа даже полукультурная. Как легко подделаться под неглубокие вожделения этой толпы! В наши дни—в дни борьбы с старым режимом— стоит лишь провозгласить, что христианская религия на стороне социализма и против такой-то власти,—и толпа рукоплещет. Не поймет она, что как-бы ни была настоятельна нужда социально-политических реформ, самых радикальных, все-же несомненная пошлость в том, что религия связывается непосредственно с определенными формами социально-политического прогресса. Даже какой-нибудь Георгий Чулков, смыслящий в богословии менее любого семинариста, в силу одной только индивидуалистической точки зрения понимает, что «для религиозного сознания не может быть относительных критериев. Религия по духу своему всегда непримирима. Она не может говорить мне: сегодня пусть будет конституционная монархия, завтра республика. Религия ставит абсолютные цели». Но толпа, даже интеллигентная толпа, именно потому, что она—стадо, никогда не поймет религиозного аристократизма, религиозной абсолютности. Ей нужны хлеб и зрелища! И научное богословие, имеющее своим объектом чистое религиозное познание и не проповедующее ничего кроме абсолютного действия и личной свободы, не имеет собственных средств прямой борьбы с богословским шарлатанством.
И что всего любопытнее: соблазнительным для слабых душ является не определенное какое-нибудь фельетонное решение христианского вопроса, а именно самый фельетонизм, самая программная постановка христианского вопроса
150
Увлекаются одинаково и трудовым братством, построенным на принципах железной дисциплины, и толстовскими колониями, основывающимися на полном отрицании всякой дисциплины, и братством борьбы, вносящим в христианство начала революционных действий, и христианским социализмом. Остается в тени и тот факт, что все эти программы исключают одна другую: христианские «трудовики» с скрежетом зубовным обличают нелепость как непротивленцев, так и христианских общественников, непротивленцы в свою очередь ненавидят и трудовиков и общественников, последние, наконец, презирают и мирных трудовиков и пассивных непротивленцев. Но у них всех есть общее: все они не хотят знать богословской критической науки, все они проповедуют, обличают, выставляют свои программы, обещают немедленное исцеление недугов, предлагают «правила действия». Устраняясь от богословской науки, все они понятия и даже предчувствия не имеют о религиозной тайне, о красоте религиозного знания, все они страшно не религиозные люди. Они разменяли религиозную ценность на рыночные монеты, они волочат святыню по улицам, они заменяют религиозное ведение дешевыми программами. От них мы не услышим религиозно-творческой мысли, крылатого слова,—они наводняют книжный рынок своими популярными брошюрами, своими рецептами для толпы...
При таких условиях научное богословие требует от своих работников героического самоотвержения. Theologia vera virfcus est. Вместе с предложением приходится будить и спрос, вместе с бросанием зерен приготовлять и почву, развивать и вкусы. Нет благоприятного встречного течения. Напротив, встречаешь предубеждение и недоверие. Выходишь на сцену под косыми взглядами. С первым шагом поднимаешь на себе грехи других. Заранее отказывают тебе в праве говорить истину историческую и правду личную, прилагают к твоей религиозной мысли чужие масштабы программные, внешние мерки шаблонные.
На этом выгодном фоне ярко выдаются научные преимущества богословских трудов. С такими благоприятными чувствами я раскрыл книгу г. Зарина.
М. Тареев.
(Продолжение следует).

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
БИБЛИОГРАФИЯ.
О КНИГЕ Г. ЗАРИНА «АСКЕТИЗМ».
(Окончание).
II.
Но ведь эти же обстоятельства заставляют строго относиться к появляющимся научно-богословским сочинениям. Позволительно желать, чтобы они стояли на высоте своих задач, вступали в неблагоприятную среду во всеоружии богословского знания. Правдивая критика—одно из необходимых условий процветания каждой науки. Строгость к самим себе—без этого не может быть успеха в серьезном деле. Было бы профанацией науки, если бы мы позволили богословскому невежеству укрыться под флагом направления, все равно какого—правого или левого. Позор для богословской науки, когда дают значение такой аргументации: «хотя он невежественен в богословии, но зато благонамерен», или «он ничего не смыслит в богословской науке, но зато он мыслит либерально»... Но не менее позорно для нашей науки, если богословское невежество будет скрываться за внешними научными приемами, если мы оставим безнаказанною симуляцию науки.
Последнее мы и находим в диссертации г. Зарина. Первое впечатление от этой диссертации и окончательное суждение, которое вытекает из тщательного изучения ее, радикально расходятся.
Я рассмотрю сочинение г. Зарина с двух сторон: во-первых, со стороны формальной—в отношении его к пособиям и, во-вторых, со стороны принципиальной—в от-
305
306
ношении его к библейско-святоотеческим источникам. Я отвечу на два вопроса: действительно ли г. Зарин «отнесся к выдающимся пособиям необыкновенно внимательно и добросовестно»? и действительно ли «принципиальная сторона аскетизма установлена автором твердо на твердейшем библейском и святоотеческом основании»? Я покажу, что Зарин не сделал ни того, ни другого.
Внимательное отношение к пособиям автор выставляет в качестве выдающейся особенности своего труда. «Одною из особенностей предлагаемого труда, говорит он, является довольно подробное обозрение литературы предмета, составляющее отдельную книгу. Эта особенность явилась результатом нашего убеждения, что рассмотрение трудов, имеющих отношение к предмету нашей диссертации, только тогда будет иметь существенное научное значение, если мы представим их подробный и обстоятельный разбор, который имел бы не одно критическое значение, но и являлся бы научно-богословским анализом тех вопросов и точек зрения на предмет нашей работы, которые не соответствуют вполне или только отчасти нашей основной точке зрения и основной идее и рассмотрение которых в самом сочинении нарушило бы его цельность и последовательность»... Этой аргументации слишком недостаточно, чтобы оправдать то утомительно-подробное обозрение литературы предмета, которое мы встречаем в книге и которое постоянно сбивается на установление различий между данной диссертацией и сходными по предмету трудами; но ее вполне достаточно для того, чтобы оправдать предъявление с нашей стороны строгих требований к авторскому обозрению.
Еще более строгость критики оправдывается тем, что сам автор относится к рецензируемым трудам чрезвычайно строго. Вся его первая книга представляет из себя какую-то дикую вакханалию педантического высокомерия и беспредельного самолюбования.
Вот образцы рецензий г. Зарина. О преосв. Феофане: «В данном случае, к удивлению, мы встречаем у преосв. Феофана, по-видимому, некоторую несогласованность, непоследовательность 1)... Вообще отношение экстаза, как высшей
1) Стр. 21.
307
цели созерцательного подвижничества, к требованиям идеала религиозно-нравственного совершенства далеко не представляется ясным в изложении преосв. Феофана и возбуждает в высшей степени важные и серьезные недоумения» 1). А. Ф. Гусев: «Профессору Гусеву не удалось вполне верно схватить и точно выразить сущность и коренные особенности православного аскетического воззрения 2)... Мы не видим у А. Ф. последовательности и определенности» 3). Ф. Ф. Гусев: «Ф. Ф. Гусев не уловил с достаточною глубиною и не оттенил с достаточною определенностью двуединства христианского религиозно-нравственного идеала» 4). П. П. Пономарев: «В разбираемом круге мыслей г. Пономарева мы не видим строгой последовательности и полной согласованности, не наблюдаем строго-логического раскрытия одного определенного положения 5)... К сожалению, которое приходится испытывать очень часто при чтении разбираемого сочинения, автор его не раскрыл основательно, точно и обстоятельно содержания центрального и основного понятия аскетики—спасения» 6). И. В. Попов: «В дальнейшем раскрытия этих мыслей заметна некоторая неопределенность, неясность, недоговоренность, а иногда даже спутанность, неточность» 7). М. М. Тареев (я): «Его мысли не отличаются, к сожалению, определенностью смысла и точностью их формулировки 8)... По нашему глубочайшему убеждению, проф. Тареев выразил православное учение по данному вопросу неточно» 9). Harnack: «Строгой и точной научной проверки сочинения Гарнака не выдерживают... Такой способ рассуждения ни в коем случае не может быть признан научным» 10). Holl: «Этот ученый в своих суждениях и выводах часто дает действительным фактам неправильное толкование, преувеличивает их значе-
1) Стр. 28.
2) Стр. 46
3) Стр. 51.
4) Стр. 107
5) Стр. 160
6) Стр. 166 ср. 122, 165, 170.
7) Стр. 182 ср. 184. 185.
8) Стр. 198.
9) Стр. 199 и д.
10) 238, 241.
308
ние, придает им неверную окраску 1)... У него отсутствует целостное, правильное, так сказать, органическое представление трактуемого предмета, — мы не находим у него вполне ясного, точного, определенного представления о содержании аскетической созерцательности» 2).
На ряду с этими безжалостными рецензиями, г. Зарин упорно, неутомимо, действительно последовательно так рекомендует свой труд: «В нашей диссертации все служит к раскрытию православного учения, к уяснению его общего духа и основного смысла. Православный аскетизм выводится из особенностей православного учения о спасении; основная цель и существенное содержание спасения определяют и все частные моменты аскетизма, объясняют смысл и значение и всех отдельных подвигов, тех или иных аскетических средств. Здесь все раскрывается по особому самостоятельному плану, из известных обоснованных и тщательно проверенных предпосылок» 3).
Ну, посмотрим, насколько «внимательно и добросовестно» этот удивительный муж «относится» к пособиям, которые он столь высокомерно трактует.
Я, конечно, должен остановиться на каком-нибудь одном из рецензируемых им авторов и в применении к нему проследить шаг за шагом его операции. Так как г. Зарин и меня удостаивает поместить в поле своего «обозрения», то я и проверю на себе доброкачественность его критических приемов.
Мое имя г. Зарин упоминает еще на стр. XV. «Традиционный аскетизм—по его словам—иногда даже и у богословов решительно противополагается христианской любви, как начало ей совершенно чуждое, с нею решительно несовместимое». Ссылка: «Ср. проф. М. М. Тареев Бог. Вест. 1906, апр. 716»=Живые души стр. 76.
Но в данном месте я (вслед за приведенною у г. Зарина выдержкою) пишу следующее: «На традиционный аскетизм можно смотреть различно, и мы о нем не говорим. Но современные теоретики его, о которых мы и говорим,
1) Стр. 262.
2) Стр. 279
3) Стр. 179 и мн. др. в этом же роде.
309
берут его в определенном освещении. Они считают подвиг аскетизма высшею формою христианской жизни, высшим христианским идеалом, и при этом аскетизм понимается в смысле, решительно отличающем его от подвига христианской любви».
Как же можно ссылаться на это место в доказательство того, что богословы (т. е. я) противополагают аскетизм и любовь? Я лишь говорю о современных аскетах, которые понимают аскетизм в смысле противоположном подвигу любви.
Переходим теперь к параграфу, посвященному в книге г. Зарина специально мне. Обращает на себя внимание в этом параграфе уже изложение. Здесь на каждой строке пестрят такие фразы: «Мы выразили бы эту мысль таким образом... Не совсем точно... Точнее и правильнее было бы»... Г. Зарин любуется собой, услаждается своими словами. Ему мало тысячи страниц. Вот эту строку он у вас поставил бы раньше другой, эти два слова переставил бы, здесь изменил бы сравнительную степень на превосходную, а там превосходную на сравнительную, тут к его сожалению запятая не в его духе, а там вместо большего тире лучше было бы начертать малое... Неутомимость прямо комариная!.. Это, разумеется, пустяки. Но уже не пустяки то, что г. Зарин по вопросу об аскетизме рассматривает из всех моих сочинений «Философию евангельской истории» и «Дух и плоть»—сочинения, на выбор не имеющие прямого отношения к аскетизму, и ни словом не упоминает о тех моих сочинениях, где аскетический вопрос трактуется у меня систематически—«Цель и смысл жизни» и «Искушения Христа», соединенные потом мною в один том под общим заглавием «Христианское мировоззрение». В предисловии к последнему я, характеризуя эти книги, теперь пишу: «Излагая исторически-христианское мировоззрение, невозможно вполне избежать уклона к аскетизму и символизму: философия христианского миросозерцания неизбежно есть не что иное, как философия аскетически-символического освящения жизни» 1). Вот этих-то книг г. Зарин не рассматривает, а останавливает свое внимание на
1) Основы христианства, т. III, стр. 6
310
названных двух, чтобы иметь возможность прийти к неизменно самодовольным выводам. Ну, скажите пожалуйста, какое касательство к аскетическому вопросу имеет философия евангельской истории? Г. Зарин анализирует Ту главу этой философии, которая имеет своим предметом воскресение Христа,—и заканчивает свое обозрение следующим самодовольно педантическим заключением: «Что касается сущности и смысла христианского аскетизма, то настоящее освещение этого вопроса более или менее достижимо только с точки зрения цельного существа христианского учения, с которым он находится в нераздельной органической связи. Анализ одного факта воскресения Христова, взятый в своей отдельности, недостаточен» 1). Вы, г. Зарин, совершенно правы, как были бы правы, если бы стали утверждать, что Пасха следует за Великим постом, а Успенский пост бывает после Петровок. Но что Вам дало повод читать наставления по этому пункту? Разве я когда-нибудь утверждал, что исходя из одного факта воскресения Христова можно решить весь аскетический вопрос? Я не только этого не утверждал, но я писал, что этот факт не имеет никакого прямого отношения к аскетизму: «из факта воскресения Христова нельзя сделать никаких непосредственных выводов относительно нашей душевно-телесной условности» 2) и т. д. Г. Зарин называет эти мои суждения эластичными, неопределенными, расплывчатыми, трудно уловимыми и «сводит» их к собственному толкованию. Прием слишком неблаговидный. Г. Зарину следовало бы вникнуть в смысл рецензируемого им труда... Равным образом и статья «Дух и плоть», составляющая часть исследования «Истина и символы в области духа», исследования, вошедшего потом в IV томе Основ христианства под общим заглавием «Христианская свобода»,—статья эта лишь краешком затрагивает аскетизм, так как это исследование и этот том лежат в сфере именно не аскетической. «Освободить духовную религию от символической (аскетически-символической) оболочки и внедрить ее в живую жизнь»—такова задача этого исследования и
1) Стр. 201
2) Философия ев. истории, стр. 219 (В Основах христианства это место не удержано).
311
всего четвертого тома 1). В сочинениях, вошедших в III том, я систематизирую историческо-христианское аскетическо-символическое мировоззрение, и в этом исследовании «выступает вперед лично-критический элемент, предусматривание грядущего». Что же удивительного, если г. Зарин и по поводу этой статьи приходит к тому же выводу: «Все эти понятия требуют специального анализа, раскрытия их в связи с цельным христианским мировоззрением... Мысли проф. Тареева не дают вполне определенного и точного—даже, конечно, общего, представления о предмете,—об аскетизме и других, с ним тесно связанных предметах» 2). Но ведь все дело в том, что г. Зарин ищет не там, где нужно искать, и делает это намеренно и сознательно, т. е. злонамеренно, как это сейчас откроется.
Основная ложь в выборе рецензируемого материала с неизбежностью влечет за собою фальшь и во всех частностях. Так г. Зарин уверяет, что «проф. Тареев слишком суживает объем понятия аскетизм, когда говорит, что природное отношение христианина не становится неизбежно аскетическим, не создает бегства из мира» 3). Прежде всего г. Зарин искажает данное место. У меня написано следующее: «Христианство в абсолютности добра, в соединении этики с верою, в духовной верующей любви... Природное отношение христианина не становится по одному этому неизбежно аскетическим» 4)... И что же? По мнению Зарина по одному этому христианство аскетично в смысле бегства из мира? Г. Зарин получает возможность разводить свои водянистые рассуждения на тему о том, что отшельничеством не исчерпывается аскетизм, что религиозность не бывает обязательно отвлеченною,—прежде всего потому, что он лишает рецензируемое место контекстуального смысла. Во-вторых, потому, что он намеренно забывает мое систематическое решение аскетического вопроса. Я ссылаюсь на все содержание сочинения «Цель и смысл жизни», а вот, в частности, характерная в си-
1) Основы христианства, т IV, стр. 6.
2) Стр. 204—205.
3) Стр. 203.
4) Истина и символы стр. 154 (=Основы христианства, т IV, стр. 129).
312
стематическом отношении страничка 1): «Мир, как область своего князя, противодействует духовной жизни; от его духа христианин предохраняет себя постом и юродством. Иначе как аскетом и юродивым христианин не может быть в мире (это а). Но этот же самый мир состоит из людей, которых христианин призван любить... Вне этой деятельности (любви) в мире христианина нельзя себе и представить (это б). Но юродством и любовью не исчерпываются отношения христианина к миру... Полнота естественного развития составляет для христианина долг»... (это в). Имея в виду эту систему мысли, я получаю для себя право в других местах смотреть на вопрос с той или другой стороны. Так в соч. Истина и символы я выдвигаю только второй пункт. Ну, какой же смысл делать мне возражение, что я слишком узко понимаю аскетизм?!
Вообще все тезисы, которые выдвигает против меня г. Зарин, имеются у меня самого. Напр. он возражает мне: «аскетизм (в широком смысле) принципиально предполагается в христианстве, как средство и способ приобрести и обеспечить себе истинную свободу. Гал. V, 13» и д. 2). У меня: «Христианский пост не есть добродетель, ведущая к совершенству, и не есть заслуга пред Богом: он имеет иные основания. Мы призваны к свободе; только свобода наша не должна быть поводом к угождению плоти Гал. У, 13... Пост необходим христианину потому, что он ограждает духовную жизнь от захватов плоти. Силы для борьбы с обычаями мира сего дает юродство Христа ради» 3)...
В рассматриваемом отношении рецензентские приемы г. Зарина оказываются очень странными. Но это еще не последняя степень фокусничества, до которой доходит г. Зарин.
Он не упускает случая укрепить свою репутацию в глазах сфер кивком на подозрительность моего право-
1) Цель и смысл жизни, 2 изд. стр. 143—144 (В Основах христианства это место не сохранилось)
2) Стр. 203.
3) Цель и смысл жизни 2 изд. 104. 108 (=Основы христианства, т. III, стр. 98. 103)
313
славия. Точное выражение православия—это привилегия таких лиц, как г. Зарин.
И, наконец, г. Зарин окончательно добивает меня констатированием моей литературной несамостоятельности. Он пишет: «Кратко, но верно значение аскетизма в христианстве определяет проф. М. М. Тареев в следующих словах: «Самосохранение духа предполагает его свободу в отношении к телу—умеренность, мужество и проч. Но эти душевно-телесные, или аскетические, добродетели не имеют самостоятельной духовной ценности, а приобретают таковую лишь в религиозном или этическом (альтруистическом) освещении.» Религия и нравственность. Богосл. Вестн. 1904 г. Ноябрь, стр. 895. Но в данном случае проф. следует о. I. Л. Янышеву. Ср. 2-ое издание его лекций (СПб. 1906), стр. 202, где о. I. Л. отмечает сам зависимость от его воззрений М. М. Тареева (примеч. l-ое)» 1).
В течение свыше-15-летней моей литературной деятельности мне пришлось испытать много покушений на мое авторское имя. Но это первый случай, когда мне бросают обвинение в зависимости от чужих воззрений 2). Разберемся.
Прежде всего: действительно ли «о. И. Л. отмечает сам мою зависимость от его воззрений»?
Ничуть не бывало. О. И. Л. Янышев слишком благоразумен и осторожен, чтобы допустить что-нибудь подобное.
О. Янышев, приводя мои слова 3), пишет: «Эта мысль вполне совпадает с моими понятиями». Совпадение мысли— вот все, о чем говорит о. Янышев. Нужно при этом иметь в виду особенности второго издания его книги. Оставляя текст первого издания без перемены, он «в под-
1) Стр. 202, прим. 4.
2) Обвинение в литературной зависимости рецензируемых авторов входит в число излюбленных приемов г. Зарина. Напр. стр. 186: «названные исследования. И В. Попова своим замыслом и общею постановкой вопроса обязаны влиянию весьма интересной книги Голля». Стр. 227 тоже о диссертации С. И. Смирнова.
3) «Единственный принцип нравственности—человек человеку святыня; единственный вид безнравственности убийство в прямом и широком смысле этого слова, грех против своей духовной личности и против чужой жизни». Истина и символы, стр. 118.
314
строчных примечаниях к нему прибавляет не мало ссылок на такие места из нашей богословской и небогословской литературы позднейшего времени, которые имеют ближайшее отношение к тому или другому параграфу его лекций.» Он искал таким путем «оправдания или исправления» своих мнений. Даже «теории Толстого, Ницше и В. С. Соловьева послужили для него оправданием»... Вот по каким скромным мотивам о. Янышев указывает и мою совпадающую с его мнениями мысль.
И вдруг—из этого скромного совпадения г. Зарин делает зависимость. Ну не русский ли это Овидий, пишущий свои мифические метаморфозы?!
Между тем г. Зарин в применении к себе самому хорошо умеет понять и изъяснить предельное значение «совпадения». На двух страницах, непосредственно предшествующих посвященному мне параграфу, он выясняет отношение своей книги к книге проф. К. Д. Попова в пределах совпадения: «Это совсем не значит, что мы пользовались трудом проф. Попова, как справочною книгою... Совпадение же... объясняется просто общностью источников» 1).
Почему же он забывает о таком взаимоотношении сходных по темам трудов в применении ко мне? Или может быть у меня с о. Янышевым констатируется буквальное совпадение? Мы видели выдержки из моей статьи, какие делает сам о. Янышев и г. Зарин. А вот соответствующий текст из книги о. Янышева: «Из удовлетворения нравственного требования владеть и пользоваться телом, а чрез тело и внешнею природою, свободно создаются следующие добродетели или субъективные блага человеческого духа: мудрость, понимаемая как богатство знания... трудолюбие... воздержание... мужество» 2)... Т. е. у меня с о. Янышевым совпадает одно слово мужество (или — пусть уступлю—могли бы совпадать еще) воздержание, благоразумие, мудрость... Совпадение в этом? Говорить о совпадении в указании этих добродетелей—да что это: наглость или невежество?!... Да ведь это добродетели, названные класси-
1) Стр. 196.
2) Стр. 201—202.
315
ческою этикою и составляющие в системах европейской морали такое же общее место, как понятия воплощения, искупления, освящения в христианской догматике.
Но совпадает ли моя мысль с понятиями о. Янышева? Решительно нет. По мнению о. Янышева «аскетические добродетели» суть «субъективные блага» и они «сосредоточиваются в одной, которую можно назвать самоуважением» (достоинство образа Божия). Чтобы «сделать» совпадение, о. Янышев в мои слова прибавляет от себя: «единственный принцип нравственности—человек человеку святыня (следовательно, прибавлю я (о. Янышев) от себя, он и для себя святыня)»... Но о. Янышев слишком поспешно истолковывает мои слова в своем смысле: по моему взгляду, изложенному в статьях IV тома, которые имеет в виду о. Янышев,—аскетические добродетели не имеют самостоятельной духовной ценности, не дают положительного религиозно-этического блага, и нравственность предполагает аскетизм, как гигиену духа и как условие общественной жизни, но нисколько не требует аскетизма, как специфического духовного подвига 1). О. Янышев стоит на точке зрения платоновской этики, а я (в этом сочинении)—аристотелевской. Дистанция громадного размера!.. И вообще моя система ни в чем существенном не совпадает с системою о. протопресвитера Янышева. У нас могут быть общими только термины—нравственность, добродетель, аскетизм, благо 2) и т. д.
Теперь мы приступаем к последнему и важнейшему моменту в «отношениях» г. Зарина к моим сочинениям. Г. Зарин, утверждающий, что у меня нет определенного и точного, даже общего, представления об аскетизме и других, с ним тесно связанных предметах, что у меня нет точного выражения православного учения и что я несамостоятелен в том немногом, что у меня есть хорошего, на самом деле обретает у меня точные и определенные, православные представления об аскетизме, которыми и пользуется в виде и в размерах широкого пла-
1) Истина и символы, стр. 73 (=Основы христианства, IV, 69) и 118.
2) И что у меня действительно, как и у о. Янышева, употребляются эти слова, об этом о. Янышев почему-то счел нужным оповестить своих читателей на стр. 200, 462 и др.
316
гиата. И предварительные старания г. Зарина уверить добродушных читателей (и своего не вполне добродушного официального рецензента) в отсутствии у меня точных православных, самостоятельно выраженных представлений об аскетизме и соприкосновенных предметах является хитро задуманным и ловко выполненным маневром заметания следов. Оказывается, г. Зарин, делая вид, что он знаком лишь с Философией евангельской истории и с статьей Дух и плоть и что он понятия не имеет о сочинениях, вошедших в Христианское Мировоззрение (т. е. Цель и смысл жизни и Искушения Христа),—близко знаком с этими сочинениями, в которых у меня аскетизм поставлен «в связь с цельным христианским мировоззрением». И любопытно — в приложенном к концу первой книги перечне «сочинений, имеющих отдаленное отношение к вопросу об аскетизме», г. Зарин упоминает мои книги Уничижение Христа и Искушения Христа, но называет последнюю книгу во втором издании (1900 г.), чем уже настойчиво внушает мысль, что первое издание Искушений Христа и равно Цель и смысл жизни не имеют даже отдаленного отношения к его исследованию и что он, может быть, и не видал этих книг. Между тем...
Но пусть говорят факты, которые мы почерпаем из второй книги г. Зарина.
|
На стр. 11 у г. Зарина читаем: |
У меня Искушения Богочеловека стр. 319: |
|
Святоотеческое учение с нарочитою обстоятельностью и особенною углубленностью раскрывает ту библейскую мысль, что автономия для человека по отношению к Богу безусловно невозможна, так как самое бытие его и условия его жизни необходимо (т. е. нравственно, идеально-необходимо) определены отношением к нему Божества, не только как Первопричины всего, но и, что особенно важно, как |
Бог, первая Причина и последняя цель всего существующего, есть единый истинный Господь славы и этим должно определяться отношение к Нему человечества. Автономия для человека безусловно невозможна, самое его бытие и условия его жизни уже определены отношением к нему Божества как первопричины всего, а потому единственно ра- |
317
|
Первообраза духовной природы человека. |
зумная цель его свободной деятельности только в Боге. |
Уж это, г. Зарин, не простое совпадение, а чистый плагиат. Но примечательно, что этот самый школьнический плагиат г. Зарин предваряет ссылкой на авторитет «святоотеческого учения и библейской мысли» и на характер «нарочитой обстоятельности и особенной углубленности»... После этого мы уже будем знать цену «твердейшего библейского и святоотеческого основания» в исследовании г. Зарина. Замечу также, что это место я причисляю к разряду неудачных тезисов в моем первом литературном произведении, не удержанных уже ни во втором, ни в третьем издании Искушений Христа. Но г. Зарин «дареному коню в зубы не смотрит».
|
У Зарина стр. 226: |
У меня ibid. стр. 27: |
|
Человек заключил собою постепенную лестницу Божия творения на земле не как последний в ряду других тварей, а как конечная цель всего предшествовавшего ему творения; именно в нем был заключен смысл всего творения мира. Следовательно, отношение человека ко всему миру «внутренне органическое. |
Человек заключил собою творение Божие не как последней в ряду других тварей, а как цель предшествовавшего ему творения. ...Его отношение ко всему миру не внешне-механическое, а внутренне - органическое; в нем был заключен смысл всего мирового творения... |
К этой выдержке г. Зарин особенно усердно подставляет множество святоотеческих цитат.
И так далее: из Искушений Богочеловека г. Зарин заимствует более, чем из других моих книг. Не оставляет он своим вниманием и 2-е издание Искушений Христа. Так
|
у г. Зарина стр. 217—218: |
у меня стр. 122—124 (Основы христианства, т. III, стр. 244—246): |
|
Не трудно видеть, что подчинение греховной страсти, так называемое „обольщение“ ею (ἀπάτη), представляющее со- |
Обольщение греховною сладостью представляет собою самый общий вид искушений греховного человека. Но оно |
318
|
бою самый обычный, характерный вид отношений греховного человека к страсти, еще далеко не выражает всей силы действия греховного зла в природе человека, как ни странным это может представляться на первый взгляд 1). Яснее, полнее и определеннее эта сила греховной страсти открывается самосознанию человека именно при борьбе человека со злом,—и чем сильнее противодействует ему воля человека, тем рельефнее, осязательнее проявляется и господствующая в человеке сила зла. Вот почему всю тяжесть искушений испытывают совсем не те люди, которые обычно живут в стихии греха, а напротив,— именно люди, поставившие своею целью сопротивление страстям, подавление похотей,— питающие к ним внутреннее отвращение. Конечно, следует признать, что в той или другой степени борьба со страстями имеет место почти у всех людей... Однако эта борьба носит обычно частичный, неполный характер, не позволяющий психическому феномену, известному под именем страсти, проявить всех своих специфических, наиболее ха- |
еще не выражает всей силы действия греха через зло. Полнее эта сила открывается при борьбе со злом,—по закону: действе равно противодействию. Обольщение предполагает сочувствие воле злу. Чем полнее действует обольщение, тем полнее это сочувствие, тем менее противодействия, тем менее силы проявляет зло. Напротив, чем сильнее противодействие, тем более силы зла проявляется, тем сильнее искушение. Известно, что люди, преданные страстям и похотям, почти не испытывают искушений, как борьбы, и греху, говоря образно, нужно слишком мало усилия, чтобы овладеть ими; тяжесть искушений, или страдание в искушениях, испытывают скорее праведники, т. е. вообще сопротивляющиеся похотям и страстям и, тем более, питающие к ним отвращение. Борьба со злом имеет различные виды: она бывает или противлением похоти и страстям, по каким-либо расчетам, по требованию нравственного закона, или же скорбью от страстей при наличном отвращении |
1) «Странный взгляд»: поразительное признание со стороны г. Зарина!
319
|
рактерных особенностей. Эта борьба обычному самосознанию человека представляется борьбой между различными естественными, природными стремлениями, которые иногда кажутся даже равноценными, имеющими едва-ли не одинаковое право на свое удовлетворение... В таких случаях борьба со страстями не может быть полною, решительною уже по тому одному, что сама воля человека как-бы колеблется неустойчиво в ту и другую сторону, раздвояется, частью склоняясь в пользу удовлетворения страсти, следовательно, на ее сторону, частью же сопротивляясь ее обольстительному натиску. Полная борьба со страстями открывается и осуществляется в человеке тогда, и только тогда, когда в нем образуется решительное отвращение к страстям, как таким явлениям, которые по своему настоящему содержанию и подлинному характеру являются безусловно чуждыми истинным, подлинным, а не извращенным потребностям и запросам человека,—как состояниям, враждебным самой идеальной природе человека, до некоторой степени даже как бы объективно данным для его самосознательной воли... На высших ступенях религиозно-нравственного раз- |
к ним. Уже самое обольщение-вмещает в себе борьбу. Но эта борьба, по определению св. Ефрема Сириянина, есть противление помысла, клонящееся или к истреблению страсти в помысле, или к соизволению на страстный помысл... Это есть борьба в области самой природы человека, борьба между ее различными природными стремлениями. Хотя в ней принимает участие воля, но все-же она действует как природное начало, а не в качестве начала лично-разумного, контролирующего самосознанием самого себя, возвышающегося над природою и объективирующего ее. При борьбе в области обольщения сама воля раздвояется, частью соизволяя на пожелание, частью ему противляясь. И при этой борьбе имеет место сочувствие злу. Это—частичная борьба. Полная борьба открывается с заменою обольщения отвращением к страстям и похотям, как объективно данным для сознательной воли человека. Тогда зло действует на человека скорбями: это скорби от страстей, по аскетическому выражению. Уже язык человеческий в самом именовании стра- |
320
|
вития уже простой позыв к совершению злого дела, исходящий из периферий человеческой природы, одно, так называемое, приражение страсти сознается и чувствуется, как величайшее страдание, мученичество. Таким образом древние христианские подвижники пережили все действительные и возможные ступени подавления и искоренения из своей природы страстей, фактически самым полным образом вынесли и испытали всю силу и остроту борьбы с ними во всех ее перипетиях, оттенках и осложнениях, при разнообразных формах проявления страстей, на всех ступенях их развития, начиная с обольщения страстью и кончая скорбью от страсти. |
сти указывает страдание. ...Тем более при высшем развитии нравственно-религиозного сознания, когда человек объективирует свою природу, противополагая себе ее, как объективно-данное условие своей самодеятельности, всякая страсть — самое влечение страсти — является для него всецело страданием... Отличительная, особенность этого страдания состоит в том, что оно воспринимается не столько чувством, сколько свободною волею, что оно существует в качестве ограничения воли,— и в этом именно качестве оно называется на языке аскетической письменности скорбью от страстей и т. д. |
После такой продолжительной экскурсии в область моих сочинений, г. Зарин считает уместным торжественно заявить о «важном историческом смысле анализа аскетического учения о страстях, о его глубоком психологическом и важном богословском значении в деле раскрытия существенных основ нравственного учения об аскетизме, для выяснения подлинного смысла последнего в религиозно-нравственном, принципиальном и антропологическом отношениях»...
Из приведенного отрывка видно, между прочим, как г. Зарин исполняет свою задачу «разбавления водою» заимствуемых мест. Где у меня стоит «отвращение», там Зарин пишет «внутреннее отвращение», вместо «природные стремления» пишет «естественные, природные стремления» и т. п.
Оказывает г. Зарин внимание и Философии евангельской истории.
321
|
У Зарина стр. 82: |
Ф-ия ев. ист. стр. 24: |
|
Жизнь Иисуса Христа была истинною, божественною, духовною вечною жизнью; Он открыл миру эту жизнь, сделался „начальником и совершителем“ истинной, духовной жизни людей. |
Жизнь Иисуса Христа есть истинная, божественная, духовная вечная жизнь... Он открыл миру эту жизнь, сделался начальником и совершителем духовной жизни христиан. |
|
Стр. 364: |
Стр. 53: |
|
При этом любовь Христа, во имя которой Он положил душу Свою за друзей, не была только нравственною силою, но она имела религиозно-объективное значение,—она была откровением любви Отца, откровением Его существа. |
Поэтому Его любовь, во имя которой Он положил душу Свою за друзей, не была только нравственною силою, но она имела религиозно-объективное значение, она была откровением любви Отца, откровением Его существа |
После этой выдержки г. Зарин ставит цитату: «Ср. Н. И. Сагарда. цит. соч. стр. 516: фактически совершенное Христом пожертвование Своей жизни для блага человечества нашему познанию является как объективное представление того, что есть любовь в собственном смысле». Эти слова г. Сагарды нисколько не напоминают той выдержки, и однако г. Зарин спешит написать: «сравни». Какая щепетильность! Он лишь не показывает, откуда на самом деле взяты эти слова. Фальшивая цитата служит у г. Зарина одним из многих приемов заметания следов. К этому приему он прибегает нередко. Г. Зарин не брезгует ничем.
|
Стр. 12: |
Стр. 32: |
|
Человек имеет в Боге основу не только своего физического существования, органической жизни, но, что особенно важно, также и своей нравственной природы. |
Человек в Боге имеет основу как своего физического существования, так и своей нравственной природы. |
Но довольно. Не могу больше злоупотреблять гостеприимством Богословского Вестника. Ведь если мне выписать
322
сейчас все взятые у меня г. Зариным части моих сочинений, то пришлось бы заполнить несколько десятков страниц...
Я скажу более того. Помимо буквальных заимствований у меня более или менее значительных частей, г. Зарин зависит от моих сочинений и в смысле решения принципиальных вопросов своей книги. Почти все основные пункты принципиальной стороны дела он раскрывает в смысле моей богословской системы, хотя в своем изложении он каждый тезис до такой степени разбавляет озерами пресной воды, так утомительно тягуча, бесконечно растянута его речь, что постоянно стираются краски определенного мировоззрения и все наклоняется к избитым истинам. Во всех его рассуждениях о творении, грехопадении, спасении, вечной жизни, христианской любви, смирении—я не могу не узнавать своих воззрений. Я не знаю у него почти ни одной страницы принципиального характера, которая не напоминала бы моих книг. Напр. у Зарина стр. 23: «Никакая достигнутая человеком ступень религиозно-нравственного совершенства, как бы она ни была высока, не может и не должна считаться окончательною, верховною, достаточною, так что на ней можно было бы остановиться». Искушения Богочеловека стр. 24: «Истинная жизнь человека не имеет предела, когда бы она могла остановиться»... У Зарина 221: человек познает свою противоположность Богу и, вместо самоотречения, пожелал осуществить свое безусловное достоинство именно в своей тварной, ограниченной, эмпирической наличности. У меня стр. 35 (и предшествующие), кончая словами: пожелал утвердить божественное достоинство в своей ограниченной исключительности. У Зарина 28: грех человеческого самоутверждения поставил Божество во внешние отношения к человеку... 222: Бог представился ему теперь не любящим Отцом, но завистливо оберегающим Свои преимущества... У меня 88 и 39: удаление Бога как любящего Отца... внешнее отношение Бога к нему... завидующим ему... И т. д. и т. д. 1).
1) Я должен сознаться, что привык встречать плагиаторское отношение к своим сочинениям. (Пример из самого недавнего времени: в только-что вышедшей книжке г. Николина Что такое нравственность
323
Так как я рассмотрел «отношение» г. Зарина к моим сочинениям лишь в качестве примера его отношений к пособиям, то я считаю нужным в заключение добавить, что г. Зарин многое берет из очень многих пособий. Если это потребуется, я это легко докажу 1).
многие страницы буквально взяты из моих книг без кавычек и без цитации: так стр. 54, 55, 59 взяты из Цель и смысл жизни, 2 изд. стр. 42—43.—стр. 64. 65, 85 из Истина и символы 92. 93. 130. 132). Я не удивляюсь этому, так как мои сочинения имеют своим предметом не внешнее обсуждение богословских фактов, а раскрытие чистой богословской идеи. Отсюда естественно возникает соблазн у того или другого—высказать взятый у меня тезис от себя, выдать его за свой. Ведь если какое-нибудь исследование доказывает, что такое-то церковно-историческое событие имело место в таком-то году, или что такое-то древнее сочинение принадлежит такому-то отцу церкви, то нельзя кому-нибудь тот или другой тезис мимоходом выдать за свой, ибо здесь необходима ссылка на всю аргументацию ученого исследования. Но любой из моих тезисов, напр. «стремление к личному обладанию нравственным абсолютным совершенством» есть зло (у Николина стр. 54) почему кому-либо не выдать за свой? Да иной прямо самого себя уверит, что это его слова, хотя «странность» (новизна) взгляда требовала бы нарочитой отметы.. Но я не могу не возмущаться теми случаями плагиата, когда мое имя или намеренно затушевывается или даже произносится с явным неодобрением. Я испытываю крайнее негодование, когда богословы, черпающие из моих колодцев, ревностно бросают в меня грязью. Это не редкость. Напр. какой-то Глебов, писавший о воскресении Христа, «относится» к XI главе моей «Философии евангельской истории» совершенно так же, как Зарин к моим сочинениям, и также вводит в заблуждение своего официального рецензента. Или—в Трудах Киевской д. акад. (1907 июнь) некто, рассуждая об искушениях Христа, не вспоминает ни одним добрым словом меня, столь много потрудившегося над этим вопросом,—направляет все свои рассуждения против меня, не забывая и «разрушения церковного учения о лице Иисуса Христа», и в заключение поучает, что искушения Христа были «подвигом Его самоуничижения». Это против меня-то, хотя именно я поставил «Уничижение Христа» во главу своей религиозной системы, и из этой именно идеи последовательно и настойчиво объясняю искушения Христа.. Но всех превосходит в этом отношении г. Зарин.. И не могу не вопиять, что терпеть это выше человеческих сил! Одною рукою бросают в тебя грязью, а другою у тебя же обильно черпают,—доносят на твое неправославие, а свое православие выражают твоими же словами!.
1) В одном отношении ч лично могу быть благодарен г. Зарину. Сделав выписки из моих сочинений на многих десятках страниц, он почти к каждой выдержке подыскивает многочисленные святоотеческие цитаты, и тем неопровержимо доказывает близость этих выдержек к святоотеческому учению.
324
Итак, на первый из поставленных вопросов об отношении г. Зарина к пособиям я отвечаю: он отнесся к пособиям необыкновенно внимательно, но крайне недобросовестно.
Теперь перейду ко второму из намеченных пунктов.
III.
Поведем теперь речь о принципиальной стороне в исследовании г. Зарина.
Вопрос о принципах богословия заслуживает того, чтобы на нем остановиться несколько подробнее.
Мы сначала пересмотрим те требования с этой стороны, которые предъявляет к другим г. Зарин.
На стр. 63 (1 кн.) мы читаем: «Взгляд Ф. Ф. Гусева представляет собою систематическое развитие мыслей, действительно высказывавшихся некоторыми аскетами... Но вопрос в том, верен ли этот взгляд принципиально, представляет ли он в себе изображение нормативного положения дела со стороны своих оснований и последствий».
Эти слова очень знаменательны (хотя, конечно, не новы). Одно то, что у того или другого церковного отца, учителя, аскета, или у некоторых из них высказывается какой-либо взгляд,—еще не имеет решающего значения. Об этом взгляде еще возможно принципиальное суждение,— обсуждение его с нормативной точки зрения. Такое, т. е. принципиальное обсуждение оказывается решительно неизбежным в виду того, что в обширной святоотеческой письменности могут быть по одному и тому же вопросу разные до противоположности взгляды. Так существование «двух основных течений в православной аскетике и мистике не подлежит никакому сомнению» (стр. 89 след.) Можно говорить о мнении некоторых и об учении большинства (стр. 103. 105. 139. 310). Не далека опасность одностороннего, вне контекстуального смысла и общего духа, истолкования тех или других святоотеческих мыслей (143). Необходимо иметь в виду важный фактор в развитии церковного учения—влияние языческой философии, и всегда следует давать себе ясный отчет, что церковными учителями взято из Св. Писания, что заимствовано ими из философии и что они привнесли от себя (122. 137). И то
325
имеет немаловажное значение, что церковное учение развивалось по эпохам, из которых каждая имеет свои специфические особенности (124). Наконец, и у каждого отца, или аскета, нужно предположить свое стройное мировоззрение, которое и дает безошибочный критерий для оценки отдельных мыслей или действий их (ср. 309—309). Итак, все говорит за то, что в вопросах церковного учения самое важное значение имеет принципиальная точка зрения. Но в чем же принципы христианского богословия? У г. Зарина по этому вопросу встречаются следующие намеки. Принципиальное значение для христианского богословия имеет, прежде всего, евангельское учение, евангельская точка зрения по тому или другому пункту. Нужно принять во внимание, что «одним из знамений нашего времени непременно следует признать то особое направление богословской науки, которое стремится показать необходимую связь и генетическую зависимость тех или иных положений от данных Откровения, как высшего критерия и основного источника богословствования. На Западе такое направление науки выразилось в развитии, процветании и особом предпочтении так называемого «библейского богословия». Потребности и запросы общества в этом направлении не подлежат сомнению,—они осязательно и рельефно выражаются также и у нас»... «Специальное изложение учения Спасителя» по тому или другому вопросу «освобождает богословские труды от односторонностей и крайностей» (124). При этом нужно обратить внимание на то, что библейское учение требует именно специального изложения,—было бы ложным методом представлять данные Откровения «в том понимании и освещении, которое ему придавали св. отцы и аскеты» (123). Далее—принципиальное значение имеет систематическая точка зрения на предмет. Так, учение об аскетизме необходимо построят на «общих основоположениях христианства», в связи с цельным христианским мировоззрением, и ближе всего в связи с христианским учением о спасении. Принципиальная точка зрения в вопросах аскетизма есть не что иное, как точка зрения святоотеческого учения о спасении (151)... А учение о спасении получает принципиальное значение в силу того, что оно дает пункт, с которого обозревается все христианское уче-
326
ние, ибо «учение о спасении, будучи центральным пунктом богословия догматического, оказывается исходным началом богословской этики, тем основанием, на котором зиждется все православное нравоучение (2-я кн. стр. 3). Оказывается также, что «попытка систематического обобщения различных видов исторического аскетизма не имеет важного значения для нашей цели, так как имея дело собственно с православно-христианскою системою аскетизма, с аскетическим принципиальным мировоззрением, мы устанавливаем свою специальную точку зрения, где каждый из видов аскетизма получает принадлежащее ему место и оценку в процессе христианского религиозно-нравственного усовершенствования» (l-я кн. стр. 289). Отсюда православное учение объединяет разные пути богообщения, открывшиеся в истории святоотеческого учения и аскетической практики, так что «нормативным требованием христианства оказывается целостно-гармоническое» объединение разных церковно-исторических начал (104).
Тут не все ясно и последовательно. Однако здесь сказано достаточно, чтобы видеть, на какой ступени стоит труд г. Зарина.
Так о библейской точке зрения по вопросу об аскетизме, о библейском учении, в его своеобразном виде, в его специфических особенностях, г. Зарин не имеет никакого понятия. У него именно «данные Откровения—последовательно и настойчиво—представляются в святоотеческом и аскетическом понимании и освещении». На всем протяжении своего обширного «опыта систематического раскрытия вопроса» аскетического—он грубо топчет принципы библейского богословия, ни разу он не поднимается на высоту этой науки. Это прежде всего со стороны формальной: мы не находим здесь самой мысли о своеобразном виде, об историческом облике евангельского учения. Со стороны содержания в частном вопросе об аскетизме евангельская точка зрения, между прочим, не признает аскетизма как особого рода религиозно-нравственной жизни, не признает более пригодным для достижения царства Божия путь безбрачия и свободы от родственных связей 1). И
1) За подробностями отсылаю ко II тому «Основы христианства» (Евангелие—вера и жизнь по евангелию).
327
когда г. Зарин в основу своей системы кладет мысль, что «православие считает аскетизм общехристианскою обязанностью, осуществляемою в различных формах», причем «монашество считается формою религиозно-нравственной жизни, наиболее приспособленною для осуществления аскетизма» 1), то он стоит на точке зрения никак не евангельской. Его «аскетическое принципиальное мировоззрение» не есть евангельское мировоззрение.
Не зная научно евангелия, не стоя на высоте библейско-научной точки зрения на аскетизм, г. Зарин не относится научно-критически и к церковно-историческому аскетическому мировоззрению. Т. е. он не ставит вопросов о том, под какими условиями евангельское мировоззрение стало церковно-историческим аскетическим мировоззрением, по каким ступеням последнее развивалось и в какие типы оно выливалось. Ничего этого не хочет знать г. Зарин, он просто систематизирует библейско-святоотеческие взгляды на аскетизм, объединяя разные церковно-исторические начала.
Поэтому труд г. Зарина не имеет никакого научно-критического значения. Справедливость требует сказать, что автор не ставил своею задачею дать такое сочинение, в котором «сначала были бы уяснены и раскрыты аскетические воззрения отдельных, наиболее видных и характерных представителей аскетической письменности, и уже после этого, в виде итога, как вывод из всех предшествовавших исследований, было предложено научное, систематическое изложение православного учения» 2). Автор ясно ставит себе задачу не критико-историческую, а систематическую. И не будем предъявлять ему требований, выходящих за пределы его обещаний... Мы этого и не делаем. Не в том дело, что г. Зарин не ставит себе критико-исторической задачи, а в том, что он не стоит на высоте критико-исторической науки, совершенно не считается с ее выводами. Ведь есть аскетизм, аскетизм и аскетизм. Есть евангельский аскетизм, есть церковно-исторический аскетизм, есть этико-гуманитарный аскетизм..
1) 2-я кн. стр. XV.
2) Кн. 1-я стр. XXV.
328
и нет просто аскетизма. Нельзя просто сказать «аскетизм», но нужно каждый раз добавлять определительное слово. Нельзя избежать слова аскетизм в евангельском учении, необходимо оно в христианском мировоззрении, уместно и в гуманитарной этике, но везде оно имеет свой смысл. Зарин же (оставаясь в этом случае верным традициям средней духовной школы и старого схоластического богословия) понимает систему христианской мысли в том смысле, что он все сваливает в одну кучу... У А. Блока в его «Балаганчике» выводится красивая девушка, у которой «за плечами лежит заплетенная коса». В то время как Пьеро в восторге от красоты девушки и от ее косы, мистикам эта коса представляется косою смерти... Но ведь это Балаганчик. А вот г. Зарин, с серьезным видом, нераздельно употребляет разные значения слова аскетизм. И не только сам это делает, но и поступающих иначе осуждает. Все его рецензентские суждения представляют из себя балаганную игру, состоящую в смешении разных значений слова. Он упорно знать не хочет, что одно разумеется над словом «быки», когда говорится о стаде, и другое, когда идет речь о мостах...
Система г. Зарина идет в разрез с критико-историческим принципом; она служит у него механическим сведением под одни рубрики разнородного материала.
Критико-исторический метод отношения к материалу составляет одну сторону, только отрицательное условие систематической богословской работы; положительным, зиждущим началом ее служит интуитивное начало, лично-творческое. Последнее также решительно отсутствует в работе г. Зарина, и это обосновывает наш последний приговор над нею: это жалкая, нищенская работа, не имеющая никакого значения.
Мы уже говорили, что более или менее устойчивую ценность в богословской области имеют труды или чисто исторические, излагающие объективную правду, или же такие, содержанием которых является религиозное мышление, личное богословское творчество. Нужно согласиться, что чисто-историческому, объективному исследованию доступна в истории христианской религии лишь сторона внешняя, анекдотическая, символическая. Хронология, история храмов,
329
обычаев, учреждений, всяких памятников. В христианско-церковном учении этим путем можно установить внешнюю рамку его, историю слов и формул. Что же касается содержания учения, то к нему с нашей стороны чисто-объективное отношение невозможно. Тут сохраняют силу бессмертные слова Штрауса. «Часто, пишет он, выдвигается вперед свободомыслящими богословами претензия преследовать только чисто-исторический интерес. Я считаю это невозможным й не мог бы одобрить это, если бы оно оказалось возможным. Когда пишут о властителях Ниневии или о фараонах египетских, то можно руководствоваться только историческим интересом; но христианство настолько живая сила, и вопрос о его началах заключает столь важные последствия для самого непосредственно-настоящего, что следовало бы жалеть о тупоумии критиков, которые стремятся найти в этих вопросах чисто-исторический интерес». Чисто-историческое познание остается на долю тех сторон прошлого в христианской истории, которые не имеют богословского интереса. Церковная история этим не вырывается у богословского познания, так как научное богословие немыслимо без историко-критического базиса. Но в том непререкаемая истина, что религиозно-историческое исследование может иметь лично-религиозную ценность, что в исторической форме можно изложить субъективное воззрение. Во всяком случае никакое мировоззрение, даже исторически пережитое, не может быть изложено без субъективной базы, и только в субъективных элементах мировоззрения, в единстве авторской личности, дана последняя основа для возможного объединения исторического материала.
В книге г. Зарина по этим вопросам мы находим такую бездну непреоборимой наивности, которая прячется лишь под толстым слоем самодовольства. По его мнению, «самое существо богословского учения православной церкви вовсе не таково, чтобы оно для своего точного раскрытия требовало непременно математической полноты изучения всех выразителей и представителей православного мировоззрения — Свв. Отцов и Учителей Церкви. Общий смысл православного учения достаточно уясняется и из точного изучения писаний только наиболее выдающихся Свв.
330
Отцов Церкви». Для г. Зарина весь вопрос—в количестве изученных святоотеческих творений, а идеал—математическая точность изучения (=5000 страниц). О личном базисе системы даже не упоминается. В деле системы христианская этика идет будто одним путем с догматикой 1)
Но именно между этикой и догматикой в этом отношении существует большое различие. Уже из катехизиса известно, что христианское догматическое учение заключено церковью в точные формулы, которые служат надежным остовом в построении христианско-церковного учения. Даже в трудах церковно-историко-догматического характера эти формулы служат началом, объединяющим церковно-исторический материал. Оценка последнего с точки зрения последующих (или предшествующих) формул придает этого рода трудам догматико-апологетический вид. Можно спорить о научной силе этого метода оценки, но не подлежит сомнению его апологетическая ценность 2).
Иное дело в этике. Правда и в богословской этике есть некоторые положения, сводящиеся в сущности к догматическим формулам,—которые неизбежны у каждого представителя христианско-этического мировоззрения. Однако наиболее важное в этой области выступает за грани догматических формул и общих положений, поскольку оно относится к интимным переживаниям и личной мысли. Если в области догматической ценное совпадает с общим, с тем, что повсюду, всегда, всеми признается,—то в области христианско-этического миросозерцания наиболее ценным является живое, интимное, индивидуальное. Поэтому и богословское познание здесь носит особые черты. Здесь беспорядочный хаос исторически-пережитого может быть побежден, во-первых, отысканием в историческом потоке наиболее высокого момента и, во-вторых, личной правдой, интимным опытом, причем, очевидно, должно быть полное соответствие и взаимная зависимость между исторически-наивысшим моментом и ин-
1) Кн. 1-я стр. XXVI.
2) Я могу указать на недавний труд проф. А. А. Спасского, который в свою Историю догматических движений непрерывно вносит богословскую оценку. См. стр. 15. 52. 115. 281. 498. 511. 512. 522 и др.
331
тимным переживанием. Самым счастливым опытом христианской мысли нужно назвать тот, при котором личный опыт автора ведет к признанию наивысшей исторической ценности за евангельским словом, что, однако не всегда бывает, так как личные симпатии могут наклонять сердце и изощрять познание в сторону церковно-исторического (символически-аскетического) мировоззрения, какого-либо периода его, какого-нибудь представителя его. И -с евангельско-личной точки зрения возможна положительная оценка церковно-исторического миросозерцания, хотя тут неизбежна историческая и личная критика, так что будет на лицо указание в церковно-историческом наиболее важного и постоянного, возведение его к евангельской высоте и освобождение от исторически-условных односторонностей. Но прямо нужно объявить невозможным механическую систематизацию того, что пережито и передумано на протяжении многих веков, под разными изменявшимися условиями, и всегда выливалось в индивидуально-закругленные формы мировоззрения, которые требуют к себе всесторонне-внимательного отношения. Тут уместны история христианского-этического развития и монографическая характеристика его представителей. Механическая же систематизация возможна лишь на низкой ступени общих бесцветных тезисов. И только личное освещение может поднять систематизатора над этою ступенью.
Г. Зарин обнаружил решительную неспособность свою понять значение личного элемента в деле богословской систематизации. Это открывается и в критической части его труда, и в систематической. Оказывается, что большинство из пособий, бывших у него под руками, стоит на высоте лично-религиозного творчества, религиозно-философского мышления. Таковы труды еп. Феофана, А. Ф. Гусева, Ф. Ф. Гусева и т. д. Со всех сторон г. Зарин получал настойчивые предупреждения, ценные указания. Он имел достойнейших руководителей. И гонимый бесом мелкого тщеславия и волнами поверхностного мышления, он пренебрег этими предупреждениями и указаниями, прошел мимо всех этих ценных опытов. Отошел от них с тем же, с чем и приступил к ним—с неуязвимым самомнением. Как он не поразился легкостью своей кри-
332
тики, легкостью своих побед! И если для него так очевидна непрочность всех этих опытов, стоило ли ему посвящать им целую книгу?.. Вообще наша богословская критика стоит очень низко: мелочная, придирчивая, недобросовестная. И все-же г. Зарин превзойдет своим легкомыслием многих других... Он, видите ли, не подозревая цельности того или другого миросозерцания, с воздушною легкостью доказывает односторонность одного, другого, третьего, четвертого авторов. Знаете, как мы привыкли разносить католичество и протестантство: против католических положений выставляем протестантские, против протестантских католические. Критика легкая, но ведь католичество есть цельная и стройная система, и протестантство—цельная и стройная система, а чего наше православное богословие достигает механическим соединением католичества и протестантства? Ни католичество, ни протестантство не исчерпываются теми тезисами и отрывками, которые захватываются такою критикой: они остаются, в своей органической стройности, за пределом ее. Так и г. Зарин (например) против А. Ф. Гусева, который стоит за деятельное христианство, выставляет Ф. Ф. Гусева, у которого выступает созерцательная религиозность, и обратно. Против каждого он выставляет одну и ту же формулу: «да, у некоторых отцов-аскетов такие мысли есть, это один из типов аскетизма, но у других отцов есть другие мысли»... Для себя же он идеалом ставит объединение того и другого типа. Он не постигает того, что А. Ф. Гусев, как живая нравственная личность, отразился в своих трудах, и Ф. Ф. Гусев, как живой, сказался в своей книге, и еп. Феофан, и проф., Пономарев и проч. А объединение, о котором мечтает г. Зарин, припахивает мертвечинкой,—и сам г. Зарин сумел не дать ни одного штриха своего личного мировоззрения. Его труд без души, его этико-богословское исследование не имеет печати личности человеческой, печати Божьего дара. Его сочинение стоит ниже в этом отношении почти всех трудов, которые он так высокомерно обсуждает. Ни в ком он не усмотрел образа Божия, не подслушал живого биения человеческой души, личных надежд, личных устремлений. Для него существуют лишь мертвые слова. С страш-
333
ным упорством он расчленяет системы на фразы, изречения, слова, и твердит, твердит, твердит одно и то же: эта фраза неверна, это изречение неточно, это слово неясно. Ни разу он не поднялся до того, чтобы взглянуть в душу рецензируемых авторов, окинуть взором целое той или другой религиозной системы, того или другого мировоззрения...
Я уже сказал, что богословские работы с характером религиозного мышления, личного религиозного миросозерцания, нашею средою не принимаются, не признаются, встречаются здесь с самодовольным презрением здравого смысла. О. протопресвитер Янышев, книгу которого я теперь, по указанию г. Зарина, внимательно прочитал, посвящает мне на стр. 200 следующие строки (в примечании). «В статье г. М. М. Тареева «Цель и смысл жизни» говорится: «христианин не может быть в мире иначе, как аскетом и юродивым». Без аскетизма, добавляет от себя о. протопресвитер, духовная жизнь, конечно, невозможна... но к чему же тут юродство? А между тем на следующей странице мимоходом тем же автором ясно высказывается и такая, вполне здравая мысль: «призвание христианина—проявить духовную божественную жизнь в полноте естественной жизни»... О. протопресвитер Янышев считает меня способным хотя-бы мимоходом высказывать здравые мысли,—и, вот, моя идея христианского юродства кажется ему такою колоссальною, невероятною нелепостью, что он удивляется, как я, все-таки проявляющий проблески здравого смысла, мог высказать такую идею... Благосклонный читатель! кто бы ты ни был, ты понимаешь, что литературное слово в наше время служит наиболее яркою формою исповедания. Многие стороны души, не умещаясь в узких рамках житейской практики, могут открыться только в форме литературного слова. Ненависть и презрение ко всякому человеку, любовь ко всем людям, крайний позор нравственного падения, последняя высота религиозного восторга, героическое смирение и дерзновенная гордость—могут адекватно сказаться не в деле, а в слове. И когда говоришь о юродстве, ведь это значит— надеваешь на себя рубище и идешь в нем пред глазами мира, обнажаешь душу свою, открываешь пред всеми
334
свое сердце... И несется тебе ответ со стороны присяжного богословия: противоречив здравому смыслу, нелепость!.. Но при чем же тут здравый смысл? Ведь это душа сказалась, настроение сказалось, живая правда тут... Но нет места живой правде там, где безраздельно царит здравый смысл. Такое отношение к своим религиозным идеям, к своей религиозной системе я встречал не раз 1). На этой же низкой ступени религиозной критики стоит и г. Зарин. Он приводит мои слова: «Евангелие нельзя проповедовать детям, потому что это значило бы внушать им ненависть к отцу и матери, а это было бы полною нелепостью»,—и добавляет от себя: «такою же нелепостью, какою было бы внушать детям отсечь правую руку, вырвать правый глаз и т. п. Но таких нелепостей, т. е. внушать буквальное понимание евангельских слов, забывая все правила для понимания священного текста,—не следует внушать и взрослым» 2)...
Любит г. Зарин поучать. Но поверьте, г. Зарин, религиозная проблема пошире тесной области экзегетических правил,
...Решительное пренебрежение к личному началу богословской систематизации приводит г. Зарина к печальным следствиям и в опыте собственной системы. Здесь мы наблюдаем неудержимое стремление сказать все обо всем, соединить все святоотеческие мысли, все начала, все типы. Но, конечно, до конца этого стремления провести невозможно: механический конгломерат всего и обо всем поражал бы своим диким видом и самый невзыскательный взгляд. И г. Зарин «неволей» прибег к единственному, остававшемуся ему, выходу: к плагиату. Всю принципиальную часть он взял из чужих рук...
1) Так отзыв свящ, Светлова (Бог. Вест. 1902, май, стр. 56) о наиболее оригинальных частях моей книги «Цель и смысл жизни» (от которых «чем-то новым и свежим веет») проникнут ограниченным самодовольством и дикою нетерпимостью. Впрочем, этот озлобленный богослов все силы свои неутомимо тратит на мелочные счеты с своими коллегами.
2) Кн. 1-я стр. 204 Т. е у меня в муках сердечных ставится христианская проблема, а г. Зарин самую муку моего сердца, самую проблему мою называет нелепостью.
335
IV.
Сочинение г. Зарина наводит на некоторые нерадостные размышления о положении, которое занимает в нашей литературе религиозная мысль. Мы начали нашу статью тем наблюдением, что тесная область богословской науки и, в частности, религиозная мысль стиснута болотистым мелколесьем богословской публицистики. Целый сонм фиглярствующих писак, кривляющихся пред базарною публикою, забавляет ее разыгрыванием ролей Савонарол и Брандов, ломается пред нею с своими дневниками, исповедями. Но оказывается, и в тесной области богословской науки религиозная мысль имеет против себя воинственную богословскую схоластику—в двух видах: в виде безличной церковно-исторической археологистики и в виде схоластической систематики.
Религиозная философия—это современная мученица. Она страдает уже от того, что ее заливает вонючая волна публицистической, вульгарной фальсификации. Она страдает от цензуры—общей, специальной для ученых богословских трудов и добровольной цензуры рецензентов и до носчиков, действующих подобно «неким от Иакова». Она страдает от цензуры несравненно более других отделов богословия, потому что в вопросах религиозной мысли каждый считает себя компетентным, и не принято здесь сообразовываться с научными данными... Однако все это было бы терпимо, если бы наша богословская наука давала в своей собственной сфере убежище для религиозной мысли. Но богословская наука хочет быть царством внешней учености и не хочет дать места для религиозной мысли. Религиозная философия отличается от публицистики тем, что она опирается на критико-историческую науку, но сама богословская ученость отвертывается от религиозной философии. Мы видели, как с нею не церемонится г. Зарин,—и мы можем легко видеть, что он не представляет исключения в этом отношении. Богословская наука—и церковно-историческая и систематическая—смотрит на религиозную философию, на религиозную мысль—пренебрежительно.
Первый мотив этого высокомерия тот, что-де академическая философия не мирится с творчеством мысли! Проф.
336
А. П. Лебедев, наш знаменитый церковный историк, несколько месяцев тому назад, в своем автобиографическом очерке, писал следующее. «Я никогда не чувствовал большего расположения к философствованию, а моя магистерская тема (философско-богословская) окончательно поссорила меня с философией, с философией, как она понимается в академии. Эта философия наперед предрешает и предрешала все вопросы—и исследователю наперед указывалось, где непременно нужно говорить: да, и где столь же непременно говорить: нет. Правда, при написании моей диссертации встречались случаи, где нельзя было с уверенностью сказать ни да, ни нет, но в этих случаях обязательно приходилось тянуть волосянку на мотив: нельзя не соглашаться, но нужно признаться. Все это мне быстро наскучило—и возбуждало физическую тошноту. Я понял, что академическая философия есть истинная нирвана для действительной науки этого имени. И я не удивляюсь тому, что все ленивые люди в Академии обнаруживают несомненную склонность к философии. Я отнюдь не пожелал мыслить сообразно готовой указке, и раскланявшись со всем, что носило наименование академической философии, занял кафедру древней церковной истории». Эти слова почтенного церковного историка заслуживают внимания... А. П. Лебедев—мой достоуважаемый наставник по академии, о котором я доселе сохраняю самые приятные воспоминания. Его церковно-исторические сочинения составляют у меня настольные книги. И, однако (лучше сказать: тем более) я сожалею, что из-под его пера вырвалась такая необдуманная речь. Печально уже то, что в словах А. П. Лебедева не вполне исправна логическая сторона дела. Он в последних статьях своих с особенною настойчивостью (и болью) останавливает внимание читателей на тех гонениях и прещениях, которые задерживают развитие у нас церковно-исторической науки 1). Какое же различие в этом отношении, т. е. в условиях развития, между церковной историей и богословием? Почему это давление образует для
1) «На церковную историю смотрели как на такую науку, которая должна находиться в подчинении и идти на буксире за догматическим богословием» и т. д. А. П. Лебедев Бог. Вест. 1907, апр. 711 сл.
337
исторической науки внешнее препятствие, а для богословия— внутреннее свойство? Может быть это давление от исторической науки отскакивает, как от стены горох, а на богословии отпечатлевается всею грязною лапою? Слишком известно, что этого нет 1). Это по условиям развития, теперь—по существу. История религий и церковная история имеют своим предметом религию, как факт, и христианство, как факт; философия религии и философия христианства имеют предметом религию и христианство, как проблему. Т. е. по существу дело историка религий и церкви есть внешняя работа, дело религиозного мыслителя—творчество. Личное свободное творчество—conditio sine qua non хорошей богословской работы. Это ясно для всех, кроме представителей «научного» богословия—церковных историков и богословов-систематиков. Очень может быть, что А. П. Лебедев именно это религиозно-мыслительное творчество и отожествляет с леностью ума, противопоставляя его церковно-исторической работе. Но ведь это-то и характерно для нашего «научного» богословия, и как раз в этом пренебрежении к религиозно-творческой мысли церковная история становится в один уровень с схоластико-систематическим богословием.
Второй мотив пренебрежительного отношения представителей богословской науки к религиозной мысли—общедоступность тем религиозной философии. Как бы ни была последняя малодоступна по своему содержанию, как бы ни были высоки ее требования от писателей и читателей, все-же остается неустранимым тот факт, что она обсуждает те же предметы, которые трактуются в проповедях и назидательных листках. Не так с церковно-историческими и богословско-схоластическими трудами. Здесь всегда есть возможность иметь дело с такими вопросами, которые никому не приходили в голову, с такими церковно-историческими именами, которых никто не слыхал, и с церковно-историческими памятниками, которых никто не читал,—и это создает психологию высокомерного специалиста.
1) По словам самого А. П. Лебедева: «русская церковно-историческая наука по своим достоинствам не только не равняется с своими иностранными сотоварищами, но и значительно от них отстала». Ibid. 705 Ср. Май, стр. 102 и мн. др.
338
Когда же несколько таких специалистов из разных концов земного шара протянут руки друг другу, тогда производится полная иллюзия чего-то одновременно и священнодейственного и всемирнаго.,Хотя бы...
А teachers doctrine and his proof
Is all his province, and enough;
But is no more concerned in use,
Than shoemakers to wear all shoeus.
При этом не маловажную роль играет и то соображение, что такие темы дают возможность не касаться личных убеждений, а это мало того, что иногда бывает очень удобно, но и считается признаком «хорошего тона» в богословско-научных кругах... Дело известное, что долго действующие порядки образуют соответствующую психологию толпы. Так и у нас долговременные гонения на религиозную мысль породили глубоко укоренившееся суеверие, что неприлично говорить о своих личных религиозных убеждениях. В этом суеверии — своеобразный семинарско- академический дух. Излагать принятое церковное учение, трактовать внешний церковно-исторический факт, это—научно, а строить личное религиозное мировоззрение, самое меньшее—не принято; это оскорбляет здравый смысл. И простым выводом из этого суеверия служит мнение, что писать и научно на общедоступные (религиозные) темы занятие очень легкое, не стоящее серьезного внимания. И таким путем в этой типической среде здравого смысла совершенно затушевывается та несомненная истина, что философски и серьезно обсуждать затасканные темы, вульгарные вопросы, не сбиваясь на публицистику, не повторяя избитых путей— это возможно лишь при более или менее крупном таланте и личной оригинальности. Мало того, что строить литературное здание из своих убеждений, вообще, и религиозных, в особенности, значит писать кровью и нервами,—это, сверх того, область, где ничем, ни трудолюбием, ни ученостью, нельзя заменить творческого огня, ничем нельзя замаскировать отсутствие Божьего дара. Ибо без этого огня и дара никакими усилиями не выбраться из трясины общих мест, торных путей, чужих, старых и мертвых слов, надоедливого проповедничества и легкомысленного публицистического фельетонизма.
339
Так и стоят друг против друга, почти соприкасаясь, напыщенная ученость и шумливая публицистика, сдавливая и вытесняя религиозную мысль. они часто ссорятся между собою, упрекая одна другую в невежестве, а та эту в безжизненности. Но милые бранятся, только тешатся. И известно не мало примеров, когда неприступные ученые быстро переходили на шутовское амплуа базарных публицистов. Та и другая неизменны и последовательны в одном—в ненависти к религиозной мысли. И нет для этой страдалицы места ни в болоте вульгарного проповедничества, ни в камнях бесплодной учености.
М. Тареев
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
