13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Тареев Михаил Михайлович, проф.
Тареев М. М. Свящ. Константин Аггеев. Христианство и его отношение к благоустроению земной жизни. Опыт критического изучения и богословской оценки раскрытого К. Н. Леонтьевым понимания христианства.
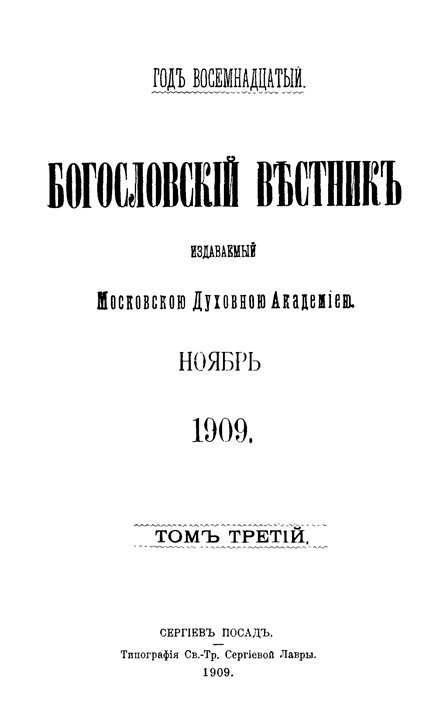
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Тареев М. М.
Свящ. Константин Аггеев. Христианство и его отношение к благоустроению земной жизни. Опыт критического изучения и богословской оценки раскрытого К. Н. Леонтьевым понимания христианства. Киев, 1009.
Только-что вышедшая книга свящ. К. Аггеева интересна по изложению и глубоко поучительна по тем богословским выводам, к которым она приводит. Автор останавливает внимание читателей на Леонтьеве, как на религиозном типе, как на выразителе определенного понимания христианства, и путем критики его религиозного мировоззрения обосновывает истинное понимание христианства.
Широта и возможность положительной стороны этой богословской работы находятся в прямой зависимости от религиозного значения Леонтьева и его судьбы.
«Леонтьев огромный и тяжелый вопрос для всякого христианина и особенно для сына Православной Церкви». «Этот религиозный мыслитель важен, страшен и соблазнителен».
Религиозный характер Леонтьева слагается из следующих черт: 1) крайний эстетизм, 2) эстетическое преклонение пред государственным абсолютизмом, 3) сочетание государственного абсолютизма с православием, как его опорой, и 4) аскетически-монашеское понимание христианства.
Если мы, опуская посредствующие звенья, соединим эстетизм, с которого Леонтьев начал, которым он по-видимому пожертвовал христианству и который он на самом деле удержал до конца своих дней, — если мы этот эстетизм соединим с монашеством, которым Леонтьев кончил, то мы получим такую формулу: «в душе Леонтьева атеист-язычник жил совместно с искренним монахом Православной Церкви». Леонтьев носил в
503
504
своей душе трагический разрыв. И собственная попытка Леонтьева свести в конце концов свои «нестерпимо-сложные потребности» к одной—религиозной не только не уничтожает этого разрыва, а усиливает его. Вера Леонтьева в Православную Церковь не имела корней в его природе: его религия была глубоко-насильственным актом. И принесши в жертву вере все то, в чем видел он истину, Леонтьев по законам психологии (стихийно-природное сильнее искусственного...) должен был и действительно превратил победителя в побежденного: христианская религия в усвоенной Леонтьевым форме носит на себе печать его душевных противоречивых переживаний...
В этом виде Леонтьев, конечно, заслуживает полного внимания православных богословов.
Эстетом Леонтьев был самым крайним—в духе Ницше.
«Идея всечеловеческого блага, религия всеобщей пользы — самая холодная, прозаическая и вдобавок самая невероятная, неосновательная из всех религий». «Прогрессивные идеи грубы, просты и всякому доступны. Идеи эти казались умными и глубокими, пока были достоянием немногих избранных умов. Люди высокого ума облагораживали их своими блестящими дарованиями; сами же идеи по сущности своей не только ошибочны, они грубы и противны. Благоденствие земное вздор и невозможность; царство равномерной и всеобщей человеческой правды на земле—вздор и даже обидная неправда, обида лучшим». «Стыдно было бы за человечество, если бы этот подлый идеал всеобщей пользы, мелочного труда и позорной прозы восторжествовал навеки». «Для того, кто не считает блаженство и абсолютную правду назначением человечества на земле, пет ничего ужасного в мысли, что миллионы русских людей должны были прожить целые века под давлением трех атмосфер—чиновничьей, помещичьей и церковной, хотя бы для того, чтобы Пушкин мог написать Онегина и Годунова, чтобы построили Кремль и его соборы, чтобы Суворов и Кутузов могли одержать свои национальные победы. Ибо слава... ибо военная слава... да, военная слава царства и народа, его искусство и поэзия—факты. Это реальные явления действительной природы; это цели достижимые и
505
вместе высокие. А то безбожно-праведное и плоско -блаженное человечество, к которому вы исподволь и с разными современными ужимками хотите стремиться, такое человечество было бы гадко, если бы оно было возможно». «Европейская мысль поклоняется человеку потому только, что он человек. Поклоняться она хочет не за то, что он герой или пророк, царь или гений. Нет, она покланяется не такому особому и высокому развитию личности, а просто индивидуальности всякого человека, и всякую личность желает сделать счастливой, равноправной, покойной, надменно-честной и свободной. Это-то исполнение всечеловеческой равноправности и всечеловеческой правды, исходящей не от положительного вероисповедания, а от того, что философы зовут автономной нравственностью, это-то и есть яд, самый тонкий и самый могучий из всех столь разнородных зараз, разлагающий постепенным действием своим все европейские общества». «Не должен зоолог уверять, что нет уже на свете ни золотых фазанов, ни орлов, ни пантер и красивых полосатых зебр, оттого, что он срисовать их не умеет, или считать их неизящными и в самом деле ненужными только потому, что временные заблуждения утилитаризма признали полезными для человечества только мирных и грубоватых скотов: лошадей, коров, ослов, овец и свиней». «Все хорошо, что прекрасно и сильно: будь это святость, будь это разврат, будь это революция, все равно. Люди не поняли еще этого. Стоит только большинству приобрести хороший вкус, эстетический взгляд ни жизнь и послушать его проповеди, то жизнь наполнится еще новым, неслыханным разнообразием блага и зла, всяких антитез и всякой поэзии, начиная от идиллии «старосветских помещиков» и кончая трагизмом народных мятежей». «Прекрасное—вот цель жизни, и добрая нравственность и самоотвержение ценны только, как одно из проявлений прекрасного»...
Из этих выдержек с полною ясностью выглядывает эстетизм Леонтьева. Но если последовательный эстетизм был в Леонтьеве природно-стихийным началом, то как же Леонтьев мог прийти к христианству? Что он видел в христианстве?
При ответе на этот вопрос нужно различать две сто-
506
роны в его концепции христианства—эстетическую и религиозную. Христианство Леонтьев, прежде всего, воспринимал эстетически. И при этом нужно иметь в виду, что Леонтьев упорно не знал и не признавал евангельского христианства. «Христианство первых веков—слишком молодое деревцо, которое еще не цветет и плодов не приносит». Леонтьев знал и признавал христианство развившееся и усовершенствованное в византийском православии. И вот—для него идеал византийского православия совпадал с эстетическим мировоззрением, с его отвращением к эгалитарному процессу, к уравнительному европеизму. Оценивая эстетически русскую историю, русскую самобытность, Леонтьев подходил к православию. «Сильны, могучи у нас только три вещи: Византийское православие, родовое и безграничное самодержавие и, может быть, наш сельский поземельный быт». С этой (эстетической) стороны православие представлялось Леонтьеву определенной величиной. «Представляя себе мысленно Византизм, мы видим пред собою как бы строгий, ясный план обширного и поместительного здания. Мы знаем, что Византизм в Государстве значит—самодержавие. В религии он значит Христианство с определенными чертами, отличающими его от Западных церквей, от ересей и расколов. В нравственном мире мы знаем, что Византийский идеал не имеет того высокого и во многих случаях преувеличенного понятия о земной личности человеческой, которое внесено в историю Германским феодализмом; знаем наклонность Византийского нравственного идеала к разочарованию во всем земном, в счастье, в устойчивости нашей собственной чистоты, з способности нашей к полному нравственному совершенству здесь, долу. Знаем, что Византизм (как и вообще Христианство) отвергает всякую надежду на всеобщее благоденствие народов, что он есть сильнейшая антитеза идее всечеловечества в смысле земного всеравенства, земной всесвободы, земного всесовершепства и вседовольства». С этой же стороны Леонтьев подходил и к монашеству, оценивая его в качестве совершеннейшей формы византийского православия. «Монах уже тем одним хорош—любит повторять Леонтьев—что он не верит в правду на земле и в про-
507
гресс. Монахи все пессимисты относительно европеизма, свободы, равенства и вообще относительно земной жизни человечества».
Но у Леонтьева мы видим и другое отношение к христианству—религиозное. Дело очевидное, что византийским православием, как его понимал и ценил Леонтьев, не исчерпывается христианство, что лежащею за эстетическим византизмом своею глубиною христианство враждебно эстетизму. И эта враждебность христианства дорогому для Леонтьева эстетизму образует единственную основу религиозного отношения его к христианству. Эта концепция христианства выразилась в следующих «афоризмах» Леонтьева. 1) «Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т. е. ее эстетика) суть признаки внутренней жизнеспособности, человечества, то уменьшение их должно быть признаком устарения человечества и его близкой смерти (на земле). 2) Более или менее удачная повсеместная проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, столь враждебный христианству по основам, сильно вторит ему в этом по внешности, отчасти и подделываясь под него. 3) Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся убить эстетику жизни на земле, т. е. самую жизнь. 4) И Церковь говорит: конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде. 5) Что же делать? Христианству мы должны помогать, даже и в ущерб любимой нами эстетики, из трансцендентного эгоизма, по страху загробного суда, для спасения наших собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике».
Необходимо сейчас же отметить внутреннее противоречие, на которое мы наталкиваемся в этих афоризмах и которое указывается автором реферируемой нами книги. Эстетика жизнь. Христианство вредит эстетике. Igitur... мы должны помогать ему для спасения нашей души. Эстетика жизнь. Прогресс вредит эстетике. Igitur... мы должны противиться ему.
Противоречие ото, однако, выражает самое существо религиозной жизни Леонтьева. Он пережил религиозный
508
перелом, вследствие которого он теоретически оставляет свой эстетизм и усвояет христианское мировоззрение, а практически—бросает дипломатическую карьеру и идет в (тайные) монахи. Внешне это был полный переворот, который свидетельствует о Леонтьеве как о «цельной личности». Но нас интересует внутренняя сторона дела. И оказывается, что внутреннего перерождения он не испытал, так как красота по-прежнему осталась для него высшим благом, и теперь, став христианином, он чувствовал ее в качестве высшего блага. В чувствах его ничто не изменилось. Он жертвовал красотою христианству по чисто внешним соображениям, так что христианство ничем не заменяло для него этого внутреннего блага и было для него крайним принуждением. Стоит перечитать афоризмы Леонтьева—справедливо пишет о. K. М. Аггеев—чтобы убедиться, что, по духу заключающегося в них учения, вся правда для земной жизни на стороне эстетики. Христианство вредит эстетике. Следовательно... христианству мы будем и должны помогать вопреки правде, только но «трансцендентному эгоизму». Но ведь это—распятие, распятие не «плоти своей с ее страстями и похотями», а той стороны своего существа, в которой—страшно сказать! истина?!.. Вольно, «да мало ли что! Христианское учение иногда весьма сурово и страшно, что делать! Но раз безбоязненно и безусловно принятое по-простому и старому катехизису (одобренному Св. Синодом—да! да!), оно дает такие мощные опоры, такие удивительные утешения (косвенно иногда даже и для бедного, многострадального самолюбия нашего), каких никакая другая философия дать не может». В этом отношении судьба Леонтьева напоминает собою «картину последних дней Гоголя, когда Гоголь под влиянием по-своему понятого религиозного долга сжигает в темной комнате, освещенной лишь зловещим пламенем камина, свое бессмертное произведение и, вместе с ним, всю свою художественную деятельность, мало того —самого себя, творца гениальных творений».
Эстетизм Леонтьева уступал христианству, не перерождаясь, уступал лишь силе. Поразительна ясность, с которою Леонтьев сознавал это. «Юлий Цезарь быль гораздо безнравственнее Акакия Акакиевича и даже Скобелев был
509
несравненно развратнее многих современных нам «честных тружеников», и если у вспомнившего эти факты есть эстетическое чувство, то что же ему делать, коли невозможно отвергнуть, что в Цезаре и Скобелеве в тысячу раз больше поэзии, чем в Акакии Акакиевиче и в самом добром и честном сельском учителе. Как быть? Возненавидеть эстетику? Притвориться из нравственных мотивов, что не видишь ее? Презирать мораль? Невозможно ни то, ни другое, ни третье». Спасает только положительная вера. «Она не нуждается во лжи и притворстве: да, это изящно, сильно. эстетично, но ото не душеспасительно... Когда страстную эстетику побеждает духовное (мистическое) чувство, я благоговею, я склоняюсь, чту и люблю»... Так писал Леонтьев в старости.
Религия, религиозность Леонтьеву представлялась принуждением, самым крайним принуждением по мотивам «трансцендентного эгоизма», загробного душеспасения. Полное принуждение, полное самоотречение ума, самоотречение воли. В отношении религиозно-теоретическом Леонтьев неустанно повторяет принцип: credo, quia absurdum. И в отношении практическом христианство для него—всецелое отречение от своей воли, всецелое послушание. С этой стороны он снова оценивает монашество как самый яркий «цвет христианства». Вся сущность христианства—в послушании, доходящем до полного отказа от своей воли, от своего разума; греческие монастыри, в которых вся организация основывается на послушании, являются идеалом устроения земной «жизни. Леонтьев так и представлял жизнь человечества, как кооперацию монастырских общин. Все другие формы жизни—не организованное монашество—являются с христианской точки зрения лишь подготовительными ступенями. Если монастырь служит «цветом христианства», то в самом монастыре высшим выражением является институт старчества. Старец—неограниченный водитель совести человека, и «его плохой совет должно предпочитать своему более доброму и хорошему, но своевольному поступку».
Идеалом церковного строя Леонтьеву представлялось католичество, и в этом отношении его мысль совпадала
510
с богословскими тенденциями Соловьева, Его симпатии были не на стороне старца Зосимы, а на стороне Великого Инквизитора. Все религиозные представления группировались для Леонтьева по уклону юридизма...
Легко отсюда понять всю религиозную систему Леонтьева, который во главу религиозной жизни ставил страх и принуждение и не давал в ней места любви. Легко понять, чего Леонтьеву недоставало в его усердной практике: ему недоставало христианской мистики, внутреннего опыта христианского блаженства. Чтобы вполне оттенить эту мысль, мы должны подчеркнуть обстоятельство, уже отмеченное раньше. Зная о конфликте между христианством и эстетизмом и по-видимому жертвуя первому последним, Леонтьев в действительности остался эстетом до последних дней своей жизни. Сравнивая его судьбу с судьбой Гоголя, рецензируемый нами автор верно замечает: «Есть и разница. Гоголь свою художественную душу нес на алтарь неправильно понятой веры. Леонтьев—сам того не ведая—жег христианство, которому он хотел отдать самого себя безраздельно».
Эстетизм, сохраняясь в душе Леонтьева, делал в ней религиозную пустоту, мешал ему постигнуть внутреннюю сторону христианства. В частности он до последних дней удержал эстетико-политический взгляд на христианство, как на опору самодержавия. Сюда, затем, еще присоединилось его эстетическое обрядоверие. «И знал—пишет Леонтьев—неверующих людей или полуверующих, которые приходили в восторг от «поэзии» Афона, от его своеобразного устройства, от самих монахов — и греческих, и болгарских, и русских». Этими сторонами исчерпывались положительные впечатления Леонтьева от христианства, и они только подчеркивают отсутствие специфического содержания в религии этого «неверующего монаха».
Я не буду излагать религиозной системы Леонтьева и довольно основательной критики, которой подвергает ее автор. Я приведу заключительное резюме этой критики.
О. K. М. Аггеев пишет: — K. И. Леонтьев своей системой подводит к кругу христианских идей, но не вводит
511
в него; самое центральное в нашей религии—Богочеловек Иисус Христос, объединивший в Своем лице Бога и Человека и тем искупивший его от вечной смерти, остался неведом нашему религиозному мыслителю.
Ограниченность религиозного миропонимания у K. Н. Леонтьева делается прямым религиозным преступлением, когда он свою религиозную доктрину настойчиво до фанатизма выдает за подлинное христианство, самым резким образом осуждая иные понимания его.
«Не столько атеисты—враги Христа, сколько такие лица, как Вы, которые неправильным толкованием Его слов компрометируют христианство», сказала жена II. С. Аксакова K. Н. Леонтьеву... Мы имеем другой факт из русской жизни, наводящий на ту же самую мысль. «Усердно молю Бога, писал K. Н. Леонтьев В. В. Розанову из Оптиной пустыни, чтобы вы поскорее переросли Достоевского с его «гармониями», которых никогда не будет, да и не нужно. Его монашество сочиненное, и учение о. Зосимы—ложное и весь стиль его бесед фальшивый. Помоги вам Господь милосердый поскорее вникнуть в дух реально-существующего монашества и проникнуться им». В 1903 году В. В. Розанов на эту молитву пишет свой ответ. «Вся Россия, говорит он, удивлялась и умилялась благости Зосимы. «Не наш он, не наш он!» восклицает Леонтьев от имени православного монастыря. «И правда не ваш», отвечаю и беру Зосиму в охапку и выношу его, а с ним и все его богатство,—за стены тихих обителей». Все теперешнее,—не антицерковность, даже антихристианство В. В. Розанова прошло чрез K. Н. Леонтьева, и первый не может быть понят без второго в своей литературной деятельности последнего десятилетия... И конечно, если прав K. Н. Леонтьев в своем понимании христианства, то понятен и В. В. Розанов в своих упреках той религии, от которой, по его выражению, «мир прогоркл».
K. Н. Леонтьев своей религиозной системой—ясное предостережение для всех, кто учит о Христе в его понимании. И не говорите, что K. Н. Леонтьев одинок в своем религиозном заблуждении. Нет, к сожалению, он слишком типичен. И пусть исповедующие его веру знают,
512
что они служат чему хотите: ветхозаветной религии или простому эстетизму формы, по только не Господу Иисусу Христу...
К этим последним выводам рецензент вполне присоединяется. И кратко изложив интересное и важное содержание книги свящ. K. М. Аггеева, он надеется, что дал ей лучшую и бесспорную рекомендацию.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
