13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Мари Анри
Мари А. Святой Августин и августинизм
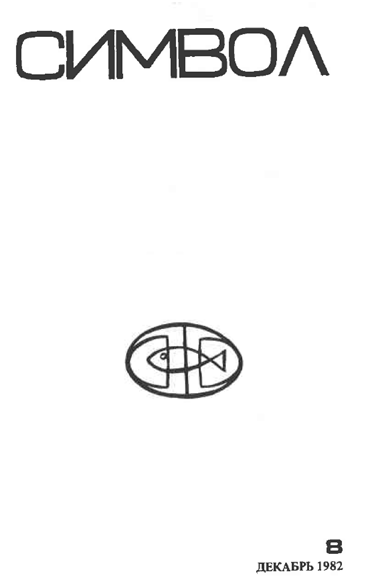
PARIS
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Анри. МАРИ (Henri Marrou) 1)
СВЯТОЙ АВГУСТИН И АВГУСТИНИЗМ
ШЕСТНАДЦАТЬ столетий отделяет нас от этого человека, родившегося 13 ноября 354 г. и почившего 28 августа 430 г. Художники очень часто изображали Блаженного Августина в священническом облачении, своего рода фелони, в митре и с посохом в руках, наподобие современного епископа. Между тем Августина следовало бы изображать в белой шерстяной тунике и в сандалиях на босу ногу. Но осторожно: у этой туники уже есть рукава, она скроена и сшита как рубашка. Иными словами, это не та туника, какую носил Перикл или Цицерон. Тот, кого современники знали под именем Аврелиуса Августинуса, был одним из древних, но принадлежал к последнему периоду классической древности.
Начиная с Диоклетиана (284-305) и Константина (306-337) Римская империя, наводняемая потоками варваров, раздираемая внутренней анархией, понемногу начала восстанавливаться на новых началах: мы имеем в виду Нижнюю империю, первое по времени тоталитарное государство современного типа. В этом государстве верховный правитель окружен религиозным почитанием, ему принадлежит вся полнота власти, по крайней мере до тех пор, пока не восторжествует очередной узурпатор. Император, окруженный пышным двором восточного типа, правит государством при помощи милитаризованного, иерархического, чрезвычайно сложного бюрократического аппарата. Плановое хозяйство, государственные заводы, обязательный синдикализм, наследственные касты, далее, тяжелейшая налоговая система, жестокое судопроизводство и, конечно (поскольку существует постоянная угроза заговоров), тайная полиция. И сколько раз на протяжении своей жизни Августин сталкивался с наводящей ужас фигурой — кем-то из Agentesinrebus. Этот термин
1) Henri Marrou, «Saint Augustin et l’augustinisme». © 1955 by «Seuil».
95
наши гуманисты по наивности переводят как «поверенные в делах», однако не следует предаваться самообольщению — речь идет об агентах, подобных агентам Гестапо и аналогичных организаций. Да, это уже мир террора. Стоящая у кормила группа обладает всей полнотой государственной власти, но положение ее непрочно и она часто попадает в опалу. Тогда начинается нескончаемый поток предательств и репрессий, постепенно захватывающих тысячи и тысячи ни в чем не повинных людей. Над всеми висит постоянная угроза разорения (достаточно лишь немного промедлить с выплатой налогов), тюрьмы, пыток, мучительной смерти.
Чудовищная машина, которой, однако, нельзя отказать в эффективности. По крайней мере на Востоке она смогла удержаться более тысячи лет, вплоть до 1453 г. Но это требовало огромных усилий, и мы видим, как латинский Запад уже в ту эпоху начинает отказываться от этого. На Западе не было того национального подъема, с которого в Константинополе около 400 г. началось чисто византийское по своему характеру возрождение. Западная Римская империя начала давать трещины и в конце концов рухнула в результате политического «дезертирства» в среде римского пролетариата (багауды в Галлии, циркумцеллионы в Африке эпохи Августина) и нашествия извне варваров.
Жизнь святого Августина протекала на фоне всех этих событий, и это обстоятельство, с точки зрения современного читателя, придает его учению особую ценность: своим примером Августин учит нас искусству жить, существовать во время бедствий и катастроф. Его детство проходило в эпоху последних взлетов римской мощи. В зрелости (24 августа 410 г.) он видел, как перед королем вестготов Аларихом пали крепостные стены Рима. Это было решающее событие — не с политической точки зрения, но с точки зрения того влияния, которое оно оказало на современников Блаженного Августина, на само его мировоззрение: размышляя над падением столицы всего цивилизованного мира, над падением того Рима, который сам себя величал «вечным», Августин создал один из своих шедевров — труд под названием «0 граде Божием». Там он разработал две темы. Первая — это преходящность, свойственная всякой цивилизации, вторая — сверхъестественное призвание как удел всего человечества. Обе эти темы легли в основу христианской теологии истории. Августин умер спустя двадцать лет в городе Гиппоне (Северная Африка), где был епископом. В тот момент Гиппон был окружен вандалами отважным народом, чья удивительная судьба повела его из глуби венгерских и силезских равнин, через всю Европу, в Испанию; переправившись далее через Гибралтар, этот народ уничтожил римскую
96
мощь в Северной Африке и Карфагене, и все это на протяжении жизни одного поколения.
Но Августин был не просто свидетелем упадка и конца римского мира, римской культуры. С обращением Константина империя стала христианской империей и новая религия окончательно восторжествовала. Но, конечно, не все трудности были преодолены: язычество еще продолжало сопротивляться, бороться на двух крайних ступенях социальной лестницы — среди крестьянства, с одной стороны, среди образованной аристократии — с другой. И хотя эпоха великих гонений окончилась, все же схизмы и ереси продолжали раздирать нешвейный Хитон Христов — Церковь. Вмешательство императорской власти, в известном смысле необходимое, еще более усложнило положение. Константин состарился, а Констанций и Валент придерживались того или иного направления арианской ереси. В это время православие пережило много темных моментов своей истории, пока окончательно не победило при Феодосии, императоре, отличавшемся особой вселенскостью духа.
Тем не менее в эпоху Блаженного Августина христианство, несмотря ни на что, начало стремительно распространяться демографически, социально, духовно, интеллектуально. Век святого Августина оказался золотым веком Отцов Церкви, тех великих мыслителей — они проводили чисто духовную, созерцательную жизнь, но зачастую были и людьми действия, из чьих рядов вышли классики христианской литературы. Весьма примечательно то, что Августин был современником наиболее великих Отцов Церкви — как греческих, принадлежавших к каппадокийской, антиохийской или александрийской школе, так и латинских, главных учителей Церкви Западной.
ЖИЗНЬ
Святой Августин родился 13 ноября 354 г. в Тагасте, маленьком городке, расположенном на территории Нумидии — области в Северной Африке, занимавшей восточную часть современного Алжира. (Ныне этот городок называется Сук-Ахраз, он находится приблизительно в ста восьмидесяти километрах на восток от Константины и в ста километрах на юг от Бона.) Стало быть, Августин родился в древней римской Африке. С большой долей вероятности можно предположить, что по крови он был чистым бербером. Сегодня потомки соотечественников Августина, в силу того что они перешли в ислам и стали говорить на арабском языке, более тесными узами связаны с Каиром, Меккой и даже Карачи, чем с Европой. Между тем Африка эпохи Августина была латинской землей. Для Августина
97
латынь была не только языком культуры, но и родным языком. Африка была частью той великой римской родины Августина, которая гордилась тем, что ее границы совпадали с границами всего цивилизованного мира. Августин был рожден римским гражданином (само имя его семьи — Аврелиус говорит о том, что его предки вместе с огромной массой жителей других провинций стали римскими гражданами благодаря обнародованному в 212 г. известному эдикту Каракаллы.) Было бы ошибочным видеть в Августине наследника пунического прошлого: он питал равнодушие к Карфагену и Ганнибалу и тяготел к Риму; героями Августина были великие римляне, подобные Регулу или Сципионам. Все образование Августина, вся его деятельность дают нам право считать его настоящим западным европейцем.
Некоторые же присущие ему особенности относятся к религии. Августин весьма гордился тем, что принадлежал к Африканской Церкви, в полной мере осознающей свою автономность, свою самобытность в лоне Вселенской Церкви, — об этой самобытности свидетельствовала деятельность ее Учителей и кровь ее мучеников. То была Церковь Тертуллиана и прежде всего Киприана, Лактанция, Викторина и Аптата.
В отличие от многих современных ему Отцов Церкви, вышедших из высокопоставленных кругов (например, Амвросий был сыном министра внутренних дел, а Иоанн Златоуст сыном главнокомандующего) , Августин происходил из среды достаточно скромной. Его отец Патриций был мелким землевладельцем, принадлежавшим к мелкой провинциальной знати, связанной тяжкой круговой порукой во всем, что касалось налогов, то есть, иными словами, к мелкой буржуазии, стоящей на пути к пролетаризации.
Подобно многим представителям мелкой буржуазии нашего времени, Патриций пошел на почти непосильные жертвы, чтобы обеспечить высшее гуманитарное образование самому способному из своих сыновей. В Нижней империи такое образование было лучшим средством, чтобы получить доступ к карьере учителя или адвоката, а вслед за тем и к административным постам, сулившим неограниченные перспективы продвижения и власти.
Отцовских средств оказалось недостаточно, и в своей «Исповеди» Августин рассказывает, как из-за нехватки денег ему пришлось на целый год прервать учебу. В то время ему было шестнадцать лет. Он смог продолжить образование лишь при помощи одного из друзей семьи, Романия. Это был один из многочисленных и типичных для античности «благодетелей» — благодетель отчасти из искреннего чувства, а отчасти из тщеславия. Такие люди без счету сорили деньгами, а иногда даже разорялись, помогая согражданам. Таким образом,
98
у Августина были, как говорилось в эпоху Мориса Барреса, черты «бурсака» — «культурного выскочки», достигшего известного положения благодаря культуре же.
Начальная школа в Тагасте, средняя школа в соседнем Мадоре, более крупном и значительном культурном центре (не там ли родился знаменитый Апулей?), затем высшее образование, начатое в том же Мадоре и продолженное и законченное в Карфагене, столице римской Африки. После Рима Карфаген был самым крупным городом на латинском Западе. Таким образом, с семи до девятнадцати лет Августин прошел полный курс образования, обычный для той эпохи. Стоит ли говорить о том, что уже тогда Августин выделялся среди других учеников? Он стал выдающимся представителем античной культуры, или, как говорили его современники, «был столь же учен, сколь и красноречив».
Мы должны внимательно рассмотреть характер полученного Августином образования, ибо с ним тесно связаны все мысли и труды Августина, им определяются как положительные, так и отрицательные стороны его творчества, все его пробелы. Культура, на которой воспитывался Августин, была в основном гуманитарной и прежде всего латинской. Это объясняется тем, что уже в его время начала углубляться та трещина, которая, разрушая единство средиземноморской цивилизации, в конце концов привела к разрыву между греческим Востоком и латинским Западом. Конечно, греческий язык все еще входил в школьные программы того времени, и наш африканец должен был его изучать, но, по его собственным словам, делал он это без особой радости и, как мы видим, без особого успеха. Позднее, будучи человеком Церкви, Августин смог оценить, насколько его труды в области экзегезы и богословия требовали более глубокого знания греческого, и он приложил немало усилий, чтобы улучшить свое знание этого языка, но все же ему не удалось добиться на этом поприще каких-либо значительных успехов. Практически святой Августин смог использовать лишь те аспекты греческой мысли, языческой или христианской, которые закрепились в латинской культуре благодаря переводам либо пересказам. Трудно переоценить все значение этого факта, в значительной степени обусловившего развитие философской и богословской мысли святого Августина. Поскольку он не имел возможности непосредственно черпать у своих эллинистических предшественников, ему приходилось часто прибегать к импровизации, уделу каждого автодидакта, — и в этом одна из оригинальных сторон августиновского творчества.
Итак, культура, на которой воспитывался Августин, была латинской. Она строилась на изучении латинской грамматики и великих классиков, прежде всего поэтов Вергилия, Теренция и т. д. Быть
99
культурным человеком означало для римлянина совершенное знание Вергилия (которого заучивали наизусть), подобно тому как греки знали своего Гомера. Далее, необходимейшим элементом этой культуры было знание историков, например Саллюстия, и ораторов — прежде всего Цицерона, великого Цицерона, обладающего неоспоримым авторитетом учителя, который как своими теоретическими трудами, так и собственным примером оказал решающее влияние на античную культуру Запада. Современному читателю очень трудно представить себе, насколько хорошо тогда знали творческое наследие классиков, насколько близко оно соприкасалось с жизнью: каждую минуту из-под пера Августина, сознательно или нет, появляется цитата или реминисценция из Цицерона или Вергилия; и писал он для читателей глубоко заинтересованных, понимающих, способных тут же разгадать любой намек, испытывая при этом то ли простодушное, то ли утонченное наслаждение.
Высший уровень культуры означал знакомство с риторикой — искусством говорить и, следовательно, писать. Для интеллектуала девятнадцатого века слово «риторика» имело чисто оценочный характер и чаще всего звучало отрицательно. Однако для древних риторика была «техникой», разработанной до мельчайших деталей и строго кодифицированной. Эта была чрезвычайно сложная система. Чтобы овладеть ей, ученику приходилось тратить годы, и если он достигал конца пути, то приобретал величайшую уверенность.
Что касается наук в современном смысле слова (речь здесь может идти лишь о математике и биологии, поскольку физика две тысячи лет шла по ложному пути, по которому ее направил Аристотель), с ними Августин был знаком лишь на самом элементарном уровне. По части медицины он знал все, что любой образованный человек той эпохи мог почерпнуть из лечебных руководств и разговоров со знающими людьми.
В античности искусство красноречия, литературы противопоставлялось не науке, как это часто бывает у нас, но философии, суровому призванию философа, для которого основательность мысли и принятые на себя обеты значили бесконечно больше, чем тщеславные устремления красноречия. Развитие античной культуры можно уподобить искусству контрапункта, когда два голоса риторика и философия то поочередно уступают место друг другу, то борются, то на мгновение соединяются в попытке достичь синтеза. И Августин, в силу своей огромной культуры, в силу высокого настроя своей души, не мог не услышать призыва философской музы. С большим волнением он рассказывает, как в восемнадцать лет, во время чтения цицероновского «Призыва к любомудрию» (часть «Гортензия», написанная в подражание Аристотелю), он, Августин, почувствовал,
100
как в его душе вспыхнул огонь «любви к мудрости», к истине. (Философия любомудрие, любовь к истине; Августин очень любил подобные этимологические парафразировки.) Это стремление к истине вдохновляло его потом всю жизнь.
Теперь необходимо сделать некоторые уточнения. Хотя святой Августин постоянно говорит о том, что началом его духовного развития послужило чтение цицероновского «Гортензия», это совсем не означает, что такое «философское обращение» сразу же принесло свои плоды (как не вспомнить здесь о первом обращении Паскаля?). Прошло тринадцать лет, наполненных разными перипетиями морального, религиозного и интеллектуального характера, прежде чем он, приняв крещение, решился упорядочить свою жизнь, привести ее в соответствие с идеалами аскетизма и строгостью жизни, которых, согласно древним, требовало призвание мыслителя. Лишь став монахом и христианским философом, Августин смог ответить на призыв, услышанный в восемнадцать лет.
С другой стороны, следует обратить внимание и на иные пробелы в образовании, полученном святым Августином. Великолепные философские перспективы раскрылись перед Августином в тот момент, когда он, бедный студент, должен был сократить время своего обучения из-за необходимости зарабатывать на хлеб. Таким образом, философская культура Августина была культурой автодидакта. В то время для получения высшего философского образования приходилось ехать на греческий Восток — в Афины или Александрию, ибо только там было организовано методическое преподавание философии. Увы, Августину не повезло, и он не смог, подобно Апулею или Боэцию, изучать философию в одном из этих двух центров. Философскую литературу он мог читать лишь по-латински. Так, он познакомился, например, с «Категориями» Аристотеля, но без необходимого «Введения» Порфирия. В конечном счете его философским учителем оказался Цицерон, философ весьма посредственный, вся роль которого в истории мысли свелась к популяризации чужих философских идей.
Отец Августина умер сразу же после отъезда сына в Карфаген. Поэтому на Августина легла вся тяжесть ответственности за семью, и, еще не достигнув и двадцати лет, он был вынужден искать работу. Подобно многим хорошим студентам, он взялся за преподавание и занимался этим на протяжении тринадцати лет. Он открыл школу в своем родном городе Тагасте, затем, очень скоро, вернулся в Карфаген, где занял должность городского ритора. (Имперское законодательство требовало от городов, чтобы те держали платных общественных учителей.)
По свидетельству многих, Августин был прекрасным преподавателем. Об этом говорит, например, его соотечественник Алипий,
101
бывший вначале учеником, а затем самым близким другом Августина. Они вместе обратились, вместе проводили монашескую жизнь, впоследствии оба работали на поприще епископского служения. Августин провел в Карфагене десять лет. Далее он обосновался в Риме, затем последовал Милан, где Августин занял должность городского ритора. Тагаст, Карфаген, Рим и Милан стали для Августина ступенями удачной карьеры, обещавшей блестящие перспективы. Дело в том, что в ту эпоху Милан был императорской резиденцией, столицей Западной Римской империи. И мы видим «мэтра Августина» бегающим по министерским канцеляриям уже тогда это было лучшим средством получить выгодное место. Августин с юмором рассказывает, как по утрам он вел свои курсы, а послеобеденное время посвящал беготне по министерским канцеляриям в надежде выхлопотать себе, например, пост губернатора какой-нибудь провинции... Но уже приблизилось время его обращения, и он отказался как от преподавания, так и от административной карьеры.
Тому, кто впоследствии стал святым Августином, было уже около тридцати двух лет. Только теперь он решился просить крещения. Трудно в нескольких строках описать тот неровный путь, который был пройден Августином до крещения. Лучше всего об этом говорит он сам в своей «Исповеди»: «Как поздно я полюбил Тебя, красота древняя и вечно юная, как поздно я полюбил Тебя!» (1). Впрочем, веру он получил еще в колыбели, Хотя его отец Патриций был язычником (он обратился лишь незадолго до смерти), его мать Моника, святая Моника, была доброй христианкой и с самого раннего детства учила Августина познавать Бога и любить имя Христа. Сразу после рождения Августина она «осенила его знаком креста и очистила солью» (2), как это делалось в ту эпоху со всеми оглашаемыми, но, следуя тогдашнему церковному обычаю, не крестила. Конечно, крещение детей было известно и в ту эпоху и практиковалось с давних пор, но такое крещение совершалось лишь в исключительных случаях, например при тяжелой болезни и т. п. Чаще всего крещение совершалось по достижении человеком зрелого возраста, а иногда даже и на смертном одре. Не, как могло бы показаться, из корыстного расчета, основанного на убеждении, что таинство крещения одним, так сказать, махом снимает все грехи, но в силу очень серьезного отношения к обязательствам, связанным с крещением, и вытекающей из него ответственности.
Обстоятельства, которые столь долгое время препятствовали
Августину полностью соединиться с Церковью, были как морального, так и интеллектуального характера. Что касается моральных препятствий, читатель, быть может, ожидает каких-то пикантных подробностей: общеизвестно, что наш святой провел очень бурную юность.
102
Мы должны разочаровать такого читателя. Хотя, может быть, в своей «Исповеди» Августин с большой строгостью и беспокойством говорит о прошлых «похождениях», тон его повествования остается сдержанным и, с точки зрения древнего римлянина (вспомним Петрония, Ювенала и Апулея!), отличается неожиданной деликатностью. Читатель посредственного ума, возможно, найдет, что Августин судит себя слишком уж сурово. Тем не менее, с богословской точки зрения (не забудем, что перед нами человек, давший учение о благодати, о первородном грехе и о пагубности вожделения, — человек, ставший святым) и с точки зрения глубинной психологии человеческой души, Августин совершенно прав. В сущности, кроме так называемых плотских грехов, у Августина были лишь очень незначительные прегрешения. (Всем известна история о том, как мальчиком он таскал груши из соседского сада.)
Более серьезными и более сложными были затруднения, связанные с умственными запросами. В восемнадцать лет Августин почувствовал в себе пробуждение философского призвания. И тогда сыграло свою роль христианское воспитание. Вполне естественно, что именно в христианстве Августин стал искать утоления жажды истины и мудрости, той жажды, которая проснулась в нем во время чтения «Гортензия». Он было начал изучать Библию, но очень скоро она разочаровала и оттолкнула его. Случай очень распространенный, сколько раз в истории мы сталкивались все с тем же! Несостоятельность семьи и Церкви в деле воспитания юных умов, наивная гордость юношества, связанные с Библией затруднения, соблазн Креста, пронизывающий всю Книгу, «ибо угодно было Богу безумием Вести спасти верующих» (1 Кор. 1.21). Для Эрнеста Ренана или Альфреда Луази все затруднения были исторического порядка. Для Августина же, как позднее и для гуманистов эпохи Возрождения, вся проблема состояла в грамматической и стилистической чистоте. Писание казалось слишком «низким» по сравнению, например, с царственной прозой Цицерона. Культурная обстановка может изменяться, а соблазн остается все тем же.
Августину казалось, что христианство подходит лишь для простых людей, подобных его матери Монике, и не годится для людей образованных и культурных. Его сумели привлечь к себе манихеи, последователи иранского пророка Мани (216-277). Религия манихеев — видоизмененный древний гностицизм, — несмотря на многочисленные преследования, распространилась даже на Западе. В этой религии было все, чтобы привлечь юного ритора из Карфагена: она объявляла себя высшей и последней формой христианства и это отвечало то/, что в Августине еще оставалось от живой веры во Христа. Мани, постол Иисуса Христа», объявил себя параклетом (утешителем),
103
обещанным в Евангелии, что, впрочем, не помешало ему объявить себя в Иране наследником Заратустры, а в Центральной Азии и Китае (манихейство проникло даже туда) — наследником Будды. Но самое главное заключалось в том, что эта якобы данная по откровению религия имела дерзость определять себя как некую рационально доказуемую научную систему, и потому юному мыслителю Августину казалось, что она способна удовлетворить его духовный голод, освободить от тяжкого ига слепой веры. К тому же его очень привлекала таинственность, которую создавали вокруг своего учения манихеи. (В культурно-религиозной жизни той эпохи оккультные учения играли важнейшую роль.)
Наконец — и это, быть может, самое главное, манихейство наиболее удобным способом разрешало духовно-нравственные проблемы, парадоксальным образом соединяя высочайший идеал с самыми обычными житейскими проявлениями. Строго дуалистическая религия, манихейство призывало к аскетизму куда более строгому, чем аскетизм православный, церковный. Существуют лишь два принципа бытия — добро и зло. И все, что существует в лоне Космоса, родилось в результате катастрофического, хотя и временного, смешения элементов добра и зла. Следовательно, жизнь в святости сводится к собиранию, к освобождению частиц света, заключенных в оболочку тьмы. Такая жизнь связана с телесным воздержанием (следовательно деторождение сурово порицается), воздержанием от действия и величайшей умеренностью в пище. Манихейство предусматривало строгие посты, запрещало вкушение мяса, крови и вина (все это рассматривалось как элементы «тьмы») и предписывало питаться «светоносными» продуктами, то есть прекрасными по своему виду плодами земли, — к ним относили, например, дыни и огурцы. Частицы света, заключенные в такой пище, соединяются с чистой светоносной субстанцией того, кто употребляет такую пищу... Но вот что самое существенное среди последователей манихейской религии имелось лишь небольшое число людей исключительных, избранных, решившихся жить по строгим правилам совершенства. Подавляющее большинство остальных манихеев — так называемые «слушатели» (соответствовавшие «оглашенным» древней христианской Церкви) должны были лишь придерживаться куда более простого морального Десятисловия. Самое большее, на что они могли рассчитывать, совершая добрые дела, в частности служа «избранным» (христианские «верные»), это накопить «заслуги» и тем самым получить возможность в будущей жизни возродиться в теле «избранного». Нетрудно догадаться, что Августин претендовал лишь на ранг простого слушателя.
Августин вращался в манихейском кругу около десяти лет. Вначале он с пламенным рвением окунулся в манихейскую религию,
104
увлекая за собой всех своих друзей (которых потом ему, с еще большим рвением, пришлось возвращать в лоно кафолицизма). Годы шли, и постепенно пелена спала с глаз Августина, манихейство предстало перед ним таким, каким оно было в действительности. Он увидел, что это лишь мифология, созданная разнузданным воображением и очень далеко отстоящая от подлинно строгих философских систем. Августин на собственном опыте познал всю тяжесть разочарований, которые обычно несет с собой ложный эзотеризм: откровение, обещающее покончить со всяким сомнением, оставляет все на завтра. Когда через девять лет Августин познакомился с одним из вождей африканского манихейства, Фавстом Милевским, то убедился, что этот человек — совсем не тот кладезь премудрости, в котором он, Августин, надеялся утолить свою жажду.
С тех пор Августин начал постепенно отходить от манихейства, но не мог порвать с ним сразу. (Противники Августина утверждали даже, что в нем навсегда осталось нечто от манихейства.) Некоторые элементы манихейского мировоззрения еще удерживали Августина от принятия православия. Мы имеем в виду манихейский материализм (ибо, согласно манихейскому учению, и тьма и свет материальны), препятствующий воспринять правильное представление о Духе и, следовательно, о Боге, а также заимствованные из гностицизма возражения против Бога Израилева, против Ветхого Завета, некоторые соблазнительные и жестокие черты которого подчас столь далеки от духа Евангелия.
В это время Августин получил назначение в Милан, где познакомился со святым Амвросием и вошел в среду группировавшихся вокруг того католических интеллектуалов. (Парадокс заключался в том, что Августин получил это назначение при помощи одного из своих манихейских друзей, человека, близкого к префекту Рима. Мы имеем в виду Симакия, главу языческой партии.) Только здесь, в Милане, Августин смог преодолеть все те препятствия, о которых мы говорили выше. У Августина не было прямых и тесных отношений с епископом Милана. Тем не менее Августин с усердием посещал его проповеди. Вначале Августина привлекали красноречие и эрудиция Амвросия (не забудем, что и сам Августин был выдающимся ритором). Верный патристической традиции, Амвросий давал духовное истолкование Ветхого Завета. И, слушая епископа Медиоланского, Августин очень скоро почувствовал, как исчезают те связанные с Ветхим Заветом затруднения, которые столь охотно использовали манихеи.
Но самое главное в следующем: благодаря самому Амвросию (последние научные исследования показывают, что он был более сведущ в философии, нежели думали раньше), а также его
105
богословскому советнику и будущему наследнику священнику Симплицию и другим ученым, таким как известный Малий Феодор, Августин познакомился с неоплатонизмом и той его христианской интерпретацией, которая бытовала в этом кругу. Для миланцев неоплатонизм был тем, чем стал для схоластиков тринадцатого века аристотелизм, — философией по преимуществу, способной установить умопостигаемую истину. Миланцам казалось, что эта философия, конечно при условии некоторых уточнений и поправок, способна помочь христианской вере осознать свою внутреннюю структуру и разработать свою теологию. И вполне естественно, что в этой интеллектуально-духовной среде свободно переходили от плотиновских «Эннеад» к Прологу Евангелия от Иоанна или к апостолу Павлу.
Постепенно Августин понял, что в платонизме все же есть некоторые черты, несовместимые с христианством, например, презрение к телу, присущее платонизму, противоречит истинно христианскому отношению к человеку, ибо человек есть не только душа, но также и тело, которому уготовано воскресение. Тем не менее какое-то время Августин, прикоснувшись к неоплатонизму, испытывал блаженные минуты: чтение некоторых трактатов Плотина и Порфирия, переведенных на латинский язык Марием Викторином — другим африканским ритором, другим знаменитым обращенным, зажгло в Августине, как он сам напишет об этом несколько месяцев спустя своему бывшему покровителю Романию, «огнь всепожирающий». То было решающее событие, в дальнейшем определившее все умственное и духовное развитие Августина. За одно мгновение все трудности были преодолены. Открытие интеллигибельного мира, его высшей реальности рассеяло все материалистические аберрации. Выдвинутая неоплатониками теория познания, возможность создать рациональную догматическую систему — все это разрушило столь прославляемый Цицероном скептицизм «Новой Академии», тот скептицизм, который чуть было не соблазнил находившегося в отчаянии Августина...
Отныне у него оставались лишь затруднения практического порядка, связанные скорее не с верой, но с действием. Еще некоторое время в нем происходила внутренняя борьба, он еще продолжал колебаться между житейскими интересами — честь, деньги, брак — и призванием к совершенной жизни. Последним толчком послужила рассказанная одним из друзей история об обращении двух молодых городских стражников: они уверовали, прочтя житие святого Антония, отца монахов. В этом житии, написанном Афанасием Великим, раскрывался идеал монашеской жизни.
О том, как именно Августин пришел к окончательному решению, мы узнаем от него самого: он рассказывает об этом в своей «Исповеди».
106
Это знаменитое место с величайшей тщательностью изучено исторической критикой, а между тем все происходило очень просто и естественно. В своем миланском доме, в саду, Августин, все еще раздираемый внутренними противоречиями, молился около своего друга Алипия. Вдруг Августин услышал голос ребенка, который, как ему показалось, пел: «Возьми и читай!» Августин раскрыл книгу Посланий апостола Павла, с которой уже некоторое время не расставался (приходящие к нему посетители всегда находили ее на столе, и вполне естественно, что она оказалась при нем и в саду). Он раскрыл книгу и прочитал: «Не предавайтесь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Рим 13.13).
Это было как озарение. Августин решился соединиться с Церковью, отречься от мира. Еще несколько недель преподавания — и во время каникул Августин уезжает в деревню. Вместе с матерью, сыном и несколькими учениками-друзьями он удаляется в имение одного из своих коллег, Кассисиакум, расположенное в тридцати километрах к северу от Милана, на холмах Брианцы. Здесь Августин провел несколько месяцев до своего крещения — оно состоялось во время ближайшей Пасхи. Здесь, сохраняя внутренний покой только что обратившегося человека, он, занятый составлением своих первых философских диалогов, проводил затворническую жизнь, наполненную молитвой и научными занятиями. Отныне он видит в таком существовании свой жизненный идеал, соединяющий «bios philosophikos» (идеал философской жизни) древних греков, «otium liberale» (досуг — удел вольного человека, не раба) Цицерона и христианское отшельничество.
Смерть Моники, последовавшая в Остии буквально накануне отплытия в Африку, еще на год задержала Августина в Европе. По возвращении в Тагаст он продал родительское имение и, собрав вокруг себя группу самых близких друзей, создал своего рода монашескую общину, в лоне которой, пребывая во внутренней тишине и воздержании и отдавшись исполнению своего философского и религиозного призвания, он собирался провести остаток дней. В действительности же это счастливое время продолжалось не более трех лет (с осени 388 до начала 391 г.).
В понимании Августина, как и всего древнего монашества, отречение от мира заключало в себе также и отказ от почестей и от обязанностей клирика. И действительно, мы знаем, что Августин, покидая на время Тагаст, старательно объезжал стороной всякий город, где пустовала епископская кафедра, поскольку опасался предложения стать епископом. Но в один из дней рука Божия привела его в Гиппон.
107
Войдя в церковь, Августин услышал, как местный епископ Валерий предлагал своему народу избрать священника. Валерий нуждался в человеке, который помогал бы ему, в частности мог бы проповедовать слово Божие. (Валерий, грек по происхождению, был уже стар, и латинский язык давался ему с трудом.) Совершенно очевидно, что прибытие Августина не могло остаться незамеченным. Раздался едный вопль: «Августина в священники!» Августина схватили, вытолкнули на солею и, невзирая на его сопротивление и слезы, тут же решили его судьбу. В то время подобная практика была вполне обычной. Точно так же, под вопли, был избран епископом и святой Амвросий. Однажды, будучи еще оглашенным, он, как губернатор провинции, во время слишком шумного церковного собрания призвал народ к порядку. Это привлекло к нему внимание, и в результате он стал епископом. Сегодня люди часто удивляются такому обычаю, но лишь из-за того, что представление о церковном призвании у многих слишком субъективное, а, следовательно, ложное. Призвание — это зов Церкви, обращенный к христианину. Вкладывая этот зов в уста кого-либо из епископов, Церковь просит этого христианина вступить на путь служения Народу Божьему.
На этот призыв, потребовавший полного изменения жизни, отказа от самых дорогих надежд, Августин ответил решительно, хотя и не без скорби, ответил всем сердцем, полностью преданным Церкви. В сходных обстоятельствах принял священство и святой Иероним, но он поставил условием, что его освободят от всяких пастырских обязанностей. У святого Августина не было того инстинкта самосохранения, который пробуждается в каждом «интеллектуале», когда над его любимыми занятиями нависает угроза. Августин без колебаний подчинил свою любовь к созерцательной жизни требованиям возложенного на него церковного служения и очень скоро ощутил всю тяжесть этого служения. Но подобные жертвы никогда не остаются без награды, даже и на этой земле. Теперь мы без труда можем оценить все то, что духовно приобрел Августин, когда полностью отдался этому плодотворному служению. Он покинул «башню из слоновой кости», где предавался лишь своим маленьким, личным заботам, и поистине стал интеллектуалом, посвятившим всю свою жизнь служению народу. Ответственность перед Богом за всю общину более широко раскрыла перед ним реальные проблемы существования, позволила более глубоко познать жизнь и человека. Но, что еще важнее, служение другим дало Августину возможность более глубоко погрузиться в тайну Христа, «Христа Всеобъемлющего», того Христа, Которого невозможно до конца познать и полюбить, пока не начнешь созерцать Его посреди самых простых и смиренных своих братьев.
108
Историку следовало бы прибавить (быть может, огорчая этим некоторых читателей), что вера Августина, ставшая в христианском отношении более глубокой, постепенно становилась также все более и более «ортодоксальной» в смысле истинности, целостности и даже в том смысле, какой либеральный протестантизм, испытывая при этом некоторую неловкость, придает немецкому слову «Vülgarkatholizismus»: соприкоснувшись с народной верой, восприняв ее богатства и обычаи, Августин научился понимать те формы богопочитания, которые вначале казались ему несовместимыми с требованиями его чистой, но высокомерной философии, — почитание мучеников, мощи, чудеса...
Таким образом, в тридцать шесть лет Августин стал священником, а по прошествии еще пяти лет принял сан епископа. (Сначала он был помощником Валерия, а затем наследовал ему.) И до конца своей жизни, на протяжении почти сорока лет, святой Августин оставался епископом Гиппона.
Можно было бы высказать сожаление относительно того, что столь великому гению пришлось без меры расточать силы ради небольшой горстки не слишком образованных христиан, жить и работать в глубине отдаленной провинции. Но такое представление было бы совершенно ошибочным: на самом деле Гиппон вовсе не был маленьким городком и поле деятельности Августина отнюдь не ограничивалось его паствой. Недавние археологические открытия явили все великолепие древнеримского города Гиппона, величие его храмовых построек. После Карфагена это был второй по значению город Африки.
Независимо от места, занимаемого Августином в африканской церковной иерархии (у епископов Нумидии оно определялось датой хиротонии, старейший из епископов исполнял функции примаса), — независимо от официального положения Августин, благодаря личным достоинствам и многосторонней деятельности, выдвинулся на передний план. Еще будучи простым священником, он выступал перед епископатом на общеафриканском Соборе в Гиппоне. Известно, что на протяжении всего епископского служения Августина его очень часто вызывали в другие места, в том числе в Карфаген, где он нередко проповедовал. Общепризнанным главой Африканской Церкви был примас Карфагена; на протяжении всего церковного служения Августина епископский престол этого города занимал его друг Аврелий, всегда прекрасно понимавший его и постоянно пользовавшийся его услугами, охотно предоставлявший ему слово и перо. Фактически на протяжении всей этой эпохи именно Августин был истинным вдохновителем африканской церковной политики. Ближайший друг Августина Алипий очень рано был призван к епископскому служению.
109
Его назначили епископом в их родной город Тагаст. В это время Августин еще не был даже священником. Алипий был богаче и решительнее Августина, очень любил путешествовать и повсюду с большим красноречием рассказывал о своем друге-учителе. Так что в значительной мере благодаря усердию своего дорогого Алипия Августин вступил в переписку со святым Павлином Ноланским, затем со святым Иеронимом, монашествующим тогда в Вифлееме. (Отношения с ним у Августина долгое время были натянутыми, но в конце концов стали вполне дружескими.) Августин также поддерживал отношения с Симплицием Миланским, с различными Папами, императорами и министрами, его письма доходили даже до Галлии и Далмации. Стоит отметить, что имя Августина стало известным даже на Востоке (из-за масштабов, которые приняла тогда пелагианская ересь), — через несколько недель после смерти Августина в Гиппон прибыл посланник императора Валентиниана III, который привез Августину приглашение принять участие в Эфесском Вселенском Соборе (Собор этот состоялся в 431 г.).
Тем не менее святой Августин прежде всего и главным образом служил своей Гиппонской Церкви. Будучи епископом, он продолжал оставаться настоящим монахом и, подобно Евсевию Верселийскому, жившему за пятьдесят лет до него, организовал при гиппонском кафедральном соборе своего рода монастырь, где жил вместе со своими священниками, диаконами и прочими клириками. Жизнь этой общины определялась строгим уставом. Он предусматривал воздержание (умеренное, ибо, помня о манихейских преувеличениях, Августин сознательно противодействовал любым крайностям, в частности во всем, что касалось пищи), целомудрие (вход на территорию обители всем посторонним, особенно женщинам, был строго воспрещен) и прежде всего нестяжание (каждый вступающий в общину должен был раздать все свое имущество). Эта община послужила для Африканской Церкви, так сказать, «'питомником», и помимо простых клириков из нее вышло около десятка епископов, вдохновленных тем же, что и у Августина, идеалом. Об этом мы узнаем из первой биографии Августина, составленной Посидием. (Посидий, до того как стать епископом Гуэлмы, духовно возрастал в том же монастыре.) В средние века созданный Августином монастырь послужил примером для общин каноников — священников, посвятивших свою жизнь храмовой молитве.
По сравнению с обычными монастырями, августиновская община обладала несколькими оригинальными чертами. Ее идеал — жизнь апостолов; все (например ручной труд, вообще имеющий столь важное значение для монашеской жизни) подчиняется требованиям апостольского служения людям. И прежде всего Августин старается
110
как можно лучше исполнять свое, столь тяжкое, епископское служение.
Прежде всего, на Августине лежали обязанности чисто религиозные. В ту эпоху вся деятельность Церкви была еще теснейшим образом связана с епископом, который представлял собой подлинный центр церковной жизни: епископ руководил каждодневным совершением литургии и прочих церковных таинств, на епископа было возложено служение слова — Церковь учащая это именно епископ. (На Западе это служение лишь в исключительных случаях поручалось простому священнику; история с Валерием и Августином — один из немногих примеров.) В обязанности епископа входило проповедование по воскресеньям, праздникам, а также и в другие дни. Иногда проповедовать приходилось и по нескольку раз в день. До нас дошло около пятисот проповедей Августина, которые были записаны стенографами. Само число этих проповедей указывает, какое огромное значение придавалось в ту эпоху служению слова. Кроме того, епископ Гиппона руководил катехизацией новообращенных, подготовлял их к крещению. Следует упомянуть и о той религиозной подготовке, какую он давал, так сказать, в частном порядке, о духовном руководстве (переписка Августина показывает, с каким вниманием он относился к духовным запросам и нуждам самых разных людей) и о милостыне, которая в ту эпоху, столь жестокую по отношению к слабым и малым мира сего, занимала огромное место в жизни Церкви. Постепенно деятельность святого Августина становилась все более разнообразной, он выступал в защиту бедных, ходатайствовал перед гражданскими властями и судами за виновных и угнетенных: сегодня Августин защищает право убежища в Церкви, а на другой день мы видим его погруженным в дела, связанные с опекой над осиротевшей девушкой, для которой он старается найти подходящего мужа.
С другой стороны, епископ должен был заботиться о материальном достоянии Церкви, будь то земельные владения или недвижимое имущество, то есть обо всем том, что Церковь получала в виде даров и что необходимо было защищать от завистливых людей. В обязанности епископа входило распределение даров, которые — натурой или деньгами — получала Церковь на нужды богослужения либо для передачи бедным. Подобным же образом выглядят епископские обязанности и сегодня. Но в четвертом и пятом столетии епископ должен был выполнять и многое другое: в этот момент уже начался процесс преображения древней Римской христианской империи в средневековую совокупность христианских государств или народов, в то единое целое, в котором духовные и материальные элементы — компетенция Церкви и компетенция Государства — приблизились друг к другу
111
и окончательно переплелись между собой. Начиная с Константина империя признала право епископов вести судопроизводство по гражданским делам, если одна из сторон решала прибегнуть не к светскому, а к церковному суду. Надо сказать, что тяжущиеся стороны, включая даже язычников, все чаще и чаще предпочитали обращаться к епископу как к судье более беспристрастному, более справедливому и гуманному; учитывая варварское судопроизводство той эпохи, когда во время следствия широко применялись пытки (в одной из своих книг Августин с гордостью говорит о том, что самым строгим наказанием в его суде были розги), это имело особое значение. Так что деятельность, связанная с судопроизводством (причем речь шла о делах сугубо мирских, таких как наследство, опека, право на собственность, межевание земельных участков), была для такого епископа, как Августин, самой тяжелой из всех обязанностей. Каждое утро, после литургии, Августин занимал свое место в суде и выслушивал тяжущиеся стороны, до тех пор пока не наступало время первый раз поесть. А бывали дни, когда из-за обилия дел он засиживался в суде до самого вечера.
Окидывая взглядом все то, что приходилось поднимать Августину, путешествия, проповеди, Соборы, переговоры, диспуты, собеседования, — все те дела, ради которых он должен был столь часто покидать свою епархию (иногда на такой долгий срок, что горячо любивший его люд Гиппона в конце концов начинал протестовать), понимаешь ту глубокую скорбь, которая чувствуется едва ли не в каждом письме Августина, изнемогавшего под тяжестью возложенного на него служения. Мы осознаем, насколько велика была жертва, принесенная этой возвышенной душой, этим созерцателем и мыслителем, которому казалась невыносимой любая форма практической деятельности, за исключением, конечно, писательской.
Но подлинное, глубокое призвание неизбежно раскрывается во всей своей полноте, невзирая ни на какие обстоятельства. Достойно восхищения то, что, несмотря на всю свою занятость, святой Августин не только остался верен своему призванию созерцателя и мыслителя, но сумел также осуществить столь гигантский писательский труд, что его первый биограф, простодушный Посидий, с изумлением вопрошал, возможно ли вообще прочитать все написанное Блаженным,— ведь это сто тринадцать книг, причем некоторые довольно большого объема, двести восемнадцать писем и более пятисот проповедей (это только те, что дошли до нас!).
Ясно, что эта деятельность была связана со значительными трудностями. Работа над крупными произведениями (за исключением «Исповеди») продолжалась по многу лет. Так, Августину понадобилось двадцать лет, чтобы закончить пятнадцать книг о Троице; тринадцать
112
или четырнадцать лет ушло на создание двенадцати произведений, посвященных библейской Книге Бытия, и двадцати двух книг о граде Божием. Мы не говорим уже о таких работах, как «Христианское учение», — написав две трети этого труда, Августин смог закончить его лишь спустя тридцать лет. Конечно, столь долгий процесс созидания способствовал углублению августиновской мысли. (Ярким примером тому служит история создания «Града Божия». Вначале это было простое описание катастрофы 410 г., но затем, постепенно, оно превратилось в мощную «Сумму против язычников».) Но, с другой стороны, скольких погрешностей избежал бы Августин, если бы писал побыстрее. Ибо лучшая книга та, что, будучи однажды задумана, пишется в один присест.
Годы текли, стала надвигаться старость, и Августин начинает все больше заботиться о будущем своих литературных произведений. Он старается найти досуг, освободиться от потока внешних обязанностей. В 414 г. — Августину уже шестьдесят лет он решает по возможности сократить эти обязанности и заниматься лишь делами своей епархии. И действительно, несколько лет он никуда не выезжает, но быстрое развитие пелагианского кризиса вынуждает его вновь отправиться в Карфаген. В 426 г. семидесятидвухлетний Августин перекладывает большую часть церковных дел на своего будущего преемника, священника Гераклия. (Это отчасти напоминает положение, в котором находился сам Августин в начале своей церковной деятельности, но тогда он стал епископом еще при жизни своего предшественника Валерия. Теперь же, не желая нарушать канонических правил, Гераклия возводят в сан епископа лишь после смерти Августина.) По рекомендации Соборов Нумидийского и Африканского Августин на пять дней в неделю был освобожден от всех обязанностей. Это сделали для того, чтобы он смог в полном покое закончить все свои произведения.
Сам Августин придавал большое значение своему писательскому труду. Он желал принести пользу всей Церкви, не только в настоящем, но и в будущем. Поэтому в конце жизни он заботливо приводит в порядок все свои книги, заново редактирует их, составляет каталог всех своих произведений и обеспечивает им надежное хранение, дабы они дошли до будущих поколений христиан.
ТВОРЧЕСТВО
Труды Августина весьма значительны по объему и разнообразны по характеру. Поэтому о них трудно составить общее представление. Есть книги очень оригинальные, например, «Исповедь». Это не просто
113
биография, но и поразительный по глубине анализ. Или «Поправки» — книга, содержащая критику ранее написанных сочинений. Труд весьма странный, но очень интересный для историка, поскольку Августин дает здесь уточнения относительно даты, причин написания и сущности каждой из своих книг. Правда, эта работа несколько разочаровывает, ибо полемические устремления заставили состарившегося Августина не только предаваться какой-то беспокойной и кропотливой самокритике, но и, в попытках защитить те места своих произведений, которые оспаривались противниками, весьма часто прибегать к несколько искусственным доводам.
Однако и это характерно для творчества многих Отцов Церкви — произведения святого Августина по большей части были созданы в связи с той или иной проблемой или затруднением, с которым сталкивалась Церковь его времени. Что же касается чисто богословских трудов, то среди них найдется очень мало таких, как изумительное по своей мощи произведение «О Троице», которое было написано Августином стихийно, по внутреннему побуждению, хотя и здесь иногда чувствуется полемическая заостренность. Отсюда то важное место, какое в творчестве гиппонского епископа занимают произведения, написанные против врагов Церкви и православия. Все эти полемические сочинения представляют собой не что иное, как разного рода споры, нападки, ответы, возражения, уточнения, отчеты о диспутах (в то время очень любили словесные состязания, и, как можно легко себе представить, наш старый ритор блистал в них). Желая прибавить к жизнеописанию своего учителя список его произведений, Посидий не находит ничего лучшего, как классифицировать их соответственно тем врагам Церкви и православия, на которых Августин с такой яростью нападал.
1. Против язычников.
2. Против астрологов.
3. Против иудеев.
4. Против манихеев.
5. Против присциллиан.
6. Против донатистов.
7. Против пелагиан.
8. Против ариан.
9. Против алоллинаристов.
Не следует думать, что все эти споры имели равное значение в глазах Августина. Арианство, например, отчасти отошло на второй план, после того как Феодосий и Константинопольский Собор 381 г. обеспечили в империи победу никейского православия. С тех пор
114
ариане могли вербовать себе сторонников лишь среди обращенных Вульфилой германцев. Долгое время святой Августин вел борьбу с арианством лишь, так сказать, письменным образом, пока в конце жизни не столкнулся с арианскими священниками, пришедшими вместе с войсками варваров, которые были присланы из Италии в Африку для подавления восстания, поднятого графом Бонифацием (427 г.). Если отбросить споры второстепенного характера, то всю церковную деятельность Августина можно разделить на три последовательных периода:
с 387 по 400 г. борьба против манихеев,
с 400 по 412 г. — борьба против донатистов,
с 412 по 430 г. — борьба против пелагиан.
Продолжая эту «игру в дайджест», можно в четырех кратких лозунгах сконцентрировать сущность творчества и борьбы великого церковного учителя:
За философию сущности — против манихейства!
За учение о Церкви — против донатистов!
За богословие истории — против язычников!
За победу благодати — против пелагиан!
Эта схема окажется полезной лишь в том случае, если мы не забудем, что ока всего лишь схема. И действительно, несмотря на то, что в первые годы своей христианской жизни Августин потратил очень много усилий, обличая и опровергая своих бывших друзей манихеев, стараясь исправить последствия своей прошлой пропаганды в их пользу, все же этот период его жизни с еще большим правом можно назвать периодом философским. Именно в это время, вдохновленный идеалом христианского неоплатонизма, он создает свои «Диалоги». Первые из них, написанные под большим, с точки зрения литературной формы, влиянием Цицерона, относятся к осени 386 г., т. е. к тому времени, когда Августин находился в кассисиакумском затворе. Что же касается полемической стороны «Диалогов», то она была обращена как против скептицизма Новой Академии, так и против манихейского пессимизма.
С другой стороны, сразу же после принятия священства святой Августин столкнулся с трудной проблемой донатистского раскола, который начиная с 312 г. раздирал Африканскую Церковь. Вся эта история, как, впрочем, и другие схизмы, совершенно абсурдна. Все началось с каких-то споров, связанных с выборами карфагенского епископа,— подробности этих споров нам сегодня не вполне ясны.
115
Вообще говоря, речь идет об одной из многочисленных в ту эпоху «чисток», которые начинались всякий раз, как только заканчивался очередной период гонений (в данном случае гонений, предпринятых императором Диоклетианом). Как всегда, тут столкнулись мужественные и слабые — ведь, как хорошо известно, самые пламенные сторонники моральной и церковной строгости не всегда в минуту опасности оказываются самыми стойкими. Положение было очень тяжелое, ибо Церковь восстала против Церкви, а во многих городах (включая Гиппон) — епископ против епископа. Причем конфликт включал также элементы политические и социальные (хотя и облекавшиеся в религиозную форму). Донатистская партия вербовала себе сторонников в менее романизированных берберских провинциях из среды бедного крестьянства, угнетаемого крупными землевладельцами. Таким образом, донатистская смута принимала форму социального протеста, бунта и крестьянского восстания. Святой Августин приложил много усилий, стараясь победить своих несгибаемых противников, упрямо отказывавшихся от восстановления единства. Борьба, начавшаяся в 394 г., когда Августин написал ритмическими стихами на народной латыни свой «Алфавитный псалом», закончилась великими дебатами в июне 411 г., проходившими под председательством императорского посланника в Карфагене. Эти дебаты привели к полной победе Августина и вселенского православия.
В том же 411 г. в жизни нашего епископа произошел решающий поворот. После карфагенских дебатов с донатистами было покончено, хотя святому Августину пришлось вести полемику с ними еще вплоть до 418-420 гг. Императорская власть окончательно осудила донатистов и начала гонения на них (Августин с большим трудом смирился с подобным вмешательством светских властей в церковные дела). Единство было восстановлено рукой грубой и тяжелой. (Подобным же образом в эпоху куда более позднюю Людовик XIV расправлялся с протестантами причем не менее эффективно.) Наконец-то святой Августин мог, казалось бы, надеяться на какую-то передышку. Но уже в конце лета того же года произошло важнейшее событие — Карфагенский Собор осудил Целестин, который был учеником Пелагия, то есть осудил тем самым заблуждения Пелагия. Начался новый период доктринальной борьбы, а для Августина период суровых испытаний. Выходец из Великобритании (некоторые исследователи полагают даже, что имя Пелагий это греческая транскрипция кельтского имени Морган), Пелагий вначале обосновался в Риме, но затем, спасаясь, как многие другие, от нашествия Алариха, укрылся в Африке. Он пытался войти в сношения с гиппонским епископом, но тот ответил ему кратким (двенадцатистрочным) посланием. Это послание — настоящий шедевр уклончивой осторожности.
116
Весьма вероятно, что Августина заранее предупредили об опасности учения Пелагия. Пелагий был настоящим монахом, аскетом, пользовавшимся всеобщим уважением. Он заботился о духовном прогрессе и настаивал прежде всего на усилиях со стороны человека. Но Пелагий ставил слишком сильный акцент на человеческой воле и ее действенности. Это привело его если не к отрицанию, то, по крайней мере, к преуменьшению значения Божественного вмешательства, предопределения и благодати для жизни и спасения человека. Пелагианское учение оказалось в полном противоречии с богословием и внутренним духовным опытом такого обращенного, как святой Августин. Понятно, что Августин не мог остаться в стороне. Он ответил очень ясно и решительно. Но на этот раз ему пришлось иметь дело с весьма сильным «неприятелем»: Пелагий, Целестий, а после них удивительный Юлиан, епископ Экланский, этот неутомимый противник, с которым Августину пришлось бороться на закате своей жизни, все они оказались куда более опасными соперниками, чем донатисты и африканские манихеи, с которыми ему раньше приходилось иметь дело и которые были в основном довольно посредственными личностями. Столкнувшись с пелагианами, святой Августин затем с неизменным уважением говорил об этих великих и изощренных умах. И действительно, это были люди поистине замечательные, обладавшие огромной культурой (достаточно сказать, что Юлиан считался лучшим со времен Тертуллиана знатоком латыни), тонкие логики, диалектики, спорщики, способные противостоять самому Августину, который почувствовал это очень скоро. А что сказать об их тактике, об их умении взывать то к одному Собору, то к другому, то к епископам Африки, то к греческому Востоку, то к Папе Римскому, то к его преемнику... Пелагиане, не задумываясь, пользовались аргументами, так сказать, личного порядка. Когда святой Августин напоминает им об учении апостола Павла, наиболее традиционном, неизменном и очевидном учении Церкви, они, стараясь ответить Августину, начинают рыться в его писаниях и в его прошлом, пытаясь доказать, что он сам себе противоречит (не он ли сразу же после обращения, полный воодушевления, посвятил три книги прославлению свободы воли?). Пелагиане утверждали также, что строгая чистота августиновского учения есть не что иное, как реакция раскаявшегося грешника (вот Пелагий, например, в детстве не воровал груш из соседского сада и затем ни с кем не сожительствовал!) или — что еще хуже — пережиток манихейского прошлого.
Будучи подлинными наследниками традиций классической философии — традиций диалога и диспута, — пелагиане умели весьма искусно преследовать противника на его собственной территории, выявляя крайности, скрывающиеся в принципах, которые тот
117
исповедовал. Например, Карнеад действовал таким образом против стоиков, взваливая на них ответственность за те крайние выводы, которые можно было извлечь из их знаменитых парадоксов. Когда же Августин противопоставлял пелагианскому оптимизму сокрушительный довод — литургическую практику крещения только что родившихся младенцев, которых невозможно упрекнуть в каком бы то ни было сознательно совершенном грехе, пелагиане задавали ему вопрос: как быть с теми бесчисленными несчастными невинными младенцами, что умерли без крещения и, следовательно, осуждены на вечные муки? Где в этом случае пребывает справедливость Божия?
Вся эта обстановка споров и дискуссий оказала огромное влияние на творчество последних лет жизни святого Августина, определила направление его последующего влияния. Именно в результате полемики с пелагианами Августин вошел в историю исключительно (или прежде всего) как богослов первородного греха, предопределения, благодати, как христианский моралист, давший оригинальное учение о природе вожделения, о беспомощности человека, предоставленного лишь своим собственным силам. Перед лицом пелагианского рационализма и натурализма (ибо для Пелагия благодать это именно наша прекрасная человеческая природа, с присущей ей свободой, природа, дарованная нам Творцом) святой Августин оказался представителем наиболее истинной и неизменной христианской традиции (что делать Пелагию с соблазном Креста?), защитником Бога, глашатаем Его трансцендентности и Его неизреченной непостижимости. Все это не вызывает сомнений, но очевидно также и то, что, отвечая пелагианам, Августин не всегда выдерживает нужный тон. И в этом отношении Церковь никогда не заблуждалась. Церковь считает необходимым сохранение некоей зоны неопределенности вокруг тех сложнейших проблем, которые, с человеческой точки зрения, представляются почти неразрешимыми. Относительно этих проблем Церковь весьма точно определила свою позицию — гораздо более умеренную, чем позиция Августина, чья система никогда не казалась Церкви полностью приемлемой.
Необходимо иметь ясное представление о той легкости, с какой Августин поддавался своему внутреннему порыву, когда в пылу сражения должен был отвечать на удары упорных и искусных противников. И как всегда бывает в подобных случаях, в конце концов ему приходилось принять сражение на территории, выбранной его врагами. Его система стала слишком рациональной, он, можно сказать, чересчур преуспел в своем стремлении объяснить все. Прижатый к стене, Августин был вынужден прибегать к утрированию — если не своей мысли, то, по крайней мере, своих формулировок. Традиционный прием античных риторов необходимо доказать большее, чтобы не
118
пришлось отдать меньшее. Это напоминает военную тактику: оборона должна начинаться с линии, находящейся достаточно далеко от позиций, которые необходимо удержать.
Для правильного понимания Августина необходимо учитывать не только его антипелагианские писания, но также и те его труды, в которых отразилось официальное церковное учение, тот катехизис, который он дал своему народу. Здесь Августин предстает перед нами в совершенно ином облике куда более благостном, чем пугающий образ богослова, давшего учение о предопределении, богослова, для которого вопли грешников, осужденных на вечные муки, есть, так сказать, своего рода необходимый диссонанс в той райской музыке, что услаждает слух избранных. И все же нельзя забывать о крайностях учения Августина. Перечитывая его сочинения, относящиеся к 412-430 гг., на каждом шагу сталкиваешься с местами, которые можно было бы назвать ловушкой для Янсения. Последователи Августина нередко извращали его подлинные мысли, однако ответственность за это в значительной мере лежит прежде всего на самом Августине.
Но, хотя полемика и занимает столь значительное место в творчестве Августина, нельзя сводить к ней все его творчество. Составленный Посидием каталог сочинений святого Августина носит несколько искусственный характер. К девяти первым рубрикам этого каталога, включающим сто шестьдесят полемических сочинений Августина, следовало бы прибавить десятую, объединяющую разные «полезные для всех» августиновские сочинения, — одна только эта рубрика насчитывала бы четыреста семьдесят пять названий... Легко понять затруднения бедного Посидия: ведь вся эта огромная совокупность писаний, «весьма полезных всем ученым», не поддается никакой классификации. Какой бы системы ни придерживаться, всегда остается нечто сверх — богатство ума самого автора, активно тяготевшего ко всему на свете (очень показательно в этом отношении сочинение под названием «О восьмидесяти трех разных вопросах», в котором действительно можно найти всего понемножку), а также разнообразие тех задач, которые он должен был выполнять, служа Церкви. Незадолго до смерти Августину пришлось по настоянию некоего диакона — вероятно будущего епископа Карфагенского (имя которого означает буквально «То, чего желает Бог») — составить перечень всех ересей: их оказалось восемьдесят восемь, начиная с Симона Мага и кончая, ясное дело, Пелагием и Целестием! С другой стороны, классификацию затрудняет специфический характер мышления Августина — он обычно избегал резких разграничений. Не всегда легко установить, где кончается философия и где начинается богословие, или где начинается мистическое озарение. Так же нелегко
119
отнести то или иное сочинение Августина к определенному литературному жанру. Например, некоторые из двухсот двадцати четырех его писем по своему значению могут быть приравнены к настоящим научным трактатам, и сам Августин в «Поправках» оценивает их именно таким образом. Это объясняется античной практикой распространения книг: в ту эпоху (то есть задолго до Гутенберга) «издать» книгу означало просто пустить в оборот единственный типовой экземпляр сочинения, разрешая при этом читателям делать копии. Поэтому трудно отличить обыкновенное письмо от настоящего трактата, часто начинавшегося каким-нибудь посвящением. По тем же причинам зачастую трудно отличить проповедь от научного исследования.
Мы не будем здесь останавливаться ни на философских диалогах, ни на догматико-богословских сочинениях, подобных труду «О Троице». Поговорим о другом. Гиппонскому епископу, как пастырю, приходилось заниматься практическими, жизненными проблемами христиан. Отсюда небольшие трактаты, посвященные нравственному богословию, такие, например, как «О лжи», «0 посте», «О девстве», «0 достоинстве брака» (в традиционном католицизме святой Августин остается великим богословом христианского брака). Кроме того, в августиновской переписке можно найти много писем, в которых даются богословские советы по самым разным поводам, а также назидательные письма духовным детям. И все это облечено в изысканные формы церемонной византийской учтивости.
Особое место в творчестве Августина занимают так называемые педагогические сочинения, такие как «0 духовном вразумлении простых людей» — маленький трактат, представляющий собой как бы введение в основы религиозной жизни, или такие как «Христианское учение» теоретический труд, разрабатывающий основы христианской культуры, библейской науки и церковного красноречия. Впоследствии эта работа оказала огромное влияние на развитие средневековой культуры.
Наконец, следует отметить то значение, которое имели чисто экзегетические труды Августина. Для него Священное Писание есть сумма всей истины, источник всякого учения, средоточие всей христианской культуры и всей духовной жизни. Его богословие и катехизис непосредственно вытекают из Библии. Чем больше знакомишься с произведениями и стилем святого Августина, тем более отчетливо ощущаешь в его творчестве присутствие Священного Писания. Дотошные эрудиты установили, что в полном собрании сочинений Блаженного Августина, подготовленном бенедиктинцами Конгрегации святого Мавра, имеется тринадцать тысяч двести семьдесят шесть цитат из Ветхого Завета и двадцать девять тысяч пятьсот сорок — из Нового. В действительности же такого рода отголосков у Августина гораздо
120
больше, хотя невозможно назвать их точное число, ибо трудно отделить прямые цитаты от парафраз, искусно вставленных в новый контекст, а эти парафразы от сознательных или бессознательных реминисценций. Став человеком Церкви, святой Августин столь же полно проникся Библией, как раньше, в юности, — сочинениями Цицерона и Вергилия. Поэтому стиль Августина характеризуется обилием чисто библейских элементов (как, впрочем, несмотря на все усилия нашего епископа, и обилием отголосков античной литературы). К тому же святой Августин, обогащая свой стиль элементами Священного Писания, делал это совершенно сознательно. Замечено, что больше всего библейских цитат или подражаний Библии можно найти именно на тех страницах сочинений Августина, над которыми он работал более всего, там, где он стремился передать читателю то или иное особенно сильное религиозное переживание. Как писатель Августин намеренно отступает на задний план, сознательно стремясь к тому, чтобы его, человеческое, слово умолкало и уступало место вдохновенному Слову Бога.
Итак, мы видим совершенно особую привязанность Августина к Писанию, к изучению Писания. По крайней мере шесть раз он истолковывал первую книгу Библии: «О Бытии против манихеев», «Бытие по буквальному смыслу, книга неоконченная», затем «Двенадцать книг о творении по буквальному смыслу» — один из главных экзегетических трудов Августина. Далее, «Первая книга изречений Писания», «Первая книга о разных вопросах», а также «Исповедь», кн. XI-XIII, ибо это произведение (к великому удивлению читателя, который впервые раскрывает его) завершается размышлениями о первых стихах Бытия. Мы можем лишь упомянуть здесь другие наиболее значительные произведения Августина, такие, например, как удивительное «Изложение псалмов»; некоторые из этих произведений представляют собой настоящие проповеди, другие предназначены для чтения. Что касается новозаветной экзегетики, то «Согласие евангелистов» еще до недавнего времени оставалось основой всей католической экзегезы. Августину принадлежат также сто двадцать четыре беседы на Евангелие от Иоанна и на Первое послание Иоанна. Эти беседы представляют собой проповеди, где Блаженный Августин в очень простой форме излагает свое исполненное богатства и глубины учение об Евангелиях. Посланиям апостола Павла Августин не посвятил специальной беседы, но он столь часто и столь пространно рассуждал о его трудах, что эрудиты раннего средневековья (от Беды Достопочтенного до Флора Лионского) легко смогли на основе августиновских трудов составить полный комментарий к Павловым посланиям. Чувствуется, что все творчество Августина от его обращения до антипелагианской полемики вдохновлено апостолом Павлом.
121
Сочинения Августина разнообразны не только по тематике, но также и по объему: от маленьких, в несколько строчек, заметок до огромных, насчитывающих до двух тысяч страниц произведений, как, например, «Толкования». Они разнообразны и по стилю... И чтобы по достоинству оценить это, следовало бы показать, что Августин всегда оставался ритором, в совершенстве владеющим своим искусством, а затем продемонстрировать, что, вопреки мнению исследователей XIX в., считавших августиновскую риторику признаком слабости и неискренности, это искусство служило лучшему, более совершенному выражению глубоко оригинальной мысли святого Августина.
Наконец, для того чтобы по достоинству оценить оригинальность и богатство его языка, необходимо было бы установить, какое место занимает Августин в истории латинской литературы и латинского христианского языка, показать что он, в отличие от многих знатоков того времени — времени упадка, сумел говорить и писать на таком языке, который, соответствуя нормам классической латыни, был одновременно живым и понятным для самых простых слушателей, говоривших на совершенно ином латинском наречии, уже приближавшемся к тому, что впоследствии легло в основу романских языков. С другой стороны, следовало бы также показать, что в своем творчестве Августин синтезировал два противоположных направления, наблюдавшихся в христианской письменности Запада. Христианские писатели или (как это было с первыми наивно-неумелыми переводчиками Библии) неразборчиво пользовались жаргоном разных кругов христианской среды, эллинизмами, вульгаризмами и неологизмами, или — желая вернуть языку достоинство — стремились одеть новые христианские представления в обветшавшие лохмотья классической традиции (что неуклюже пытался сделать Лактанций, этот «скучнейший христианский Цицерон»). Находясь между этими двумя крайностями, Августин сумел обрести равновесие и на столетия вперед определил нормы церковной латыни.
Но для такого анализа понадобилось бы множество уточнений практического характера, а читатель вправе потребовать, чтобы после всех наших рассуждений мы наконец непосредственно обратились к самому Блаженному Августину, к его личности. Действительно, мы много говорили об Августине, но ничего не сказали о нем как о человеке. А сделать это необходимо, настолько тесна связь между его творчеством и его жизнью, между его жизнью и его мыслью.
ЧЕЛОВЕК
Об Августине мы, несомненно, знаем гораздо больше, чем о любом другом человеке античного мира (за исключением, быть может, Цицерона), но этого все же недостаточно, чтобы удовлетворить наше любопытство. До нас не дошло ни одного подлинного его портрета. Самый древний портрет Августина — латеранская фреска был создан более чем через сто лет после его смерти. На другом портрете, представляющем собой печать герцога Нумидийского и датированном примерно 636 г., черты лица Августина почти невозможно различить. До наших дней почти не дошло и воспоминаний об Августине человеке. Сохранились лишь мелкие подробности на уровне анекдота: Августин якобы страдал геморроем, а также, будучи настоящим средиземноморцем, боялся холода.
Создается впечатление, что, несмотря на слабости и болезни, которым Августин, как и всякий человек, был подвержен, он в общем обладал очень крепким здоровьем. До конца жизни (а умер он в возрасте семидесяти шести лет) Августин сохранял прекрасный слух и зрение, оставался бодрым и энергичным, хотя вел всегда очень активную жизнь. Возьмем, например, период с весны до осени 418 г.— Августину шестьдесят четыре года. Сначала он едет в Карфаген, затем отправляется с поручением в Мавританскую Кесарию, после этого возвращается обратно в Карфаген, с тем чтобы проповедовать там, и наконец возвращается в Гиппон, проделав, таким образом, около двух тысяч километров, причем, вероятнее всего, верхом, по очень трудным дорогам.
Все же нам кажется, что и легче, и плодотворнее говорить о его личности; но при этом мы будем стараться избегать всякого схематизма, ибо сущность великого человека не укладывается в прокрустово ложе каких бы то ни было общих оценочных категорий, такой человек всегда оказывается богаче и интереснее любых представлений о нем, созданных на основе той или иной схемы. И говоря об Августине, не забудем, что самое интересное для нас не то, что он мог бы сделать, но то, что ему в действительности удалось совершить. Оспаривать величие Августина может лишь человек предвзятый. Мы постараемся избавить читателя от обычных банальностей на тему о пресловутом «соединении исключительных даров сердца и духа». Историк, старающийся реконструировать творческий метод Августина (помня, что инструменты, которыми пользовался Блаженный, были весьма несовершенными), должен прежде всего обратить внимание на невероятную августиновскую память. В этой памяти, в этих, по выражению Августина, обширных хоромах, подобно неисчислимым сокровищам, хранилось все созданное его любимыми классиками, а также
123
все Священное Писание. Это позволяло нашему автору без всяких усилий нанизывать стих за стихом, рассуждая на ту или иную библейскую тему. И делал он это с виртуозностью, поразительной для современного эрудита, привыкшего полагаться не на свою память, а на разные справочники и словари.
Отметим также присущий Августину мощный дар спекулятивного мышления. Августин умел обнаружить затруднение, сформулировать его в виде той или иной проблемы и, невзирая ни на какие препятствия, разрешить это затруднение. При этом он никогда не торопился, избегая слишком поспешных выводов. Поистине увлекательно наблюдать постепенный ход развития этой великой мысли, продвигающейся вперед как бы ощупью, мысли, ценой невероятных усилий преодолевающей те существенные пробелы — и в начальном образовании, и в знаниях, — что были у Августина. Следует обратить особое внимание на парадоксальное положение: с одной стороны столь великий ум, с другой — среда, уже немало потерявшая в культурном отношении. Отсюда неровности, присущие творчеству Августина. Ибо сколько раз — о счастливое невежество! — Августин, не имея возможности почерпнуть из опыта, накопленного предыдущими поколениями мыслителей, вынужден был вставать на новый, самобытный путь. И наоборот, сколько раз — увы! — этот орел ранил крылья, безуспешно пытаясь вырваться на свободу, преодолеть тесное пространство своей клетки. Никто, например, не станет оспаривать того, что Августин часто грешил буквализмом, был неуклюжим логиком, пленником своего собственного языка: сколько раз он погрязал в несуществующих проблемах, тогда как все дело было лишь в том или ином слове! Например, давая анализ (и очень глубокий) механизма памяти, Августин с какой-то тоской говорит о парадоксе памятования забытого — здесь все трудности связаны, разумеется, с самим словом «забытое». А иногда Августы заставляет нас вспомнить о Фредегизе, этом каролингском предшественнике Сартра, философе, который столь много размышлял о бытии несуществующего — бытии слова «nihil» (лат. «ничто»). Но не будем забывать и о том, что, если Августин иногда и грешит словом, он все равно остается, подобно Платону, подлинным художником слова, великим писателем, умевшим отлить свои глубокие и оригинальные идеи в чеканную форму. И уже за одно это многое можно простить Блаженному Августину.
Стиль Августина отражает не только многообразие его риторского мастерства, но также все богатство и тонкость его натуры. В Августине нет и следа той сухой рассудочности, которая стремится свести все к голой схеме. Настолько сильна была его эмоциональная восприимчивость, что он никогда не забывал даже самых малых подробностей
124
пережитого. Он, например, так и не смог забыть тех розог, которые получил в школьные годы. (В античные времена полагали, что порка не противоречит принципам педагогики.) Мы можем прочесть об этом не только в «Исповеди», где воспоминания о таких вещах вполне уместны, но также и в «Граде Божием», на одной из страниц которого семидесяти двух летний епископ, вспоминая об этом эпизоде своего детства, все еще не может успокоиться и буквально вопиет: «Да и кто не пришел бы в ужас и не предпочел бы умереть, если бы ему предложили на выбор или смерть претерпеть, или снова пережить детство!» (3). Отметим также склонность Августина к слезам, о которой свидетельствуют столь многие эпизоды, связанные с его обращением или священнической жизнью. Несомненно, здесь мы имеем дело с явлением, которое в христианской аскетической литературе носит название «дар слез», дар, который знаменует собой внутренний духовный рост подвижника. Правда, тот, кто изучал нравы августиновской эпохи, имеет полное право сказать, что слезы — характерная черта того времени, ибо тогда, во времена Нижней Империи, люди охотно проливали целые «океаны» слез, подобно тому как это происходило в нашем чувствительном восемнадцатом столетии. Но у Августина, как мы полагаем, в этом проявлялось нечто более глубокое и характерное для его натуры.
Непрерывно углубляющееся самосознавание, иными словами изощренная самоанализом эмоциональная восприимчивость, была связана с не менее богатым чисто человеческим жизненным опытом Августина. С точки зрения нравственной и духовной, жизнь и учение Блаженного Августина отличаются большой строгостью, но эта строгость ничего общего не имеет с бесчеловечной сухостью того, кто по своему невежеству с осуждением относится к богатствам жизни и красоте сотворенного мира. Так же чужд Августин и пуританскому духу, подавляющему все живое. У Августина нет ничего общего с пуританином, который с беспокойством заглядывает за ограду, но не смеет ее переступить. (Пуританин — это именно Пелагий, сухой моралист, чье холодное и высокомерное благочестие напоминает белое погребальное покрывало. Такой пуританин настойчиво твердит о неукоснительном следовании закону. Но «как трудно сохранять пути Господни!») Ничего подобного нельзя найти у Августина, для которого все — любовь и преизбыток любви. Он умоляет нас возлюбить Бога, истину, умопостигаемый Божий мир, душу, возлюбить больше тела, ибо, познав ограниченность земного совершенства, оставляющего на устах вкус горечи, он понял, что сердце человеческое способно на большее. Но никогда Августин не отрицал реальности внешних, земных благ (тем более что в процессе полемики с манихеями он постиг несубстанциональностъ зла). Достаточно услышать, как
125
говорит об этом сам Августин. Даже там, где он как христианин, аскет и богослов торжественно говорит о том, что всему предпочитает любовь к Богу непознаваемому, сама музыка августиновских слов передает все его восхищение перед Божьим творением, земные блага которого столь вожделенны для слабого сердца человеческого: «Что же именно люблю я в Тебе? Не телесную красоту, не временную славу, не блеск света, которым ты услаждаешь глаз мой, не нежные мелодии всевозможных напевов, не приятный залах цветов и ароматов, не манну и мед, и тела, доступные плотским объятиям, не это люблю я, любя Бога моего, и все-таки люблю какой-то свет и какой-то голос, и какой-то запах, и какую-то пищу, и какой-то предмет объятий, когда люблю Бога моего, свет, голос, пищу, благоухание и предмет объятий для внутреннего человека моего» (4).
Перед тем как начать проповедовать другим, Августин подчинил свою жизнь строгим духовным требованиям — вполне естественное внутреннее побуждение человека, который сам вначале был грешником и понимал, как легко заблудиться на тех многообразных путях, которые должны были бы приводить нас к Богу. Августин по опыту знал всю тираническую силу вожделения, привязывающего душу к телу узами столь нежными и столь жестокими.
Итак, натура очень впечатлительная и в то же время очень сложная. (Люди нового времени, наивные, сами ставшие варварами, то есть утратившие связь с греческой и латинской культурой, с трудом верят, что Августин мог испытывать столь тонкие чувства. Но вспомним, что, живя в эпоху упадка греко-римской культуры, он впитал наследие древнейшей цивилизации, утонченной, можно сказать, до предела.) Погружаясь в творчество Августина, чувствуешь, каким он был застенчивым и легко ранимым, с каким трудом раскрывался навстречу другим людям. Безусловно, в этом отчасти сказывалось и социальное происхождение Августина (он совсем не походил на своего друга Алипия, человека более высокого происхождения, более богатого и отнюдь не застенчивого). Однако не вызывает сомнений и другое: скромность, замкнутость, ранимость — все эти черты изначально присуши Августину, и в этом он совсем не похож на свою мать Монику. Так, например, однажды в Милане у Моники, очень благочестивой христианки, возникли вопросы, связанные с обрядом. Она нашла вполне естественным послать своего сына к епископу, с тем, чтобы тот разрешил их. Августин и сам очень хотел повидаться с Амвросием и посоветоваться с ним по поводу своих, куда более томительных затруднений. И действительно, он отправляется к святому Амвросию, входит в открытые для всех покои и видит епископа читающим в полном одиночестве и тишине. Августина охватывает смущение, и он удаляется восвояси. Так продолжается несколько раз. Какой
126
характерный эпизод! Отзвук всего этого мы слышим в трактате «0 наставнике», где Августин весьма тонко и глубоко анализирует трудности, с которыми сталкивается человек, пытающийся войти в общение с другим человеком, понять его...
И, как часто бывает с людьми застенчивыми, коль скоро препятствия преодолены, какая появляется щедрость в дружбе, какое мощное влияние на других! Святой Августин очаровывает всех тех, перед кем он по-настоящему раскрылся, переворачивает их жизнь и ведет их за собой. О богатстве его сердца свидетельствует верная и пылкая дружба множества людей, сопровождавших его на протяжении всей жизни, — учеников, последователей, всех тех, кто стал впоследствии монахами или епископами. Мы знаем, что у Августина были противники, оспаривающие его идеи, но мы знаем также, что у него не было врагов (донатисты и пелагиане распространяли о нем сплетни, но сами по-настоящему его не знали).
Конечно, у Августина были и свои несовершенства. Я не сомневаюсь, что читатель здесь уже начеку, и (если только он не злорадствует) это вполне естественно. Нам всем уже давным-давно набили оскомину жития святых, написанные в стиле «Сен-Сюльпис» (парижский квартал, где находятся магазины, торгующие церковными принадлежностями. Прим, ред.), то есть в слащавых, розово-голубых тонах. Но куда лучше ощутить святых такими, какими они были в жизни, людьми, подобными нам, со всем несовершенством их натуры, порой с весьма отталкивающими чертами характера, людьми, спасая которых, благодати пришлось немало потрудиться.
Ясно, что труднее всего Августину было преодолеть гордостьСвятой Иероним (нам уже приходилось говорить, что вначале их отношения с Августином были нелегкими) не постеснялся как-то назвать его «маленьким выскочкой». И даже после того как Иероним, смягчившись, обратился к Августину с посланием, исполненным христианской любви, тот долго еще чувствовал себя уязвленным. Для такого человека, как Августин, мало что значили внешние почести, воздаваемые, например, епископу (епископское седалище, задрапированное разноцветными тканями и установленное на возвышении в глубине абсиды, стройные ряды монахинь, торжественно, с пением выступающие навстречу епископу). Но если Августин с легкостью отказался от власти и богатства, которыми мог бы обладать как князь Церкви, то нельзя сказать, что он был столь же равнодушен к мнению людей о нем самом и его книгах. Похвалы были весьма приятны его сердцу — он сам не раз в этом признавался. Но оставим мелочные упреки, не будем смешивать подлинное христианское смирение с его жалким подобием. Тут весьма уместно вспомнить святого Фому Аквинского, который учит нас, что истинное благородство
127
человеческого духа проявляется именно тогда, когда человек начинает понимать свое подлинное значение. Такое самосознание, согласно Фоме Аквинскому, есть добродетель, и притом свойственная именно великим душам.
Августин вполне сознавал свою одаренность, величие своих дел, и он поистине сумел восславить Того, Кому как сам он постоянно говорит был обязан всем. Это, конечно, не означает, что у нашего героя, хотя бы в какой-то степени, не было самолюбия, вообще свойственного всякому интеллектуалу, способному скорее переоценить, чем недооценить, вклад, который он может внести в любое — даже Божье — дело.
В оправдание Августина необходимо сказать, что по причине своего величия он находился как бы в некоторой изоляции. Кроме того, не забудем, что в глазах многих он был «выскочкой», провинциалом, а в его образовании имелись серьезные пробелы (незнание греческого языка и т. д.). По сравнению с ним Иероним, например, знал греческих ученых того времени, по крайней мере имел какие-то связи со всеми своими великими современниками— с Аполлинарием Лаодикийским, Дидимом Александрийским, Григорием Назианзийским и Григорием Нисским. А наш бедный Августин так никогда и не смог разобраться во всех этих Григориях... Еще раз подчеркнем: до встречи с пелагианами Августин боролся с противниками, которые были людьми незначительными и весьма посредственными. Поэтому вполне естественно, что в результате он оказался как бы наедине с самим собой, и в известной мере это объясняет некий персонализм, присущий его характеру. Разрабатывая свое учение, принимая непосильные труды, Августин пребывал в полном одиночестве.
Как это ни странно, мы, несмотря на многочисленные исследования, почти ничего не знаем о том, как, собственно говоря, работал Августин. Мы не «видим» ни его «мастерской», ни его библиотеки. (Об Оригене, например, мы знаем куда больше, хотя жил он гораздо раньше Августина. У Оригена было семь стенографов, попеременно сменяющих друг друга, группа редакторов и нечто вроде машинописного — каллиграфического — бюро, где переписывались его сочинения.) Августин же предстает перед нами в полном одиночестве. Конечно, у него были друзья и коллеги, такие как Алипий Тагастский и Аврелий Карфагенский. Но то были соратники в общей борьбе, а не сотрудники, помогавшие в умственных трудах; исключение составляет, быть может, лишь Аросий, молодой испанский священник, живший какое-то время в Гиппоне (414-415 и 416-417). В его книге — историческом труде — чувствуется несомненное влияние «Града Божия», над которым Августин тогда работал. Но это, как уже было сказано, одно из редчайших исключений.
128
Итак, у Августина можно отметить некую сосредоточенность на себе самом, некоторое, можно даже сказать, высокомерие по отношению к другим. Для Августина была характерна также некоторая поспешность в решениях — черта, ярко проявлявшаяся в полемике, которую он вел. Стоило только Августину услышать о появлении новой книги кого-либо из его противников, как он тут же обрушивался на нее, проявляя горячность, неожиданную для человека высокой духовной жизни, занятого неторопливыми изысканиями.
Но, несмотря ни на что, люди последующих поколений не ошиблись относительно самого главного, самого важного в святом Августине. В иконографии он неизменно предстает перед нами с двумя атрибутами: развернутой книгой — символом науки — и пылающим сердцем — символом любви; одно неотделимо от другого. Этот созерцатель, этот мыслитель вместе с тем человек очень страстный, легко загоравшийся по любому поводу; для Августина истина не только объект познания, но также (и быть может, прежде всего) объект любви.
Несомненно, перед нами мыслитель очень строгий, глубоко рациональный. Об этом приходится говорить, поскольку даже самые верные его последователи порой обманывались на этот счет. Святой Августин скорее всего не согласился бы с известным паскалевским изречением (по крайней мере с тем смыслом, который обычно вкладывают в него сегодня): «У сердца свои причины, недоступные рассудку. Именно сердце зрит Бога, не рассудок. Вот что такое вера — Бога мы ощущаем сердцем, а не рассудком». (Весь современный антиинтеллектуализм сконцентрирован в этих знаменитых словах!) Несомненно, для Августина вера есть дар Бога и одновременно нечто такое в человеке, что неоспоримо превосходит чисто рассудочный опыт. Но вера это именно то доверие, которое мы по собственной воле оказываем авторитету, признаваемому нами Божественным, и это происходит по неким «благим причинам», в свою очередь поддающимся объяснению. Объект же этого акта доверия не есть (о ужас!) нечто «чувственно» познаваемое это исповедуемые нами догматические истины о Боге Едином и Троичном, о Боге Воздающем и Боге Милосердном, о Глаголе, единосущном Отцу и воплотившемся ради нашего спасения...
К этой истине человек идет путем веры и разума, и она обращена ко всему человеку, а не только к его уму. Вспомним образ, с помощью которого святой Августин выражает сущность своей теории познания: Божественное солнце, просвещающее наш дух — ибо истину мы зрим именно в лучах этого солнца, — это не только «огнь пожирающий», перед которым человек, подавленный его величием, страшится и трепещет, но также и тот огонь, что согревает наше сердце.
129
Истина несет в себе сладость, красоту, нежность и насыщение. Здесь мы затрагиваем вопрос, вызывавший за последние двадцать лет много споров: был ли Августин мистиком? Если мы откажемся от формулировок, прямо заимствованных у святой Терезы и святого Иоанна Креста, то ответ на этот вопрос может быть только утвердительным (ибо возможны разные формы мистического опыта, и, самое главное, концептуальная разработка такого опыта может очень сильно отличаться от той, какую проделали великие испанские мистики). Вне всяких сомнений, душа Августина в своем порыве устремлена к Божественному созерцанию, а само это созерцание питается тем познанием Бога, которое есть, в каком-то смысле, соприкосновение с Богом, опыт непосредственной встречи с Ним, встречи, наполняющей душу счастьем небывалого расцвета. Но, конечно, такой мистический опыт есть удел мыслителя, философа и богослова, который жаждет познать то, что он любит, а также и причины своей любви.
Подобно всем истинным мистикам, святой Августин постоянно подчеркивает несовершенный характер человеческого опыта богопознания. По Августину, встреча с Богом это не более чем мгновенное, как вспышка молнии, восхищение души, устремленной к Высшему, и такое видение скорее всего нельзя отождествлять с непосредственным созерцанием самой сущности Бога. Лишь преодолев границы нашего земного существования, преодолев само время, в котором свершается история раздираемого противоречиями человечества, душа человека, стяжав мир Града Небесного, обретает вечный покой, насыщенный блаженным созерцанием Бога.
Все же, невзирая на всю неполноту и относительность того «наслаждения Богом», какое только и возможно в земной жизни, именно к этой цели направляет человек все усилия ума, именно ради этой цели внутренне очищается. Другими словами, именно в этом заключается смысл человеческой жизни. Правда, такая ориентация на «наслаждение» приводит иных в смущение: не унизительно ли для достоинства человека и Бога такое представление о смысле человеческой жизни? Не будем в связи с этим вновь возвращаться к спору о чистой любви. Ограничимся лишь двумя замечаниями. Во-первых, мысль святого Августина естественным образом отливалась в традиционные формы, свойственные эпохе. От начала эллинистического периода все развитие античной философии было связано с проблемой «высшего блага», достигая которого, человек осуществляет свое «предназначение», познает истинное счастье.
Но что еще важнее, такая философия идеальным образом соответствовала конкретному и неизменному мышлению Августина. И как тут опять не вспомнить Паскаля: «Кто слишком уж стремится стать ангелом, рискует превратиться в животное». Философы,
130
претендующие на полное «бескорыстие», выдвигают абстрактные теории, ничего общего не имеющие с действительностью, тогда как мысль Августина, наоборот, глубоко укоренена в жизненном опыте, опыте земного существования, который, хочешь не хочешь, всегда предшествует мышлению. В этом опыте, еще до познания «Другого», человек открывает самого себя, но он постоянно ощущает, насколько неудовлетворительно такое раскрытие, ощущает отсутствие в себе подлинной самодостаточности. Вместе с тем в человеке возрастает напряженное желание раскрыться, преодолеть границы своего существа. Отсюда известное речение Августина: «Ты создал нас ради того, чтобы мы искали Тебя, и душа наша дотоле томится, не находя себе покоя, доколе не успокоится в Тебе» (5).
Великая заслуга Августина в том, что он нашел решение знаменитой проблемы «высшего блага». «Высшее благо» есть не что иное, как Бог. Бог — наше счастье именно потому, что Он, Бог, есть Существо вечное, неизменное, совершенное, бесконечное... И как только человек начинает понимать это, он в каком-то смысле забывает себя, полностью отдается Богу и как бы растворяется в благоговении перед Его бесконечностью. Всю сущность подлинного августинизма можно свести к этой диалектике «выхода из себя самого», преодоления границ своего существа. По своему содержанию такое мировоззрение вполне может быть названо экстатическим.
Могут спросить: каким образом человек приходит к такому открытию? Каким должен быть путь к Богу? (Ибо недостаточно знать, куда идти, необходимо также знать, как достичь цели.) И здесь мы опять сталкиваемся с конкретным характером августиновского мышления, неотделимого от реальности жизненного опыта. Святой Августин никогда не задавался теоретическим вопросом о том, как обратить атеиста, прибегая к помощи чисто рациональных приемов и тем самым побуждая его согласиться с аргументами, доказывающими существование Бога. Зная, как долго человек может блуждать вдали от Бога, Августин требует от него, человека, прежде всего веры. Именно в Церкви и посредством Церкви, в Писании, которое Церковь раскрывает и помогает понять, человек может, и притом не рискуя впасть в заблуждение (ересь), получить и действительно получает необходимое для спасения познание Бога.
Познание верой и познание умом вот две основы августиновской системы или, лучше сказать, августиновского образа мышления. Но первенствующее положение веры есть чисто практическое следствие августиновского подхода, оно совсем не означает унижения ума, пренебрежения им или уничтожения его (что было бы ересью, фидеизмом). С одной стороны, познание верой предполагает усилие ума: «Не поймешь — не поверишь», — как любил повторять святой Августин.
131
Вера не есть бездумное повторение тех или иных исповедальных формул. Ум должен понимать то, что произносят уста. На этом святой Августин строит всю свою теорию христианской интеллектуальной культуры, христианского познания. Такое познание в основном направленное на изучение Писания определяется как некое движение ума, благодаря которому вера не только рождается в нас, но и питается, защищается и укрепляется.
Такова, по крайней мере, программа общей культуры, но есть еще иная, более возвышенная культура, культура созерцателя, философа и богослова. Придя через веру к обладанию истиной, святой Августин направляет все усилия своего ума, чтобы «понять», непосредственно ухватить эту истину. Таким образом, только что процитированной нами формуле «Не поймешь — не поверишь» соответствует другая, противоположная: «Не поверишь — не поймешь», или «Верь, да, но для того, чтобы понять». Вера просвещает, направляет и поддерживает ум, который, будучи предоставлен сам себе, подвергся бы слишком большой опасности впасть в заблуждение. «Вера ищет, а ум находит».
Святому Августину были прекрасно известны те пределы, которых не может перейти ум человека, ищущего Бога в условиях земного существования. Таким образом, неполнота мистического опыта соответствует ограниченности богословского поиска. Однако необходимо правильно оценивать сложное содержание того, что Августин называл тайной веры. Еще совсем недавно в это понятие вкладывалось исключительно негативное содержание. Тайну веры рассматривали как некий запрет, налагаемый на ум, как нечто такое, что никогда не может быть познано. Но святой Августин вкладывает в это понятие и положительное содержание. Конечно, тайна эта обладает и неисчерпаемым богатством, но в ее лоне ум бесконечно просвещается, идет от света к свету — никогда не достигая конечной цели, но зато постоянно достигая все большей и большей ясности. Августин призывает нас стремиться к бесконечной цели, как если бы она была достижимой, и говорит, что мы достигнем ее, если наше устремление к ней будет бесконечно...
Теперь, если мы попытаемся уточнить сущность августиновского мышления с точки зрения его целенаправленности и метода, мы должны будем констатировать, что всю свою жизнь Августин оставался верен словам, которые содержатся в его «Монологах»: «О Боже вечный, если бы я мог познать, кто я и кто Ты!» (6). С точки зрения Августина всякая философия должна иметь два основания — познание Бога и познание души. Первое цель, второе — средство. (Ибо, в некотором смысле, душа более непосредственно открыта взору, чем Бог.)
132
Рассмотрим более пристально эту формулу, в которой отразилась вся оригинальность августиновского учения: «Бог и душа. А другое? Ничего другого!» (7). Сразу же бросается в глаза некая, так сказать, «аскетичность» этого речения, не оставляющая места для философии природы и мира. Как это непохоже на греческих Отцов, в полной мере унаследовавших всю творческую широту стоицизма! Греческие Отцы размышляли о великолепии сотворенного мира, дабы в торжественном гимне прославить Создателя. По сравнению с ними Августин, несомненно, предстает мыслителем куда более ограниченным, у него явная атрофия космической составляющей спасения (или, как сказали бы сегодня, его учение лишено космического измерения спасения). Иными словами, у него отсутствует то, что столь характерно для учения апостола Павла. Нет ничего более разочаровывающего, чем августиновское толкование известных строк из Послания к Римлянам (8.18-24), где говорится о творении, которое, ожидая «откровения сынов Божиих», «стенает и мучится доныне». Как тут не вспомнить о Тейяре де Шардене! Толкование же Августина лишает слова апостола Павла всякой соли. По Августину, «тварь» — сам человек, ожидание — это ожидание человека, чающего своего спасения, а муки — это муки аскета... Так что от апостола Павла ничего не остается!
Но тогда какой смысл в науке (проникающей в тайны природы и мира) : «Неужели же тот, кто обогатился подобными знаниями, тем самым приятен и угоден Тебе, Господи Боже, источник всякой истины? О, несчастен тот человек, который все это знает, но Тебя не знает; напротив того, блажен тот, кто Тебя знает, хотя бы ничего этого не знал! А кто и Тебя и все это познал, тот еще блаженнее, но не вследствие богатства своих знаний, а потому только, что Тебя знает, если, познавая Тебя, прославляет Тебя, как Бога, принося Тебе благодарение, и не вдается в суету своих помышлений» (8). Трудно переоценить значение такого негативного или, по крайней мере, недоверчивого отношения Августина ко всякому познанию, не устремленному непосредственно к высшей и единственной цепи человека — вечному спасению, Богу; в глазах Августина такое познание есть не что иное, как тщетное, бесплодное любопытство, печальное следствие вожделения. Здесь мы встречаемся с наиболее существенной, наиболее характерной чертой августиновского мировоззрения. Люди последующих веков не ошиблись в этом. Из поколения в поколение дух августиновской строгости, беспокойной требовательности вновь и вновь охватывает западное сознание и ставит его перед необходимостью последнего, поистине основополагающего выбора. Чрезвычайно трудно определить масштабы августиновского влияния на западное общество
133
и культуру, оценить все положительные и отрицательные его последствия. Одно ясно — влияние это оказалось очень глубоким.
Чтобы понять метод святого Августина, необходимо ясно представлять себе учение об иерархии существ, игравшее столь важную роль в великой традиции неоплатонизма, — традиции, в рамках которой развивалась мысль святого Августина. Философию Августина можно определить как философию сущности, а не существования. (Августин прекрасно понимал разницу между этими двумя понятиями, но не придавал особого значения проблеме существования.) Отбросим блестящую, но совершенно бесплодную формулу Парменида: «Бытие есть, небытие не есть». Более конкретно подойдем к тому, что в опыте раскрывается перед нами как «существа»; совершенно очевидно, что каждое из них обладает своим качеством, своим уровнем существования, и можно классифицировать все эти существа соответственно ценности той материи, из которой соткано их бытие. На вершине мы должны утвердить Существо, Которое лишь одно обладает истинным бытием, Которое «есть» в наивысшей степени, — это Бог, в Ком обретается всякая полнота. У других, сотворенных, существ структура, если можно так выразиться, губчатая. Подобно губке, они представляют собой сочетание материи и пустоты, бытия и небытия (или как бы нехватки бытия). Все такие существа можно определить как более или менее «губчатые».
Понятен восторг юного Августина — ведь перед ним раскрылась возможность играючи разрешить проблему зла (которой манихеи были обязаны всеми своими обманчивыми успехами): зло не есть субстанция, по своей природе отличная от благой, зло есть отсутствие бытия, «дыра» в ткани существования. Всякое зло нуждается в опоре, и такой опорой служит ему сотворенная субстанция, которая сама по себе есть благо, поскольку она обладает бытием. Наиболее показателен пример Сатаны: он не антибог, апБИэеоа, он ангел — павший, но все же ангел, сохраняющий свою природу и свои столь выдающиеся качества.
Отсюда то малое значение, какое в августиновской системе отводится телу. Структура бытия и мораль отвращают нас от тела. Конечно, святой Августин знал, каким может и должно быть духовное созерцание природы. Он часто толковал стих «Небеса прославляют Бога», но не задерживался на этом созерцании и двигался дальше, минуя то, что с точки зрения его философии представляет собой лишь низшую область иерархии существ. (Для Августина характерно такое быстрое прохождение промежуточных ступеней.) Августин старался как можно быстрее достичь того, что в творении — таком, каким мы постигаем его на опыте — позволяет подняться на самую высшую ступень, встретить Бога. И это не материальный мир, каким бы
134
прекрасным он ни был (в этих поисках ключа к пониманию мира Августин отошел от астрального мистицизма, столь привлекательного для его современников), но человек, в человеке — душа, а в душе — ум и высшее ума. На этой земле нет ничего более высокого...
Заслуги Августина в этой области исключительно велики. Больше, чем кто-либо другой, он продвинул вперед науку о человеке, затрагивая самое глубинное, самое существенное в нем. С этой точки зрения наибольший интерес представляет «Исповедь», книга, которую еще совсем недавно читали по диагонали, стремясь узнать всего-навсего какие-то подробности его жизни. «В то время я ничего не умел больше, как только сосать грудь матери... потом стал и улыбаться...» (9). Даже с чисто психологической точки зрения этот рассказ поистине великолепен, ибо речь идет о мельчайших подробностях прошлого. Лишь с появлением Фрейда и психоанализа мы смогли по достоинству оценить все эти замечания о внутриутробном существовании младенца, о многообразии детской извращенности, о неизгладимых последствиях полученных в детстве травм. Но, обращая внимание лишь на подобные детали, мы рискуем упустить все остальное (а это две трети книги!) и не сможем оценить то, что, с точки зрения самого автора, наиболее существенно.
Вся «Исповедь» устремлена за пределы психологического, мы находим в ней целостную метафизическую антропологию и теологию. Рассматривая свою жизнь, жизнь человека, святой Августин открывает (и побуждает нас открыть) некую наиболее глубинную пустотелость своего существа, пустоту, которая, сама по себе, есть богоотсутствие в грехе. Но он открывает и тяготение к Богу, способность принять Его, то есть все то, о чем свидетельствует томление сердца человеческого. Спасение — это именно пришествие Бога, а жизнь по благодати есть присутствие Бога в душе, наконец познанное человеком. Такое подлинное самопознание выводит человека за пределы его существа, ведет к высшему бытию, к Богу, обращаясь к Которому, Августин говорит: «Ты... глубже моей глубины и выше моей высоты» (10). Именно в этом заключается истинная ценность «Исповеди», и именно в таком ключе следует читать и перечитывать ее. Для многих поколений христиан эта книга Блаженного Августина стала (еще до появления трактата Фомы Кемпийского «О подражании Христу») самым распространенным руководством в духовной жизни. «Исповедь» дает нам образец внутренней жизни, учит нас богомыслию, искусству преображать самые, казалось бы, незначительные обстоятельства жизни в жертву хваления и в исповедание — в двойном смысле этого слова, то есть в исповедание своих и вообще человеческих грехов, но также и в исповедание славы Божией. Перед каждым, кто именно так читает «Исповедь» Августина, полностью раскроется
135
истина слов Христа: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее» (Лк 9.24). По сравнению с таким глубочайшим проникновением в человеческую реальность насколько поверхностным оказывается культ самого себя, о котором говорили эстеты времен Габриеля Д’Аннунцио или Мориса Барреса! Какими наивными и тщетными кажутся попытки внутреннего самонаблюдения, предпринятые Анри Фредериком Амиелем или Андре Жидом, по сравнению с этим самораскрытием, с этим углублением во внутреннюю бездну, где происходит трагическое сражение между благодатью и грехом. Здоровье, подлинность, совершенство обретаются лишь в таком устремлении к высшему бытию, в выходе за пределы собственно «Я». Все эти дары и, наконец, самоосуществление человек обретает именно по мере своего продвижения к Богу.
Итак, где и как можно найти Бога? Обрести Его можно лишь опираясь на самое высокое и совершенное в творении, на наиболее близкое Ему — то есть на человеческую душу и то, что в ней есть самого чистого. Ибо, поистине, человек сотворен по образу и подобию Божию. Вся патриотическая мысль вдохновлялась этими словами Бытия (1.26). Именно в этой человеческой душе мы должны стараться открыть присутствие Бога, Его следы. Святой Августин созерцает во всякой истине некое отражение, излучение Божественного великолепия. (Очевидно, что для Августина-платоника речь идет о «вечных» истинах, подобных, скажем, математическим, ничего общего не имеющих с преходящими истинами земной действительности.)
Но с наибольшей яркостью достоинства августиновского исследовательского метода проявились тогда, когда Августин обратился к созерцанию центральной тайны веры — тайны Святой Троицы. Размышляя об этой тайне, Августин создал другой великий труд книгу «О Троице». Вначале Августин верой воспринял содержание троичной тайны. Но по ходу дискуссий, связанных с арианской ересью, богословы смогли более точно и полно проанализировать тринитарные проблемы, и содержание этой тайны предстало перец умом Августина как объект, в который надо проникнуть, который надо понять. (Конечно, такое понимание всегда несовершенно, ограничено условиями человеческого земного существования.) Если Бог есть Троица, то, полагает Августин, следуя в этом обшей церковной традиции (не забудем, что он жил в эпоху после великих тринитарны? Соборов — Никейского 325 г. и Константинопольского 381 г., когда догмат о Троице был уже полностью разработан), и в созданном по Его образу творении должен каким-то образом отразиться Его троичный характер. И именно в душе человеческой нужно искал следы, аналогии, отражение, подобие этой одновременно единой
136
и троичной структуры. Все это представляет собой как бы некий трамплин, при помощи которого ум преодолевает свою ограниченность, пытаясь хотя бы что-то ухватить в этой тайне, которая никогда полностью не будет постигнута человеком. Августина часто упрекали за то, что он имел слишком упрощенное, слишком элементарное представление о Боге. Но, подчеркиваем это, святой Августин не был настолько наивен, чтобы довольствоваться лишь теми эмпирическими триадами, которые можно почерпнуть из антропологического анализа (Память, Ум, Воля). Эти триады он подвергает диалектической переработке, придерживаясь, так сказать, восходящей линии, очищает их, стараясь выявить их ценность как аналогий. Например, от души, помнящей и любящей саму себя, Августин переходит к душе, помнящей о Боге, размышляющей о Нем и любящей уже не творение, но Самого Бога. Но Августин устремляется еще дальше и в решающем усилии открывает, что все это лишь образ, неадекватное приближение. Августин знает, что все наши самые глубокие представления о Боге не тождественны Богу. Переходя от аналогического познания, то есть познания через утверждение, к отрицательному познанию (от катафазиса к апофазису, как сказали бы греческие Отцы), святой Августин совершает еще одно, последнее, усилие, приходя к отрицанию всякой мысли о том, что он понял Бога. И в силу такого отрицания он устремляется за пределы всякого понятия и языка, дабы в самом том акте, где мысль «ломает свои орудия», достичь недостижимого.
Но такое мышление, сосредоточенное на Боге, полностью устремленное к Богу, связано с целостной духовностью, с нравственностью и определенным образом жизни. Такое умонастроение и есть мудрость (необходимо вернуть этому слову его подлинное значение!) — мудрость одновременно действующая и созерцающая. Здесь опять двойной символ: раскрытая книга и пылающее сердце. Августиновская мудрость это ум, который ведет к любви, ибо с точки зрения практического разума нужно знать, как любить. И какой христианин не знает ответа на этот вопрос: «Ты возлюбишь, повторяет Евангелие вслед за Второзаконием, Господа Бога твоего, возлюбишь Его всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем умом твоим». Святой Августин истолковывает эту заповедь любви в свете платоновской концепции иерархии существ. Для Августина совершенство, здоровье, добродетель заключаются в подчинении любви некоему необходимому порядку. Возлюбим Бога, и только Бога, возлюбим Его ради Него Самого, а все другие блага возлюбим в связи с этой любовью к Богу, соответственно их внутреннему достоинству, то есть их способности служить этой единой любви.
Сущность августиновского нравственного учения сводится к основополагающему различению «наслаждения» и «пользы». Только
137
в Боге, в нашем высшем благе и высшей цели, дозволено человеку успокоиться и насладиться. Всем остальным мы должны лишь пользоваться как орудием, средством, подчиненным этой цепи. «А одно только нужно», — говорит Иисус Марфе, защищая Марию (Лк. 10.42). В этой фразе вся суть августинизма. Не будем закрывать глаза на суровость, зачастую беспощадную, порой доходящую до крайности, суровость, с какой Августин делает практические выводы из этого великого принципа; всегда спешивший преодолеть промежуточные этапы, Августин не терпел, когда кто-нибудь останавливался для определения промежуточных целей. Он говорил лишь о средствах: странники, идущие по дороге к благословенной родине, мы не имеем права задерживаться для наслаждения красотами мест, по которым пролегает наш путь, или прелестями путешествия. Поэтому Августин так отрицательно относится, например, к любознательности. Мы не должны любить познание ради него самого; мы должны чуждаться всяких «развлечений», отвлекающих нас от мыслей о Боге. Отсюда та странная роль, какую играет в августиновском учении эстетика. У Августина есть эстетика (в своей основе — пифагорейская: музыкант бессознательно занимается математикой), но в противоположность нашей эстетике, цель которой — рациональное оправдание художнического опыта, эстетика Августина по своим задачам совершенно иная. Ее цель — показать бесполезность художественного творчества, следовательно необходимость отказа от него.
Есть все основания полагать, что и здесь Августин впал в крайность, не меньшую, чем та, какую мы наблюдаем в его теории предопределения. Возможно, что все эти преувеличения имеют психологические корни: ведь перед нами обращенный, который не может забыть о своих грехах. Августин сам слишком долго блуждал вдали от Бога, поэтому он с такой суровостью осуждает любовь ко всем этим долгим окольным путям. Он сам, своим чересчур земным сердцем, слишком любил наслаждения, которые дарит музыка, поэтому с такой настойчивостью пытался объяснить ее бессознательным восприятием математических отношений. (Мы видим, как в «Исповеди» он сам себя укоряет за то, что получает от литургического пения слишком большое наслаждение (11). Отчасти крайности Августина объясняются и тогдашним состоянием культуры, к которой он принадлежал. Он жил в эпоху упадка, поверхностного эстетизма и застылой науки. Августиновский отказ от культуры есть прежде всего отказ именно от такой культуры. И в этом Августин был совершенно прав.
Но мы полагаем, что Августин не нуждается в каких-либо оправданиях и смягчающих объяснениях. Ибо в его приговоре культуре есть подлинная религиозная ценность, это урок непреходящей ценности, независимо от тех практических выводов, какие сделал из него
138
Августин как для себя, так и для своего времени. Действительно, главное искушение, с каким сталкивается человечество, совершающее свое странствие в истории, — поддаться очарованию земного, реального великолепия и забыть, что цель и завершение нашего путешествия это приобщение к высшему Божественному великолепию. Сегодня, как и раньше, художник творит идола из своего искусства, любящий из своей любви, а государственный деятель из своего долга строить земной град. Поэтому имеет смысл напомнить каждому, что человек пребывает на земле не ради самого себя, не ради самой земли, но ради Бога. Человек — это не некое животное, удел которого созидать одну цивилизацию за другой, подобно тому, как муравьи или термиты, неустанно трудясь, воздвигают свои великолепные и хрупкие сооружения, чтобы затем вновь и вновь перестраивать их. Мы получим великое благо ко спасению, если не будем забывать, что при помощи всех этих временных построек, которые суть дела человеческие, Божественный Архитектор возводит Град Божий — то окончательное пристанище, где человек познает вечный покой. Таким образом, августиновское духовное учение завершается в богословии истории.
АВГУСТИНИЗМ
Шестнадцать столетий отделяют нас от святого Августина. Отделяют? Не лучше ли сказать объединяют нас с ним, ибо весь этот долгий период наполнен присутствием Августина, его славой, его влиянием, не говоря уж об ожесточенных спорах вокруг тех или иных деликатных моментов его учения. Если мы до сих пор относимся к Августину с таким пристальным вниманием, то это не только благодаря его личности, но также и потому, что на протяжении всех шестнадцати столетий имя Августина было как бы знаменем западной христианской культуры.
Конец античности
Мы уже видели, каким сильным было еще при жизни святого Августина его влияние как епископа, писателя и мыслителя. Даже самые незначительные его произведения шли буквально нарасхват, и зачастую, благодаря потворству самих переписчиков, читающая публика получала доступ к некоторым текстам Августина еще до того, как он сам принимал окончательное решение их «опубликовать» (то есть пустить в оборот). Нескромность или бестактность людей, с которыми Августин посылал свои письма, приводила к тому, что то
139
или иное письмо могло быть вскрыто, прочитано, переписано, а затем любопытствующие или поклонники Августина начинали передавать копии из рук в руки. Например, в один прекрасный день святой Иероним узнал о шуме, который произвело в Италии весьма прохладное по тону письмо, направленное ему Августином, но само это письмо так и не дошло по назначению! Многочисленные друзья и ревностные ученики активно содействовали утверждению и распространению августиновского влияния. Некоторые почитатели Августина (как раз из числа наиболее активных) были знакомы с ним лишь через его книги. Они были глубоко преданы ему, хотя никогда с ним не встречались. В качестве примера можно назвать святого Павлина Ноланского или Прослера Аквитанского. Проспер Аквитанский, в 427 или 428 г. появившийся в Марселе, а затем обосновавшийся в Риме, где впоследствии стал секретарем папы святого Льва, много сип положивший в борьбе с пелагианством, был ловким и неутомимым «литературным агентом» святого Августина.
Для всех этих людей Августин был мэтром, обожаемым учителем, которого слушали затаив дыхание, за которым следовали и которого пылко прославляли: «О пчела Божия, поистине искусная в собирании меда, наполненного Божественным нектаром, из которого истекает милосердие и истина...» И т. д. и т. п.
Но у святого Августина были не только друзья. Находясь под огнем критики Юлиана Экланского, Августин вынужден был уточнять, а следовательно, ужесточать свою позицию по отношению к трудным проблемам, связанным с предопределением и благодатью. А это, в свою очередь, постепенно вызвало со стороны известной части церковного народа все более и более решительное сопротивление. Так было, например, в Провансе где действовал, иногда не слишком тактично, Проспер, — в монашеской среде Леренса и Марселя. Там господствовало влияние Иоанна Кассиана Римлянина. На закате своей жизни Кассиан принес монахам Запада мудрость, которую воспринял у великих подвижников Палестины, Египта и Константинополя. Мастер собеседования, Кассиан сразу же после появления августиновского трактата «О поврежденности человеческого естества и о благодати» написал свое тринадцатое собеседование с отцами-пустынножителями. В этом собеседовании Кассиан вкладывает свои мысли в уста аввы Германа Панифизийского, которого посетил в дельте Нила почти за сорок лет до того!
Реплика Кассиана, в свою очередь, также не свободна от полемической запальчивости и резкости. Августин умер в 430 г., в самый разгар сражения, и, как легко догадаться, его сторонники отнюдь не считали себя поверженными. Во главе их стоял Проспер Аквитанский. В стихах и прозе он боролся против «собеседователя», против
140
«без-благодатных» (читай «неблагодарных», то есть отрицающих благодать и, следовательно, неблагодарных по отношению к Богу, — меткое словцо пришлось образованным людям той эпохи весьма по вкусу) И как водится в подобных случаях, каждый всеми силами старался, чтобы его противник наконец-то «родил» ересь, которую пока еще скрыто носил в чреве. Например, достаточно было чуть-чуть утрировать наиболее жесткие августиновские формулировки, чтобы выявилась ужасающая, непростительная ошибка «предопределенионистов», которые полагали, что Бог отталкивает от Себя людей, ранее ничего плохого не совершавших, и побуждает их к злым делам, чтобы отправить в ад, на вечные муки! Но и в высказываниях Кассиана так же легко можно было обнаружить опасное начало, могущее привести к возвращению худшего вида пелагианства. Если инициатива и заслуга первого шага по направлению к Богу исходит только от человека, опирающегося при этом лишь на свои собственные силы, на свою собственную волю, а благодать только содействует, помогает ему, то в конечном счете это означает, что спасение исходит от нас самих, а не от Бога. Именно в этом и состоит ересь, которую позже весьма неудачно назвали «полупелагианством». В действительности же эта позиция никак не связана с учением Пелагия. Изначально она представляла собой спонтанную реакцию на крайности августиновской доктрины, и корни ее нужно искать в наиболее традиционном учении греческих Отцов Церкви, которое Кассиан не слишком удачно пересадил на западную почву. (Надо сказать, что проблематика этого учения не имела никаких точек соприкосновения с конкретными условиями, при которых зарождалась и развивалась западная культура.)
Все это дало папе Целестину I повод произнести торжественную хвалу Августину — менее чем через девять месяцев после его смерти. Это было первое по времени прославление Августина. Все же вмешательства Папы оказалось недостаточно для прекращения распри, которая, то затихая, то вновь разгораясь, продолжалась еще целое столетие. И лишь в 529 г. на Втором Оранжском Соборе, благодаря усилиям святого Цезария Арльского, полупелагианство было окончательно осуждено. На этом Соборе Западная Церковь определила свою позицию, от которой уже никогда потом не уклонялась, — эту позицию можно определить как «умеренный августинизм». Уже само название указывает на то, что официальное церковное учение оказалось куда более умеренным, чем августиновское учение, с его одновременно логичными и беспощадными выводами, к которым сам Августин вынужден был прийти в пылу полемики. Таким образом, увенчались успехом усилия (пусть иногда неуклюжие!) всех тех, кто боролся за более правильное, более истинное понимание сущности Божьей доброты и воли, направленной на спасение всех людей.
141
Ошибочным было бы считать, что наши старые знакомые — леренсианцы и марсельцы безоговорочно отвергали все учение святого Августина. Они видели в нем не только теоретика предопределения, но в полной мере оценили общее значение всея его тру лов. Столь же глубоко ошибочным было бы ограничивать августиновское влияние лишь специальной областью богословия благодати и оправдания. Сказанное справедливо не только для первой эпохи августинизма, но и для всех последующих. Исторически влияние Августина было постоянным и касалось самых разных областей мысли, культуры и религиозной жизни. Не зная истории, весьма трудно представить себе, какую огромную роль сыграли жизнь и учение святого Августина для формирования латинской традиции. Августин, еще больше чем Вергилий, заслуживает имени «отца Запала».
Те, кто принадлежит к восточной традиции, хорошо понимают это. Сколько раз, споря с православными греками или русскими, мы слышали возражения: «Ваш Августин...» И действительно, разрабатывая ту или иную вероучительную «жилу» (вдет ли речь о философии, богословии или об основах духовной жизни), мы почти всегда, и притом и наиболее существенном, сталкиваемся с оригинальным влиянием Августина. У нас на Западе ему принадлежит та же роль, какую на Востоке чаще всего отводит великому Оригену. Никто не может сравниться с ними по количеству введенных в оборот идей.
Однако сама по себе внутренняя ценность августиновского делания не может целиком объяснить это поразительное распространение августиновских идей. Тут необходимо учитывать также и то, отчасти парадоксальное, положение, какое Августин занял в истории. После того как Исидор Севильский впервые сопоставил Августина с Оригеном, это сравнение стало традиционным, однако, в действительности, оно только вводит в заблуждение. Дело в том, что развитие двух великих патриотических традиций греческой и латинской протекало по-разному. Не забудем, что христианство зародилось на Востоке и долгое время его главной движущей силой был эллинизм. По сравнению с очень ранним, быстро достигшим большой сложности развитием греческой христианской мысли насколько медленно просыпался Запад, как неторопливо созревал!
При таких условиях гиппонский епископ оказался единственным на Западе мыслителем, в котором западное богословие поистине достигло своей полноты, стало самостоятельным и обрело законченную форму. Так что недаром под первым по времени изображением Блаженного Августина (латеранская фреска первой половины шестого века) значатся следующие слова: «Разные Отцы объяснили многие вещи, но лишь он один сумел сказать обо всем по-латыни, изъясняя тайны громом своего могучего гласа».
142
Безусловно, церковная традиция никогда не сводилась исключительно к Августину. Так, например, из всех Отцов Церкви она постепенно выделила группу, в которую вошли четыре главных учителя: Августин, его великие современники Амвросий и Иероним и его духовный наследник святой папа Григорий Великий (590-604). Однако весьма примечательно, что уже очень рано Августину стали отводить первенствующее положение.
Но это еще не все. Рассуждая чисто схематично, можно сказать, что Августин стал одновременно первым и последним среди великих Учителей латинской древности. Необходимо отметить, что на Востоке патриотическая традиция непрерывно развивалась еще целое тысячелетие, на протяжении всей византийской эпохи, тогда как падение империи под ударами германских племен погрузило Запад в тьму варварства, из которого новая средневековая Европа выходила очень медленно.
Сражу же после смерти Августина упадок усилился еще больше. Поэтому неудивительно отсутствие в это время личностей, так сказать, первого ранга (за исключением лишь Григория Великого). Именно этим фактом объясняется исключительность августиновского влияния. И до тех пор, пока на Западе будут сохраняться элементы античной традиции, западная мысль будет вращаться в августиновской орбите.
Влияние Августина выходило и за пределы Запада; охватывая все те страны, где говорили на латинском языке, оно через придунайские области распространилось вплоть до берегов Черного моря. При императоре Юстине (518-520) в византийскую столицу прибыла группа монахов-«скифов». Это были румыны из Добруджи, они приняли участие в богословских спорах. В Константинополе они чувствовали себя очень одиноко, так как были чистыми латинянами и их богословское образование целиком базировалось на учении святого Августина.
Помимо сферы богословских и вероучительных проблем, влияние Августина распространилось также и на область чисто духовную. Необходимо особо подчеркнуть роль Августина в развитии западного монашества. Вполне вероятно, что столь сложная эволюция монашества на протяжении столетий объясняется наличием двух течений, повлиявших друг на друга. Первое связано с Египтом, с Отцами пустынножителями (самым великим, но не единственным интерпретатором их учения был Кассиан Римлянин). Другое течение связано с Африкой. По своему характеру оно чисто августиновское. Дух этого течения выражается, в частности, известным «Уставом», приписываемым святому Августину. Вероятнее всего (здесь мы касаемся вопроса, который вызвал очень много споров), «Устав» этот не был полностью написан самим великим епископом. Но совершенно
143
очевидно, что текст этот родился в августиновской среде и выражает жизненный идеал, который сам Августин стремился воплотить в жизнь.
Раннее средневековье
Когда на заре «Каролингского возрождения» Запад вновь начал размышлять и с помощью того весьма ограниченного материала, какой удалось спасти из огня великой катастрофы, вновь, на христианских основах, строить культуру, он, Запад, естественно, обратился к святому Августину как к своему советнику и вдохновителю. Никогда еще не относились к Августину с таким благоговением. На него смотрят как на Учителя, чей авторитет неоспорим, его ставят сразу же после апостолов. Все или почти все исходит от него. Так что историку главным образом приходится искать подлинные границы августиновского влияния. Историк чувствует себя как бы обязанным напомнить о том, что ранее средневековье вдохновлялось не только Августином (и, конечно, другими классиками и латинскими Отцами), но также некоторыми греческими источниками (в частности благодаря Боэцию, единственному, начиная с Высокой империи, человеку на Западе, получившему эллинистическое образование, — Боэций учился в александрийской школе). Невозможно не упомянуть и роли, какую сыграли в ту эпоху творения Псевдо-Дионисия Ареопагита, которого у нас на Западе приняли за святого мученика Дионисия, спутника апостола Павла. В Национальной библиотеке в Париже хранится экземпляр творений святого Дионисия. В 827 г. этот экземпляр был преподнесен Людовику Благочестивому византийским императором Михаилом Гугнивым. Книга изумительной красоты, в прекрасном переплете из слоновой кости, но как небрежно она переписана! Возможно, византийцы полагали, будто франки такие варвары, что вряд ли что-нибудь поймут в этом самом темном из всех эзотерических текстов.
Надо сказать, что и святого Августина не всегда легко понимать. Об этом свидетельствует драматическая история жизни Готшалка. Он был сыном одного из тех саксонских графов, которых Карл Великий обратил в христианство при помощи определенных, всем хорошо известных средств. Монах с младых ногтей, вначале против своего желания, а затем по сердечному произволению, он сначала подвизался в Фульде, а затем в Орбе (около города Суасона); обладая душой пылкой и беспокойной, Готшалк реализовал в богословских спорах свой унаследованный от предков бойцовский темперамент. Готшалк представлял собой новый для того времени тип
144
ученого, который заново раскрыл возможности ума и жадными глотками пьет чистое вино мысли. Как и все, Готшалк прочитал всего святого Августина. К несчастью, его привлекли не те, самые легкие и в то же время самые ценные, страницы августиновских сочинений, в которых, по тонкому наблюдению Кассиодора, великий ум Августина раскрылся с такой простотой, что стал доступен даже младенцам, — но, как и следовало ожидать, запутанное антипелагианское «досье». Те места, где Августин излагает наиболее сложные свои мысли, где его перо, перо знатока и великого Учителя, колеблется и движется неуверенно, — что мог в них понять наш саксонец? Невозможно было ожидать, что он проявит чувство меры и разберется во всех этих тонкостях. Он испытал восторг, и его прямолинейный ум целиком погрузился в наиболее жесткие и, так сказать, антитезные, антиномичные построения, к которым святой Августин был вынужден прибегать, борясь со своими противниками. И, осчастливленный открытием симметрии, нимало не боясь богохульства, Готшалк создает теорию «двойного предопределения», или «двух предопределений», в равной мере отвечающих желанию самого Бога. Судьба одних людей — вечное блаженство, судьба же других вечное пребывание в аду. (Да, говорит Готшалк, Бог сотворил некоторых людей ради того, чтобы иметь удовольствие осудить их.) И на этот раз перед нами подлинный «предопределенионист»! Дело приобрело широкую огласку и вызвало большие волнения в богословских кругах Каролингской империи. Действительно, учение Готшалка оказалось настоящим прообразом возникшего значительно позже янсенизма. Против Готшалка поднялись ученые — Рабан Мавр и страшный Хинкмар. В конце концов Готшалк был судим и строго наказан по законам того, по существу варварского, времени. Его заключили в монастырскую темницу, и он провел в ней двадцать лет, непрестанно будоража общественное мнение, поочередно защищаемый то гениальным, но в богословском отношении не очень надежным Иоанном Скотом Эриугеной, то более осторожными богословами Лионской школы. Однако двери тюрьмы так никогда и не раскрылись перед Готшалком. Его не могли сломить, и он умер между 866 и 870 г.
К счастью, не все в ту эпоху были такими как наш Готшалк! Вплоть до начала тринадцатого столетия Августин безраздельно господствовал во всех областях мысли. Во времена Алкуина и Карла Великого он вдохновлял первых теоретиков христианской культуры, подобно тому как в середине двенадцатого века вдохновляло их проникнутое платонизмом изумительное учение гуманистов Шартрской школы. Плохо ли, хорошо ли понятый «Град Божий» предоставил творцам новой в политическом и социальном отношении Европы все необходимые элементы, все то, что позволило создать теорию
145
о совершенном христианском обществе, или государстве на земле. Отметим также, что постоянно возобновляющийся конфликт между двумя главами, двумя силами — властью священнической и властью императорской — вызвал к жизни бесчисленные споры, участники которых опирались именно на «Град Божий». (Как изменилась с тех пор жизнь! И не обошлось без искажения августиновских формулировок и идей, когда их стали применять при решении насущных задач.)
С середины одиннадцатого века стали возрождаться богословские интересы, теология стала разрабатывать собственный диалектический метод. В очередной раз обратились к Августину, заимствуя у него принципы и элементы, на основе которых была создана новая наука. Однако Августин вдохновил не только первых великих представителей этой науки начиная с Ансельма и кончая Абеляром, — но и их противников — от Петра Дамиана до святого Бернарда Клервосского. Ибо нарождающаяся в этот период схоластика останется на протяжении всего средневековья лишь одной из составляющих его культуры, и по отношению к ней, схоластике, всегда будет существовать некая оппозиция, вызванная опасениями, связанными с вторжением рассудочного мышления в область веры и возрастанием числа исследований, порожденных исключительно праздным любопытством. И кто лучше Августина мог укрепить опасения такого рода?
И наконец, хотя в период между святым Бенедиктом и святым Бернардом западное монашество окончательно приняло бенедиктинский Устав, августиновское течение не утеряло ни своей самостоятельности, ни своей жизненности. Параллельно бенедиктинским монастырям развивались общины монашествующих каноников. Эти общины, начиная с Клюнийской реформы, поставившей особый акцент на нестяжании, жили в соответствии с Уставом святого Августина и всем его учением.
Многие духовные общины заслуживают того, чтобы здесь мы о них упомянули: премонстранские монахи, каноники святого Руфа; в тринадцатом веке святой Доминик, в прошлом каноник, нашел вполне естественным дать своей общине братьев-проповедников (которые в известном смысле также каноники) именно Устав святого Августина. Стоит также вспомнить и о великой духовной школе, образовавшейся вокруг Парижского аббатства каноников святого Виктора. Эта школа была основана в 1108 г. Гийомом де Шампо, учителем, а затем противником несчастного Абеляра; из нее вышли такие люди, как Гюг (саксонец), Ричард (шотландец), Адам (бретонец) , которых обычно называют в числе самых великих «этого великого двенадцатого века». Быть может, именно в этой школе наиболее непосредственным и прямым образом проявился дух
146
святого Августина для нее была характерна созерцательная мистика, то есть аскеза, направленная к созерцанию, но не исключающая при этом ни гуманизма, ни поэзии.
В культуре раннего средневековья Августин сыграл роль совершенно исключительную, что привело к парадоксальным последствиям. Когда какой-нибудь переписчик, придя в восхищение от того или иного анонимного произведения, жаждал определить его автора, он, естественно, обращался именно к святому Августину. Таким образом получалось, что и без того обширное количество трудов епископа Гиппонского, благодаря огромному числу апокрифов, становилось еще обширнее. А это, в свою очередь, привлекало еще большее внимание к Августину, вызывало еще большее уважение к его имени. Многие сочинения «литературных самозванцев» на протяжении долгого времени пользовались огромной популярностью. Примером тому могут послужить «Молитвенные размышления» — плод иногда слишком чувствительного благочестия. Это произведение в основном принадлежит перу бенедиктинца Жана де Фекана, умершего в 1078 г., а некоторые места написаны святым Ансельмом.
Схоластика
Положение изменилось к началу двенадцатого века, когда западная культура обогатилась огромным по объему новым материалом сочинениями Аристотеля. Во времена раннего средневековья на Западе были известны лишь логические труды Аристотеля. Теперь же открылся доступ ко всем его сочинениям, включая «Метафизику». Все труды Аристотеля были переведены на латинский язык или с арабского или прямо с греческого. Кроме того (подобно тому как это происходило с сочинениями святого Августина), имелось много и таких сочинений, которые носили имя Аристотеля, но в действительности не принадлежали его перу. Их авторами были Плотин и Прокл. Одновременно Запад наводнили бесчисленные труды мусульманских и еврейских комментаторов Аристотеля. Мы имеем в виду прежде всего труды Авиценны, Аверроэса и Авицеброна.
Мы знаем, какие изменения претерпела в результате средневековая культура, — сужение поля деятельности для человеческого ума («изгнание художественной литературы»), которое отчасти компенсировалось углублением в область чистой мысли. Это был триумф схоластики, диалектического метода, поставленного на службу умозрительному идеалу, страстной погоне за истиной, определяемой уже более научно. Легко понять, какие это вызвало последствия для авторитета святого Августина. Отныне Августин уже не единственный,
147
в каком-то смысле занимающий привилегированное положение, Учитель, тот, от кого исходит все. Рядом с ним утвердился авторитет иного учителя, не менее почитаемого, того, кого называли Философом, в ком видели воплощение человеческого ума, — особенно потому, что он, Аристотель, был язычником, то есть человеком, обладавшим поистине автономным разумом.
Но, конечно, авторитет Августина никогда не оспаривался. Это хорошо доказывает пример святого Фомы Аквинского, великий синтез которого, хотя в каком-то смысле и основан исключительно на систематическом аристотелизме, тем не менее, включает целые разделы августиновского учения. Я не говорю здесь об августинизме чисто номинальном (то есть обо всех тех традиционных августиновских идеях, которые святой Фома заимствовал, но интерпретировал по-своему, сделав из них выводы, отличные от тех, какие сделал сам Августин). Я имею в виду прежде всего, так сказать, чистый, не перетолкованный августинизм, усвоенный Фомой прочно, хотя и не всегда сознательно. Ибо часто даже там, где святой Фома уверен, что он самый строгий продолжатель Аристотеля, чье наследие им так хорошо усвоено, — даже там Августин, его дух и его мысль заставляют Фому уклоняться от чистого аристотелизма, как бы переводить его в иную тональность. Будучи христианским, томистский синтез не мог пренебрегать тем столь позитивным вкладом, какой был сделан в христианское богословие великим Отцом Церкви, не мог игнорировать этот вклад. Об этом ясно свидетельствует история вспыхнувших в шестнадцатом-семнадцатом веках споров о благодати: именно доминиканцы, то есть томисты, защитили те традиционные истины, которые были унаследованы от святого Августина.
Вместе с тем мы очень обеднили бы христианскую мысль той эпохи, прежде всего схоластику, если бы свели творчество Фомы Аквинского к диалогу между Аристотелем и Блаженным Августином. На деле все куда более сложно. Общеизвестно, что в тринадцатом веке томизму пришлось выдержать упорную борьбу, ибо многие оспаривали его основные положения. А имя святого Августина было как бы знаменем всей антитомисткой оппозиции. Сопротивление было оказано не только консервативными умами, напуганными новизной и смелостью учения Фомы и мечтающими удержать богословие на уровне двенадцатого века. В том же тринадцатом веке, в лоне тогдашней столь разветвленной, столь богатой по своему внутреннему содержанию схоластики были люди, которых вполне можно назвать сторонниками модернизированного августинизма, августинизма, впитавшего все достижения современной ему мысли. Прежде всего, упомянем проникнутое платонизмом учение Авиценны, которое легло в основу многих оригинальных разработок той эпохи. Так,
148
например, августиновское понятие Бога источника всякого света, всякого познания, интерпретированное как понятие разума передающего, отделенного от всего, никому в частности не принадлежащего, — это понятие было заимствовано у Авиценны, толковавшего Аристотеля. И очень вероятно, что святой Фома создавал свое учение, борясь как против замешанного на Авиценне августинизма, так и против замешанного на Аверроэсе аристотелизма.
И все же авгуетиновская золотоносная жила не иссякла: рядом с доминиканцами, очень скоро последовавшими за Фомой Аквинским, появляются две великих духовных семьи, ставших как бы представителями никогда не умирающего и постоянно обновляющегося августинизма. Мы имеем в виду, во-первых, Орден францисканцев (от святого Бонавентуры до Дунса Скота). Создавая свое богословие, францисканцы постоянно черпали у Блаженного Августина. Это иногда вызывает удивление, так как на первый взгляд жесткая суровость Августина полностью противоречит радостному оптимизму Франциска Ассизского. Но такой подход слишком поверхностен, ибо забывают, что, как и все подлинные духоносцы, святой Франциск прошел суровый путь аскезы, подготовивший и обусловивший его, Франциска, духовный расцвет. И мы знаем, что духовный опыт Франциска был близок к опыту и мысли святого Августина.
К сожалению, до сих пор недооценивается роль другой, не менее замечательной, не менее духовно богатой ветви — на этот раз чисто августиновской. Мы имеем в виду Орден отшельников святого Августина. Основанный в 1256 г. папой Александром IV, Орден вначале представлял собой объединение небольших групп отшельников. Но он очень быстро утратил свой характер (став четвертым великим орденом нищенствующих монахов), стремительно развился и в соответствии с духом времени превратился в орден ученых. У этого ордена есть свой учитель, Жиль Римский — характернейший представитель августиновской схоластики послетомистской эпохи (Жиль Римский умер в 1316 г.). Несмотря на всю приверженность к учению Жиля Римского, орден насчитывал много мыслителей иного порядка. Лучшим примером может служить Григорий из Римини (умер в 1358 г.), который стоял во главе ордена и наряду с такими францисканцами, как Вильям Оккам, был одним из главных представителей номинализма, ознаменовавшего собой последний творческий порыв схоластики эпохи барокко.
Григорий из Римини был совершенно сознательным антипелагианцем и строжайшим последователем августиновского учения о предопределении. Из этого учения Григорий сделал самые крайние выводы — например, об осуждении некрещеных младенцев. С точки зрения Григория, спасение зависит исключительно от милосердия Божия,
149
сам же человек — абсолютно немощное, бесплодное существо. Из всех видных схоластиков лишь Григорий из Римини был признан Лютером.
Все вышесказанное ясно свидетельствует о сложности и разнообразии того, что мы называем августинизмом. Одни заимствовали у Августина теорию «духовного озарения» или создавали ту или иную теорию познания, основанную на подобном «озарении». Однако при этом они не принимали августиновское учение, касающееся оправдания. Другие, наоборот, охотно заимствовали это учение.
Наш рассказ о влиянии святого Августина в средние века будет неполным, если мы не упомянем здесь о заново возрождающемся в каждую эпоху истории августинизма конфликте между умеренным августинизмом (конечно расцениваемым некоторыми как неверность Августину) и августинизмом строгим, который, с точки зрения ортодоксального католического учения, неизбежно ввергает в ересь «предопределенионизма». В этом смысле учение Григория из Римини не единственный пример. К нему примыкает иное течение, порожденное Томасом Брадвардином. Он умер в 1346 г., будучи архиепископом Кентерберийским и сохранив мир с Церковью, но его радикальное учение легло в основу крайних установок Джона Виклифа, в свою очередь породившего Яна Гуса.
Реформация и гуманизм
Итак, мы стоим на пороге Реформации. Имея дело с современными формами протестантизма, часто забывают о том, что узлом всех споров, пунктом разрыва между реформаторами и католиками была проблема оправдания. И Лютер и Кальвин сознательно боролись с тем, что казалось им практическим пелагианством (проповедуемым, по их мнению, Церковью того времени). Реформаторы думали, что они вернулись к истинному учению святого Павла, учению, интерпретируемому в духе самого строгого августинизма. Это объясняет, почему изначально протестантизм так сильно настаивал на первородном грехе, на пагубности вожделения, на слабости или, лучше сказать, на полной немощности человека, на спасении, которое исходит единственно от Бога, на оправдывающей вере. Все эти темы были вновь заимствованы у Августина, и реформаторы это прекрасно понимали. Они охотно цитировали гиппонского епископа, опираясь не столько на его авторитет, сколько на пример его жизни. Они пользовались любой возможностью, чтобы лишний раз прославить его.
Во всех этих вызванных протестантизмом спорах мы в очередной раз сталкиваемся с конфликтом между двумя — умеренным и крайним —толкованиями антипелагианского учения Блаженного Августина.
150
Страстные споры, проходившие на Тридентском Соборе, можно определить как сражение за августинизм или против него. Все же, борясь с протестантизмом, Собор сохранил верность учению Августина, сохранил традиционное церковное понимание этого учения, иными словами, остался внутри определенных границ и отказался сделать из этого учения какие бы то ни было крайние выводы.
Контрреформация не ограничилась лишь рамками догматического богословия. Она вызвала также обновление духовно-аскетической жизни Церкви, которое опять-таки протекало под влиянием Августина. И это возобновившееся влияние святого Августина, влияние, о котором свидетельствует вся западная культура шестнадцатого века, невозможно объяснить одной только Реформацией и Контрреформацией. Свою роль сыграл здесь и гуманизм, выступавший попеременно то союзником, то противником Реформации, но при этом всегда сохранявший внутреннюю независимость. Гуманизм вызвал новый интерес к творениям Отцов Церкви, в частности к творениям святого Августина. Гуманизм это презрение к схоластике, к ее «варварскому» жаргону. (Теперь мы сказали бы не «жаргон», а «специальный язык». Немецкий Хайдеггера или французский Сартра также может показаться варварским читателю, не обладающему философской подготовкой.) Гуманизм — это любовь к античности, возвращение к первоисточникам и подлинным текстам. Гуманисты отбросили в сторону все эти нагроможденные друг на друга глоссы и комментарии и непосредственно обратились к произведениям великих писателей древности. Когда, например, Лефевр Этапльский в 1498 г. опубликовал небольшую подборку патриотических текстов под названием «Оживотворяющее богословие», он снабдил ее многозначительным эпиграфом: «Пища насыщающая». И намек этот был понят.
С другой стороны, часто преувеличивают присущий Ренессансу неоязыческий элемент. Забывают о том, что, как правило, люди Возрождения были сознательными христианами, с верой глубокой и искренней. Именно поэтому они обратились к Отцам, в частности к святому Августину, который служил для них примером подлинного гуманиста и на учении которого они могли строить свой собственный гуманизм. Уже в четырнадцатом веке это течение явно чувствуется у одного из предшественников гуманизма, Петрарки, тесно связанного как с самим Августином, так и с Орденом отшельников. Наконец, обновление платонизма, вызванное антиаристотелевской реакцией и влиянием последних великих византийцев, также придало дополнительный интерес Учителю латинского христианского неоплатонизма.
И действительно, великие филологи Возрождения много потрудились для того, чтобы собрать и сделать общедоступными творения святого Августина, а также чтобы, так сказать, очистить эти творения
151
от пыли апокрифов, скрывавших их подлинный облик. Не без изумления мы констатируем, что среди более чем двухсот инкунабул, появившихся под именем Августина сразу же после изобретения книгопечатания, большинство не принадлежало перу Августина. В шестнадцатом веке стали появляться первые большие полные издания трудов святого Августина. Постепенно такие издания становились все лучше и лучше благодаря все более углубляющемуся критическому подходу к августиновским произведениям. В 1506 г. в Базеле вышло издание Амербаха. Затем, в 1527-1529 гг., также в Базеле, у Фробена, появилось издание Эразма Роттердамского, который включил в это собрание «Град Божий», обработанный Л. Вивесом (Базель, 1522). Далее вышло издание Шевалона, который практически все заимствовал у Эразма (Париж, 1531), и наконец великолепное издание творений Августина, подготовленное шестьюдесятью четырьмя лувенскими богословами под руководством Яна ван дер Мелена. Это издание вышло в Антверпене у Плантена в 1576-1577 гг.
И все же нельзя сказать, что для гуманистов эпохи Возрождения Августин был самым великим человеком и любимым вдохновителем. Например, хотя Эразм Роттердамский в письме к архиепископу Толедскому Фонсеке торжественно, совершенно в духе Исидора или Готшалка, прославляет божественное величие Августина, единственного, кто соединил в себе все достоинства, имеющиеся по отдельности у разных Отцов, мы отлично знаем, что в глубине души Эразм предпочитал Августину Иеронима или Оригена. Для Эразма Августин недостаточно критичен (в смысле отношения к историческим или литературным источникам), слишком догматичен, слишком богослов, слишком церковен, чтобы не сказать — клерикален, слишком абстрактен, слишком, прибавим мы, глубок...
Но как раз все это сыграет решающую роль в эпоху, последовавшую за Возрождением, то есть в эпоху классицизма; семнадцатый век стал по преимуществу эпохой Блаженного Августина.
Семнадцатый век
«Отец Церкви, Учитель Церкви, что за название! Какая скука читать их! Какая тощища, какое сухое богопочитание, а иногда какая схоластичность мышления!» Так говорят люди, которые никогда не читали их. Но в какое изумление пришли бы все те, кто обладает подобным, столь далеким от истины, представлением об Отцах Церкви, если бы они смогли почувствовать в их сочинениях еще большую законченность стиля, еще большую тонкость, изысканность и остроумие, еще большее богатство выражения, еще большую силу
152
рассуждения, рисунок еще более отчетливый и точный и красоту более естественную, чем в большинстве книг нашего времени, которые читаются с таким удовольствием и которые не только создают своим авторам имя, но и удовлетворяют их тщеславие! Какая радость обладать верой и видеть, что она поддерживается и объясняется гениями столь великими и умами столь глубокими! И эта радость усугубляется, когда начинаешь понимать, что по обширности познаний, по глубине и остроте ума, по чистоте философских принципов, по искусству применения и развития этих принципов, по точности умозаключений, по достоинству тона, по верности нравственным устоям и по красоте чувств Августина, например, можно сравнить лишь с Платоном или Цицероном».
Так говорит Лабрюйер, настоящий классик и подлинный ценитель древности. Никто лучше его не проанализировал истоки той особой притягательной силы, можно было бы даже сказать очарования, которое в эпоху классицизма исходило от имени того, кого называли «орлом Учителей Церкви», «оракулом своего и всех последующих столетий», кто, как тогда казалось, более всех других Отцов Церкви обладал благородством ума великого Рима, совершенством его языка и красотой стиля.
Лабрюйер творил в конце классического периода нашей истории. Однако уже в начале семнадцатого века августиновское влияние наложило свою печать на великое католическое возрождение, вдохновленное духом Контрреформации и изменившее всю французскую жизнь той эпохи. Если бы нам пришлось выбрать имя, которое вобрало бы в себя весь размах и плодотворность этого влияния в области духовной, молитвенной и аскетико-созерцательной, мы без колебаний остановились бы на имени кардинала Пьера де Берюлля, зачинателя того великого движения, которое с полным правом было названо французской школой (именно это течение в той или иной мере породило и святого Винсента де Поля, и Шарля де Кондрена, и Жана-Жака Олье с его священнической общиной Святого Сюльпиция, и общину эдистов...). Из всего, что сделано де Берюлпем, необходимо выделить одно — основание в 1613 г. «Молельни Франции», священнической общины, занимающейся одновременно миссионерской и научной деятельностью. Основатель общины желал, чтобы она всегда вдохновлялась мыслью и учением святого Августина. «Это у него, говорил кардинал Пьер де Берюлль, наша община должна испрашивать дух смирения и помощи, дабы наши ученые труды сопрягались с любовью к Иисусу Христу и к ближнему».
Заслуживает внимания тот факт, что всякое возобновление августиновского влияния сопровождалось возникновением новых монашеских общин. Весь семнадцатый век прошел под знаком святого
153
Августина. Все цитируют его сочинения, используют их в своих работах, комментируют их, даже если их вообще не читали (в качестве примера можно назвать Паскаля, который был знаком с Августином скорее всего лишь через Монтеня — великого знатока и ценителя «Града Божия», или Янсения и его друзей из Пор-Рояля). Повсюду господствует авторитет Августина. Августин вторгается во все области культурной жизни. Именно на Августина ссылаются те галликанские епископы, которые стремились поставить Соборы над Папой. Архиепископ Парижский Франсуа де Арле в 1685 г. опубликовал книгу, в которой доказывал, что Французская Церковь, стремящаяся вернуть в свое лоно протестантов, должна действовать так, как действовала Африканская Церковь эпохи Блаженного Августина, старавшаяся вернуть в свое лоно донатистов. (Сразу же после появления этой книги против нее выступил Пьер Бейль.) Также и Боссюэ, несколько странно понимавший «Град Божий», буквально на каждой странице своего «Рассуждения о всемирной истории» ссылается на Августина. Все это в конце концов превратилось в какую-то манию. Никто больше не смел ни сомневаться в августиновских формулировках, ни, тем более, критиковать их. Во всем и всегда прав был Блаженный Августин. И в 1690 г. Риму пришлось, помимо других ошибок янсенистов, осудить также и точку зрения, согласно которой любую идею, если только она была провозглашена святым Августином, разрешалось поддерживать вопреки мнению всех и каждого, включая самого Папу.
О первенствующем положении Августина в духовной жизни французского семнадцатого века лучше всего свидетельствует та роль, какую августинизм сыграл в развитии картезианской философии. Марен Мерсенн сразу же после первого прочтения «Рассуждения о методе» и великий Арно вскоре после появления «Метафизических размышлений» .указали Декарту на неожиданные совпадения между некоторыми местами из трудов великого Учителя Церкви и аргументами «Рассуждения о методе». Действительно ли Декарт знал те августиновские тексты, о которых говорили ему Мерсенн и Арно? По этому вопросу у историков нет общего мнения, и за отсутствием решающих доказательств они не могут сделать никакого вывода. Что же касается самого Декарта, то он в своей обычной несколько высокомерной манере сделал вид, что для него все это не слишком важно. Однако для его современников такое совпадение имело огромное значение, им казалось, что оно изумительно, провиденциально, что оно придает новой философии неожиданный авторитет. И первые последователи Декарта без устали восхваляли это «соответствие между учением святого Августина и мыслями господина Декарта». (По их словам получалось даже, что у Декарта чуть ли вообще нет своих мыслей.)
154
Несмотря на всю разницу в образе мышления Августина и Декарта (что прекрасно понимал Паскаль), картезианство, к его великой чести, все же рассматривалось как продолжение августинизма.
Необходимо также подчеркнуть, что философия Декарта, в свою очередь, оказала глубокое (и продолжительное) влияние на понимание святого Августина. Так что можно предположить, что до появления Декарта семнадцатый век видел в епископе Гиппонском прежде всего Учителя Церкви и наставника в духовной жизни. Когда же возникло картезианство, открыли, что святой Августин был, как пишет Арно в своих известных «Четырех возражениях», «человеком великого ума, создателем оригинального учения не только богословского, но также и философского». Более того, иногда даже стремились к тому, чтобы августиновская мысль воспринималась через призму картезианской философии. Так, например, член общины «Молельня Франции» о. Андре Мартен опубликовал между 1653 и 1671 гг. некий труд под названием «Христианская философия» весьма искусную, хотя и несколько тенденциозную подборку текстов из святого Августина. В этой работе дается систематическое изложение учения святого Августина, но учение это пересмотрено и перестроено в соответствии с системой Декарта: шестой, завершающий весь этот труд том целиком посвящен доказательству того, что Августин (хотя сам он ясно об этом не говорил) пребывает в полном согласии с нашим философом по вопросу об отсутствии у животных души!
Именно благодаря встрече, которая произошла как раз в «Молельне Франции», встрече между августинизированным картезианством и картезианским августинизмом, смогла образоваться та духовно-интеллектуальная среда, в которой развилась философия о. Никола Мальбранша. Не будем здесь вдаваться в подробности этой философии, подчеркнем лишь, что, несмотря на всю свою глубокую оригинальность, мальбраншевские тезисы, касающиеся, например, видения в Боге или теории случайных причин, исторически представляют собой результат доведения до крайности, до предела некоторых специфически августиновских идей и тенденций: безразличия, чтобы не сказать — презрения, по отношению к вторичным причинам и настойчивого подчеркивания главенствующей роли Бога в процессе сотворения мира и в процессе познания. Как мы уже видели, августинизму присуща следующая характерная черта: он постоянно привлекает к себе новых и новых последователей и учеников, которые во имя своей, если можно так выразиться, крайней верности доктрине идут дальше самого Августина, не останавливаясь перед изменением и искажением его учения.
Семнадцатый век представляет нам еще один не менее яркий пример тому, но уже в области чисто богословской и религиозной.
155
Мы имеем в виду великую и горькую историю янсенизма. Янсенизм заново пробудил старые споры о предопределении, еще раз столкнул две интерпретации крайнюю и умеренную антипелагианских августиновских теорий о благодати. В известном смысле спор этот был неизбежен в силу осторожной позиции, занятой Тридентским Собором по отношению к этой, самой спорной из всех проблем. Доказательством тому служат два эпизода, менее известных во Франции, чем сам янсенизм, но тем не менее, бросающих яркий свет на его историю.
Первый — это эпизод с байяниэмом. События разыгрались в Лувене, где впоследствии учились Янсений и Сен-Сиран. Мишель де Бай (Байус по-латыни, 1513-1589) был строгим последователем учения Августина. Он кичился тем, что осуществил подвиг, который Посидий считал невозможным: прочитал девять раз всего Августина и семьдесят раз августиновские писания о благодати (включая также и апокрифы) пропорция весьма показательна. Тот, кто слишком долго листал антипелагианское досье, не может не проникнуться пессимизмом при мысли о человеке, грехе, свободе воли и естественным образом приходит к теории оправдания, которая не в состоянии уложиться в какие бы то ни было ортодоксальные рамки. По отношению к Янсению Байус то же, что Брадвардин по отношению к Виклифу. Запрещенный цензурой, осужденный, Байус умер, сохранив верность Церкви. Однако его учение уже содержало в себе все те элементы, которые позже заимствовал Янсений, элементы, в которых уже прочно укоренилась ересь. Вторая стычка связана с так называемым спором deauxiliis (о содействии). Этот спор был вызван учением испанского иезуита Луиса Молины (1536-1600), которое, в противоположность доктрине Байуса, куда более значительную роль в деле спасения отводило человеку. Дискуссии начались в 1594 г. в Испании. Противниками Молины выступили доминиканцы. Затем этот спор между доминиканцами и иезуитами был продолжен в Риме, где между 1598 и 1607 гг. обе стороны изложили свои доводы перед Климентом VIII и Павлом V. Эти дебаты между представителями двух орденов оставили по себе горькую память. Дело кончилось тем, что соперников развели в разные стороны. Доминиканцы были освобождены от обвинения в кальвинизме, а иезуиты — от обвинения в пелагианстве. Но, конечно, такого рода осторожное решение не могло поставить предел усилиям богословов, старающимся более ясно очертить ту область непостижимой тайны, где встречается Божественное всемогущество и человеческая свобода. В конце столетия этот спор разгорелся вновь. На этот раз его зачинщиками выступили монахи Ордена отшельников Августина. Их главным представителем был кардинал Норис (1631-1704) он защищал от нападок молинистов более
156
строгое понимание августиновского учения. В 1704 г. Бенедикт XIV специальным документом подтвердил, что в лоне католической ортодоксии возможны разные богословские школы и системы по вопросу о предопределении. Но между тем Янсений зажег в Церкви новый, куда более опасный пожар.
Всем хорошо известно, какую роль сыграл янсенизм в истории религии и литературы Франции. Поэтому не будем здесь долго задерживаться на нем. Известно, что начало ему было положено посмертным изданием книги голландца Корнелия Янсенин, профессора, а затем ректора Лувенского университета. На титульном листе этой огромной, ин-фолио, книги было помещено весьма многозначительное название: «Августинус, или учение святого Августина о здоровье (до падения Адама!), о болезни и исцелении естества человеческого против пелагиан и «марсельцев». (Лувен, 1640, Париж 1641, Руан 1643.) Но весь янсенизм не исчерпывается одним Янсением. Его учение невозможно отделить от деятельности двух великих людей. Один из них Жан Дювержье де Оранн, аббат Сен-Сиран (1581-1634), друг и однокашник Янсения. Это был человек весьма странный, с трудом поддающийся какой бы то ни было оценке. Он в значительной мере повлиял на образование духовкой среды Пор-Рояля, где янсенизм вербовал самых ярых своих приверженцев. Другой, один из самых горячих сторонников учения, — Антуан Арно (1612-1694), подлинный вождь янсенистской партии, неутомимый полемист, человек железной воли...
Долгая и горестная история янсенизма началась в 1641 г., когда в первый раз, папой Урбаном VIII, был осужден «Августинус». При Клименте IX на короткое время наступило затишье, вызванное так называемым «миром Климента», «миром Церкви», или «бесплодным миром». В это спокойное время стали быстро развиваться исследования, посвященные творчеству Августина, истории его влияния. Этот цветущий период можно сравнить с началом века. С новой силой спор разгорелся в 1676 г., при Иннокентии XI. Арно умер, и во главе партии встал Паскье Кенель (1634-1719). Распря становилась все более ожесточенной, упорной и куда менее богатой с точки зрения человеческих и духовных ценностей. И, как мы все хорошо знаем, спор продолжался еще много лет и в восемнадцатом веке. Очень возможно, что даже сегодня мы еще не преодолели до конца всех последствий этого спора.
Все разногласия относились к авторитету святого Августина. Те, кто любил называть себя «защитниками благодати и святого Августина», с какой-то односторонней настойчивостью безоговорочно утверждали этот авторитет. Совершенно очевидно, что янсенизм во многом содействовал этому повсеместному присутствию августинизма,
157
той одержимости августинизмом, о которой мы уже не раз говорили. За пределами же этой полемики происходили иные процессы, благодаря которым мы стали лучше понимать учение святого Августина, а сам он стал нам еще ближе. Многочисленные исторические труды выходили как из-под пера янсенистов, так и из-под пера их противников-иезуитов. Труды эти были посвящены либо самому Августину, либо Пелагию, либо полупепагианам и даже Готшалку. Конечно, авторов этих трудов можно упрекнуть за то, что они слишком часто отдавались злобе дня в ущерб спокойствию, столь необходимому для всех тех, кто по-настоящему стремится прийти к пониманию. Во всяком случае, благодаря одному из насельников Пор-Рояля, великому Себастьяну Ленену де Телемону, мы обладаем самой точной из всех до сих пор написанных, в научном отношении самой объективной биографией святого Августина. Отдельные издания, переводы сочинений святого Августина также продолжали умножаться. Конец семнадцатого века ознаменовался воздвижением наиболее прекрасного и долговечного памятника святому Августину: мы имеем в виду полное издание августиновских творений, подготовленное бенедиктинцами из Конгрегации святого Мавра. Это издание — настоящий шедевр, созданный великолепной группой ученых-знатоков, собравшихся в аббатстве Сен-Жермен де Пре вокруг французского бенедиктинца Жана Мабильона. Издание осуществлялось под руководством дона Депьфо, а затем дона Бленпена; после многих бурь оно вышло в свет между 1679 и 1700 гг. По своему уровню это издание стоит неизмеримо выше издания, подготовленного лувенскими богословами, и до сих пор сохраняет научную ценность.
Вчера, сегодня, завтра...
Тот успех, какой а семнадцатом веке выпал на долю святого Августина, та важнейшая роль, какую августинизм сыграл в церковных спорах той эпохи, в восемнадцатом веке обернулись против Августина. По мере того как возрастало значение новой философии Просвещения, по мере того как росли антикатолические настроения, а общество все более дехристианизировалось, падало и влияние августинизма. В душе остается горький осадок, когда перечитываешь, например, те немногие, небрежно набросанные, почти всегда презрительные строки, которые уделил Августину вольтерианец Гиббон в своем большом историческом труде под названием «Закат и падение римской империи» (1776-1788). Но, как только христианство стало восстанавливаться и возрождаться, люди вновь — и это было неизбежно обратились к живительному источнику августиновской
158
мысли. Интереснейшим и в каком-то смысле символическим явлением этой переходной эпохи было творчество монаха-барнабита Иакинфа Гердиля (1718-1802). Он защищал Мальбранша от нападок Локка, а в 1763 г. составил своего «Анти-Эмиля». Забавно, что ответ савойскому викарию также вышел из-под пера савояра (Гердиль был родом из Савойи).
Иакинф Гердиль продолжил дальнейшую разработку золотоносной августиновской философской жилы, став родоначальником онтологического течения. Он обновил метафизический августинизм Мальбранша (непосредственное познание Бога, познание, благодаря которому мы приходим к видению Божественных архетипов, или общих идей, с присущей им истиной). Вплоть до 1860 г. это учение или направление (вызывая беспокойство у церковных консерваторов) доминировало во многих католических кругах. (В Италии — Винченцо Джоберти, Антонио Розмини, Теренцио Мамиане, в Бельгии — Лувенский университет, во Франции — онтологист аббат Жюль Фабр, переиздавший с некоторыми небольшими поправками августиновскую «Философию» о. Андре Мартена, Париж, 1863.)
Но это лишь один из частных аспектов; на деле все христианское католическое возрождение девятнадцатого века питалось августинизмом. Об этом свидетельствуют переиздания бенедиктинского свода творений Блаженного Августина, а также многочисленные полные или частичные переводы его трудов, осуществленные во многих странах мира, в частности и в России. Как всегда, эта новая фаза августиновского влияния отразилась в эволюции духовно-религиозной жизни. В эту эпоху возникли новые духовные общины, пропитанные духом Блаженного Августина. Так например, между 1845 и 1850 гг. о. д’Альзон создал во Франции объединение августинцев во имя Успения Пресвятой Богородицы, и в основу устава этой конгрегации лег именно Устав святого Августина.
Нам кажется, что нет никакой необходимости тратить время на доказательства и без того очевидного присутствия святого Августина в лоне культуры, созданной за последние десятилетия. Это справедливо и для нашего поколения. Августин остается одним из тех немногих христианских мыслителей, о ком знают и помнят и кому отводят место в истории развития человеческого духа также и нехристиане.
Каким бы далеким ни казался протестантизм, особенно в эпоху расцвета либерализма, от вероучительных и церковных позиций Августина, все же, он, протестантизм, не переставал интересоваться Августином и тем или иным образом оспаривать его принадлежность к католицизму. Католическая же Церковь постоянно, на протяжении столетий, прославляет и почитает Блаженного Августина как одного
159
из своих самых великих учителей. И можно сказать, что торжественные энциклики Пия XI (1930 г.) и Пия XII (1954 г.) как бы продолжили прославление Августина, начатое в 431 г. их предшественником папой Целестином I. И это несмотря на парадоксальный характер влияния августинизма, который, как мы уже видели, породил столько ересей и заблуждений, а с другой стороны, принес так много здоровых плодов.
В 1930 г. было торжественно отмечено 1500-летие со дня смерти Блаженного Августина, а осенью 1956 г. — 1600-летие со дня его рождения. Оба эти торжества выявили как «плодотворность постоянно обновляющейся августиновской мысли» (Морис Блондель), так и те научно-методологические требования, выполнение которых необходимо для дальнейшего сохранения и развития августиновского наследия.
Каким бы кратким ни было наше обозрение вековой истории августинизма, все же его достаточно для понимания следующего парадоксального факта: наиболее глубокое или,по крайней мере, наиболее очевидное влияние не всегда исходило от лучшего в творчестве святого Августина. Таким образом, стоящая перед нами цель ясна (об этом недвусмысленно говорил в 1930 г. Этьен Жильсон, а в 1954 г. Морис Недонсель и Андре Мандуэ). Мы должны постоянно возвращаться от августинизма, от всякого августинизма к самому святому Августину.
160
ПРИМЕЧАНИЯ
2. Там же, стр. 15.
3. Блаженный Августин. О граде Божием. Там же. Т. 2. Ч. 6, стр. 279.
4. Блаженный Августин. Исповедь. Там же. Т. 1. Ч. 1, стр. 252.
5. Там же, стр. 1.
6. Блаженный Августин. Монологи. Там же. Т. 1. Ч. 2, стр. 259.
7. Там же, стр. 233.
8. Блаженный Августин. Исповедь. Там же. Т. 1. Ч. 1, стр. 94-95.
9. Там же, стр. 6.
10. Там же, стр. 52. 11- Там же, стр. 281.
12. Блаженный Августин. Об учителе. Там же. Т. 1. Ч. 2, стр. 464-466.
13. Блаженный Августин. Энхиридион Лаврентию. Там же. Т. 3. Ч. 11. стр. 8-9.
14. Блаженный Августин. О граде Божием. Там же. Т. 2. Ч. 4, стр. 216-217.
15. Блаженный Августин. Монологи. Там же. Т. 1. Ч. 2, стр. 228-230
16. Блаженный Августин. О Книге Бытия. Там же. Т. 3. Ч. 8, стр. 111-112.
17. Блаженный Августин. О граде Божием. Там же. Т. 2. Ч. 5, стр. 63-64.
18. Там же. Т. 2. Ч. 6. стр. 139-141.
19. Там же. Т. 2. Ч. 3, стр. 58-59.
20. Там же, стр. 114-116.
21. Блаженный Августин. Об истинной религии. Там же. Т. 3. Ч. 7, стр. И.
22. Блаженный Августин. Энхирндион Лаврентию. Там же. Т. 3. Ч. 11, стр. 7.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
