13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Степун Фёдор Августович
Степун Ф.А. Жизнь и Творчество
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
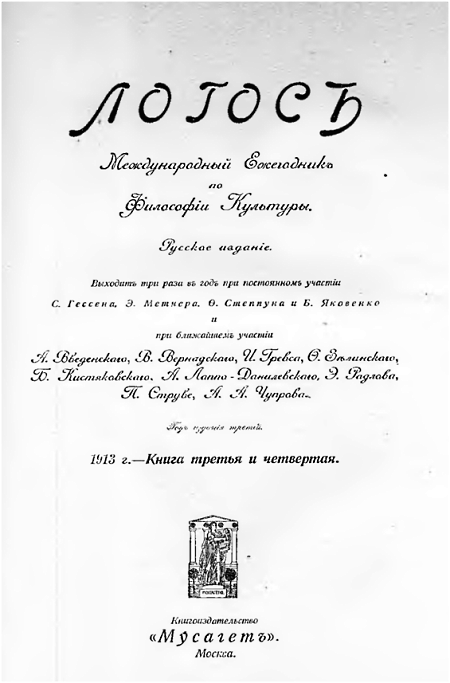
Федор Степун
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Историческое исследование понятий жизни и творчества
При всем разнообразии философских направлений современности, философия последнего полувека представляется нам все же отмеченной совершенно определенным единством. Историческим корнем этого единства является, по нашему мнению, то новое и творческое углубление в Канта, органическую необходимость которого один из первых неокантианцев, покойный Отто Либман, так знаменательно в словах известного призыва «zurück zu Kant».
Конечно, система Канта насквозь взволнована самыми разнообразными течениями, пронизана противоречиями; этими противоречиями еще долго будет питаться как развитие кантианских школ, так и борьба врагов системы Канта с ее защитниками и продолжателями.
Но, несмотря на безусловную справедливость всего сказанного, мы все же в состоянии указать на ту основную и объединяющую мысль критицизма, которая, если еще и не окончательно обрела, то во всяком случае все более и более обретает всеобщее распространение и признание.
Основная разница между докантовской философией и новою философией, навсегда определенной критической мыслью Канта, заключается главным образом в том, что вся докантовская философия определяла абсолютный предмет познания, как некую, по отношению к познающему субъекту трансцендентную реальность. Критика же чистого разума определила этот абсолютный предмет, как имманентную познающему субъекту систему объективно-формальных трансцендентальных принципов. Такое превращение
71
абсолютного, как правомерно искомого человеческой мысли, из начала трансцендентного в начало трансцендентальности означало прежде всего решительное избавление абсолюта из его положения потустороннего, наджизненного одиночества и утверждение его, как основного структурного элемента живой культурной работы. Таким образом разница между докантовской философией и философией Канта заключается отнюдь не в том, что первая стремилась к познанию абсолюта, вторая же отказалась от этого стремления, ограничась познанием относительной сферы явлений. От стремления познать абсолютное Кант никогда не мыслил отказываться. Такой отказ был бы равносилен злейшей измене всему делу философии. Весь скептицизм Канта заключается только в том, что он решительно отклонил попытку догматизма узреть абсолютное в образе стоящего высоко над землею солнца. Он действительно переложил горизонт философии так, что солнце абсолютного осталось за ее горизонтом. Но этот закат абсолютного отнюдь не приводит теорию познания Канта к бессильному отказу от подлинного знания, и не приводит потому, что как зашедшее солнце остается в вечернем мире, одевая все предметы светом и тенью, а тем самым и формой, так и покоящееся за горизонтом познаваемости абсолютное Канта одевает все предметы духовного космоса — научные суждения, художественные произведения, религиозные подвиги символы, своими оформляющими отсветами, т.е. их трансцендентально-предметными формами.
Узрение абсолютного остается, значит, и после «Критики чистого разума» единственной подлинной задачей философии. Разница лишь в том, что взоры современного критицизма как бы опущены, что критицизм этот ищет уже не солнца в небе, а лишь его следы и отсветы на гаснущей земле. Разница лишь в том, что он уже не мнит узреть абсолютное в его надземной целостности и небесной отрешенности, но стремится уловить это абсолютное в его формальном аспекте, в его функции оформления нашей человеческой жизни и нашего культурного творчества. Эту опущенность философского взора современного трансцендентализма должно определенно признать. Но непризнание этого взора, опущенного лишь затем, чтобы уловить запечатленность всего земного отсветами абсолютного, за все тот же испытующий вечность и вечно религиозный взор единой в мире философии надо еще определеннее отвергнуть.
Согласно со всем сказанным, задача после-кантовской философии должна была прежде всего определиться, как систематическое рассмотрение всех областей культуры с целью отделения в них
72
их трансцендентально-формального элемента, т.е. элемента абсолютного, от случайного и преходящего начала материальности.
Такое самоопределение философии естественно заставляло ее искать своего поля деятельности вдали от высоких башен метафизики «вокруг которых обыкновенно сильно свищут ветры» *), заставляло ее селиться в «плодотворных низинах», врастать корнями в живую полноту свершаемой человечеством творчества работы. Придерживаясь таким образом в своем устремлении к абсолютному руководящей нити культурно данного, философия трансцендентального идеализма покорно отдает функцию первичного постижения, первичного обретения абсолютного тому конкретному, научному, художественному, нравственному и религиозному творчеству, в котором еще Гёте прозревал и утверждал начало всех начал: «amAnfangwardieTat». Роль же философа она сводит к роли внимательного созерцателя всех свершенных и все далее и далее свершаемых человечеством подвигов духа, к роли возместителя тех формальных моментов абсолютного, которые, подобно бесплотным лучам благодати над головами праведников и святых, нетленно сияют над всеми созданиями человеческого духа.
В этом стремлении стеснить организм философии с одной стороны иррациональным началом эмпирически данного, а с другой — рациональным началом трансцендентально-оформляющего, одновременно оберегая его как от «гетерономии законодательствующего метафизицизма, так и от аномии беззаконного и враждебного закону эмпиризма» **) одинаково сошлись как Виндельбанд, Риккерт и Ласк, так и Гуссерль, Коген и Наторп. Однако, чтобы окончательно уяснить себе вскрытую нами сущность трансцендентального идеализма, нужно еще выяснить одну грозящую ему опасность. Есть среди крупных представителей современного трансцендентализма мыслители, как например Зиммель и Дильтей, у которых определенно наблюдается, если и не теоретически утвержденная, то всею историею их творчества выявленная склонность превратить систематическое положение трансцендентального идеализма, заключающееся, как это было показано, в том, что абсолютное налично для философии лишь в виде формально-объективного момента при конкретной данности культур-
*) Natorp. Kant und die Marburger Schule. Статья в Kantstudien, т. XVII, 3.
**) Ibid.
73
ных благ, в безусловно антифилософскую тенденцию заменить научно-философское раскрытие этих формально-объективных моментов и их организацию в целостный образ философской системы антисистематическим и, так сказать, миросозерцательным погружением философствующего духа в величайшие художественные и религиозные создания человечества. Ясно, что философия трансцендентального идеализма, стремящаяся к объективности и научности, никогда не сможет признать за этою ею же порожденною тенденцией правомерности и философичности. Такое признание было бы самоубийством. Но все же, поскольку всякое явление жизни вскрывает свою подлинную природу лишь в образе ждущей его и всегда индивидуальной смерти, постольку и оговоренная нами миросозерцательная тенденция трансцендентального идеализма должна быть признана за его характерную черту.
Итак, главное, что сделал Кант, заключается в том, что он отверг трансцендентное, как объект философии, и заменил этот отвергнутый объект принципом трансцендентальной объективности. Говоря иначе, это значит, что он узрел абсолютное не в образе оформленной метафизической целостности, но в виде трансцендентального элемента формы, придающей всему культурному творчеству человечества характер необходимости и всезначимости. При всей своей громадности такое разрешение основной проблемы познания, проблемы его абсолютного предмета, сразу же обнаруживает свою принципиальную и поныне все еще не разрешенную трудность.
Трудность эта заключается в том, что, облачая достоинством абсолютного форму, как таковую, Кант должен был положить начало содержания, или материи, как начало относительное и преходящее. Но если из двух начал, начал формы и оформляемого, составляющих единую целостность оформленного, одно начало, а именно начало оформляемого, полагалось как начало случайное, то ясно, что счастливою случайностью, не больше, оказывался и самый акт оформления. Так попадало у Канта начало целостности и конкретности в сферу относительного и случайного. В этом роковом повороте кантовской философии коренится то, что должно назвать формалистическим характером всего его учения. Отсюда в теоретической философии одностороннее признание научного достоинства прежде всего за математикой и математизирующими естественными науками; в практической — нивелирующая тенденция «категорического императива», абсолютно неспособного постичь и оправдать конкретную полноту и спецификацию нравственной жизни; в глубокомысленно задуманной эсте-
74
тике — ее своеобразный эстетизм, решающийся приписать красоту лишь арабескам да цветам и беспомощно немеющий перед убеждающей целостностью действительно большого искусства.
Ясно, что порабощенное таким образом критицизмом, ибо отданное им во власть эмпирической случайности, начало целостности и конкретности должно было сейчас же по осознании этой порабощенности стать искомым всей после-кантовской философии. Осознание это, в котором наиболее влиятельно участвовали Фихте, Шиллер и Шлейермахер, свершило свою работу быстро и убедительно. Его результатом была гениальная попытка романтизма выбиться из теснящих пределов критицизма и взять абсолютное уже не как элемент трансцендентальной формы, но прежде всего как оформленностъ, живую и целостную.
Этой борьбой с критицизмом ярко запечатлена вся своеобразная структура культурного идеала романтизма. В своем стремлении взять абсолютное не как элемент формы, но как живую оформленность, романтизм должен был прежде всего отрицать специфическую форму каждой области творчества, как ее безусловную границу. В этом утверждении «диффузности границ» всех самодовлеющих по Канту областей культуры вырастал типично-романтический метод организации всех видов творчества в некий целостный лик в сущности всюду единого гнозиса. Как это ни парадоксально, но, быть может, наиболее точно структурная особенность культурного идеала романтизма выражается в его никогда, конечно, не осуществимом стремлении расположить центр каждой культурной области на ее же границе. Так центрирует романтизм положительную науку в пределе философии, философию — в пределе искусства, искусство — в пределе религии, а религию — в самой беспредельной жизни. Так раскрывает он нам наиболее характерную черту своего идеала культуры в парадоксальном требовании, чтобы каждая отдельная область творчества как бы прорывала себя самое в неудержимом стремлении осилить то абсолютное содержание жизни, которое по всему своему существу решительно не под силу ее методическим формам. Жизнь в смысле объединения всех сил человека воедино, жизнь в образе космического и мистического всеединства, — вот, значит, та вершина целостности и конкретности, вот та последняя и положительная беспредельность, создающая, организующая и снова уничтожающая всякие пределы, к утверждению которой сводились, в конце концов, все страстные усилия классического романтизма. Этим стремлением перестать говорить о жизни, а сказать ее самое, навеки если и осмыслен, то все таки и осужден
75
трагический и гениальный срыв романтического искусства с отвесной крутизны его последних устремлений. Этим стремлением поставить в центр системы философии все ту же жизнь жива в конце концов и философия романтизма. Жива равно как в юношеских дневниках и переписке Гёльдерлина, так и в законченной системе Гегеля.
Однако, Гегель — единственный осиливший задачу романтизма — осилил ее только потому, что ясно понял, что для того, чтобы философствовать от имени жизни, надо эту жизнь сначала как-нибудь философски осилить. Нужно взять ее не в ее непосредственной, в переживании обретаемой данности, но в ее теоретической транскрипции. Такой теоретической транскрипцией явился для Гегеля высший принцип его философии, его саморазвивающаяся конкретная идея. Конечно гегельянство является высшим достижением романтизма. Но оно является им лишь постольку, поскольку оно является и отказом от него. Гегель закончил романтизм только потому, что отказался от бесконечности его притязаний. Он осуществил философию целостного, конкретного начала только потому, что взял это начало в его философском аспекте, т.е. ввел его в строгие границы определенной и в себе обособленной области творчества, именуемой философией.
Его изумительно меткое и точное осуждение романтического искусства, стремящегося, по его мнению, постоянно выйти в форме своего эстетического самоутверждения за пределы самого себя, дабы осилить никогда не подвластное ему абсолютное содержание *), ясно свидетельствует о том, что он определенно понял наличную для всякой области творчества необходимость жить и творить в признании своих неснимаемых границ, определенно понял, что бесконечно борясь за уничтожение всяких границ своих владений, придется в конце концов потерять над ними всякую власть. Ибо у творчества нет власти над безграничным. Если такое толкование гегельянства кажется несколько искусственным, так только потому, что Гегель бесконечно искусно скрыл свое философское самоограничение страшным расширением границ своей философии.
История философии безусловно оправдывает все наше рассуждение. Ни романтизму, ни гегельянству она не оказала доверия. И в этом
*) Die romantische Kunst bedeutet ein Hinausgehen der Kunst uber sich selber in der Form der Kunst selbst, eine Auflösung der ästhetischen Form zu Gunsten eines absoluten Inhaites, dessen Darstellung die Grenzen der ästhetischen Ausdrucksmittel bergsteigt.
76
своем отрицательном вотуме она была безусловно права. Ибо ни романтизму, ни гегельянству не удалось уйти от кантовского трансцендентального формализма в сторону более живого познания абсолюта, как начала конкретной и целостной оформленности. Романтизм не пошел далее организации всех форм творчества в перспективе той романтической хаотичности, которая быть может и жива предчувствием начала целостности, но все-же не ведет к нему.
А гегельянство, если и осилило это начало, так только в его одностороннем отражении, только в его философском аспекте. Отожествление же мысли и жизни, логики и метафизики, конечного и бесконечного, которым сам Гегель думал освободиться от характера «аспектности» своей философии и превратить философскую форму абсолютного в метафизически оформленный абсолют, не могло конечно скрыть от критического взора истории одностороннего и насильственного характера его учения.
Так не сбылись мечты того поколения, которое думало высечь из кремня критицизма огненную искру своей новой философии, философии целостности и конкретности, философии по образу и подобию всеединой и всеисчерпывающей жизни. Наступила, как известно, пора того всеобщего разочарования в значении философии, глубина которого с достаточною яркостью измеряется падением самой философии до уровня материализма. Что было делать? Очевидно, оставался только обратный путь, путь возвращения к старой позиции критицизма. Она и была занята. Что же она породила?
Освободившись от романтического засилья философических тенденций, положительная наука решительно утвердилась под знаменем своих аналитических самодовлеющих методов. Бесконечно обогатившись всеми приемами и образами романтического творчества, навсегда усвоив себе метод сближения отдельных областей искусства друг с другом, навсегда приняв сказочность и мифичность, метафизичность и символичность, искусство последних десятилетий все же определенно отошло от хаотичности и гетерономичности синтетических тенденций романтизма. Тот же дух анализа не исчез, но, напротив, шире раскрылся во второй половине XIX столетия и в области государственной и политической жизни; синтетические тенденции романтического теократизма и гегелевой государственности объективного духа умерли где-то совсем вдали от действительной жизни. В религиозной, социальной и личной жизни царят те же силы, господствуют те же тенденции. Йонас Кон
77
вполне справедливо отмечает в своей книге, *) что подлинного синтеза нигде нет, а господствующие синтетические тенденции так абстрактны и так нивелирующи, что способны всего лишь на то, чтобы вызвать, как антитезу себе, бессильное дробление и крошение всего индивидуально-конкретного содержания свершающейся на наших глазах жизни. Справедливо подчеркивает он, что в религиозной сфере в ней противостоят синтетические тенденции пустого рационализма и бессильный атомизм мистических переживаний; в социальной — нивелирующий синтетизм современного индустриализма, обезличивающего всякий труд, и чрезмерно быстро возрастающие ныне требования не столько стать личностью, сколько быть признанным за таковую. В сфере личных жизненных идеалов громко раздающееся эстетическое требование стать «художественною формою себя самого» и глубоко-своеобразное показательное явление современного обще-европейского эстетства, подменяющего волевое создание единой личности безвольным созерцанием ее элементов, созерцанием, разлагающим эту личность, подобно пуантилистическому методу импрессионизма, на бесконечное обилие каких-то самодовлеющих точек переживания. Но самое важное быть может не то, что жизнь европейского человечества пошла этим путем аналитического раздробления духовных сил и их творческого проявления, но что и сама философия, это самосознательное утверждение жизни, встала столь же решительно на тот же путь и своим возвращением к Канту вполне оправдала аналитическую природу структурного идеала культуры, решительно отстранила как дух, так и жизнь современного творчества от начала целостности и конкретности.
Однако все сказанное нами об аналитическом духе современной культуры и современной философии верно лишь постольку, поскольку будет признан и тот факт, что современность все же не окончательно исчерпывается раскрытым нами началом анализа, что она, как на как, но все-таки знает и другую тенденцию, тенденцию проникнуть наконец глубже в сферу объединения и единства. Целый ряд явлений живо свидетельствует об этом стремлении.
У нас в России мы в философии переживаем связанное с именем Владимира Соловьева углубление в славянофильское учение о целостной природе церковно-религиозного начала, а в искусстве — синтетические устремления символизма. На Западе мы также присутствуем при возрождении объединяющих и центрирующих сил ро-
*) Книга эта уже печатается и выйдет вероятно в ближайшее время.
78
мантизма, мистики и гегельянства. Острее чем когда-либо прислушиваемся мы ныне к той критике аналитических и атомистических основ жизни и творчества, которую дали Фихте, Шлегель, Новалис, Шлейермахер, Одоевский, Киреевский, Хомяков и Вл. Соловьев. С глубоким волнением перечитываем гениальные письма Шиллера о том, что естественное чувство жизни нигде в современной культуре не находит своего отражения, и что великая истина, являемая аналитическим духом времени, представляется нам неприемлемой и парадоксальной. *) Снова проснулась в душах наших романтическая жажда вырваться из мучительных тисков научных схем и понятий, освободить как наш художественный, так и наш философский гнозис от той предварительности и периферичности, которыми он все еще трагически запечатлен. Сильнее чем когда-либо порываемся мы ныне сорвать с абсолютного все его мертвые личины и обрести его в его живом и порождающем центре, в его подлинной сущности, в его целостности и конкретности. Страстнее, быть может, чем в эпоху классического романтизма, стремимся мы ныне критически прорваться сквозь кованный строй всех форм абсолютного и жизненно войти в абсолютное самого абсолюта.
Этим стремлением определенно запечатлены те формы современного неоромантизма, что возникли при современном неокантианстве. Все значение и весь успех прагматизма, каким он раскрылся в творчестве Джемса и, главное, Бергсона держится тем, что прагматизм взял на себя защиту жизненного начала целостности и конкретности от деструктивной власти аналитического критицизма. Взял под защиту, но, конечно, не мог защитить. Слишком неравными оказались противники. Неравными потому, что Кант в неокантианстве только окреп, романтизм же в прагматизме лишь ослаб и обезличился. Случилось же это потому, что усовершенствовать аналитическую систему Канта могли мыслители, стоящие в смысле удельного веса их дарования вне всякого сравнения с самим Кантом. Обогащать же синтетическую стихию романтического творчества могли бы только люди тех же творческих размеров, которыми были свыше наделены и Шеллинг и Гегель. Но такие люди редки, и таких людей не нашлось. А потому принцип аналитического трансцендентализма, устоявший против гениальной заносчивости конструктивной метафизики Гегеля и против христианского смирения стареющего Шеллинга, против сказочного реализма мечтательного Тика и против загробных
*) Schiller über die ästetishe Ersiehung des Menschen. B. XII. P. 3.17-26.
79
мечтаний верного земле реалиста Новалиса, против трагической лжи католицизма Фридриха Шлегеля и против ужасной правды безумия Гёльдерлина, - может со спокойной уверенностью взглянуть в лицо как Джемсу, так и Бергсону. Ибо у Джемса есть только слепой инстинкт истины, беспомощно задыхающийся в нефилософской атмосфере эмпиризма, психологизма и утилитаризма, а у Бергсона всего только один гениальный жест, которым он властно вырывается из сферы прагматически-символической научности и на мгновение действительно погружается в свою «durée», в живой поток онтологически-реального бывания. Но этот жест, который в «Essaisurlesdonnéesimmédiatesdelaconscience» действительно как бы скользит вблизи мистически-живой реальности, в главном труде Бергсона «Evolutioncréatrice» уже совсем бессилен н беспомощен. Рванувшись к жизни, как к живой мистической душе вселенной, Бергсон, как и все метафизики, подвергнутые им гениальнейшей критике, превратил эту живую душу в мертвую схему, в отвлеченную схему метафизицированного биологизма. *) Таким образом и Джемс и Бергсон оказываются совершенно бессильными совлечь философскую мысль с тех путей аналитического трансцендентализма, на которые ее поставила «Критика чистого разума».
Оба эти прагматические движения являются, значит, снова лишь признаками нашей великой тоски по философии конкретной, целостной и синтетической, но отнюдь не действительными достижениями таковой. Тоска наша воистину велика. Но вся тоска эта не в силах помочь нам отчалить от пустынного берега аналитической мысли. Психологически мы горим ею, но космическою силою попутного ветра она не надувает поникших парусов наших. И знаем мы путь, да не можем отплыть. В мертвой воде неподвижен корабль наш, и мы только бессильно суетимся на его невздрагивающей палубе.
Итак, в результате должно признать во-первых то, что абсолютное, как начало целостности и конкретной оформленности, осталось, несмотря на все усилия романтизма и прагматизма, в которое его повергла критическая мысль Канта. А во-вторых то, что оно по-прежнему продолжает требовать своего признания, продолжает требовать для себя определенного логического места в строящемся здании философской системы, определенной формы своего философского самоутверждения.
А так как тому, о чем тоскует Эрос философии, ее Логос никогда не смеет отказать в признании и осуществлении, то ясно,
*) Ср. Henri Bergson. Von Richard Kroner. LogosB. I.
80
что место это должно быть указано, и форма эта должна быть найдена. Весь вопрос только в том, каким путем двинуться к этой цели?
Определенно же ясно лишь одно. Перед тем, как пытаться приложить и свои старания к разрешению великой философской проблемы XIX-го столетия, должно ясно рассмотреть те причины, от которых погибли совершенно иные силы как классического немецкого романтизма, так и современного нам английского, американского и французского прагматизма. Причины же эти заключаются в недостаточном признании открытых Кантом безусловных истин и в выросшем отсюда ложном стремлении заменить кантовский критицизм новыми формами отвергнутой им метафизики, в то время как открытой оставалась лишь совершенно иная возможность свободного совмещения кантовского трансцендентализма с внеметафизическим утверждением жизненного начала целостного и конкретного синтетизма.
Лишь этим путем абсолютного признания и утверждения великого дела Канта, лишь путем бескорыстного признания его гениального вражьего подвига, можно нам попытаться взять начало целостности и конкретности под свою философскую опеку. Говоря более детально, это значит, что вводя в замкнутый круг нашего философского миросозерцания начало целостности и конкретности, мы, во-первых, отнюдь не должны превращать его в прямой и подлинный объект философского познания, что неминуемо привело бы нас к отвергнутой Кантом до-кантовой метафизике объекта. Во-вторых, мы не должны превращать это искомое нами начало и в потенциальную сущность познающего субъекта, что неминуемо привело бы нас к той послекантовой метафизике субъекта, которая в известном смысле пыталась отменить самого Канта. Но раз начало целостности и конкретности не может быть утверждено в философской системе ни как объект, ни как субъект философского познания, то ясно, что оно не может быть осмыслено и в духе трансцендентального идеализма Шеллинга, в смысле индифферентного субъект-объективного основания как субъекта, так и объекта. А так как все замкнутое в круг философского познания должно неминуемо располагаться или в сфере субъекта или в сфере объекта или, наконец, на линии индифферентного субъект-объектного касания этих обеих сфер, то ясно, что синтетическое начало абсолюта, как некая конкретная и целостная оформленностъ, должно неминуемо выпасть из сферы всякого философского познания.
81
Итак, мы приходит к результату, что Последней Истине в философии места нет. Значит ли это однако, что между Последней Истиной и философией действительно порвана уже всякая связь? Такой вывод был бы преждевременен. Если Последней Истине и нет места в философии, то, быть может, философии найдется место в Последней Истине? Если Последняя Истина и не может быть втиснута в организм философии, то она все же, может быть понята, как та единственная атмосфера, в которой этому организму дано дышать и развиваться?
В попытке положительного ответа на этот вопрос и заключается, по нашему мнению, очередная задача философии.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Феноменологическое узрение понятий жизни и творчества
Показав проблему синтетической целостности жизни и трансцендентальной формы, всегда противостоящей какому-нибудь содержанию, или, что в сущности то же самое *), проблему жизни и творчества в ее исторической перспективе, я должен теперь подойти к той же проблеме с другой стороны, со стороны более существенной, должен постараться осветить ее не историческим, но систематическим светом, должен, одним словом, взять и охватить ее не в ее внешней исторической перспективе, но в ее внутреннем смысле и существе.
Для того, чтобы понятия жизни и творчества могли бы стать плодотворными орудиями моего философствования, а затем и правомерными моментами самой философии, необходимо прежде всего, чтобы они были отпрепарированы мною со всею доступною им и необходимою для мысли о них четкостью и чистотой. Для того же, чтобы приступить к этой научной работе очищения и чеканки, к этому процессу препарирования философских понятий, мне, стоящему в момент начала моего философствования еще вне организма моей философии, необходимо, конечно, прежде всего найти нечто по отношению к моей строящейся мысли до-научное, до-философское, приблизительное, сырое, аморфное, нечто такое, к чему вообще можно бы было приложить отточенный нож аналитической мысли и расчлененные, аналитически-возделанные части чего можно бы было, по сверше-
*) Тожество этих понятий вскроется всем дальнейшим ходом статьи.
82
нии этой необходимой сецирующей работы, однозначно запечатлеть вполне точными логическими формулами. Тут у меня на минуту возникает мысль о возможности опереть свое строящееся знание, свою строящуюся философию на известные мне результаты чужой умственной работы, на то знание, которое стоит передо мной в образах великих философских систем прошлого. Но такая возможность сейчас же рассеивается. И действительно. Или чужое знание есть для моей умственной жизни знание подлинно чужое, а тем самым мне непонятное, для меня неприемлемое, и в качестве подножия для моей строящейся системы постижений абсолютно непригодное, или же оно, наоборот, естественно входит в организм моей мысли, утверждается в ней как ее правомерное и существенное звено, т.е. перестает быть для меня чужим, т.е. снова ставит вопрос о своем подножьи, о своем основании. И вот тут-то и выясняется мне, что искомое мною основание моего философского знания, искомая мною до-научная и до-философская данность, ждущая своей научно-философской обработки, может быть мне дана, поскольку я жажду философии живой и творческой и определенно отрицаю бесплодную работу переливания завещанных мне мертвых кристаллов чужих систем и понятий в новые, быть может даже и оригинальные, но снова и снова мертвые формы, в сущности всегда одним и тем же, тем никому несказуемым, но всем известным, что будучи всегда иным, но всегда и самотождественным, временами почти иссякая, временами же внезапно нарастая, постоянно течет сквозь все человеческие души, и что мы все точно указуем многосмысленным и приблизительным словом «переживание».
Но присмотримся ближе к этому вводимому нами здесь термину. Спросим себя — что же значит переживание? И в каком смысле философия может и должна исходить из его непосредственных данных? Для того чтобы ответить на этот вопрос, надо прежде всего уяснить себе то, что в мире нет решительно ничего, что в том или ином смысле не могло бы быть пережито. Мы одинаково переживаем как физическую вещь, так и психический процесс, как бескорыстное чувство, так и расчетливую мысль, как царство абстракций, так и конкретную данность, как объективную истину, так и субъективное мнение, как математическую формулу, так и мистический иероглиф. В виду такой переживаемости решительно всего, что вообще очерчиваемо, кругом нашего сознания, исход из переживания должен, очевидно, или не говорить ровно ничего, или понятие переживания должно быть так или иначе существенно сужено и уточнено.
83
В целях такого уточнения теоретическая мысль должна в том, что она именует переживанием, прежде всего строго отличить самый процесс переживания от того, что в нем переживается, несется, подобно ледяным глыбам по мутным водам половодья. Нечто на первый взгляд очень близкое к такому разделению неустанно занимает всех лучших логиков нашего времени. Все они, например, постоянно стремятся к тому, чтобы со всею возможною точностью отделить психически-реальный акт научного суждения, т.е. переживание, от сверхбытийного смыслового состава знания и перенести проведение этой демаркационной черты из сферы логики в сферы этики, эстетики и религии. Однако, такое разделение не совсем совпадает с тем, которое необходимо нам для того, чтобы точнее вскрыть природу того переживания, которое должно быть положено в основу всякой почвенной, корневой философии. Не совпадает оно потому, что, говоря о переживании, как о психическом процессе, как о психической данности, действительности, мы в сущности говорим уже не о переживании, но лишь о его теоретическом истолковании. Психичность, процессуальность, данность, действительность, все это моменты смыслового состава знания, которые могут быть пережиты, но которые никогда не могут быть определены, как переживание. Психическая действительность уже по тому одному не есть ни в каком смысле переживание, что она есть объект знания; переживание же, в отличие от всего переживаемого в нем, никогда не может стать объектом знания, ибо оно есть то, что постоянно дарует человеческому знанию все его объекты и что этой своей функцией принципиально отлично от них. Подари переживание себя самого нашему знанию как некий предмет, стань оно само объектом, и процесс поступления новых объектов знания был бы навеки пресечен. Переживание есть, значит, такая наличность нашего сознания, которая никогда не может по всей своей природе стать объектом нашего знания.
Вводя, таким образом, в свое философское построение термин «переживание», я вполне отчетливо сознаю, что исхожу из понятия, логически абсолютно непрозрачного, логически неопределимого, т.е. исхожу в сущности не из понятия, но лишь из стремления поймать неуловимое и из признаваемой мною невозможности действительно свершить это уловление. Но именно такой парадоксальный исход я и признаю единственно правильным. И действительно: раз уже философия ищет исходной точки, то она должна искать ее в том, что не есть она сама. Замыкая исходный пункт философии в круг ее самой,
84
мы лишь снова повторяем вопрос об ее основании и исходе. Но так как природа философии есть, конечно, прежде всего стихия понимания, то ясно, что исход философии из того, что не есть она сама, есть неминуемо исход из того, что для нее должно быть непонятным. Логическая пластичность философской мысли коренится, таким образом, как раз в том, что всякая философская мысль живет, светится на темном фоне тайны. Было бы, однако, несправедливо думать, что философия окончательно бессильна по отношению к тайному. Понятие алогичного есть понятие логики. Понятие иррациональности есть понятие рациональное. Все это говорит о том, что философия способна осилить понятие переживания в ряде отрицательных суждений, что она может очертить его контур как линию своего автономного самоограничения. — Но самоограничение естественно предполагает самостановление. Отрицательное определение тем точнее, чем больше положительного содержания отрицается в нем. Это значит, что определение понятия переживания возможно лишь как завершение исчерпывающей философской системы, но не как начало ее. Отсюда ясно, что поскольку философии необходимо в самом же начале зачерпнуть живой воды переживания, постольку же ей невозможно начать свою жизнь с проникновенного узрения его логической природы. Безродная и не знающая своего исхода философия в начале своего пути подобна слепому мудрецу, одиноко покинутому кем-то у живого источника жизни. Слепые движутся ощупью; посохом философии, не могущей определить переживания, может послужить его феноменологическое описание. Природа же феноменологически-дескриптивного метода уяснится лучше всего на примере феноменологического описания переживания, к которому нам и надлежит перейти.
Я сижу и читаю. Захваченный чтением, я почти не чувствую себя. Возникающий из книги мир все сложнее дробится в нарастающем обилии направляемых на него форм постижения. Но вот за темным вечерним окном моей комнаты в порыве осеннего ветра мгновенно проносится душе моей давно знакомое, слуху же невнятное и непонятное слово. Мгновение, и все богатство моего сознания, весь живой мир его форм меркнет, пропадает, погружается во мрак. Душа смотрит в темную даль и не знает, чья эта даль; она слушает гул глубины и не знает, чья это глубина: ее или мира? Наконец, подобно узнику, ждущему уже не первую ночь тайного прихода друга и трепетно ловящему своим изощренным слухом далекий в ночи звук, отзывается она на какой-то тайный призыв. С бьющимся сердцем я быстро встаю, быстрее выбегаю кому-то навстречу, выбегаю
85
в темную ночь. Низко плывут облака, глухо гудят старые сосны… стою и жду…
Края туч начинают розоветь. В макушах сосен подымается утренний ветер. Приходил ли Тот, к кому я выбегал навстречу с таким последним восторгом? Не знаю. Помнится, приходил и беседовал со мною и смотрел мне в лицо… Но быть может из-под старой сосны, где стоял я и ждал, на Него глянули только сумрак и ночь. Или и вправду меня не было там, где я сам покинул себя?
В брезжущем свете возвращаюсь я в свою комнату и гашу ненужную лампу. Весь давно знакомый мне мир книжных полок, портретов, открытых книг и начатых рукописей с ревнивою заботливостью назойливо возвращается в мое сознание и оно сейчас же начинает дробиться всем обилием направленных на него форм постижения. Проходит некоторое время. Я открываю окно. Свежее утро крепко охватывает меня своим трезвящим и умиряющим дыханием. С первых же звуков дневной реальной жизни, в моем сознании едва заметно, но уже уверенно и неизбежно встает вопрос. Что же было со мною этою странною ночью? На неизбежный вопрос этот прежде всего отвечает воспоминание обо всем происшедшем. Его свет словно водораздел мгновенно врезается в тот поток целостного переживания, которым я был этою ночью, и сразу же как бы рассекает мое я на две части, на то я, которое в данную минуту вспоминает о происходившем со мною, и на то другое я, что представляет собой изживавшее эту ночь я, но поставленное теперь уже в положение чего-то вспоминаемого мною и этим, конечно, уже искаженное. Таким образом мое я распадается на два полюса, которые сейчас же по их распадении соединяются мертвым пространством ложащейся между ними дистанции. Мгновение, и вокруг этой дистанционной линии, как вокруг соединяющей полюсы моего я оси, начинают постепенно возникать и затем все быстрее и быстрее вращаться всевозможные этические и эстетические оценки происшедшего, его мистические истолкования и направленные на него вопросы теоретического анализа.
Вот описание переживания. Согласно моему стремлению дать переживание в отличие от переживаемого, я во всем моем рассказе оставил что моего переживания совершенно в тени. Для меня важна прежде всего структура переживания, как переживания, его внутренний ритм, как таковой. Эта ритмическая структура конечно, совершенно независима от качественной сущности пережива-
86
емой в ней предметности. Оставаясь структурно совершенно тождественным самому себе, приведенное мною переживание может быть в своем значении как бесконечно понижено, так и бесконечно повышено. Его понижение не представляет никакого интереса. Повышение же, наоборот, должно быть отмечено, ибо ему придется сыграть в нашем построении существенную роль. А потому пусть будет тут же сказано: предельных границ это повышение достигает в том случае, если мы приведенный нами в нашем примере «мир, возникающий из книги» заменим космическою целостностью Божьего мира, расчлененное этим книжным миром сознание — сознанием организованным всеми теми этическими, эстетическими, теоретическими и религиозными формами, в которых мы бесконечно отстраиваем извечно предстоящую нам проблематичность Божьего мира; невнятно пронесшееся слово — ясным Богооткровенным смыслом.
Дав описательным методом себе отчет в том, что представляет собою переживание, как явление, как феномен, мы постараемся теперь несколько ближе всмотреться в его внутреннюю структуру. Структура же эта прежде всего круговая. Эго значит, что конец описанного мною переживания повторяет в известном смысле начало; середина же его предельно удалена как от начала, так и от конца. Всмотримся раньше в начало и конец описанного мною переживания, а затем в его середину.
На первый взгляд начало и конец представляются глубоко различными. И представление это в известных пределах вполне правильно. Действительно, исход описанного мною переживания рисовал состояние полной пассивности моего я. Передо мной раскрывался, рос и креп в своих самодовлеющих формах некий законченный мир. Ему, этому миру, было всецело отдано мое я. В нем оно было настолько погашено, что его в сущности почти что не было: оно было только легким контуром мира.
Конец представлял собою нечто иное. В нем я рисовал мое я в состоянии величайшей активности. На ту часть мира, которую оно вспоминало как пережитую им ночь, оно восставало целым роем вопросов, оценок и толкований. Этим восстанием данная моему я реальность мира решительно превращалась в предстоящую ему проблему. В таком превращении мир, как мир, почти уничтожался, ибо он превращался в темный центр еще не окончательно распутанной мною сети проблем.
Но при всей этой разнице описанные мною исход и конец явля-
87
ются все же существенно схожими друг с другом. Сходство это заключается в том, что в обоих моментах переживание течет как бы по двум руслам: по руслу мира и по руслу я. Пусть воды его подымаются и опускаются то в одном русле, то в другом, пусть то одно русло, то другое почти иссякает — все же наличность для переживания этих двух русл остается фактом решающим и неизменным.
Нечто совсем иное представляет собою переживание в его центральной части. Тут оно течет не двумя руслами, но одним руслом. Это одно русло не может быть названо ни руслом мира (ибо нет мира без я), ни руслом я (ибо я невозможно без мира). Если, значит, в переживаниях начала и конца одинаково переживалось некое нечто (мир книги, Божий мир, бывшая ночь), то в переживании центральном решительно нельзя указать никакого определенного предмета переживания. Оно есть пауза нашего сознания, положительную существенность которой мы познаем лишь по углубленности и облагороженному тембру нашей долго молчавшей и снова возвращающейся к своей жизни в голосах и звуках души.
Таким образом наше рассмотрение описанного нами переживания ясно отличает в нем два непосредственно созерцаемых нами противоположных полюса. Задача этих полюсов стать как бы подножьями искомых нами понятий жизни и творчества. Но тут мы очевидно подходим к самому критическому моменту всего нашего построения. Сущность этого кризиса не должна быть скрываема, но, напротив, должна быть ярко формулирована и безжалостно подчеркнута. Итак, полюсы переживания должны быть использованы в целях построения понятий. Переживание есть по существу такая наличность сознания, которая никогда не может стать предметом знания. Отсюда с новою силою четко вырастают два уже выдвигавшихся нами положения: 1) переживание есть то, чего понять нельзя, 2) переживание должно быть так или иначе осилено в понятии.
Сопоставление и непримиримость этих положений порождают убеждение, что между первоисточником всякого гнозиса, т.е. переживанием, и впервые возникающим понятием, т.е. основным понятием строящейся философской системы, должно полагать какое-то совершенно иное отношение, чем то, которое в уже возникшей области понимания мы обыкновенно, по праву, мыслим между понятием и его
88
предметом. Не входя в детали гносеологического анализа по вопросу о предмете познания, можно все же сказать, что в имманентно замкнутой сфере знания между понятием и его предметом всегда господствует для наивного сознания категория сходства, а для критического — категория тождества. Понимать нечто означает в сфере уже совершенного знания уловлять это нечто. Иметь его предметом означает отмечать его элементы и признаки. Совсем другой характер носит отношение между переживанием и первопонятием. Никак, ни в каком смысле невозможно полагать между переживанием и первопонятием отношения сходства или тожества, и никогда переживание не становится предметом понятия. В этом пункте нужно просто признать наличность совершенно иного обстояния дела. Переживание не отражается в понятии, но как бы расцветает им. Понятие не понимает, не уловляет переживания, переживание лишь означается и знаменуется им.
Почему вообще переживание порождает понятие, и почему такие-то пласты переживания всходят именно такими понятиями, точнее, почему вообще в непонятном нам мире существуют понятия — это вопросы, на которые нет ответа, и нет ответа потому, что это вопросы последние. На последние же вопросы отвечают не знанием, но мудростью, т.е. отвечают не ответами, но погружением себя в те последние пласты духа, которые вообще не зацветают вопросами.
Согласно всему сказанному, я в том полюсе моего переживания, из которого исходил и к которому возвращался, который живописал образом двух сообщающихся русл с попеременно прибывающим то в одном, то в другом притоком воды, который не терминологически определял, но лишь образно знаменовал словами о пассивности и активности, — догматически водружаю областную категорию субъект-объектного дуализма, как категорию, господствующую над всем тем миром понятий, которым иррационально расцветает этот первый полюс моего переживания, — область же эту я именую областью творчества.
Предоставляя более строгую и детальную разработку этой области следующей главе этой работы, мы все же уже теперь, т.е. в результате феноменологического анализа можем вполне определенно обозначить тот подлежащий этой разработке материал, который мы мним и выдвигаем, словом творчество.
Устанавливая в будущем понятие творчества, мы должны будем
89
нашим научным мышлением очертить такое содержание сознания, в основе которого покоилась бы категория субъект-объектного дуализма, или, говоря иначе, должны будем выдвинуть содержание, безостаточно разложимое на содержание, мыслимое в категории субъекта, и на содержание, мыслимое в категории объекта.
Далее, мы должны будем поставить вопрос о том, возможно ли распадение той сферы нашего переживания, которую мы называем творчеством, на противоположности субъекта и объекта только в одном образе, или же мыслима возможность нескольких, отличных друг от друга образов такого распадения. За правомерность последнего предположения говорит то обстоятельство, что, возникая нашим вспоминающим сознанием, т.е. полюсом нашего субъективированного я над свершившимся в нас фактом некоего переживания, т.е. над полюсом нашего объективированного я, мы можем возникать над ним как в направлении художественного созерцания его, так и в направлении религиозного его истолкования или теоретического осмысливания. Разнообразие же этих функций возникновения, а тем самым субъектов переживания, будет естественно определять и разнообразие объектов переживаний, ибо в зависимости от того, какая часть или сторона переживания определится как субъект, очертится и сущность той оставшейся части переживания, которая тем самым встанет в положение объекта.
Наконец, и это, быть может, самый сложный вопрос, вынужденные к допущению нескольких понятий субъекта и нескольких понятий объекта, а тем самым и к допущению нескольких типов противопоставления субъекта объекту и наоборот, мы должны будем выдвинуть и проблему принципиальной классификации этих образов оформления объекта субъектом, или, что то же самое, мы должны будем выдвинуть принципиально обоснованную классификацию форм творчества.
Переходя далее ко второму полюсу переживания, т.е. к тому полюсу, который я живописал образом соединения русл я и мира в единое и единственное русло, которое не может быть названо ни руслом мира ни руслом я, который я не терминологически определял, но образно знаменовал словами о беспредметной паузе моего сознания, я догматически водружаю в нем областную категорию целостности, т.е. категорию положительного всеединства, как категорию, господствующую над всем тем миром понятий, которыми иррационально расцветает этот второй полюс моего переживания. Область же эту я именую областью жизни.
Предоставляя более строгую и детальную разработку этой области следующей главе этой работы, мы все же уже теперь, т.е. в резуль-
90
тате феноменологического анализа можем вполне определенно обозначить тот подлежащий этой разработке материал, который мы мним и выдвигаем словом жизнь.
Устанавливая в будущем понятие жизни, мы должны будем нашим научным мышлением очертить такое содержание сознания, к которому абсолютно не привносимы категории субъекта и объекта, или, говоря иначе, должны будем мыслить такое содержание сознания, мысля которое мы должны будем запретить себе мыслить его чьим-либо объектом, а равно и субъектом какого-либо противостоящего ему объекта.
Далее, мысля именуемое жизнью содержание, мы должны будем мыслить его абсолютно нерасчлененным и нераздробленным, ибо каждое расчленение обмысливаемого содержания является лишь результатом постепенного и не сразу всестороннего овладения им, является результатом установления на него нескольких методологически различных и в этом различии автономных точек зрения.
Наконец, и это самое важное, мысля жизнь, т.е. делая объектом то, что по существу и по определению никогда и никак не может быть поставлено в положение объекта, мы должны будем помнить, что, стремясь сделать жизнь предметом нашего логического у зрения, мы в прямом смысле этого слова никогда не сможем осуществить этого желания нашего. И не сможем потому, что уже одно введение жизни в поле зрения логического субъекта есть полное уничтожение ее в ее конкретной сущности, есть безнадежная подмена ее тем логическим жестом нашим, которым постоянно стараясь схватить жизнь мы только снова и снова спугиваем ее.
Выяснение внешних контуров противостоящих друг другу сфер жизни и творчества закончено. Жизнь и творчество определены, как два полюса логически индифферентного переживания, или как две тенденции его. Устремляясь к полюсу творчества, переживание как бы стремится навстречу всем родам постижения. С этою целью оно раскалывается на многие части, из которых каждая оказывается в состоянии стать в положение субъекта, постигающего все остальные части его, как данные ему объекты. Перед нами развертывается монадологическая структура сферы творчества, а тем самым и сферы культуры. Устремляясь к полюсу жизни, переживание как бы стремится выйти из-под власти какого бы то ни было постижения. С этою целью оно свертывается в один познавательно-нерасчлененны й темный центр, в котором гаснут все образы, отцветают все понятая и умолкают всякие звуки.
Так раскрывается нам сущность мистического начала.
91
Глава третья
Научное раскрытие понятий жизни и творчества
I
Понятие жизни
Прежде чем перейти к дальнейшему научному раскрытию того понятия жизни, контуры которого уже предстали перед нами в предыдущей главе, в результате феноменологического анализа, будет не лишним остановиться несколько подробнее на том, что такое представляет собою жизнь, не как понятие, но как один из полюсов того переживания, которое мы положили в основу всего нашего построения.
В главе о феноменологическом у зрении понятий жизни и творчества я был, конечно, не только вправе, но был прямо-таки обязан исходить в описании того, что мною именуется жизнью, исключительно из данных своего собственного внутреннего опыта. Но в главе, посвященной научному расширению понятия жизни, я естественно должен озаботиться упрочнением и объективацией моего опыта путем его дополнения и освещения всеми известными мне свидетельствами других людей о том, что и как переживалось ими, когда они переживали то, что я именую жизнью.
Что переживание, именуемое мною жизнью, является по всему своему существу и значению переживанием мистическим, это мною уже сказано, а потому ясно и то, что расширение моего внутреннего опыта жизни мне должно искать прежде всего у тех великих мистиков востока и запада, христианства и нехристианства, писания и жизнеописания которых завещаны нам историей.
Конечно, задачу раскрытия мистического учения о жизни решать попутно и в контексте целого ряда иных вопросов совершенно невозможно, а потому то немногое, что мне представляется возможным осуществить в этом направлении, должно быть прежде всего рассматриваемо не как разрешение проблемы оправдания моего личного опыта жизни жизненным опытом, заключенным в истории мистики, но лишь как признание мною такой проблемы и необходимости ее разрешения в целостном образе моего систематического построения. Та-
92
кое отношение к данности исторического материала, на мой взгляд, единственно возможно в статье, которая в первую очередь не занята детальною работою над какою-нибудь определенной философской проблемой, но организацией всех основных проблем философии в такое единство, которое намечало бы основную линию быть может и возможного решения.
В описанном мною переживании жизни определенно различимы, как то уже и было показано мной при рассмотрении структуры этого переживания, три основных момента. Возвращаясь снова к этому переживанию, но рассматривая его теперь уже в том предельном повышении, которого, как то также было мною отмечено, оно достигает в случае замены книжного мира — космосом, а невнятного слова — Богооткровенным смыслом, эта три момента можно формулировать так:
Первый момент: отвращение внешних чувств человека, его души и познания от всех явлений внешнего мира.
Второй момент: погружение души в то безусловно единое, цельное и нераздельное, что лишь условно определяется как единое цельное и нераздельное, в то последнее и предельное жизни или Бога, что познается и сказуется исключительно тем, что многословно и многосмысленно утверждается, как несказуемое и непознаваемое.
Третий момент: отпадение души от этого последнего единства и возвращение ее к бесконечному многообразию видимых и слышимых образов мира.
Эти три момента и должно подкрепить некоторыми свидетельствами великих мистиков. Я еще раз рассказываю уже описанное мною мистическое переживание, пользуясь все время цитатами мистиков *).
«И от вещей видимых отстранил он меня и с теми, которые невидимы, соединил он меня» и встал, я в «познание иное, в познание, означающее не только созерцание вещей и условий, но и их уничто-
*) Приводимые мною цитаты взяты из писаний следующих мистиков:
Мейстер Эккехарт. Цитирую по русскому переводу М. В. Сабашниковой ( К-во Мусагет).
Плотин. Цитирую по немецкому переводу OttoKiefer (изд. EugenDiederiehs).
|
Симеон Новый Богослов, Дионисий Ареопагит, Рамакришна, Лао-Тсе, Фарид-эд-дин Аттар |
} |
ЦитатывзятыизкнигиMartin Buber «Ekstatische Konfessionen» (изд. E. Diederichs). |
93
жение в невещественном и безусловном». Пока я созерцал внешние предметы, мне не дано было узреть, и тут понял я, что «созерцание, направленное на внешние предметы, вообще не есть созерцание». Но вот «забыто зрение, и свет стал бесконечно обилен, уничтожен слух, и сердце сосредоточилось на вечной глубине». Воистину: «благо тому человеку, для которого все творения скорбь и падение».
Но отвращение от внешних вещей есть одновременно и становление себя в полную нищету духа, есть погашение в себе всех своих душевных и умственных сил, ибо «язык — гибель для тихих сердец, речь всякая связана с причинами, а поступки с неверием». «Пока человек имеет что-либо, на что направлена его воля, хотя бы и была его воля в том, чтобы исполнить волю Божью, до тех пор такой человек еще не нищ духом». «Но отрешаясь от воли, человек, обращающийся к Богу, должен отрешиться и от всякого знания». «Он настолько должен отрешиться от всякого познания, чтобы умерло у него всякое представление о Боге, о творениях и о самом себе». «Так невеста в Песни Песней говорит: тогда слушала я без звука, видела без света, обоняла без движения и вкушала то, чего не было. Сердце же мое было бездонно, душа безмолвна, дух мой бесформен и природа моя несущественна». «Так и божественный Моисей лишь тогда соединился с Богом, когда отрешился от всякого созерцания и всего созерцаемого и погрузился в тот мрак подлинного мистического незнания, в котором для него погасли все противоречия познания и который охватил его непостижимым и несозерцаемым».
Вот каким рисует нам история мистики первый выделенный мною момент переживания жизни, т.е. момент пути человека к Богу, пути освобождения души от всего богатства чувственных восприятий, душевных и волевых устремлений и актов познания.
Мы переходим ко второму моменту переживания жизни, к моменту полного слияния человека и Бога. «Вступая в эту долину, путник так же исчезает, как и земля под его стопою. Сам он теряется, ибо единое Существо раскрывается перед ним. Сам он немеет, ибо единое Существо начинает говорить за него. Часть здесь становится целым, или, вернее, она перестает быть и частью и целым». «Все мы становимся членами Христа, — Христос же нашими членами, и моя, беднейшего рука, она — Христос, и моя нога — Христос тоже; и Христова нога и Христова рука — это я беднейший. Вот я движу рукой — и я движу Христом, ибо весь Он — моя рука: ты должен
94
понять, что Божество неделимо». Так исчезает в Божестве, в абсолютном «всякое ты и я и Бог». О «таком единении с Богом нельзя говорить, что оно есть созерцание Бога. Ибо созерцающий в этом созерцании не зрит созерцаемого, не отделяет его от себя и не испытывает никакого раздвоения; он сам становится как бы иным, перестает быть самим собою и сам уже более не принадлежит себе». «Так созерцает он Бога и себя самого: себя самого, исполненного духовного света; нет, только свет, чистый, неотягченный, легкий; созерцает себя ставшим Богом, нет — Богом бывшим». Но о таком соединении с Богом нельзя также сказать и того, что человек становится в нем «обителью, где мог бы действовать Бог. До тех пор, пока в человеке есть обитель, есть в нем и многообразие. Поэтому и молю я Бога, чтобы он меня сделал свободным от Бога. Ибо не сущее бытие по ту сторону Бога, по ту сторону различности». А потому последний порыв тот, в котором я хочу быть свободным в воле Божией, но также и от этой воли Божией и от всех дел его и от Самого Бога. Я больше всякой твари, я не тварь и не Бог. Тогда ощущаю я порыв, который возносит меня выше ангелов. В этом порыве становлюсь я настолько богат, что не довольно мне Бога со всем, что Он есть, со всеми его божественными делами, ибо в этом порыве приемлю я то, в чем Бог и я — одно. Кто не понимает этой речи, путь и не печется о том, ибо покуда не дорос он до этой правды, не поймет ее. Не придуманная это, а непосредственно истекающая из сердца Божьего правда! Чтобы стала нашим уделом жизнь, в которой постигли бы мы сами эту правду, в том да поможет нам Бог! Аминь».
Но говоря так, мистика всегда оговаривается, что в сущности она ничего не может сказать, что сущность ее опыта несказуема и словами не сообщаема. Ибо написано: «Святой Дух взывает немолчными неизреченными воздыханиями».
Мне остается еще привести свидетельства мистики в защиту третьего выделенного мною момента переживания жизни: момента возврата к конечному. Причина такого возврата — причина фактическая; она заключается в человеческой природе всякого мистика, заключается в том, что еще не все времена и сроки исполнены, что еще не настало время постоянного созерцания, «что мы еще не окончательно освободились». Окончательное же освобождение человека было бы окончательным уничтожением его. «Останься моя душа совсем в радости и блаженстве, тело мое должно бы было лежать на кладбище». Тут должно признать простое «не дано, не дано еще».
95
«И не дано ничтожной пыли
Дышать божественным огнем.
Едва усилием минутным
Прервем на час волшебный сон
И взором трепетным и смутным,
Привстав, окинем небосклон,
И отягченною главою,
Одним лучом ослеплены.
Вновь упадем, ее к покою,
Но в утомительные сны».
Необходимость отпадения от последнего, невозможность удержать свою душу в слиянии с Богом есть, значит, в известном смысле не недостаток мистического переживания жизни, но его сущность. Ибо мистическое переживание есть переживание Бога человеком, но не переживание Богом Себя Самого. Разница же между Божьим Само-переживанием и человеческим переживанием Бога только и может заключаться в том, что Бог переживает Себя в вечности, человек же переживает Бога не только в вечности, но и во времени; это значит, что, сливаясь с Богом мгновениями, уничтожающими время, человек в следующие мгновения, утверждающие его, снова отпадает от Бога. Необходимость такого отпадения свидетельствуется не столько тем, что утверждается в учениях мистиков, сколько всею наличностью мистических учений. Ибо не будь отпадения души человеческой от Бога, не могло быть для человека и путей к Богу. Но что же суть все мистические учения человечества, как не учения о путях человека к Богу? Не будь мистические учения прежде всего учениями о путях, будь они только учениями о жизни и истине, они не могли бы быть столь различными по глубине, красоте и характеру своему. Различия же эти неоспоримы. Таким образом за то, что человек может лишь мгновениями касаться Бога, но не во веки веков утвердить себя в нем, говорит прежде всего и с окончательной убедительностью тот факт, что все мистические учения, при всем сходстве, все же различны, в то время как каждое из них утверждает, что в Боге гаснут все различия и всякое многообразие.
Так оправдывают мистические учения о переживании жизни правильность всех трех выдвинутых мною моментов этого переживания. Так намечается возможность научного расширения, добытого мною методом феноменологического узрения понятия жизни, путем логической организации объективных данных истории мистики.
96
Однако, это оправдание переживания жизни перед лицом исторически завещанного нам материала есть лишь первый и отнюдь не основной этап научного раскрытия понятия жизни. Понятие это должно быть оправдано не только перед лицом исторической совести, но также и перед лицом совести логической. Лишь координация этих обоих путей оправдания может дать образ действительной научности, создающейся всюду и всегда путем логического оправдания и логической организации объективного, т.е. исторически данного материала.
Итак, мы ставим понятие жизни пред лицом логической совести, т.е. мы спрашиваем, как возможен переход от жизни к понятию жизни, и почему то понятие, которым знаменуется жизнь, есть понятие «положительного всеединства».
В целях ответа на этот вопрос мне должно прежде всего вспомнить, что в определенных границах ответ на этот вопрос мною уже дан в предыдущей главе этой работы. Границы же эти с абсолютной точностью определяются тем, что жизнь определяется нами, как полюс переживания. На вопрос же о том, каким образом принципиально недоступное никакому пониманию переживание становится основою всех понятий и всякого понимания, мы отвечали всеми теми рассуждениями второй главы, которые вылились в нашу окончательную формулировку, полагающую между понятием и переживанием не отношение понимаемости переживания в понятии, но отношение непонятного расцвета переживания понятием.
Итак, поскольку жизнь есть переживание, постольку перед нами не возникает никакой новой проблемы, проблема же логического ознаменования переживания нами уже решена. Но ведь жизнь не только переживание, она, кроме того, еще и переживание особенное, переживание отличное, например, от переживания, которое есть творчество. А потому естественно возникает вопрос: быть может жизнь, как вообще переживание, и могла бы быть познаваема, но вот — как переживание такое-то, особое она и ускользает от возможности какого бы то ни было логического узрения?
Мотивом таких сомнений и возражений может на первый взгляд послужить та особенность переживания жизни, которую мы характеризовали как стремление жизни уйти от тисков какого бы то ни было понимания и которою переживание жизни так принципиально отличалось от переживания творчества, стремящегося в характерном для него акте самораспадения на два полюса двинуться навстречу познавательному акту с его субъект-объектным дуализмом.
97
Не нужно, однако, слишком сложного логического анализа, чтобы показать, что вскрытое нами различие жизни и творчества, как двух противоположных полюсов переживания, ничего не говорит о том, что полюс жизни должен быть мыслим погруженным в стихию иррациональности более глубоко, чем полюс творчества. Определяя полюс жизни, как ту тенденцию переживания, в которой оно стремится к предельному удалению от понятия, полюс же творчества, как ту тенденцию переживания, в которой оно как бы само стремится навстречу своему оформлению в понятии, мы в одинаковой степени определяем и жизнь и творчество от понятия и через понятие, а это и значит, что с формально-философской точки зрения мы утверждаем одинаковую непонимаемость переживания как в полюсе жизни, так и в полюсе творчества.
К этому же уравнению жизни и творчества перед лицом проблемы их логического ознаменования легко подойти и с другой стороны. Переживанием мы называем ту наличность нашего сознания, которая никогда не может стать предметом нашего знания. Называем им, значит, нечто, в положительном смысле абсолютно неподвластное нашему пониманию, т.е. нечто абсолютно непонятное. Творчеством же и жизнью мы именуем два предельно удаленных друг от друга момента переживания, т.е. два его предела или полюса. Но раз переживание в целом абсолютно непонятно, то ясно, что оно в одной своей части не может быть более понятным, чем в другой, ибо абсолютная непонятность есть по всему своему существу такая непонятность, которая не имеет никаких ступеней непонятности. Ибо ступени большей или меньшей непонятности не могут быть мыслимы иначе, как ступенями большей или меньшей понятности. Но если бы переживание было в одной своей части более понятным чем в другой, т.е. если бы оно имело ступени понятности, то оно не было бы тем, чем мы его пытаемся мыслить, т. е началом абсолютно непонятным.
Итак, можно считать доказанным, что необходимость характеризовать жизнь с точки зрения содержания, как нечто абсолютно уходящее из-под власти понятия, отнюдь не делает ее с точки зрения философской, т.е. формальной, началом, менее доступным логическому ознаменованию, чем ему доступно всякое иное переживание.
Но утверждая таким образом возможность логического ознаменования жизни понятием положительного всеединства, мы должны одновременно твердо помнить, что это понятие существенно искажает сущность того последнего единства, которое оно знаменует, должны
98
помнить, что понятие положительного всеединства не понимает, т.е. не улавливает единства жизни в его наиболее существенной черте.
Единство жизни, как изживаемое жизнью единство, есть единство вне каких бы то ни было различий. Положительное же всеединство, мыслимое как понятие, есть, во-первых, единство в отличие от не единства, во-вторых, оно есть единство всего в отличие от комплексных объединений некоторых элементов мысли или мира и, в-третьих, оно есть единство положительное в отличие от единства отрицательного, т.е. оно есть единство полноты в отличие от единства пустоты. Говоря иначе, оно есть единство, предполагающее различие и живущее им, но отнюдь не единство, стоящее по ту сторону всякого различия. Однако и это отношение между переживанием и знаменующим его понятием не является типичным для сферы жизни, ибо оно всецело повторяется и в сфере творчества. Понятие не только не улавливает последнего единства мистической жизни или Бога, оно также не улавливает и единства любой части мира, любого художественного произведения. Утверждая, что сущность познаваемого природного предмета, например, любого дерева есть единство категориальных форм, форм созерцания и апостериорной материальности, гносеолог в сущности мыслит не первичное единство всех этих элементов, но лишь их вторичное объединение. Совершенно также, когда теоретик искусства утверждает, что сущность искусства есть неразрывное единство формы и содержания, он в сущности мыслит не неразрывное единство формы и содержания, а лишь вторичное объединение этих элементов, уже раньше оторванных им друг от друга в процессе мышления *).
Таким образом мы приходим, с одной стороны, к заключению, что сфера логически знаменуемых переживаний в своих контурах всецело совпадает со сферою всех вообще возможных переживаний. Это значит, что переживание Бога может быть логически ознаменовано совершенно в том же смысле и в той же степени, как и переживание дерева.
С другой стороны, мы приходим к заключению, что никакое переживание не может быть до конца высветлено в том понятии, которым оно знаменуется. Эго значит, что в рациональной плоскости дерево в своей последней сущности совершенно так же
*) Об отношении Жизни и Мысли; Рационального и иррационального ср. изумительное по глубине и остроте мысли исследование Ласка. Dr Emil Lask. Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre.
99
мало понятно, как Бог. Причем это логическое уравнение в непонятном есть лишь обратная сторона религиозного уравнения в понятном. То, что дерево логически так же непонятно, как и Бог, означает лишь то, что религиозно Бог так же ясен и понятен, как дерево. И это потому, что мир только в Боге, а Бог явлен только в мире.
Так оправдывается перед лицом логического анализа наша попытка логического ознаменования жизни понятием положительного всеединства. То же, что в этом знаменующем понятии ускользает последняя сущность знаменуемой им жизни, ускользает ее по ту сторону всех различий живущее единство, отнюдь не оспаривает нашего положения о том, что эта жизнь может быть логически ознаменована, а потому в известном смысле и понята. И не оспаривает потому, что всюду, где вообще свершается процесс философского, т.е. конечного понимания, он раскрывается не только в ряде понятий, но всегда в более сложной форме, в которой ряду сложно-организованных понятий предшествует коэффициент непонятности.
Вся сложность этих соотношений вполне выражается в самом понятии положительного всеединства. И действительно, поскольку единство положительного всеединства полагается нами как положительное единство всего, оно уже и уничтожается нами, как действительное единство, ибо единство есть то, что живет вне различий, единство же положительного всеединства определенно отличает себя, как всеединство положительное, от единства неполного и отрицательного. Но полагаемое нами, как единство, живущее различием, т.е. не как единство вовсе, а лишь как объединение, положительное всеединство, знаменующее собою полюс жизни, все же утверждается нами, как единство. Это значит, что оно утверждается нами не в себе самом, но как бы вне себя самого, т.е. в своем пределе, в своем идеале, в своей тенденции разомкнуть пограничную линию логической сферы и прорваться в алогическую глубину самой жизни.
И этот свершающийся в понятии положительного всеединства прорыв логики в сферу жизни, есть лишь обратная сторона того процесса, который мы раскрывали уже во второй феноменологической главе этой работы, т.е. он есть лишь обратная сторона процесса первичного становления жизни в сферу мысли, понятия, т.е. в сферу творчества.
В перспективе, восходящей от жизни к творчеству, положитель-
100
ное всеединство есть то первопонятие, в котором мысль возникает над жизнью.
В перспективе, ведущей обратно от сферы творчества к жизни, положительное всеединство есть то последнее понятие, в котором мысль погашается жизнью.
Положительное всеединство есть таким образом мысль, но мысль, стоящая уже на грани того, что не может быть мыслимо. Оно есть логическое начало, но логическое начало, состоящее как бы на службе у алогических сил. Оно есть понятие, но понятие, функционирующее уже не как понятие, но исключительно как некий логический символ.
Таким образом мы приходим к заключению, что в понятии положительного всеединства, человеческая мысль формулирует необходимость логического разрешения такой проблемы, разрешение которой окончательно выводит мысль за пределы всякой логики; что в понятии положительного всеединства мысль формулирует свои неизбежные, но одновременно и свои неразрешимые проблемы; что в понятии положительного всеединства мысль хотя и указует на последнюю проблему познания, но что в нем она решительно ничего не познает. Говоря языком Канта, это означает, что понятие положительного всеединства должно быть определено как трансцендентальная идея.
Характеризуя жизнь, как переживание, знаменуемое трансцендентальной идеей положительного всеединства, мы даем вполне точную логическую транскрипцию того переживания, которое мы рисовали как жизнь, и вполне оправдываем те три основные логические требования, которые мы выдвигали к концу феноменологической части этой работы.
Оправдание заключается в следующем: 1) раз жизнь есть единство, то она не есть ни объект, ни субъект, ибо всякий объект есть не единство, но лишь часть единства, требующая своего восполнения субъектом, а всякий субъект есть также не единство, но лишь другая часть единства, требующая своего восполнения объектом.
2) Раз жизнь есть единство, то она есть нечто, безусловно избавленное от какого бы то ни было внутреннего расчленения и многообразия, ибо единство, согласно нашему определению, тем и отличается от объединения, что оно мыслится нами как единство, принципиально стоящее по ту сторону вопроса о различии, но не как единство синтетическое, объединяющее в себе всю полноту всевозможных дискурсивных различий.
101
3) Определяя жизнь как единство, а единство как начало, не ведающее множественности и различия, мы в сущности полагаем жизнь как начало пустоты и бедности; но такое положение не верно, ибо жизнь среди всех переживаний есть переживание наибольшего богатства и наибольшей конкретности. В стремлении к уничтожению этой ошибки мы дополняем наше определение и характеризуем жизнь уже не просто как единство, но как единство утверждающее и синтетическое, т.е. как положительное всеединство. Однако такое исправление одной ошибки сейчас же порождает другую, ибо единство, мыслимое как положительное всеединство, неминуемо перестает быть, как мы на то уже указывали, действительным единством. Перестает быть потому, что единство, всеполагающее и все положительно утверждающее, не может быть одновременно и единством пустым и всеотрицающим. Но не будучи одновременно единством этого второго типа, положительное всеединство может быть мыслимо лишь путем противопоставления себя ему. Но это и значит, что положительное всеединство не есть подлинное единство, ибо оно может быть мыслимо лишь в противопоставлении себя тому второму единству, что не может быть рассмотрено, как его же (положительного всеединства) составная часть.
Так вскрывается для нас то деструктивное начало, которое живет в формуле положительного всеединства. Так приходим мы к убеждению, что то, что едино, не может быть мыслимо как всеполагающее, а то, что может быть мыслимо как всеполагающее, не может быть мыслимо как единство. А это и значит, что в понятии положительного всеединства мы схватываем в сущности не жизнь, но лишь тот логический жест наш, которым, желая схватить жизнь, мы только снова и снова спугиваем ее.
Понятие положительного всеединства является, значит, логическим символом, исполненным абсолютной гностической точности, а определение жизни, как переживания, знаменуемого трансцендентальной идеей положительного всеединства, — определением исчерпывающим, а потому и окончательным.
Дав научное, историческое и логическое раскрытие и оправдание феноменологически увиденного мною понятия жизни, переходим к научному раскрытию и оправданию понятия творчества.
II
Понятие творчества
Приступая к научному раскрытию и обоснованию понятия жизни, мы начали с того, что постарались подкрепить наше понимание при-
102
роды мистического переживания или, как мы говорим, переживания жизни некоторыми цитатами великих мистиков.
Приступая теперь к научному раскрытию и обоснованию понятия творчества, мы должны бы были сделать то же самое и с этим вторым полюсом переживания.
Если же мы этого не делаем, так только потому, что считаем, что за правильность нашего понимания творчества, как переживания, в котором то, что есть жизнь, раскалывается на две части (т.е. как переживания знаменуемого категорией субъект-объектного дуализма), говорят те же самые свидетельства мистиков, которые мы уже приводили в защиту нашего понимания переживания жизни. И действительно, переживание творчества не может быть ничем иным, как тем самым переживанием, в котором всякий мистик отпадает от переживания жизни. Правильность этого положения абсолютно самоочевидна.
Самоочевидна потому, что, с одной стороны, нами и феноменологически и исторически уже выяснено, что путь отпадения мистика от жизни есть одновременно путь восстановления в его душе тех образов, понятий и той воли к цели и действию, в полном погашении которых и состоит как раз вся сказуемая сторона жизни.
С другой же стороны, ясно и то, что всякое творчество не может раскрываться иначе как в устремлении к какой-нибудь цели, как в утверждении образов и понятий. Но раз творчество живо образом, понятием и волею к цели, воля же, цель, образ и понятие возникают в душе человека на пути ее отпадения от переживания жизни, то не может быть колебаний в том, что переживание творчества должно определяться, как переживание, в котором душа человека отпадает от переживания жизни, т.е. как переживание, в котором она опускается с своих последних вершин.
Принимая затем во внимание, что жизнь есть та сфера переживания, которая знаменуется идеей положительного всеединства, а творчество есть та сфера переживания, вступая в которую душа человека неминуемо выпадает из сферы жизни, мы естественно приходим к заключению, что в переживании творчества душа человека переживает отпадение от сферы единства, а тем самым и свое распадение на две части, т.е. переживает нечто такое, что логически должно быть ознаменовано понятием субъект-объектного дуализма.
Таким образом мы приходим совершенно внешним путем логического анализа исторических свидетельств о сущности мистического
103
переживания жизни к совершенно тем же результатам в смысле характеристики и определения полюса творчества, к которым мы уже и раньше приходили иными путями феноменологического узрения.
С таким пониманием творчества связана, как я на то указывал уже и раньше, следующая проблема. Если в переживании творчества душа переживает распадение того, что она переживает, как жизнь, на противоположные полюсы субъекта и объекта, то естественно поднимается вопрос, возможно ли такое распадение, так сказать, в одном образе, или же возможны несколько образов такого распадения? — Частично ответ на этот вопрос мною уже дан в феноменологической части этой работы. Уже там я указывал на то, что, возникая своим воспоминанием над тем, чем я был, когда меня не было, но была только одна жизнь, я испытывал возможность этого возникновения в нескольких друг от друга существенно отличных образах. Так, например, мне было дано свершить актом своего воспоминания это распадение так, что часть жизни превращалась в теоретическую проблему, а другая противопоставлялась ей, как познавательный субъект, но и так, что часть жизни превращалась в некий объективно предстоящий мне образ, а другая утверждалась в положении созерцающего этот образ субъекта.
В феноменологической части, гнозис которой хотя никогда не субъективен, но все же всегда персоналистичен, такого свидетельства личного опыта было, конечно, совершенно достаточно. Но в этой главе, посвященной научному и в первую очередь объективно-историческому подтверждению добытых феноменологическим путем понятий, нужны, конечно, иные доказательства.
Как добытым феноменологическим путем понятиям жизни и творчества я искал подкрепления в объективных данных истории мистики, так должно мне подкрепить свидетельством истории и мое соображение о том, что сфера жизни, внутренне распадаясь на субъект и объект, т.е. превращаясь в сферу творчества, распадается отнюдь не всегда одинаково, но знает несколько образов такого распадения.
В качестве такого объективного исторического свидетельства естественно, конечно, прежде всего привести исторически созданное и систематически утвержденное многообразие культурного творчества. И действительно, если бы жизнь знала только один образ своего распадения, то человечество знало бы только одну форму творческого постижения жизни. В этой форме навеки бы фиксировался один момент жизни,
104
как бессменный объект, а другой — как столь же бессменный субъект этого единственно возможного постижения.
Однако структурная сущность культуры совершенно не оправдывает этого предположения. Как в своем историческом аспекте, так и в своей систематической сущности всякая живая культура жива отнюдь не одною формою творческого постижения жизни, но целым рядом таких друг с другом конечно связанных, но в последнем счете все же друг от друга не зависящих форм. Такими формами являются, например, наука, философия, искусство, религия. Это значит, что жизнь может распадаться на полюсы субъекта и объекта, т.е. творчески определяться, как в образах науки и философии, так и в образах искусства и религии.
Определяясь в образе науки, она утвердит субъектом своего самопостижения научное, а определяясь в образе искусства, она определит субъектом своего самопостижения художественное сознание. Определяясь в образе философии, она утвердит субъектом своего самопостижения философское, а определяясь в образе религии, она утвердит им религиозное сознание и т.д. При этом, конечно, непосредственно ясно, что при научном самоопределении жизни, те моменты ее, которые при религиозном, художественном или философском самоопределении вставали бы поочередно в положение субъекта, окажутся все вместе в положении объекта. Равно как при религиозном самоопределении жизни в положении объекта окажутся решительно все моменты кроме момента религиозного и т.д.
Такое взаимоотношение творческих форм вполне ясно, ибо, будучи сама вне всяких различий, а потому и вне сказуемых определений, жизнь в своем творческом самоопределении является постольку же системой научных законов, как и организмом философских понятий. Равно как она является постольку же художественным образом, как и предметом религиозного обоготворения.
Это переживаемое многообразие переходов от переживания жизни к переживанию творчества имеет свою точную методологическую транскрипцию. Методологическая транскрипция эта заключается в том, что любой момент жизни способен встать по распадении ее на полюсы субъекта и объекта в положение субъекта, или, что то же самое, любая форма творческого самоопределения жизни может быть логически утверждена, как центральное понятие философского миропонимания. Так философская рефлексия на научное самоопределение жизни даст философский сциенцизм, а философская рефлексия на философское самоопределение жизни даст философ-
105
ский философизм. Равно как философская рефлексия на художественное самоопределение жизни даст философский эстетизм, а философская рефлексия на религиозное самоопределение даст религиозную философию. Причем относительная правда философского сциенцизма будет заключаться в открытии им мира, как научного понятия, его же неправда — в предположении, что весь мир исчерпаем категорией теоретического понимания. Относительная правда философского эстетизма будет заключаться в открытии мира, как эстетического образа, его же неправда — в предположении, что весь мир исчерпаем категорией художественного созерцания. Относительная правда религиозной философии будет заключаться в открытии ею мира, как воплощения Бога, ее же неправда — в предположении, что весь мир исчерпаем в категории его религиозного преображения. Наконец, абсолютная правда философского философизма, т.е. критицизма будет заключаться в признании того, что весь мир в целом есть в одинаковой степени и научное понятие, и художественное произведение, и сосуд Божественного начала, и еще многое другое...
Таким образом философский философизм, т.е. критицизм избавляет свою философскую точку зрения от характера относительности как раз тем, что он уравнивает все формы творческого самоопределения жизни в категории относительности. А живую правду сферы творчества полагает в живом соотношении всех этих форм. Последняя правда того полюса переживания, который мы именуем полюсом творчества, вскрывается значит, как правда, избавленная от мертвой относительности лишь постольку и лишь в ту минуту, когда она определяется, как правда живого отношения всех творческих форм.
Что такое утверждение последней правды сферы творчества, а тем самым и всей культуры, как правды живого соотношения всех по всему своему существу всегда лишь относительных форм творчества, не есть философский релятивизм, — это, думается, не подлежит никакому сомнению. Конечно, правда сферы творчества, т.е. правда всей культурной работы человечества не может быть утверждена в самой себе, и в этом смысле она не есть абсолютная правда. Конечно, правда творчества жива только своим постоянным отношением к абсолютной сфере жизни. Но разве то, что живет своим отношением к абсолютному, может быть названо относительным, и разве можно для сферы творчества, которая по всему своему существу есть не что иное, как сама жизнь, явленная в отношении субъекта к
106
объекту, требовать еще какой-либо иной абсолютности, кроме абсолютности отношения к абсолютному?
Таким образом мы приходим в сфере творчества к утверждению очень сложного многообразия творческих форм, организованных между собою по принципу монадологически множественного единства, т.е. организованных так, что каждая форма творческого самоопределения жизни может быть, с одной стороны, выделена ее утверждением в качестве точки зрения на все остальные формы, с другой же — может быть уравнена со всеми остальными в качестве одного из элементов во всех творческих перспективах узреваемого объекта созерцания. Такое утверждение сложной множественности творческих форм самоопределения жизни приводит нас к последней и наиболее трудной проблеме всей сферы творчества, т.е. проблеме принципиальной классификации дуалистических самоопределений жизни, т.е. форм культурного творчества.
Для разрешения этой проблемы, которое возможно в пределах этой статьи лишь в самых общих чертах, мы должны вернуться к главе, посвященной феноменологическому узрению понятий жизни и творчества, и остановит наше внимание на том акте воспоминания, «анамнезиса», который мы в нашем феноменологическом анализе утвердили, как первоисточник всякого творческого самоопределения человечества.
Возврат от переживания жизни к переживанию творчества свершается, как я то и старался выразить в словах моего феноменологического анализа, в одновременном и мгновенном осознании двух выступающих из пережитого мрака жизни начал, и первое начало — как бы далекое воспоминание: «что-то было со мною», и второе — как бы непосредственное осязание: «я переживший — здесь». Как только мною осознались эти два полюса моего переживания, т.е. полюс моего субъективированного и полюс моего объективированного «я», как только я, значит, определенно отличаю себя, как пережившего нечто, от того, что мною было пережито в случившемся со мною переживании, — так сейчас же начинается иной процесс, процесс, в котором мое субъективированное «я», как бы протягивается к моему объективированному «я», стремясь определить его и определиться в нем. Это значит, что я стремлюсь пережитое мною нечто превратить в совершенно определенное вот что, стремлюсь им внутренне определиться в своих помыслах, поступках и чувствах, т.е. стремлюсь нравственно утвердиться и религиозно построиться в нем.
В этом процессе определения субъективного полюса моего «я»
107
его объективным полюсом раскрывается целый слой своеобразных форм творчества, которые все односмысленно определены тем, что в них человек в известном смысле ничего не творит, ибо лишь организует себя как творение. «Я» человека еще не свершает никакого трансцензуса, но имманентно замыкается в самом себе.
Создать систему этих форм творческой самоорганизации человека — насущная задача философии. Мы же ограничимся лишь указанием общего принципа их классификаций и выделением в каждой полученной группе тех из них, которые нам представляются наиболее основными и значительными.
Все формы этого типа творчества распадаются на две основные группы. К первой группе принадлежат те, в которых организуется мое «я», как таковое. Процесс организации заключается, как мы только что видели, в том, что я, как субъективно переживающий, организую себя в том и через то, что мне в этом субъективном переживании дано, как его объективное содержание. Человеческое «я», внутренне определенное и организованное объективною сущностью жизни и творчества, есть личность. В форме личности пустая форма моего «я» заполняется мировым содержанием. А безличное содержание мира приобретает черты моего «я». В форме личности восстановляется таким образом со всею тою полнотою, которая вообще возможна в расщепленной сфере творчества, то единство меня, как субъекта, и меня, как объекта, которое некогда творчески самоопределилось во мне, в акте своего самораспадения на субъективированный и объективированный полюс моего я.
Личность есть таким образом высшая форма той первой группы творческих форм, в которых самоорганизуется мое я, изначально мне данное в предельном удалении друг от друга его субъективного и объективного полюсов. По пути от этой изначальной противопоставленности двух полюсов моего «я» к целостному единству личности должны быть раскрыты все остальные и промежуточные формы этой группы.
Ко второй группе принадлежат те формы творчества, в которых уже организуется не отдельное «я», но отношение одного «я» к другому, организованною является уже не личность, как таковая, но личность в своем отношении к другим личностям. Если формы первой группы могут быть названы формами организации человека, то формы второй группы являются формами организации человечества. В раскрытии своей внутренней сущности каждая организованная лич-
108
ность неминуемо сталкивается с процессом самораскрытия другой личности (или и других личностей). Этот основной факт всякой жизни ставит каждую из пришедших во взаимное прикосновение личностей в необходимость гармонизовать свое самоутверждение с самораскрытием и самоутверждением всех остальных так или иначе встречных ей личностей. Форма гармонизации путей одной личности с путями другой личности, а равно и форма гармонизации путей нескольких личностей неминуемо становится для каждой личности фактором, определяющим ее жизненный путь, т.е. ее судьбой.
Судьба есть значит основная форма отношения человека к человеку. Любовь, семья, государство, нация, церковь, — все это лишь ее спецификации. Она есть таким образом основная форма самоорганизации человечества. Это все та же форма личности, но взятая в ее динамическом аспекте. Судьбу обретает лишь та личность, которая, исходя из признания других личностей, исполняет долг своего самораскрытия на протяжении всей своей жизни и во всех тех формах общения людей между собою, которые, как мы видели, организуют жизнь человечества и специфицируют судьбу каждого человека.
Следуя обыкновенному словоупотреблению было бы, быть может, естественнее всего назвать рассмотренные нами формы творчества, как те, в которых организуется человек, так и те, в которых организуется человечество, формами творчества жизни. Но ввиду того, что термин жизнь мною уже использован в совершенно ином смысле, в смысле не допускающем его применения в сфере творчества, а равно и ввиду того, что я хотел бы подчеркнуть решающее значение этих форм творчества в построении творимых человечеством, в моей терминологии, культурных благ, какими являются личность, любовь, государство и церковь, — я буду называть эти формы творчества так, как я называл их уже раньше, т.е. буду именовать их ценностями состояния *).
Этим ценностям состояния мы противополагаем второй слой творческих форм, которые мы называем ценностями предметного положения. Если в формах первого слоя, т.е. в формах, именуемых нами ценностями состояния, организуются лишь внутренние состояния отдельных личностей и их взаимоотношения, то в предметных ценностях положения каждая личность, как
*) Ср. мои статьи: «Трагедия творчества» Логос. Книга 1-ая. 1910 г. «Трагедия мистического сознания». Логос. Книга 2-ая и 3-яя 1911-12 гг.
109
и все человечество, как бы разрывает круг имманентной самозамкнутости, свершает акт некоторого трансцензуса и полагает свои внутренние состояния, как определенные научные, художественные предметности, как некоторые философские и художественные творения.
Как ценности состояния делятся на две группы: на ценности состояния, в которых организуется каждый человек (с ценностью личности во главе), и на ценности состояния, в которых организуется все человечество (с основною ценностью судьбы), — так распадаются на две группы и предметные ценности положения. К первой группе принадлежат те ценности, которые мы будем называть научно-философскими. Ко второй группе принадлежат те, которые мы будем называть эстетически-гностическими.
Научно-философские ценности те, что построяют культурные блага точной науки и научной философии. Объединение точной науки с научной философией в одну группу основано, во-первых, на том, что как наука, так и научная философия живут дискурсивностью и формулируются в понятиях, а во-вторых, на том, что наука завершается лишь в научной философии, ибо многообразные сведения точных наук становятся действительным знанием лишь при условии их философской организации, т.е. при условии указания каждой науке ее прав, но и ее границ, а всей сфере науки ее безусловности, но и ее ограниченности. Говоря иначе, сведения наук становятся подлинным научным знанием лишь при условии гносеологического анализа самой категории научного познания.
Эстетически-гностические ценности те, которые построяют культурные блага искусства и символически-метафизические системы философии (Begriffsdichtungen). Объединение чистого искусства с логически-символизирующей философией в одну группу ценностей основано на том, что, с одной стороны, всякое истинное искусство неминуемо таит в себе метафизический гнозис, а с другой — на том, что всякая логически символизирующая метафизика построена всегда по образу и подобию художественного произведения. Одним словом, потому, что как чистое искусство, так и всякая логически символизирующая философия, т.е. метафизика, живут интуицией и построяются в образах. Что логические образы философии имеют часто внешнюю видимость понятий ничего не говорит против правильности нашей концепции, ибо всякое понятие, оставаясь
110
понятием, может функционировать в философской системе не как понятие, но как логический символ непонятного *).
Этими двумя группами окончательно исчерпывается вся область предметных ценностей положения. Традиционное утверждение на ряду с объективною истиной (наука и научная философия) и объективной красотою (чистое искусство и метафизический символизм) еще и этической сферы объективного добра (государство) и объективной святости (религия) представляется мне в корне неверным. Государство и религия никак не могут быть приведены вместе с наукой и искусством к одному общему знаменателю. Ни государство, ни религия не требуют для своего трансцендентального построения самодовлеющих предметных ценностей положения. Поскольку эти своеобразные блага культуры вообще располагаются в той сфере творчества, которая конституируется предметными ценностями положения, постольку они исчерпываются ценностями научно-философского и эстетически-гностического характера. Поскольку же они этой сферой не исчерпываются, постольку их сущность раскрывается не в том слое творчества, который конструируется предметными ценностями положения, но в том, который построяется ценностями состояния.
Мы дали классификацию форм творчества, основанную на имманентных особенностях самой сферы творчества. Нам предстоит теперь проверить и упрочить ее принципиальное значение путем сопоставления полученных нами групп творческих форм с трансцендентною всякому творчеству сферою жизни, которая, являясь в отношении форм творчества началом порождающим, естественно несет в себе и принцип их классификации.
Вся сфера жизни знаменуется идеей положительного всеединства. Вся сфера творчества знаменуется категорией дуализма. Отсюда ясно, что отношение каждой группы форм творчества к жизни должно быть осмыслено как отношение типизированной и специфицированной категории дуализма к всегда самотождественной идее единства. А потому для нас вырастает вопрос: чем же отличается дуализм сферы науки и искусства, т.е. сферы, построяемой ценностями положения, от дуализма той сферы творчества, которая построяется ценностями состояния?
Начнем с предметных ценностей положения и рассмотрим сначала структуру науки. Основная форма научного творчества есть
*) Ср. аналогичную точку зрения Кроче, развитую им в систематической части его эстетики.
111
форма дуализма формы и содержания. Основной признак научного взаимоотношения формы и содержания есть его непостоянство, расторжимость и временность. На этой расторжимости основано то, что называется эволюционным характером науки. Эволюция же науки заключается в том, что одно и то же содержание мыслится в ней бесконечно переливаемым во все более и более адекватные ему формы. В форме эволюции научный дуализм формы и содержания самоутверждается в перспективе бесконечности. Структурная сущность науки заключается таким образом в утверждении ею формы дуализма, как формы своего вечного самораскрытия и как единственной формы, в которой ей доступна идея бесконечности.
Сопоставляя эту сущность науки как бесконечного утверждения дуализма с сущностью жизни, как полного всеединства, мы непосредственно замечаем, что поскольку наука есть дуализм, постольку она есть прямое отрицание жизни. Но поскольку она полагает этот дуализм как бесконечный, т.е. снимаемый в бесконечности, она уже утверждает идею бесконечности, а тем самым устремляется к всеполагающей и в этом всеположении конечного бесконечной жизни.
Однако у стремлений науки к полюсу жизни мыслимо в полюсе творчества только как ее устремление к смерти. Ибо сфера жизни есть по всему своему существу сфера, в которой угасает, умирает всякое творчество. И действительно, поскольку наука эволюционна, т.е. поскольку она утверждает возможность бесконечного переоформления каждого из своих содержаний, постольку она полагает всякое из создаваемых ею взаимоотношений формы и содержания, т.е. всякое произносимое суждение, всякий формулируемый закон, всякую построяемую теорию, лишь как временно верное. Но временно верное есть по меньшей мере не окончательно верное, а по большей, и окончательно неверное. Говоря строго, всякая эмпирическая наука, всякая наука, применяющая априорные законы мысли к эмпирически наличному материалу, знает в каждую минуту своего развития в сущности лишь то, что есть некая абсолютная истина, и то, что относительная истина вчерашнего дня сегодня уже безусловно не истина. Это значит, что предикат абсолютного относим в науке всегда лишь к форме истины, но никогда не к конкретному содержанию. Ни одно из конкретных положений науки не может никогда утверждаться в качестве последней и не сменяемой истины. А потому и вершина всех положительных наук,
112
т.е. научная философия никогда не может быть системою положительных истин, но лишь систематизацией критериев истины и лжи.
Однако, живя постоянным дуализмом формы и содержания, заостряющимся в дуализме относительности содержания и абсолютности формы,всякая наука постоянно стремится к уничтожению этой основной формы своего бытия, к уничтожению дуализма формы и содержания, т.е. к абсолютированию своих конкретных положений, к своей положительной истине. Но раз сущность науки заключается, как мы видели, в утверждении неснимаемого дуализма формы и содержания, а идеал науки — в уничтожении этого дуализма, то ясно, что идеал науки заключается в уничтожении своей собственной сущности, т.е. в уничтожении самой себя.
Мы переходим к сфере искусства. Так как искусство наряду с наукой принадлежит к сфере творчества, то ясно, что основная форма художественного творчества есть форма дуализма формы и содержания. Основной же признак эстетического взаимоотношения формы и содержания есть его безусловная нерасторжимость. Содержание Илиады и Одиссеи также мало существует вне гекзаметра Гомера, как и гекзаметр Гомера вне содержания Илиады и Одиссеи. На этой основной особенности эстетического взаимоотношения формы и содержания зиждется решительная неприложимость категории эволюции ко всем великим памятникам искусства. Эволюционировать могут лишь оба основных элемента художественного творчества: материал переживания и формы воплощения, т.е. то, что еще не есть искусство. Всякое же художественное произведение, являясь безусловно нерасторжимым сочетанием такого-то содержания и такой-то формы, уже самым актом своего становления решительно изымается из сферы эволюции и развития. В отличие от научного, ни одно художественное содержание не допускает над собою никакого переоформляющего акта. Оттого в сфере искусства совершенно отсутствует та связь его отдельных созданий, которою жива область науки, связь преемственного отношения от одного произведения к другому. Каждое научное положение есть часть целостного космоса науки и живет своим отношением к другим частям. Каждое же художественное произведение представляет собою всеисчерпывающий эстетический космос. Это значит, что каждое произведение искусства живет в атмосфере полного одиночества. Каждое абсолютно трансцендентно всем другим, и все другие абсолютно трансцендентны каждому.
113
Сопоставляя эту сущность искусства с сущностью жизни, как положительного всеединства, мы непосредственно замечаем, что, поскольку в сфере искусства каждое художественное произведение стремится выдать себя за всеисчерпывающий эстетический космос, постольку сфера искусства является прямым отрицанием сферы жизни, ибо в сфере жизни все сливается в положительном объединении и ничто не самоутверждается в отрицательном отношении ко всему. Но поскольку каждое художественное произведение стремится в сфере своей имманентной самозамкнутости преодолеть дуализм формы и содержания полным слиянием их в категории нерасторжимости и даже неотличимости друг от друга, постольку оно уже утверждает идею жизненного единства и устремляется к осуществлению его.
Единственное же условие, при котором сфера искусства, соприкасаясь с жизнью в частичном преодолении субъект-объектного дуализма, могла бы одновременно не отталкиваться от нее благодаря самозамкнутости каждого художественного произведения в себе самом, мыслимо лишь как предположение исчерпанности всей эстетической сферы одним единственным произведением искусства. Но мыслить наличность в мире лишь одного художественного произведения можно с принципиальной продуманностью не иначе, как утверждая, что единственное действительное художественное произведение и есть весь целостный мир. Но в таком понимании художественного произведения мы в сущности уже выходим за пределы рассматриваемой нами сферы искусства и вступаем в совершенно иную сферу космической мистики или же метафизики космоса. Это значит, что оправдание замкнутости художественного произведения в самом себе возможно лишь путем мистического или метафизического толкования мира, как художественного произведения. Говоря иначе, это значит, что в акте самозамыкания каждое художественное произведение как бы стремится выйти за пределы сферы искусства и утвердиться в метафизической позиции единого и целостного мира, т.е. стремится, в конце концов, к уничтожению своей эстетической сущности, т.е. себя самого.
Если мы теперь сравним отношение науки к жизни и искусства к жизни, то увидим, что эти отношения представляют собою полную противоположность.
Взаимоотрицание науки и жизни основано на том, что наука есть принципиальный дуализм, а жизнь единство. Тяготение же науки к жизни держится тем, что наука хотя и искажает, но все же и предчувствует мистическую
114
бесконечность жизни в дурной бесконечности своего нескончаемого развития.
Взаимоотрицание же искусства и жизни основано на том, что в сфере искусства каждое художественное произведение самоутверждается в отрицании всех других, а сфера жизни жива положительным утверждением всего во всем. Тяготение же искусства к жизни держится на том, что искусство хотя и искажает, но все же и предчувствует абсолютное единство жизни в частично осуществляемом им полном и неразрывном объединении формы и содержания.
Мы переходим к сфере творчества, построяемой ценностями состояния. Основные формы этой сферы суть формы личности и судьбы. Форма личности есть, согласно нашему определению, такая форма, в которой полюс моего субъективированного «я», т.е. мое «я», как форма переживания, сочетается с полюсом моего объективированного «я», т.е. с моим «я», как переживаемым в переживании содержанием, в некое абсолютно нерасторжимое единство. А так как нерасторжимость формы и содержания является признаком их эстетического взаимоотношения, то ясно, что в форме личности каждый человек становится художественною формою себя самого, а тем самым и творцом художественного произведения. Творя себя, как личность, всякий человек обретает, значит, то отношение к полюсу мистической жизни, которое вообще обретаемо в сфере искусства. Но обретая его, он обретает и большее.
И действительно. Каждое художественное произведение, построяемое в сфере предметных ценностей положения, хотя и соединяется с полюсом жизни актом преодоления дуализма формы и содержания, но все же, как мы видели, одновременно и отстраняется от него, замыкаясь в самом себе и в отрицании всех остальных. Художественное же произведение, построяемое в сфере ценностей состояния, т.е. личность, совершенно не ведает этого закона. Если каждая поэма, каждая симфония, каждая статуя, ограничивают и обесценивают свое отношение к полюсу жизни тем, что ничего не ведают друг о друге, то каждая личность, будучи сама в себе вполне законченным художественным произведением, может все же вплотную подойти ко всем другим личностям, объединяя себя с ними в тех ценностях состояния, которые мы называем формами судьбы, конкретизуемыми в любви, семье, государстве и в церкви.
Сопоставляя в заключение сферу творчества, построяемую ценно-
115
стями состояния, со сферою творчества, построяемую предметными ценностями положения, мы видим, что в этой (первой) сфере человек легко и свободно сочетает то отношение к полюсу жизни, которым живо искусство, с тем отношением, которым жива наука. Творя себя, как личность, и объединяясь с другими личностями в форме судьбы, человек, с одной стороны, преодолевает дуализм формы и содержания, организуя в себе самом эти оба полюса в такое нерасторжимое единство, в котором почти совсем погасает их различие, а с другой — он не замыкается в самом себе, как это делает всякое художественное произведение, но наоборот, подобно всякому научному постижению, входящему в постоянно развивающийся космос науки, он полагает себя как живую монаду, творчески соединенную со всеми остальными и изживающую поэтому становящуюся жизнь всеединого человечества.
Таким образом уясняется, что, творя в сфере творчества, построяемой ценностями состояния, человек ближе подходит к полюсу жизни, чем творя в сфере творчества, построяемой предметными ценностями положения. Этот вывод, подсказанный нам логическим анализом творческих форм, является, конечно, лишь обратною стороною раскрытого нами феноменологическим путем образа творческого самоопределения жизни.
Мы видели, что в перспективе, восходящей от жизни к творчеству, впервые возникающей сферою творчества была сфера, построяемая ценностями состояния. Ясно, что в перспективе, нисходящей от творчества к жизни, эта сфера должна оказаться сферою последнею, замыкающею.
Первый этап отпадения от жизни означает для человека осознание своей собственной личности, или осознание себя как творения. Второй этап означает уже творческое самоутверждение себя, как творения, т.е. утверждение себя, как творца.
А потому понятно, что на пути возвращения к жизни человек сначала погашает себя, как творца, творящего свои предметные ценности, а потом уже погашает себя, и как обособленное в особых творческих формах творение.
116
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Миросозерцательное истолкование понятий жизни и творчества
Прежде чем перейти к раскрытию собственного содержания этой главы, нам представляется не лишним еще раз вкратце сформулировать то, что нами уже достигнуто в трех предыдущих главах. Признав в истории философии внешний повод, а во внутреннем переживании подлинную основу нашей философии, мы отпрепарировали данные нам историей и внутренними переживаниями понятия жизни и творчества в научном анализе трансцендентальной идеи положительного всеединства и в категории субъект-объектного дуализма.
Таков ход наших размышлений. Его же сущность заключается в следующем: переживая, человек знает в сущности только два принципиально отличных друг от друга переживания. Первое, это то, когда, переживая, человек переживает себя, мир и бесконечную полноту всевозможных отношений между собою и миром. Второе, это то, когда, переживая, человек ничего не ведает ни о себе, ни о мире, ни об отношениях между собою и миром, ни о том даже, что он живет и переживает. Переживание это таково, что человек знает о нем в сущности лишь в форме знания о прерывности первого переживания. Знает приблизительно так, как, пробуждаясь от глубокого, иссыпаемого без сновидений и без сознания сна, человек все-таки определенно знает, что он спал.
Первое переживание мы именуем переживанием творчества, второе — переживание жизни. Каждое из этих переживаний знаменуется в сфере теоретической мысли определенным понятием. Переживание творчества — понятием субъект-объектного дуализма, понятие жизни — понятием положительного всеединства.
Переживаемая сущность этого знаменующего процесса по всей своей природе безусловно внелогична, а потому она логически и непонятна. Но будучи логически непонятным, т.е. логически непрозрачным, процесс ознаменования переживания понятием может быть в логике все же мыслим, и мыслим при безусловном соблюдении абсолютной логичности, т.е. абсолютной логической правильности мыслящей его логической мысли. Доказательство этой возможности держится на строгом отделении логически правильного от
117
логически понятного. То же, что эти сферы безусловно не совпадает друг с другом, явствует уже из того, что во всякой логике существует логическое понятие алогичного, т.е. место встречи понятного и непонятного.
Однако возможно одно возражение, которое при условии своей правильности могло бы поколебать наше утверждение соприкасаемости логического и алогического, понятия и непонятного. Сущность этого возражения заключается в утверждении, что понятие непонятного не имеет ничего общего с самим непонятным. Но что значит это утверждение? Очевидно оно может значить лишь то, что в понятии непонятного мы мыслим лишь некую логическую непонятность, но не мыслим непонятное, как алогическое и жизнью данное нечто. Но если бы это было так, т.е. если бы мы решительно не могли мыслить в понятии самое непонятность, то 1) как было бы возможно устанавливать логическую разницу между понятием непонятного и самим непонятным, 2) почему бы не имеющее никакого отношения к непонятному понятие непонятного было бы все-таки понятием непонятного, а не понятием чего-либо иного, и 3) разве отрицание всякой связи между понятием непонятного и самим непонятным не есть с чисто логической точки зрения такое же ее признание, как и ее утверждение? Ведь для того, чтобы ее отрицать, надо ее раньше как-нибудь положить. А разве можно ее в сфере логики положить как-нибудь иначе, кроме ка путем ее логического мышления?
Все это взятое вместе говорит о том, что отрицать всякую связь между понятием непонятного и самим непонятным нельзя потому, что эта связь утверждается уже самой формулировкой всей спорной проблемы. А если между понятием непонятного и самим непонятным может быть утверждена связь, то ясно, что логика может мыслить само непонятное, т.е. может пользоваться понятием непонятного ознаменования переживания понятием.
Вот те мысли, которые приводят нас к правомерному утверждению знаменующих полюсы жизни и творчества понятий положительного всеединства и субъект-объектного дуализма.
Получив эти областные понятия, мы вошли нашим научным анализом в построяемые ими области.
Проанализировав логическую природу понятия положительного всеединства, мы утвердили вскрытые в нем противоречия, как черты его гностической точности, т.е. как черты его портретного сходства с знаменуемым им полюсом переживания — жизнью.
Введенные понятием субъект-объектного дуализма во всю пол-
118
ноту построяемой им области культуры, мы дали принципиальную классификацию всех форм творчества и установили связь всех полученных нами групп друг с другом, а равно и отношение каждой группы к полюсу переживания, именуемому жизнью.
Приступая теперь к миросозерцательному завершению всего моего построения, я должен прежде всего отвергнуть всякую мысль о возможности отстроить это миросозерцательное завершение в форме каких бы то ни было метафизических теорий, или хотя бы только гипотез. Гипотезы же эти напрашиваются сами собою. Все мое построение может сейчас же превратиться в остов метафизической системы, если я положу начало положительного всеединства, как начало абсолютное, все несущее в себе и все порождающее из себя, если я поставлю себе задачу дедуцировать из этого начала все неисчерпаемые формы творчества, формы мира жизни и смысла, если задамся целью объяснить себе необходимость этого раскрытия абсолютного единства в бесконечной множественности и возвращение этой множественности в свой первоисточник, в абсолютное начало положительного всеединства, если я подыму одним словом не только не разрешенные, но по всему своему существу не разрешимые вопросы монизма, дуализма и плюрализма, вопросы единопричинности, абсолютного творчества, наличности в мире изначального зла и т.д. и т.д.
Не нужно однако никаких особенных доказательств, чтобы вскрыть полную неприменимость такого рода надстройки на возведенном мною фундаменте феноменологически и научно-философски добытых понятий жизни и творчества.
Принимая в целях отклонения намеченной мною метафизической системы ее же философский язык, я должен прежде всего сказать, что положительное всеединство отнюдь не есть для меня само абсолютное. Оно есть в лучшем смысле логический символ этого абсолютного, да и то не абсолютного, как оно есть на самом деле и в самом себе, но как оно дано в переживании. А потому ясно, что полагать положительное всеединство, как положительную основу всего мира, совершенно бессмысленно; если мир вообще имеет основу своего бытия и первопричину своего становления (как то утверждает метафизика), то эта основа и эта первопричина скрываются во всяком случае в нем самом, но никак не в логическом символе его самого, как переживания. А если так, т.е. если в понятии положительного всеединства я даже и не пытаюсь мыслить само абсолютное, то ясно, что дедуцировать из этого понятия всю полноту творческих форм является предприятием абсолютно невозможным
119
и праздным: ибо если все формы мира жизни и мысли и имеют вообще какой-нибудь абсолютный первоисточник своего бытия и своей значимости, как то утверждает метафизика, то опять таки этим первоисточником может быть только то абсолютное, о котором я ничего не знаю и из которого потому ничего дедуцировать не могу, но никак не одна из творческих форм научно-философского ряда, какою всецело является понятие положительного всеединства.
Но раз для нас падает мысль о положительном всеединстве, как об абсолютном начале всей наличности мира и мысли, а вместе с ней и задача дедукции всех форм творчества из одного последнего начала, то ясно, что для нас падают уже и все остальные намеченные мною метафизические вопросы.
Так, например, для нас теряет всякую философскую остроту бесконечный спор метафизиков монистического, плюралистического или дуалистического толков. С нашей точки зрения абсолютно ясно, что ввиду того, что вся сфера творчества знаменуется категорией дуализма, всякий монизм мыслим лишь в форме плюрализма, а всякий плюрализм лишь в форме монизма. Это значит, что в сфере мысли начала единства и множественности наличны всегда в безусловном взаимном сопряжении. А потому вопрос о том, какое же начало все же первее, глубоко неправомерен, ибо он означает проекцию логики в сферу алогического переживания и превращение логической природы знаменующего переживание символа в форму самого в этом переживании переживаемого абсолюта. Но если таковой абсолют вообще существует, как то утверждает метафизика, и если он имеет какие-нибудь формы, то во всяком случае ясно, что нет никаких оснований приписывать ему формы знаменующего его логического символа. Итак ясно, что наше миросозерцательное истолкование понятий жизни и творчества есть нечто совсем иное, чем глубоко неправомерное с нашей точки зрения завершение поставленных нами проблем их теоретическим метафизическим разрешением.
Исходною точкою миросозерцательного истолкования понятий жизни и творчества должно служить не теоретическое искание последних ответов, ибо в теории по всему ее существу последним моментом будет всегда не ответ, а вопрос (с последней точки зрения и в отношении к последнему всякая теория безответна и безответственна), но нечто совершенно иное: это иное есть некий выбор, некая оценка теоретических принципов, которая свершается всею безраздельною целостностью человеческого духа.
Таким оценивающим выбором между принципами жизни и
120
творчества должно потому начаться и наше миросозерцательное завершение раскрытой нами философской концепции. До сих пор полюсы жизни и творчества предстояли нам началами абсолютно равноправными и равноценными. Переживание, индифферентное к обоим началам, попеременно возносило то одно, то другое. Логически знаменующий акт одинаково водружал в каждом полюсе свое областное понятие. Логически научный анализ равномерно устремлялся к дальнейшей разработке построяемых областными понятиями положительного всеединства и субъект-объектного дуализма областей жизни и творчества *).
Теперь же я делаю решительный шаг вперед и определяю начало переживания жизни, как переживание, по сравнению с переживанием творчества, более глубокое и более значительное, как переживание предельно значительное и предельно глубокое, как переживание религиозное, как религиозное переживание Бога.
Оправдания этому шагу я конечно и не ищу и не даю; оно могло бы быть лишь попыткой доказать, что переживание жизни есть действительно религиозное переживание. Но такое доказательство конечно совершенно невозможно, ибо религиозность не есть атрибут, который я правомерно или неправомерно приписываю переживанию жизни, она есть его сущность, оно само. Кому в переживании дана Жизнь в раскрытом мною смысле, тому тем самым уже дана и жизнь религиозная, т.е. тому дано внутреннее знание Жизни, как Бога, знание Бога живого. Таким образом отождествление Жизни и Бога является как бы мистическим a prioriвсего моего раскрытия миросозерцательного значения понятий жизни и творчества.
Такое истолкование Жизни часто связывается с пониманием творчества (определяемого и нами как акт отпадения человека от Бога), как сферы греховного и богоборческого самоутверждения человека. Если бы это определение творчества было действительно правильным, неизбежным, то та характеристика сферы творчества и ее отдельных форм, которая была нами дана в предыдущей главе, получила бы вполне определенное освещение и смысл.
Неизбежное стремление всякой науки убить тот дуализм формы и содержания, которым она жива, т.е. стремление ее умереть, как на-
*) Если, несмотря на утверждаемую мною равноценность понятий жизни и творчества, у читателя все-таки уже выросло предчувствие более глубокого значения жизни, то это связано исключительно с содержанием приведенных мною мистических цитат.
121
ука, и соприкоснуться с тою правдой искусства, отмежеванием от которой она в сущности только и жива; столь же неизбежное стремление сферы искусства избавиться от тяжелой необходимости взаимоотрицания художественных произведений и связанное с этим стремлением уничтожение искусства, как такового, путем признания за единственное подлинное художественное произведение лишь всей космичной целостности мира; необходимое ограничение всякой личности другою личностью в многообразных формах судьбы и, наконец, стремление всех этих форм к самоуничтожению в Жизни — вся эта структура взаимоотношения между отдельными формами творчества, основанная в последнем счете на отношении всей сферы творчества к Жизни, получила бы, как сказано, вполне определенный смысл, смысл утверждения, что все сотворенное есть порождение греха, а потому обречено уже своим порождением на муку и смерть.
Если бы такое отношение к творчеству было единственно возможным, т.е. если бы действительно утверждение Жизни, как Бога, необходимо приводило к утверждению творчества, как греха и богоборчества, то ясно, что единственно правильным отношением ко всей сфере творчества была бы непримиримая борьба против нее. Долг каждого философа, утверждающего жизнь, как погашение всех творческих форм, и полагающего эту жизнь, как жизнь религиозную, как жизнь в Боге, как Бога, определялся бы тогда вполне отчетливо, как необходимость безусловного отказа от всякого творчества. Отсюда ясно, что и моим личным долгом, вытекающим из моего понимания Жизни и творчества, было бы не устремление к философскому творчеству, многословно утверждающему подлинную жизнь в Боге и в молчании, но решительный отказ от всякой философии, решительное внутреннее устремление к тому, чтобы перестать, наконец, говорить о молчании, чтобы признать истину молчания и воистину замолчать о нем.
Однако к такому пониманию творчества нет решительно никаких оснований. Из двух безусловно правильных положений, что Жизнь есть Бог, а творчество — отпадение от Него, отнюдь не вырастает третьего положения, что всякое творчество есть грех богоборческого самоутверждения человека.
И действительно: личный опыт раскрытый нами в феноменологической части этой работы, вполне уравнивает оба переживаемых полюса, т.е. полюс жизни и полюс творчества. Научный анализ обоих полюсов также не приводит нас к утверждению полюса творчества, как начала безусловного греха или лжи. Равно и
122
свидетельства мистиков единообразно утверждают как момент полного слияния человека и Бога (Жизнь), так и следующий за ним момент разлуки человека и Бога (творчество). Разбираясь в свидетельствах мистиков и их переживаниях, мы уже и раньше утверждали, что отпадение души мистика от Жизни и ее возвращение к творчеству, к живому свидетельству о свершившемся в ней Свете полного единения с Богом, есть не недостаток мистической Жизни, но ее подлинная сущность. Мистик, не знающий отпадения от Жизни, мистик, не ведающий разлуки с Богом, мистик, не чувствующий всем своим существом присужденности к творчеству, был бы уже не мистиком, но самим Богом.
Но такое утверждение мистика как Бога, такое отрицание границы между человеческим мистическим переживанием Бога и Божественным Самопереживанием, такое отрицание различия между человеком и Богом есть уже учение не мистическое, но демоническое и позитивистическое. Различие же между Богом и мистиком и заключается как раз в том, что Бог пребывает только в Жизни или точнее Жизнью, мистик же, погружаясь в Жизнь, т.е. в Бога, всегда снова возвращается к творчеству, т.е. возвращается в сферу всякой двойственности, а потому и к утверждению двойственности своей Богочеловеческой природы.
Творить и быть мистиком, т.е. богоисполненным человеком есть, таким образом, по существу одно и тоже. А потому рассматривать творчество, как богоборчество и грех, значит вменять человеку в вину его религиозную, его мистическую, его человеческую природу. Но такое обвинение совершенно бессмысленно. Ясно, что всякий человек может грешить, но также ясно и то, что грех человека не может заключаться в том, что он человек; грех мистика — в том, что он не Бог, но лишь богоисполненный человек, т.е. мистик. Быть человеком определено человеку не им самим, но самим Богом, а потому отожествление греховности и человечности есть обвинение в грехе уже не человека, но создавшего его Бога. Но полагать Бога, как существо грешное, есть и этический, и логический, и мистический абсурд.
Этический потому, что, если Бог грешен, то человек тем самым уже безусловно безгрешен, безгрешен потому, что никакая этическая позиция, полагающая в основу у своего учения идею Бога, не может формулировать этический идеал иначе, как идеал Богоподобия. Но раз Бог грешен, то этический идеал Богоподобия есть оправдание греха. Но этически оправданный грех есть его уничтожение, как греха.
123
Логический — потому, что всякая теория мира, полагающая в основу своего построения понятие Бога, неминуемо становится теорией монистической. А религиозный монизм никогда не сможет, несмотря ни на какие ухищрения мысли, принять и оправдать понятие греха, т.е. зла. В системе религиозного монизма зло будет всегда порождением добра, но зло порожденное добром, никогда не есть зло, но всегда лишь своеобразная форма добра.
И, наконец, мистической потому, что в мистическом переживании Жизни или Бога погасают все различия и все формы, а потому погасает и различие добра и зла, погасает и вся форма этического восприятия мира.
Таким образом мы приходим к заключению, что творчество, представляющее собою вне всякого сомнения переживаемое человеком отпадение от переживания Бога, никак не может быть осмыслено и отвергнуто, как греховное и богоборческое самоутверждение человека. Творя, человек покорно свершает свое подлинно человеческое, т.е. указанное ему самим Богом дело. Восставая против творчества, человек непокорно отрицает границы своей человеческой природы и тщетно пытается утвердить себя на месте Божием. Подлинная религиозная правда богочеловеческой жизни держится таким образом равномерным признанием как полюса Жизни, так и полюса творчества. Но равномерное признание обоих полюсов не есть конечно их полное и всестороннее уравнение. Каково же подлинное отношение между Жизнью и творчеством?
Возвращаясь от Жизни к творчеству, человек помнит «что» этой Жизни лишь как «не то» всякого творчества, знает Жизнь, лишь как пустую и формальную идею положительного всеединства, изначально противоположную всестороннему дуализму окружающей сферы творчества.
Не зная в момент своего пробуждения в творчестве, что есть Жизнь, но зная лишь то, что она есть, не зная в этот момент пробуждения, что есть Бог, но зная лишь то, что он есть, человек естественно начинает работать над оживлением своего воспоминания, над организацией противоречивых двойственностей творческой сферы в целостное начало положительного всеединства жизни, над превращением своего знания о том, что Бог есть, в более высокое и конкретное знание того, что же Он есть по своему существу и на самом деле.
В этой работе над творческим обретением воспоминаемой Жизни, в работе над возвращением к Богу, дух человеческий
124
прежде всего наивно построяет все обособленные группы своих постижений. В науке и в искусстве, в общественной и церковной жизни пытается он обрести живую действительность утерянной жизни, подлинную сущность воспоминаемого Бога.
Но все эти попытки оказываются, как мы видели, тщетными. В ту минуту, как каждая область творчества входит в сознание своего бытия, т.е. в ту минуту, как она становится объектом критически-философского рассмотрения, она неминуемо вскрывает свою полную неспособность окончательно погасить в себе всякий дуализм и тем самым внутренне осилить подлинное обретение Жизни.
Анализируя в третьей главе понятие науки, мы пришли к заключению, что уничтожение дуализма формы и содержания уничтожает самую идею науки, уничтожение в искусстве мертвого плюрализма художественных произведений уничтожает самое идею искусства и т.д. Не приходим ли мы, однако, к совершенно неразрешимому противоречию? С одной стороны мы утверждаем, что смысл творчества в устремлении к жизни, с другой же мы утверждаем, что творчество решительно не способно осилить проблемы постижения Жизни. Но зачем же в таком случае избирать творчество, как путь к Жизни, если на этом пути встреча с жизнью решительно неосуществима? Ответ заключается в следующем.
Поставленное в сферу творчества человечество естественно не может выйти из нее иначе, как не исходив ее во всех направлениях. Пути творчества к Жизни должны быть пройдены во всех направлениях, но с единственною целью решительного отказа от них, как от пути. Бесконечное значение творчества заключается в том, чтобы создавая идолов, распознавать их, как идолов, и тем самым будить в себе предчувствие живого Божьего лика.
Отказаться от творчества человеку нельзя, ибо творить всего только и значит, что быть человеком. Быть же человеком человеку определено самим Богом. А потому отказ от творчества есть не что иное, как прямое Богоборчество. Погрузиться в сферу творчества и утверждать, что ею исчерпывается Жизнь, что в ней обретается Бог, — это значит исказить образ Жизни и забыть о живом Боге. А потому единственная правда в отношении Жизни и творчества может заключаться только в том, чтобы, творя, человечество каждым творением своим неустанно говорило бы не о том, чем все сотворенное бесконечно богато, но только о том, зачем оно словно за милостынею вечно протягивает свою нищенствующую руку.
125
Лишь иссквозив все свое творчество и все творения свои последнею религиозною тоскою, может человечество оправдать творческий подвиг свой. Лишь постольку право всякое творение, поскольку оно утверждает себя не во имя своей личной мощи, но во имя соборной немощи всего творчества. Религиозная правда всякого творения заключается не в том что оно утверждает, что Бог в нем, но лишь в том, что оно видит и верит, что там, где оно стоит, Бога нет.
Но если мы ведаем что Бог есть, а равно и то, что в творчестве Его нет, то это значит, — что мы ведаем уже и то, что последнее, к чему призвано человечество, — это полный отказ от всякого творчества. Но полный отказ от всякого творчества мыслим лишь при условии изъятия человека из основных творческих форм, т.е. из форм личности и судьбы. Осуществление этого идеала есть идеал святой жизни. В свершении святым его жизни в Жизни, т.е. в Боге, уничтожится по свершении весь полюс творчества.
Но уничтожение творчества предполагает его полное раскрытие. Не отказом от творчества может быть уничтожен полюс творчества, но лишь творческим преодолением его.
126
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
