13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Соловьев Владимир Сергеевич
Соловьев В.С. Право и нравственность. Очерки из прикладной этики.
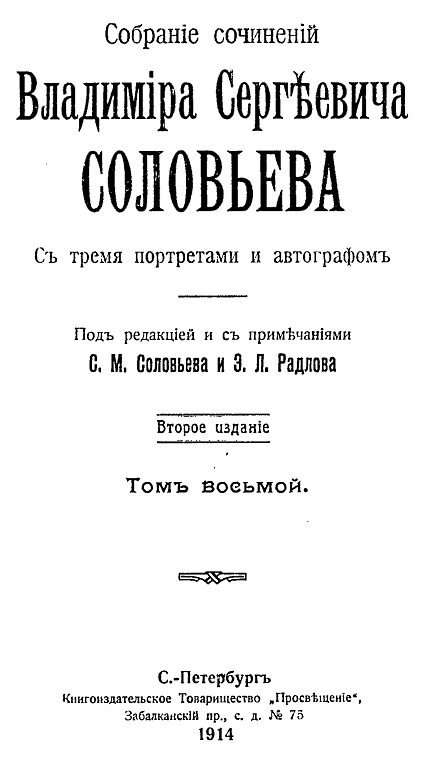
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу
Право и нравственность.
Очерки из прикладной этики. 1897.
Владимиру Даниловичу Спасовичу 519
Предисловие 521
Глава первая. — Предварительные замечания о праве вообще 523
Глава вторая. — Определение права в его связи с нравственностью 534
Глава третья. — Уголовное право. Его генезис. Критика теорий возмездия и устранении 551
Глава четвертая. — 0 смертной казни 572
Глава пятая. — Принудительное правосудие, как нравственная обязанность 589
Глава шестая. — Антропологическая школа криминалистов, ее заслуги и недостатки 601
Глава седьмая. — Нормальное уголовное правосудие. 616
Владимиру Даниловичу Спасовичу.
Вступая одиноким и плохо вооруженным волонтером в огромный и грозный стань юридической науки, спешу укрыться под защиту заслуженного вождя регулярных сил, в надежде на его справедливость и великодушие. Ваша справедливость не позволит Вам прилагать к философскому обсуждению правовых вопросов мерила профессиональной юриспруденции, а на Ваше великодушие я рассчитываю, если общие условия моего труда отразились в каких-нибудь частных ошибках, которых можно было бы избегнуть при более тщательной и досужей обработке предмета.
В некоторых точках соприкосновения нравственной философии с правом наши мысли не совпадают. Вы позволите мне забыть об этом теперь рада того «единства в необходимом» и тех взаимных чувств, которые нас связывают.
519
Предисловие.
Признавая между правом и нравственностью внутреннюю существенную связь, полагая, что они неразлучны и в прогрессе и в упадке своем, мы сталкиваемся с двумя крайними взглядами, отрицающими эту связь на прямо противоположных основаниях. Один взгляд выступает во имя морали и, желая охранить предполагаемую чистоту нравственного интереса, безусловно отвергает право и все, что к нему относится как замаскированное зло. Другой взгляд, напротив, отвергает связь нравственности с правом во имя последнего, признавая юридическую область отношений как совершенно самостоятельную и обладающую собственным абсолютным принципом. Согласно первой тючке зрения связь с правом пагубна для нравственности; согласно второй — связь с нравственностью в лучшем случае не нужна для права.
В настоящее время наиболее значительные (хотя в различных отношениях) представители обоих крайних взглядов принадлежат России. Как безусловный отрицатель всех юридических элементов жизни высказывается знаменитейший русский писатель, граф Л. Н. Толстой, а неизменным защитником права, как абсолютного, себе довлеющего начала, остается самый многосторонне образованный и систематичный ум между современными русскими, а может быт и европейскими учеными, Б. Н. Чичерин. Если бы я стал разбирать их взгляды во всех частностях, то это вывело бы меня за пределы настоящего сочинения (а относительно второго из названных писателей — и за пределы моей компетентности). Оставаясь на почве собственно философской и имея в виду лишь центральный пункт спора, я желал бы рассмотреть дело по существу для уяснения положительной истины.
521
Предлагаемая книжка частью прямо написана для настоящего издания, частью представляет более или менее существенную переработку соответствующих мест в других моих сочинениях. Вопрос об отношении между нравом и нравственностью получает особенно жгучий характер в области права уголовного, на котором я и должен был сосредоточить свое внимание.
Философия права, в которую входит предмет моего трактата, есть одна из философских дисциплин, примыкающая к этике или нравственной философии (в прикладной ее части). Вот формальное основание, по которому я, не будучи юристом, считаю себя в праве говорить о праве. Если читатель убедится, как я надеюсь, Б правде моих мыслей по существу, то едва ли он поднимет в кассационном порядке вопрос о том, в какой мере автор имел право быть правым.
522
ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Предварительные замечания о праве вообще.
I.
Право возникает фактически в истории человечества наряду с другими произведениями общечеловеческой жизни, каковы язык, религия, художество и т. д. Все эти формы, в которых живет и действует душа человечества и без которых немыслим человек, как такой, очевидно, не могут иметь своего исторического начала в сознательной и произвольной деятельности отдельных лиц, не могут быть произведениями рефлексии, все они являются сперва как непосредственное выражение инстинктивного родового разума, действующего в народных массах; для индивидуального же разума эти духовные образования являются первоначально не как добытые иди придуманные им, а как ему данные. Это несомненно фактически, какое бы дальнейшее объяснение мы ни давали самому духовному инстинкту человечества. Впрочем, мы имеем здесь только частный случай более общего факта, ибо родовой разум не ограничивается одним человечеством, и как бы мы ни объясняли инстинкт животных, во всяком случае несомненно, что разумные формы общежития, например в пчелиных и муравьиных республиках, являются для отдельных животных данного рода не как что-нибудь ими самими придуманное или добытое, а как нечто готовое и данное, как некоторое наитие, которому они служат лишь проводниками и орудиями.
Если общежительные животные несомненно 'Повинуются некоторым нормам своего общежития, а при нарушении их (в крайне редких случаях) со стороны отдельных особей виновные вызывают против себя соответственную реакцию и подвергаются истре-
523
блению, то само собою разумеется, что и человеческая общественность в самых первых своих начатках уже обладала объективно определенными, хотя субъективно-безотчетными правовыми нормами.
Первоначальное право, как непосредственная деятельность родового (народного, племенного) духа, есть право обычное, в котором начало справедливости действует, не как теоретически сознаваемый мотив, а как непосредственное практическое побуждение, облекаясь при том в форму символов. Если первоначальное право в виде юридического обычая есть прямое явление общей родовой жизни, то органическое развитие этой последней, составляющее историю народа, определяет собой и изменения в правовых отношениях; таким образом право в своем определенном существовании (т. е. право у известного народа в известное время), есть несомненно произведение истории, как собирательного органического процесса.
Итак, право дано нам, как органическое произведение родового исторического процесса. Эта сторона действительного права не подлежит сомнению, но столь же несомненно, что ею право еще не определяется, как такое, — это есть только первый образ его существования, а никак не его сущность. Когда же на эту органическую основу права обращается исключительное витание, когда она отвлекается от всех других сторон и элементов права и признается как его полное определение, тогда получается тот односторонний исторический принцип права, который так распространен в новейшее время и несостоятельность которого (в его исключительности) легко может быть обнаружена.
И прежде всего несомненно, что история человечества только в начатках своих может быть признана как чисто-органический, т. е. родовой безличный процесс, дальнейшее же направление исторического развития знаменуется именно все большим и большим выделением личного начала. Община пчел всегда остается инстинктивною, невольною и безличною связью, но человеческое общество последовательно стремится стать свободным союзом лиц. Если в начале жизни и деятельности отдельных лиц вполне определялась истерическим бытом народа, как целого, и представляла в своем корне лишь произведение тех условий, которые органически выработались народною историей, то с дальнейшим развитием, на-
524
оборот, сама история вое более и более определяется свободною деятельностью отдельных лиц и весь народный быть становится все более и более лишь осуществлением этой личной деятельности. Если человеческое общество, как соединение нравственных существ, не может быть только природным организмом, а есть непременно организм духовный, то и развитие общества, т. е. история не может быть только простым органическим процессом, а необходимо есть также процесс психологически и нравственно-свободный, т. е. ряд личных сознательных и ответственных действий. Куда окончательно ведет этот духовно-исторический процесс, выделяющий личность из рода, есть ли он только отрицательный переход к восстановлению первобытной родовой солидарности, но более широкой и более совершенной, — соединяющей свободу с единством, — или же первобытное, таинственное единство родовой жизни должно совсем исчезнуть и уступить место чисто-рациональным отношениям, — это вопрос другого рода. Но во всяком случае, стремление личности к самоутверждению и к полнейшему высвобождению из первобытного единства родовой жизни остается фактом всеобщим и несомненным. А потому и право, как необходимая форма человеческого общежития, вытекая первоначально из глубины родового духа, с течением времени неизбежно должно было испытать влияние обособленной личности, и правовые отношения должны были стать в известной степени выражением личной воли и мысли. Поэтому, если согласно отвлеченно-историческому принципу утверждают, что постоянный корень всякого права есть право обычное, как прямое органическое выражение народного духа, — все же остальное, т. е. право писанное или законы и право научное или право юристов, имеют значение только как формальное выражение первого, так что вся деятельность отдельных лиц (законодателей и юристов) должна состоять только в более отчетливом формулировании и систематизации исторических, органически выработанных правовых норм, — то такой взгляд должен быть отвергнут, как односторонний и несоответствующий действительности. Помимо того, что этот взгляд противоречит общему значению личного начала в истории, — в большинстве случаев чисто-органическое происхождение права и законодательства является невозможным уже вследствие одних внешних условий. Так, например, если можно допустить, что публичное и частное
525
право англо-саксов было чисто-органичиешш произведением их народного духа, то сказать то же самое о государственном праве Английского королевства в XIII веке, то есть о начатках знаменитой английской конституции совершенно невозможно уже по той простой причине, что в этом случае нет того единого народного духа, той национальной единицы, творчеству которой мы могли бы .приписать помянутую выше конституцию, которая сложилась при взаимодействии по крайней мере двух враждебных национальных элементов — англо-саксонского и норманского, — при чем, очевидно, невозможно отрицать участие сознательного расчета, обдуманной сделки между представителями этих двух национальностей.
Другой яркий пример: чей народный дух создал право Северо-Американской республики?
II.
Если отношение между лицами, не вышедшими из родового единства1, есть непосредственная простая солидарность, то лица обособившиеся, утратившие так или иначе существенную связь родового организма, вступают по необходимости во внешнее отношение друг к другу — их связь определяется как формальная сделка или договор. Итак, источником права является здесь договор, и против отвлеченного положения: всякое право 'Происходит из органического развития народного духа, полагается естественным, непосредственным творчеством народа в его внутреннем существенном единстве, — выступает другой отвлеченный принцип, прямо противоположный: всякое право и все правовые отношения являются как результатом намеренного, рассчитанного условия или договора между всеми отдельными лицами в их внешней совокупности. Если, согласно первому принципу, все правовые формы вырастают сами собой, как органические произведения, без всякой предуставленной личной цели, то по второму принципу, наоборот, право всецело определяется тою сознательною целью, которую ставит себе совокупность договаривающихся лиц. Здесь предполагают, что отдельные лица существуют первоначально сами по себе, вне всякой общественной связи, и затем (любопытно
________________________
1 Во всей этой главе термины «род, родовой» употребляются мною в широком смысле без прямого отношения к собственно так называемому родовому быту.
526
бы знать когда именно?) сходятся рада общей пользы, подчиняются по договору единой власти и образуют таким образом гражданское (политическое) общество или государство, постановления которого получают, в силу общего договора, значение законов, или признаются за выражение права. Таким образом здесь определяющим началом права является общая польза. Задача правомерного государства во всех его учреждениях и законах есть осуществление наибольшей пользы, т. е. пользы всех. Этот общественный утилитаризм, столь простой и ясный на первый взгляд, для философского анализа является как самая неопределенная и невыясненная теория. Государство имеет целью общую пользу. Если бы польза была действительно общею, т. е. если бы все были действительно солидарны в своих интересах, то не было бы и надобности в особенном устроении интересов. Но если польза всех не согласуется, если общая польза сама себе противоречив, то государство может иметь целью разве лишь пользу большинства. Так обыкновенно и понимается этот принцип. Но в вопросах исключительно интереса ничто не ручается не только за солидарность всех, но и за солидарность большинства. Исходя из интереса, необходимо допустить в обществе столько же партий, сколько есть в нем различных частных интересов. Если правовое государство будет орудием только одной из этих партий, то откуда оно возьмет силу для подчинения всех других? Итак, оно должно защищать данные частные интересы лишь поскольку они не находятся в прямом противоречии с интересами других. Таким образом собственною целью государства является не интерес, как такой, составляющий собственную цель отдельных лиц и партий, а разграничение этих интересов, делающее возможным их совместное существование. Государство имеет дело с интересом каждого, но не самим по себе (что невозможно), а лишь поскольку он ограничивается интересом всех других. Так как это условие одинаково для всех, то все равны пред общею властью, которая, следовательно, определяется не общею пользой, а равенством, или равномерностью, или, что то же, справедливостью. По общему признанию, первое требованье от нормальной власти, нормального государства, есть то, чтобы оно возвышалось над всяким частным интересом, чтобы оно было беспристрастно, но беспристрастие есть лишь другое название справедливости.
527
Общая власть должка быть беспристрастна, и в этом смысле можно сказать, что она должна заботиться об общей пользе, т. е. о пользе всех одинаково, но равная польза всех и есть справедливость. Но, как сказано, государство не может заботиться о пользе всех в положительном смысле, т. е. осуществлять весь интерес каждого, что невозможно как по неопределенности этой задачи, так и по внутреннему ее противоречию, поскольку частные интересы противоположны между собой; поэтому, государство может только отрицательно определяться общею пользой, т. е. заботиться об общей границе всех интересов. В силу этой общей границы и в области, ею определяемой, т. р. поскольку он совместим со всеми другими или справедлив, каждый интерес есть право — определение чисто-отрицательное, ибо им не требуется, чтобы интерес каждого был осуществлен в данных пределах, а только запрещается переходить эти пределы. Не будучи в состоянии осуществить общую пользу фактически, т. е. согласно субъективным требованиям (которые беспредельны и друг другу противоречат в естественном порядке), государство должно осуществить ее юридически, т. е. в пределах общего права, вытекающего из относительного или отрицательного равенства всех, т. е. из справедливости. Забота государства, как это признается всеми, не в том, чтобы каждый достигал своих частных целей и осуществлял свою выгоду, — это его личное дело, — а лишь в том, чтобы, стремясь к этой выгоде, он не нарушал равновесия с выгодами других, не устранял чужого интереса в тех пределах, в которых он есть право. Таким образом, требование власти от подданных есть общее требование справедливости: neminem laede, и, следовательно, право не определяется понятием полезности, а заключает в себе и формальное нравственное начало.
III.
Если невозможно, как мы видели, признать источником права начало органического развития в его исключительности, то точно также нельзя допустить и противоположное механическое начало договора в смысле знаменитого contrat social, т. е. в качестве первоначального и единственного источника всякого права и государства. Фактически несомненно, что оба эти начала, — и на-
528
чало органического развития, и начало механической сделки, — участвуют совместно в образовании права и государства, при чем первое начало преобладает в первобытном состоянии человечества, в начале истории, а второе получает преобладающее значение в дальнейшем образовании общественного быта с большим обособлением и выделением личного элемента. Таким образом право (и правовое государство) в своей исторической действительности не имеет одного эмпирического источника, а является, как изменчивый результат сложного взаимоотношения двух противоположных и противодействующих начал, которые, как это легко видеть, суть лишь видоизменения или первые применения в политико-юридической области тех двух элементарным начал, общинности и индивидуализма, которые лежат в основе всей человеческой жизни. В самом деле, исторический принцип развития права, как непосредственно выражающего общую основу народного духа в его нераздельном единстве, прямо соответствует началу общинности, а противоположный механический принцип, выводящий право из внешнего соглашения между всеми отдельными атомами общества, есть очевидно прямое выражение начала индивидуалистического.
Не трудно было бы показать, как те же два начала, различным образом видоизменяясь и осложняясь, проявляются в политической борьбе между абсолютизмом и либерализмом, традиционной аристократией и революционной демократией и т. д., при чем оба враждующие начала являются одинаково неправыми и несостоятельными, несостоятельность, лишь паллиативно устраняемая внешними искусственными сделками между ними. Но вопросы чисто-политического характера отклонили бы нас слишком далеко от прямого предмета этого сочинения.
Два основные источника права, т. е. стихийное творчество народного духа и свободная воля отдельных лиц, различным образом видоизменяют друг друга, и поэтому взаимное отношение их в исторической действительности является непостоянным, неопределенным и колеблющимся, соответственно различным условиям места и времени. Таким образом с эмпирической или чисто исторической точки зрения невозможно подчинить это отношение указанных начал никакому общему определению.
Но во всяком случае, какие бы исторические формы ни при-
529
нимали правовые отношения, этим нисколько не решается вопрос о сущности самого права, о его собственном определении. Между чем весьма обычно стремление заменить теорию права его историей. Это есть частный случай той, весьма распространенной, хотя совершенно очевидной, ошибки мышления, в силу которой происхождение или генезис известного предмета в эмпирической действительности принимается за самую сущность этого предмета, исторический порядок смешивается с порядком логическим и содержание предмета теряется в процессе явления. И такое смешение понятий производится во имя точной науки, хотя всякий признал бы сумасшедшим того химика, который на вопрос: что такое поваренная соль, вместо того, чтобы отвечать NaCl, т. е. дать химическую формулу этой соли, стал бы перечислят все солеваренные заводы и описывать способ добывания соли. Но не то же ли самое делает тот ученый, который на вопрос, что такое право, вместо логических определений, думает ответить этнографическими и историческими исследованиями об обычаях готтентотов и о законах салийских франков, исследованиями весьма интересными и важными на своем месте, но нисколько не решающими общего вопроса? Но логические ошибки, бросающиеся в глаза в простых и частных случаях, ускользают от внимания в вопросах более сложных и многообъемлющих. Само собою разумеется, что позитивно-историческое направление в науке права хотя в принципе и основано на указанном заблуждении, тем не менее может быть весьма плодотворно и иметь большие заслуги в разработке научного материала. Да и в принципе это направление извинительно, как законная реакция против односторонней метафизики права, которая в своей самодовольной отвлеченности так же грешила против реального начала, как противоположное направление грешит против идеи.
IV.
Коснувшись исторического вопроса, откуда происходит или из чего слагается право, т. е. вопроса о материальной его причине, переходим теперь к вопросу, что есть (τί ἐστι) право, т. е. к вопросу о его образующей (формальной) причине, или о его собственном существе.
Правом прежде всего определяется отношение лиц. То, что
530
не есть лицо, не может быть субъектом права. Вещи не имеют прав. Сказать: я имею права (вообще, без дальнейшего определения какие), все равно, что сказать: я — лицо. Лицом же в отличие от вещи называется существо, не исчерпывающееся своим бытием для другого, т. е. не могущее по природе своей служить только средством для другого, а существующее как цель в себе и для себя, существо, в котором всякое внешнее на него действие наталкивается на возможность безусловного сопротивления, на нечто такое, что этому внешнему действию может безусловно не поддаваться и есть, следовательно, безусловно внутреннее и самобытное, — для другого непроницаемое и неустранимое. А это и есть свобода в истинном смысле этого слова, т. е. не в смысле liberum arbitrium indifferentiaeе, а наоборот, в смысле полной определенности и неизменной особенности всякого существа, одинаково проявляющейся во всех его действиях. Итак, в основе права лежит свобода, как характеристический признак личности; ибо из способности свободы вытекает требование самостоятельности, т. е. ее признания другими, которое и находит свое выражение в праве. Но свобода сама по себе, т. е. как свойство лица в отдельности взятого, еще не образует права; ибо здесь свобода проявляется лишь внешним образом, как фактическая принадлежность личности, совпадающая с ее силой. Предоставленный самому себе, я свободно действую в пределах своей силы: о праве здесь не может быть и речи. Нет права и в том случае, когда мое действие сталкивается с таким же свободным действием другого, при чем дело решается перевесом силы. Но если я проявление своей свободы ограничиваю или обусловливаю признанием за другим такой же принципиальной свободы, или признаю его за такое же лицо, как я сам, то таким признанием я делаю свою свободу обязательною для него, или превращаю ее в свое право. Такое отношение имеет всеобщий характер, в силу всеобщего значения личности: каждый человек есть лицо, и, следовательно, за всеми одинаково должна признаваться их принципиальная свобода, взаимно обусловленная в своем действительном проявлении. Таким образом, моя свобода, как право, а не сила только, прямо зависит от признания равного права всех других. Отсюда мы получаем основное определение права:
Право есть свобода, обусловленная равенством.
531
В этом основном определении права индивидуалистическое начало свободы неразрывно связано с общественным началом равенства, так что можно сказать, что право есть не что иное, как синтез свободы и равенства.
Понятия личности, свободы и равенства составляют сущность так называемого естественного права. Рациональная сущность права различается от его исторического явления, или права положительного. В этом смысле естественное право есть та общая алгебраическая формула, под которую история подставляет различные действительные величины положительного права. При этом само собою разумеется, что эта формула (как и всякая другая) в своей отдельности есть лишь отвлечение ума, в действительности же существует лишь как общее идеальное условие всех положительных правовых отношений, в них и через них. Таким образом под естественным или рациональным правом мы понимаем только общий разум или смысл (ratio, λόγος) всякого права, как такого. С этим понятием естественного права, как только логического prius права положительного, не имеет ничего общего существовавшая некогда в юридической науке теория естественного права, как чего-то исторически предшествовавшего праву положительному, при чем предполагалось так называемое естественное состояние или состояние природы, в котором люда существовали будто бы до появления государства и положительных законов. На самом же деле оба эти элемента, и рациональный, и положительный, с одинаковою необходимостью входят в состав всякого действительного права, и потому теория, которая их разделяет или отвлекает друг от друга, предполагая историческое существование чистого естественного права, принимает отвлечение ума за действительность. Несостоятельность этой теории нисколько не устраняет той несомненной истины, что всякое положительное право, поскольку оно есть все-таки право, а не что-нибудь другое, необходимо подлежит общим логическим условиям, определяющим самое понятие права, и что, следовательно, признание естественного нрава в этом последнем смысле есть необходимое требование разума.
Необходимые же условия всякого права суть, как мы видели* свобода и равенство его субъектов. Поэтому естественное право всецело сводится к этим двум факторам. Свобода есть необходимый субстрат или подлежащее права, а равенство — его необхо-
532
димая форма. Отнимите свободу, и право становится своим противоположным, т. е. насилием. Точно также отсутствие общего равенства (т. е. когда данное лицо, утверждая свое право по отношению к другим, не признает для себя обязательными права этих других) есть именно то, что называется неправдой, т. е. также прямое отрицание права. Поэтому и всякий положительный закон, как частное выражение или применение права, в какому бы конкретному содержанию он, впрочем, ни относился, всегда предполагает равенство, как свою общую и безусловную форму: пред законом все равны, без этого он не есть закон: и точно также закон, как такой, предполагает свободу тех, кому он предписывает, ибо для рабов нет общего формально-обязательного закона, для них принудителен уже простой единичный факт господской воли.
Свобода, как основа всякого человеческого существования, и равенство, как необходимая форма всякого общественного бытия, в своем соединении образуют человеческое общество, как правомерный порядок. Ими утверждается нечто всеобщее и одинаковое, поскольку права всех равно обязательны для каждого и права каждого для всех. Но очевидно, что это простое равенство может относиться лишь к тому, в чем все тождественны между собой, к тому, что у всех есть общее. Общее же у всех субъектов права есть то, что все они одинаково суть лица, т. е. самостоятельные или свободные существа. Таким образом, исходя из равенства, как необходимой формы права, мы заключаем к свободе, как его необходимому субстрату.
В эмпирической действительности, воспринимаемой внешними чувствами, все человеческие существа представляют собою бесконечное разнообразие, и если, тем не менее, они утверждаются, как равные, то этим выражается не эмпирический факт, а положение разума, имеющего дело с тем, что тождественно во всех, или в чем все равны. Вообще же разум, как одинаковая граница всех свободных сил или сфера равенства, есть определяющее начало права, и человек может быть субъектом права лишь в качестве существа свободно-разумного.
533
ГЛАВА ВТОРАЯ.
Определение права в его связи с нравственностью.
I.
Общее формальное определение права, как свободы, обусловленной равенством, т. е. равным ограничением, хотя обозначает собственную область юридических отношений, но еще ничего не говорит об их действительном содержании, а потому и не может само по себе служить к решению вопроса о связи между правом и нравственностью. Сам определяющий термин этой формулы — равенство — имеет слишком общий и отвлеченный характер и требует ближайшего определения. Это равное ограничение, делающее из свободы право, — в чем оно собственно состоит и в каком смысле оно равно для всех?
О простом или безусловном равенстве здесь, очевидно, не может быть речи. Ясно, что ограничения свободы для малолетнего и взрослого, для психически больного и здорового не могут быть равны. и в других отношениях равенство всегда условно: все равно свободны заниматься врачебною практикой, если имеют свидетельство о своих медицинских знаниях; все равно свободны владеть землею, если ее приобрели; и т. д. Следовательно, в праве свобода каждого обусловлена не только равенством всех, но и действительными условиями самого равенства. Далее, когда мы говорим о равном ограничении, то, чтобы стать фактором права, само это ограничение помимо реально обусловленного равенства должно еще иметь некоторое собственное качество; не всякое ограничение, хотя бы и равное, монет образовать право. Так, когда египетский фараон постановил, чтобы все еврейские новорожденные младенцы мужеского пола были умерщвляемы, то этот закон не был
534
выражением права, хотя его и можно представить в общей форме права, именно так, что свобода евреев жить в Египте была для них обусловлена равным для них всех ограничением — умерщвлять новорожденных. Этот кажущийся закон не имел правового значения не потому, конечно, что равенство здесь было односторонним, относилось к одним евреям и к одному мужескому полу. Если бы фараон издал другой закон, по которому, не одни еврейские, а и все египетские новорожденные обоего пола, не исключая и фараоновых детей, подвергались бы истреблению, то этот закон, при всем своем соответствии идее отвлеченного равенства, никак не стал бы лучшим выражением права, и фараон, его издавший, не мог бы быть признан более правым. Значит, окончательно все дело не в равенстве, а в качестве самого ограничения: требуется, чтобы оно было действительно справедливо, требуется для настоящего, правого закона, чтобы он соответствовал не форме справедливости только, а ее реальному существу, которое вовсе не связано с отвлеченным понятием равенства вообще. Кривда, равно применяемая ко всем, не становится от этого правдой. Правда или справедливость не есть равенство вообще, а только равенство в должном. Справедлив и прав не тот должник, который равно отказывает в уплате всем своим кредиторами, а тот, который всем им равномерно уплачивает свой долг; справедлив и прав не тот человек, который равно готов зарезать или обокрасть всякого своего ближнего, а тот, который ровно никого не хочет убить, или ограбить; справедлив и прав не тот отец, который всех своих детей равно выкидывает на улицу, а тот, который всем им уделяет равные заботы. Справедливость есть несомненно понятие нравственного порядка. Итак, право, как выражение справедливости, не входит ли всецело в область нравственную?
Такое заключение не может, однако, устоять перед всеобщим явлением правомерной безнравственности, имеющим под собою твердые принципиальные основания.
II.
Требования нравственности и требования права отчасти совпадают между собою, а- отчасти не совпадают. Убивать, красть, на-
535
силовать — одинаково противно и нравственному, и юридическому закону — это вместе и грехи и преступления. Тяжба с ближним из-за имущества, или из-за личного оскорбления противна нравственности, но вполне согласна с правом и узаконяется им. Гнев, зависть, частное злословие, неумеренность в чувственных удовольствиях молчаливо допускаются правом, но осуждаются нравственностью как грехи. В чем тут принцип разграничения?
Нельзя видеть его в различии между нравственностью отрицательною по запретительной заповеди: никому не вреди (neminem laede), относя сюда всю область права — и нравственностью положительною по повелительной заповеди: всем сколько можешь помогай (omnes quantum potes juva), приурочивая сюда все собственно нравственные, не юридические отношения. Такой принцип деления оказывается недостаточным со всех сторон. Во-первых, юридический закон запрещает не все вредные действия, а только некоторые из них, к остальным относясь безразлично. Сплетня, ложь, злословие и клевета в частных разговорах, несправедливые и язвительные нападения в печати без сомнения могут быть очень вредны тем, кто от них страдаем, но юридический закон к этому вреду равнодушен. Во-вторых, этот закон, не ограничиваясь с другой стороны запрещением вредного, иногда положительно предписывает лицам известного рода (напр., врачам, полицейским) оказывать прямую помощь тем, кто в ней нуждается. В-третьих, чисто-нравственный закон едва ли не в большинстве случаев состоит из запрещения таких действий, которые вредны или обидны для других.
Этих несоответствий вполне достаточно, чтобы отвергнуть попытку свести различие между юридическою и этическою областью к различию между положительными и отрицательными заповедями или нормами. Юридический закон допускает некоторую безнравственность в обоих смыслах, т. е. нарушение как положительной, так и отрицательной нравственной заповеди, он не только дозволяет иногда оставлять ближних без помощи, но разрешает иногда и вредить им в известной мере. Итак, по-видимому, чтобы установить достаточный принцип деления между двумя областями, необходимо отыскать в праве такой элемент, который совсем не связан с нравственностью, вполне лишен этического значения.
536
Это как будто достигается чрез определение права как охраненного или защищенного интереса.
Слово «интерес» звучит в самом деле как-то положительно и реально, в нем есть что-то даже материалистическое, исключающее всякий идеализм и сантиментальность. Посмотрим, какую пользу можно извлечь из этих качеств для нашего вопроса.
«Право есть охраненный интерес». Нет ли тут однако скрытой тавтологии? Ведь не о всяком здесь интересе говорится и не о всяком охранении. Если кто-нибудь свой имущественный интерес охранит злостным банкротством или иным мошенничеством, а свой интерес в сфере «свободной любви» защитить посредством отравления своей законной супруги, то подобным образом охраненный интерес (едва ли будет признан за истинное существо правового начала. В указанном определении несомненно имеется в виду лишь интерес правомерный, охраняемый на правовом основании, в силу закона и с помощью (если нужно) законной власти. А «если так, то, значит, в этом определении уже присутствует определяемое, что логикою не дозволяется. Право есть интерес, охраненный ... правом! Право есть право, idem per idem.
Можно, конечно, не оставляя понятия интереса, избегнуть логической ошибки, видоизменив определение таким образом: право есть норма интересов, подлежащих публичному охранению. Но это формальное улучшение оставляет по существу вопрос открытым.
III.
Какая норма превращает интерес в право, или какому общему требованию должен удовлетворять интерес, чтобы стать подлежащим обязательному охранению со стороны законной власти? Положим, будучи занят трудною умственною работой, полезной для меня и для других, я в высшей степени заинтересован в том, чтобы досужие посетители не отнимали у меня времени и не прерывали ход моих мыслей. Казалось бы, — вот интерес вполне достойный стать правом. Однако, ни в каком законодательстве не существует запрещения отнимать время у кого бы то ни было. Закону нет никакого дела до этого моего интереса самого по себе, моему собственному усмотрению предоставляется охранять его или
537
не охранять. Но вот я запер свои двери на ключ, и тем не менее какой-нибудь очень решительный посетитель проник ко мне, положим, подделавши ключ или выломавши дверь. Тут уже мой интерес превращается в положительное право, и я с успехом обращаюсь к содействию общественной власти, по закону обязанной охранять мое жилище от насильственных вторжений. Итак, мой интерес охранен. Какой, однако? Конечно, не интерес моей умственной работы, до которого законной власти как не было, так и продолжает не быт никакого дела. Ведь я мог запереться и для того, чтобы спокойно спать, или для того, чтобы предаваться приятным мечтаниям, или чтобы напиваться водкой без свидетелей, пли чтобы обдумывать в уединении план какого-нибудь адского злодейства, — для закона, охраняющего меня от насильственного вторжения — это решительно все равно. Нельзя же однако допустить, что мой интерес напиваться водкой или обдумывать чудовищное убийство соответствует сам по себе правовой норме и подлежит правовой охране. Ясно, что закон охраняет не какие-нибудь мои интересы, а только один единственный интерес моей свободы: в данном случае впускать или не впускать к себе посетителей. Положим, вместо того, чтобы запирать свою дверь, я из деликатности или из слабохарактерности оставляю ее открытой, но мои друзья, по мнению которых моя работа должна меня прославить и осчастливить человечество, в виду столь важного интереса насильно, против моей воли, запирают мои двери перед посетителями, или, не спросясь меня, гонят их прочь: тут охрана закона обеспечена мне против самих охранителей моего интереса, т. е. закон обеспечивает за мною свободу не защищать моего интереса! Настолько несомненно, что его собственный интерес и норма его действия 'есть только ограждение моей свободы безотносительно к какому бы то ни было определенному интересу.
Ради этого ограждения свободы закон предоставляет известный простор личной безнравственности. Человек, который заперся, чтобы наливаться водкой, может при этом не пустить к себе людей, имеющих в нем крайнюю нужду; такая двойная безнравственность узаконяется: она есть его субъективное право, охраняемое от всякого посягательства правом объективным, или законною властью.
В каких же пределах узаконяется свобода безнравственного
538
поведения, иди в каких пределах безнравственность есть право, и грех не есть преступление? Почему человек, пьянствующий взаперти и отказывающийся удовлетворить нуждающихся в нем ближних — прав, а человек, вламывающийся к этому негодяю — не прав? По-видимому, различие просто: первый, при всей своей негодности, сидит спокойно и никого не трогает, тогда как второй производит наступательное насилие. Значить, закон дозволяет безнравственность страдательную2 и запрещает безнравственность деятельную: закон против нападающего, но и этот принцип не может быв последовательно проведен. Существует преступное бездействие: не только врач или полицейский, но и всякий человек обязан по закону, в известных случаях, оказывать помощь ближним, и кто в этих случаях остается в страдательном положивши, подлежит законной ответственности. Очевидно, отношение между правом и нравственностью слишком сложно для того, чтобы принцип деления исчерпывался здесь одним простым признаком. Попытки установить этот принцип, исходя исключительно из противоположности правовой и нравственной области и пренебрегая их общностью, оказываются неудачными. Остается испробовать обратный путь — от общего к различному.
IV.
Слово человеческое на всех языках непреложно свидетельствует о коренной внутренней связи между правом и нравственностью. Понятие права и соотносительное с ним понятие обязанности настолько входят в область идей нравственных, что прямо могут служить для их выражения. Всякому понятны и никем не будут оспариваться такие этические утверждения: я сознаю свою обязанность воздерживаться от всею постыдного, или — что то же — признаю за человеческим достоинством (в моем лице) право на мое уважение; я обязан по мере сил помогать своим ближним и служит общему благу, то есть мои ближние и целое общество имеют право на мою помощь и службу; наконец, я обя-
_______________________
2 Разумеется, что это различие весьма относительно: твердой границы между страдательным состоянием и деятельным поступком — не существует, не говоря уже о спорной промежуточной области деяний, выражающихся в слове и письме.
539
зан согласовать свою волю с тем, что считаю безусловно высшим, иди — другими словами — это безусловно высшее имеет право на религиозное отношение с моей стороны (отсюда и ее жертвы — главная основа всякого богопочитания).
На всех языках нравственные и юридические понятия выражаются словами или одинаковыми, или производимыми от одного корня. Русское «долг», также как латинское debitum, — откуда французское devoir и английское duty, — а равно и немецкое Schuld, Schuldigkeit, имеют и нравственное и правовое значение; δίκη и δικαιοσύνη, jus и justitia, также как по-русски «право» и «правда», по-немецки Recht и Gerechtigkeit, по-английски right и righteousness, различают эти два значения только приставками (ср. также еврейские цедек и цедака).
Нет такого нравственного отношения, которое не могло бы быть правильно и общепонятно выражено в терминах правовых. Что может быть дальше, по-видимому, от всего юридического, как любовь к врагам? И, однако, если высший нравственный закон обязывает меня любить врагов, то ясно, что мои врага имеют право на мою любовь. Если я им отказываю в любви, то я поступаю неправо или несправедливо, нарушаю правду, или нравственный закон. Вот два термина (правда и закон), в которых одинаково воплощается существенное единство юридического и этического начал. Ибо что такое право, как не выражение правды и как не содержание закона, а с другой стороны, к тому же понятию правды или справеривооти, то есть к тому, что должно или правильно в смысле этическом и что предшюьша,ется нравственным законом, сводятся и все добродетели. Тут дело не в случайной одинаковости терминов, а в существенной однородности самих понятий.
V.
Когда мы говорим о нравственном праве и нравственной обязанности, то тем самым упраздняем с одной стороны всякую мысль о коренной противоположности ши несовместимости нравственного и юридического начала, а с другой стороны указывается и на существенное различие между ними, так как, обозначая какое-нибудь данное право, например, право моего врага на мою любовь, как нравственное, мы подразумеваем, что есть право в бо-
540
лее тесном смысле, которому нравственный характер не принадлежит как его прямое и ближайшее определение. И в самом деле, если мы возьмем с одной стороны мою обязанность любить врагов — с их соответствующим правом на мою любовь, — а с другой стороны возьмем мою обязанность платить в срок по векселю, или мою обязанность не убивать и не грабить моих ближних, — при их соответствующем праве не быть убитыми, ограбленными, или обманутыми, — то между этими двумя родами отношений, из которых второй принадлежит к праву в тесном или собственном смысле, а первый — к чистой нравственности, очевидна важная разница.
Она сводится здесь к трем главным пунктам:
1) Чисто-нравственное требование, как, например, любви к врагам, есть по существу неограниченное или всеобъемлющее, оно предполагает безусловное стремление к нравственному совершенству. Всякое ограничение, принципиально допущенное, противно природе нравственной заповеди и подрывает ее достоинство и значение: кто отказывается в принципе от безусловного идеала, тот отказывается от самой нравственности, покидает нравственную почву. Напротив того, закон собственно-правовой, как ясно во всех случаях его применения, по существу ограничен; вместо совершенства он довольствуется низшею, минимальною степенью нравственного состояния, требует лишь фактической задержки известных крайних проявлений злой воли. Но это ясное и общее различие не есть противоречие, способное вести к реальным столкновениям. С нравственной стороны нельзя отрицать, что требуемое законом точное исполнение долговых обязательств, воздержание от убийств, грабежей и т. п. представляет хотя и элементарное, но все-таки добро, а не зло, и что если мы должны любить врагов, то и подавно должны уважать жизнь и имущество всех наших ближних. Не только нет противоречия между нравственным и юридическим законом, но второй предполагается первым: без исполнения меньшого нельзя исполнит большого, кто неспособен взойти на низшую ступень, тот тем менее в состоянии подняться до высшей; явное и грубое противоречие явилось бы именно при расторжении этой естественной связи, — если бы человек, нарушающий уголовные законы, считал себя достигнувшим нравственного совершенства. А с другой стороны, хотя закон юридический не тре-
541
бует высшего нравственного совершенства, но и не отрицает его и, запрещая кому бы то ни было убивать и мошенничать, он не может да и не имеет надобности мешать кому угодно любить своих врагов; значит и тут нет никакого противоречия. Итак, по этому первому пункту (который в некоторых нравственных учениях ошибочно принимается за единственно важный) отношение между двумя основными началами практической жизни выражается следующим образом: право (то, что требуется юридическим законом) есть низший предел, или некоторый минимум нравственности, равно для всех обязательный.
2) Из неограниченной сущности чисто-нравственных требований вытекает и второе отличие между ними и нормами правовыми. А именно: высшие нравственные заповеди не предписывают заранее никаких внешних определенных действий, а предоставляют самому идеальному настроению выразиться в соответствующих действиях применительно к данному положению, при чем эти действия сами по себе нравственной цены не имеют и никак не исчерпывают нравственного требования, которое остается бесконечным. Напротив того, юридический закон имеет своим предметом реально определенные внешние действия, совершением или задержанием которых этот закон удовлетворяется вполне. Но и в этой противоположности нет никакого противоречия: нравственное настроение не только не исключает внешних поступков, но естественно в них выражается, хотя и не исчерпывается ими, — а юридическое предписание или запрещение определенных действий предполагает одобрение или осуждение соответствующих внутренних состояний. И нравственный и юридический закон относятся собственно к внутреннему существу человека, к его воле, но первый берет эту волю в ее общности и всецелости, а второй лишь в ее частичной реализации но отношению к известным внешним фактам, составляющим собственный интерес права, каковы неприкосновенность жизни и имущества всякого человека и т. д. С точки зрения юридической важно именно реальное отношение должной воли к этим предметам, выраженное в совершении или задержании известных деяний. Это есть второй существенный признак права, и если оно первоначально определилось как известный минимум нравственности, то, дополняя это определение, мы можем теперь сказать, что право есть требование непременной реа-
542
лизации этого наименьшего нравственного содержания, то есть существенная цель права есть обеспеченное осуществление в действительности определенного минимального добра, или — что то же — действительное устранение известной доли зла, тогда как интерес собственно-нравственный относится прямым образом не к внешней реализации добра, а к его внутреннему существованию в сердце человеческом. Так как, вообще говоря, небольшое, но действительно осуществленное добро предпочтительнее самого великого и совершенного, но реально не существующего (пословица о журавле и синице), то минимальное, но упроченное на деле содержание добра в области права не есть что-нибудь для нее предосудительное или унизительное.
3) Через это второе различие проистекает и третье. Требование нравственного совершенства, как внутреннего состояния, предполагает свободное или добровольное исполнение, — всякое принуждение не только физическое, но и психологическое, здесь по существу дела и нежелательно и невозможно; напротив, внешнее осуществление известного закономерного порядка или определенных условий некоторого относительного добра по природе дела вполне допускает прямое или косвенное принуждение, и поскольку здесь собственною или ближайшею целью полагается именно реализация, объективное бытие известного блага, — например общественной безопасности, — постольку принудительный характер закона становится необходимостью, так как одним словесным убеждением, очевидно, нельзя сразу прекратить все убийства, обманы и т. д.
VI.
Соединяя вместе указанные три признака, мы получаем следующее определение права в его объективном отношении к нравственности: право есть принудительное требование реализации определенного минимального добра, или такого порядка, который не допускает известных крайних проявлений зла.
Теперь спрашивается: на чем окончательно основано такое требование и совместим ли этот принудительный порядок с порядком чисто-нравственным, который, по-видимому, самым существом своим исключает всякое принуждение. Если совершенное добро утверждается в сознании как безусловный идеал, то не сле-
543
дует ли предоставить каждому своборо реализировать его в меру своих возможностей? Зачем возводить в закон принудительный минимум нравственности, когда совесть требует свободно исполнят максимум добра? Зачем с управою объявлять: де убей, — когда следует кротко внушать: не гневайся?
Здесь субъективное нравственное сознание некоторых принимается за осуществление нравственного отношения между всеми, и формальное условие совершенной нравственности (безусловная свобода) смешивается с содержанием всякой нравственности вообще. Не ясно ли, однако, что закон, запрещающий убийство, нисколько не касается тех, кто по совести признает непозволительным не только убивать, но и гневаться, и что с другой стороны было бы весьма неуместно предполагать высокую степень свободной добродетели, или ближайшую способность к ней в человеке, решившемся умертвить своих почтенных родителей для завладения их имуществом. Юридический закон относится лишь к тем, кто в состоянии его нарушит. Добро, как такое, должно быть безусловно свободно, — это вне вопроса. Вопрос только в свободе зла; мы утверждаем свободу и за ним, но только с некоторыми ограничениями, которые требуются разумом.
Без личной свободы невозможно человеческое достоинство и высшее нравственное развитие. Но человек не может существовать, а следовательно и развивать свою свободу и нравственность, иначе, как в обществе. Итак, тот самый чисто-нравственный интерес, который требует личной свободы, оп же тем самым требует, чтобы личная свобода не противоречила условиям существования общества. Для этого, то есть для согласования личной свободы с общественным самосохранением, не может служить безусловный идеал нравственного совершенства, поставленный отвлеченно, как цель свободных единичных усилий, ибо он, спасая и совершенствуя признающих его, для не признающих его лишен всякого действительного значения, ибо во имя его от них требуют самого большого — любви к врагам, но не могут в самом деле дать им и самого малого, — хотя бы заставить их воздерживаться от убийств и грабежей. И если прямолинейный моралист скажет: не нужно нам воздержания от злодейств, когда оно недобровольно, то он обнаружит только крайний эгоизм, забывая, что его ходульное требование свободной добродетели от убийцы
544
не вернет жизни убитому, да и самому убийце не поможет сделаться хотя бы только порядочным человеком.
Высокая степень добра в человеке измеряется не столько высотою предъявляемых им требований, сколько его собственными нравственными состояниями. Добро не исчерпывается одним формальным принципом нравственной свободы, или самозаконности, а имеет определенное психологическое содержание, несовместимое, между прочим, с эгоистическим бесстрастием, или равнодушием к страданиям ближних. В полное понятие нравственного добра непременно входит признак альтруизма с требованием соответствующего дела, то есть сочувствие к бедствиям других, побуждающее деятельно избавлять их от зла, а потому нравственная обязанность никак не может ограничиваться одним сознанием и возвещением совершенного идеала при отрицании реальных условий его достижения. По естественному ходу вещей, который от добрых слов не может измениться, — пока одни стали бы добровольно стремиться к высшему идеалу и совершенствоваться в бесстрастии, другие беспрепятственно упражнялись бы в совершении всевозможных злодейств и, конечно, истребили бы первых прежде, чем те могли бы действительно достигнуть нравственного совершенства. Да и независимо от этого, если бы даже люди доброй воли были каким-нибудь чудом охранены от истребления со стороны худших людей, сами эти добрые люди оказались бы, очевидно, недостаточно добрыми, если бы могли предлагать только хорошие слова своим терзающим друг друга худшим собратьям.
Цель нравственного закона та, чтобы человек жив был им, а живет человек только в обществе. Существование же общества зависит не от совершенства некоторых, а от безопасности всех. Эта безопасность, не обеспеченная законом нравственным самим по себе, к которому глухи люди с преобладающими противообщественными инстинктами, ограждается законом принудительным, который ощутителен и для них. Отвергать его, ссылаясь на благодатную силу Привидения, долженствующую удерживать и вразумлять злодеев и безумцев, есть не более как кощунство: нечестиво возлагать па Божество то, что может быть сделано хорошею полицией.
Итак, нравственный принцип требует, чтобы люди свободно совершенствовались; для этого необходимо существование общества;
545
но общество не может существовать, если всякому желающему предоставляется беспрепятственно убивать и увечить своих ближних; следовательно, принудительный закон, действительно не допускающий злую волю до таких крайних проявлений, разрушающих общество, есть необходимое условие нравственного совершенствования и в этом качестве требуется самим нравственным началом, хотя и не есть его прямое выражение.
Положим, высшая нравственность (с аскетической своей стороны) внушает нам равнодушие к тому, что нас ограбят, искалечат, убьют; но та же нравственность (с альтруистической стороны) не позволяет нам быть равнодушными к тому, чтобы наши ближние беспрепятственно становились убийцами и убиенными, грабителями и ограбленными, и чтобы общество, без которого и единичный человек не может жить и совершенствоваться, подвергалось опасности разрушения. Такое равнодушие было бы явным признаком нравственной смерти.
Требование личной свободы предполагает — для собственного своего осуществления —стеснение свободы в той мере, в какой сна при данном состоянии человечества несовместима с бытием общества или общим благом. Эти два интереса — индивидуальной свободы и общественного благосостояния, — противоположные для отвлеченной мысли, но одинаково обязательные нравственно, в действительности сходятся между собою. Из их встречи рождается право.
VII.
Правовое начало может рассматриваться отвлеченно, в нормальной воле субъекта, и тогда оно есть лишь прямое выражение справедливости: я утверждаю мою свободу, как право, поскольку уважаю свободу других, как их право. Но понятие права по самой своей природе заключает в себе, как мы видели, элемент объективный, или требование реализации: необходимо, чтобы право всегда имело силу осуществляться, то есть, чтобы свобода других, независимо от моего субъективного ее признания, или от моей личной справедливости, всегда могла на деле ограничивать мою свободу в равных пределах со всеми. Это требование справедливости принудительной, составляющее окончательный существенный признак права, коренится всецело в идее общего блага или общественного
546
интереса, которая сама вытекает из чисто-нравственного интереса — реализации добра, или требования, чтобы справедливость непременно становилась действительным фактом, а не оставалась только субъективным понятием, ибо только фактическое ее бытие соответствует принципу альтруизма, или удовлетворяет основное нравственное чувство жалости. Мера и способы этой правовой реализации добра зависят, конечно, от состояния нравственного сознания в данном обществе и от других исторических условий. Таким образом, право естественное необходимо есть вместе с тем и право положительное, и с этой стороны может выражаться в такой формуле: право есть исторически-подвижное определение принудительного равновесия между двумя нравственными интересами: формально-нравственным интересом личной свободы и материально- нравственным интересом общего блага.
Личность прямо заинтересована в своей свободе, общество прямо заинтересовано в своей безопасности и благосостоянии, но право и правовое государство заинтересовано прямо не в этом, а только в рациональном равновесии этих эмпирически-противоположных интересов. Именно равновесие есть отличительный специфический характер права. Было бы вполне ошибочно полагать задачей правового закона материальное уравнение частных интересов. Если бы такое уравнение и было вообще для чего-нибудь нужно, то во всяком случае праву до него не может быть никакого дела. Оно заинтересовано только должным отношением между двумя главными, принципиальными пределами человеческой жизни: свободою лица и благом общества, — и ограничиваясь этим, не внося своего принудительного элемента в более тесную и сложную область частных отношений, не затрагивающих ни того ни другого предела, право лучше всего согласуется с самою нравственностью. Ибо человек должен достигать нравственных вершин свободно, а для этого нужен простор снизу, нужна некоторая свобода быть безнравственным. Право в известной мере обеспечивает за ним эту свободу, нисколько, впрочем, не склоняя пользоваться ею. Если бы кредитор це имел принудительного права взыскивать свои деньги с должника, то он не имел бы и возможности свободным нравственным актом отказаться от этого права и простить бедному человеку его долг. С другой стороны, только гарантия принудительного исполнения свободно принятого обязательства сохраня-
547
ет для должника свободу и равноправность по отношению к кредитору: он зависит., как и тот, от своего решения и от общего закона. Интерес личной свободы совпадает здесь с интересом общего блага, так как без обеспечности свободных договоров не может существовать правильное общежитие.
Еще яснее совпадение обоих нравственных интересов в области права уголовного. Свобода каждого человека, или его естественное право жить, действовать и совершенствоваться было бы, очевидно, лишь пустым словом, если бы осуществление этого права зависело от произвола всякого другого человека, которому захочется убить или изувечить своего ближнего, или отнять у него средства к существованию. И если я имею естественное право отстаивать принудительными мерами свою свободу и безопасность от посягательств чужой злой воли, то отстаивать против нее других теми же мерами есть моя прямая нравственная обязанность. Эта общая всем обязанность и исполняется публичным правом уголовным, снабженным всеми необходимыми для этого средствами.
Но ограждая свободу мирных людей, уголовное право оставляет достаточный простор и для действия злой воли и не принуждает никого быть добродетельным. Злобный и страстный человек может, если хочет, проявлять свою злобу в приватном злословии, интригах, клеветах, ссорах, а свои дурные страсти — в пьянстве, азартной игре, охоте, распутстве и т. д. Только тогда, когда злая воля посягает на объективные, публично признанные нормы человеческих отношений, грозит безопасности самого общежития. Тогда только интерес общего блага, совпадающий с интересом мирных людей, должен принудительно ограничить свободу преступника. Право в интересе свободы дозволяет людям быть дурными, не вмешивается в их вольный выбор между добром и злом: оно только в интересе общего блага препятствует дурному человеку пребывать торжествующим злодеем, опасным для самого существования общества. Задача права вовсе не в том, чтобы лежащий во зле мир обратился в Царствие Божие, а только в том, чтобы он до времени не превратился в ад.
VIII.
В области уголовного (как и гражданского) права свобода лица ограничивается не частными или субъективными интересами других
548
данных лиц, а объективными нормами общего блага. Многие чувствительные и самолюбивые люди согласились бы скорее быть ограбленными или даже изувеченными, нежели подвергаться беспощадному злословию и клевете. А потому если бы право имело в виду ограждение частного интереса, как такого, то оно должно бы было в этих случаях ограничивать свободу клеветников и ругателей еще более, нежели свободу грабителей и насильников. Но оно этого не делает, потому что для безопасности общества словесные обиды не так важны и не показывают такую угрожающую степень развития злой воли, как посягательства на телесную и имущественную неприкосновенность ближних. Если бы даже было намерение, то не было бы возможности для закона принимать во внимание все формы и оттенки индивидуальной чувствительности к обидам. Да это было бы и несправедливо, ибо никак нельзя доказать, что обидчик имел в виду причинить именно ту высокую степень страдания, которая оказалась на деле. Право как общая норма может руководствоваться только определенными намерениями и объективными деяниями, допускающими общедоступную проверку. При личных обидах, не подлежащих уголовной ответственности, обиженному предоставляется, если он хочет, мстить обидчику теми же дурными средствами — его свобода зла уважается здесь так же, как и свобода зла его противника: а если он нравственно выше того и не считает мщение для себя позволительным, то он все равно не обратился бы к внешнему закону, несмотря на всю свою чувствительность к обиде; и если он отказывается от мщения, тем лучше для него, да и для общества, которому предоставляется свободно высказать свое нравственное суждение. Для юридической оценки важна не злая воля сама по себе и не результат деяния сам по себе, который может быть и случайным, а только связь намерения с результатом, или степень устойчивости и последовательности злой воли в реальном деянии, так как эта степень реализации и соответствующая степень опасности для общества подлежат объективному определению. Так, в случае преднамеренного убийства, совершившегося, или же хотя и остановленного, но по независящим от преступника обстоятельствам, ясно, что в этом человеке злая воля способна к такой реализации, которая несовместима с общественною безопасностью и с личною свободой и которая вызывает против себя принудительное действие уголовной юстиции. Объект
549
права в этой области есть не злая воля, а воля преступная. Первая направлена против субъективного блага частных лиц, и ее действие свободно; вторая направлена против объективных норм общежития и не может быть свободна иначе, как с разрушением общества, а пока общество существует, нарушенные нормы его существования должны быть восстановляемы чрез противодействие полномочного закона преступным посягательством. Это законное противодействие преступлениям составляет собственный предмет уголовного нрава. Здесь и основной вопрос о связи нравственности и права выступает с особенною яркостью, при чем различные его решения обнаруживают все свои сильные и слабые стороны, и вместе с тем возникают некоторые новые вопросы, имеющие важный интерес и теоретический и практический.
550
ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Уголовное право. Его генезис. Критика теорий возмездия и устрашения.
I.
Всякое действительное! общество определяется в своей жизни известными нормами — политическими, гражданскими, полицейскими, экономическими и т. д., — установленными по существу (если и не по времени) первее уголовного права. По достаточно точной формуле (которую можно найти в лекциях проф. Н. С. Таганцева) преступление есть посягательство на какую-нибудь из этих норм в ее реальном бытии. Сами эти нормы имеют свое положительное основание вне уголовного права, не оно их создало, не оно произвело известный образ правления, не оно причина данного административного устройства, не из него вышло право собственности и порядок перехода имуществ, не им, наконец, определяются необходимые меры благочиния. Но когда против этих уже присущих общественной жизни норм совершается посягательство, то общество, представляемое своею законною властью, реагирует против правонарушения, как здоровый организм против болезнетворных элементов, и эта-то законная реакция и образует уголовное право. Не всякая реакция против нарушения общественных норм имеет такое значение. Когда толпа разрывает преступника на части, или самочинным судом приговаривает его к виселице, подобное беззаконное проявление слепых общественных инстинктов может быт лишь одним из объектов уголовного права, а никак не его образующим началом. Правовая уголовная реакция может совершаться лишь по общему закону и заранее предустановленным обра-
551
зом. Этим предполагается двоякого рода определенность: во-первых, должно быть точно определено, какие именно деяния признаются недопустимыми посягательствами на жизненные нормы общества, или, другими словами, какие именно нормы подлежат принудительному правовому охранению. — так как многие и по существу весьма важные практические нормы, как то бытовые, чисто-нравственные, а в большинстве стран и религиозные, признаются делом внутреннего душевного интереса и свободного личного выбора и потому не подлежат принудительной юридической охране, — а во- вторых, необходимо должны быть определены мера и способ законной реакции, вызываемой каждым посягательством на охраненную норму. Короче говоря, уголовное право имеет своим предметом: 1) определение преступлений и 2) определение наказаний. Основания таких определений исследуются и оцениваются наукою уголовного права, Философская часть этой науки, занимающаяся окончательными принципиальными основаниями таких определений, или исследований самих понятий преступления и наказания в их внутренней сущности, — эта философия уголовного права, будучи с одной стороны частью, или, пожалуй, надстройкою уголовно-юридической науки, с другой стороны как важнейший отдел «философии права» входит в круг философских учений, теснейшим образом примыкая здесь к нравственной философии, или этике.
II.
В первичном и простейшем виде общественности — родовом быте — жизненные нормы вытекают из кровавой связи между членами данной группы и охраняются законом кровавой места. Здесь корни права скрываются в глубокой почве природных инстинктивных отношений, еще очень близких к явлениям царства животного. Зверь, на которого нападает другой с тем, чтобы его пожрать, но чувству самосохранения защищается зубами, рогами и когтями, насколько хватает силы. Никто не станет искать здесь нравственных побуждений так же, как и в физической самозащите человека, у которого скудные от природы средства нападения и обороны дополняются или заменяются искусственным оружием. Но дикий человек (и это еще не составляет его отличия от многих существ низшей природы) не живет обыкновенно в
552
одиночку, а принадлежит к какой-нибудь социальной группе — роду, клану, шайке. Поэтому, при встрече его с врагом, дело не кончается результатом единоборства. Убийство или другая обида, понесенная одним из членов группы, ощущается всего, ее совокупностью и вызывает общее чувство мстительности. Поскольку сюда входит сострадание к потерпевшему, здесь должно признать присутствие нравственного элемента, но преобладает в этой реакции на обиду, конечно, инстинкт собирательного самосохранения, как у пчел или других общественных животных: обороняя своего, род или класс обороняет себя; мстя за своего, он мстит за себя. Но и обидчика по тому же побуждению защищает его род или клан. Единичные столкновения переходят, таким образом, в войну целых обществ. Об этой стадии общественных отношений осталась бессмертная память, благодаря гомерической поэзии, которая увековечила десятилетнюю войну, возникшую из частной обиды одного родового вождя другим. История арабов до Мухаммеда вся полна такими войнами. Тем же полна и старина западных пародов: «Умерщвлен был твой прадед, отомщен был, и за кровь пролита была, кровь, и убийство сменялось убийством, и убийство совершалось вновь». В некоторых уединенных уголках Европы (Черногория, Корсика) такой порядок господствовал, как известно, до очень недавнего времени. Понятия преступления и наказания на этой стадии общежития не выделились еще из общего представления обиды и вражды, а наказание, очевидно, совпадает с местью. Обидчик есть враг, которому мстят. Место позднейшей уголовной юстиции всецело занято здесь общепризнанным и безусловно обязательным обычаем кровавого мщения. Это относится, конечно, к обидам между членами различных родов или кланов. Но другого рода обиды здесь вообще и не предусматриваются. Связь тесной родовой группы, спаянная первоначальною религией, слишком крепка, и авторитет патриархальной власти слишком внушителен, чтобы отдельное лицо решилось против них восстать; это почти также невероятно, как столкновение отдельной пчелы с целым ульем. Конечно, человек и в родовом быту все-таки не пчела, он и здесь уже обладает способностью к личному самоутверждению и произволу, что и. проявлялось в отдельных редких случаях, но эти исключительные проявления и подавлялись исключительными действиями
553
патриархальной власти, не вызывая общих мер. Когда же вследствие соединения разных условий личное начало усиливается, и его носители получают возможность стоят за себя и действовать на других, тогда наступает начало конца для родового быта, и совершается переход к быту государственному.
Представитель личного героизма делается средоточием новой общественной группировки; многие роды и племена по тем или другим побуждениям, или принудительным обстоятельствам собираются постоянным образом вокруг этого героя, как общего вождя с более иди менее организованною властью, при чем упраздняется самостоятельность отдельных родов и колен и отменяется обычный закон родовой кровавой мести.
III.
Истинная сущность государства, его внутренние начала и цели представляют вопрос очень сложный и трудный, и нельзя удивляться, что различные философские учения бьются над ним в наши дни не менее, чем во времена софистов и Сократа. Но довольно любопытно, что философы и юристы, помимо этого, более или менее метафизического вопроса о сущности и цели политического союза, постоянно строили априорные теории о самом фактическом происхождении государства, как будто все действительные государства возникли в какие-нибудь неведомые, бесследно исчезнувшие времена. Но что еще было позволительно — по несовершенному состоянию исторической науки — для Гоббса, или даже для Руссо, то со стороны современных мыслителей не имеет оправдания.
Родовой быт, который так или иначе пережили все народы, не есть сам по себе что-нибудь загадочное; род есть прямая организация определенной кровной связи. Вопрос, значит, относится к переходу от родового быта к государственному, а это уже мажет быть предметом исторического (ретроспективного) наблюдения, более полного и связного, чем, например, наблюдения палентологические. Достаточно вспомнить совершившееся на глазах истории превращение разрозненных родов и племен северной Аравии в плотное и могучее государство Мухаммеда и халифов. Теократический характер этого царства не есть что-нибудь особенное:
554
таковы же были в большей или меньшей степени и все прочие значительные государства старых времен. Вообще государственность в простейшем виде зачинается так: превосходящий других индивидуальными силами и способностями член рода, переросший низкий уровень родового быта и недовольный его тесными границами, чувствуя овце историческое призвание дат ближним более, широкую и совершенную форму жизненного единства, а вместе с тем принуждаемый личными обстоятельствами и внешними событиями, отделяется от своего рода (сначала внутренне, а потом и наружно) и притягивает к себе подходящих людей из разных родов или колен, образуя с этою своею дружиной некоторое междуродовое или междуплеменное ядро, вокруг которого затем добровольно, или же принудительно собираются целые роды и племена, получая от вновь образовавшейся верховной власти законы и управление и теряя в большей или меньшей степени свою родовую самостоятельность. Когда в какой-нибудь общественной группе мы находим единое организованное правительство с центральною верховною властью, постоянное войско, финансы, основанные на податях и налогах, наконец законы, снабженные уголовною санкцией, то мы в такой группе узнаем подлинный характер государства. Все исчисленные признаки были на лицо в мусульманской общине уже в последние годы жизни Мухаммеда. Замечательно, что история первоначального образования этого государства связана отчасти с идеей общественного контракта (хотя по существу весьма далекого от представлений Руссо): все главные шаги Мухаммеда в его историческом деле обозначены формальными договорами, начиная с так называемой «клятвы женщин» и кончая последними условиями, которые он заключил в Мекке после своей окончательной победы над корейшитами и их союзниками. Заметим также, что во всех этих договорах основной пункт есть отмена кровавой мести между родами и племенами, входящими в новый политический союз.
IV.
С основанием государства возникает не существовавшее прежде различие между публичным и частным правом, особенно ясно в области права уголовного. При родовом быте в законе кровавой мести, как и в других важнейших отношениях интересы соби-
555
рательной группы и отдельного лица были непосредственно солидарны, тем более, что в небольшом общественном целом, как род или клан, все или по крайней мере большая часть сочленов должны были лично знать друг друга, так что каждый для всех и все для каждого представляли, вообще говоря, реальную величину. Но когда с образованием государства общественная группа обнимает собою сотни тысяч и даже миллионы людей, такое личное реальное отношение между частями и целым становится невозможным: является более или менее ясное различие между общими интересами и частными, и между соответственными областями права, при чем к частному праву (вопреки нашим теперешним юридическим понятиям) относятся обыкновенно на этой стадии развития и такие дела, как убийства, грабеж, тяжкое, увечье. В родовом быте все подобные обиды считались затрагивающими прямо общий интерес, и целый род мстил за них обидчику и его родичам. С образованием более широкого политического союза это право кровавой мести, отнятое у рода для прекращения возникавших отсюда бесконечных войн, не перешло однако в прежней силе и прежнем объеме к государству. Новая общая власть, от которой исходят законы, суд и управление, не может сразу войти до такой степени в основные интересы всех своих многочисленных подданных, чтобы защищать их как свои собственные; глава государства не может чувствовать и действовать как старейшина рода; и вот мы видим, что в защите частных лиц и имуществ не только дела об увечье или ином насилии, но и об убийстве свободного человека разрешаются сделкою сторон (compositio), — убийца или его домашние платят семье убитого денежную пеню (вира). Перечислением таких штрафов, различных смотря по полу, состоянию лица и другим обстоятельствам, наполнены, как известно, все те старинные уставы или уложения, которые именно представляют собою памятники только что впервые сложившегося в данном народе государственного быта.
На этой стадии развития государственности все нарушения телесной и имущественной неприкосновенности частных лиц рассматриваются собственно не как преступления, а как личные ссоры, за правильным исходом которых надзирает публичная власть. Собственно уголовный характер усвояется только прямым посягательствам на основы общественного порядка, т. е. таким пра-
556
вонарушениям, которые доныне выделяются в особый вид под названием преступлений политических. Различие это сохраняется через всю историю, только оценка его, а также и сажи объем понятия изменяются сообразно историческим условиям. В средние века, когда значение личной безопасности для нормального общежития, публичный интерес в противодействии всякому убийству и, следовательно, уголовный характер этого деяния еще не вполне выяснились для юридического сознания, умерщвленье человека казалось государству делом гораздо менее, важным, нежели всякое нарушение фискальных интересов, и в, то время, как большая часть убийц гуляли на свободе, подделка монеты влекла за собою мучительную смертную казнь, как преступление вредное для целого общества, посягающего на привилегию государственной власти и потому уголовно-политическое.
Элементарное противоположение между публичным и частным правом, выразившееся в преобладании «композиций», не могло быть устойчивым. Денежный штраф за всякую обиду частного лица не удовлетворяет потерпевшую сторону (например, семью убитого) и не воздерживает обидчика, особенно если он богат, от дальнейших злодеяний. При таких условиях кровавая месть за личные обиды, отмененная государством, как противная ого существу, возобновляется фактически и грозит отнять у государственного строя самую причину его существования: когда каждому приходится мстить за свои обиды, то за что же он будет нести тягости, налагаемые государственным бытом? Чтобы' оправдать свои требования от частных лиц, государство должно превратить его в публичное, то есть принять на себя его исполнение. На этой новой стадии солидарность государственной власти с отдельными подчиненными ей лицами проявляется полнее, и хотя различие между преступлениями, прямо направленными претив самой власти — политическими — и простыми, от которых непосредственно страдают только частные интересы, еще сохраняется, но лишь по степени важности, а не по существу. Всякий поданный становится членом самого государства, сполна принимающего на себя задачу охранять его безопасность: всякое ее нарушение рассматривается государственною властью как посягательство на ее собственное право, как враждебное действие против общественного целого. Все произвольные насилия против личности и имущества кого бы то ни было принимаются уже не за част-
557
ные обиды, а за нарушение государственного закона, и потому наравне с преступлениями политическими подлежат кровавому отмщению самого государства.
V.
Итак, несмотря на все перемены, вызванные образованием, укреплением и расширением государственного строя, господствующие понятия преступления и наказания в сущности оставались одни и те же от первобытных времен и до половины XVIII или начала XIX века (а отчасти и наших дней). Преступление понималось как обида, или враждебное действие, требующее отплаты, преступник был враг, и наказание — кровавая месть. Сначала истинным объектом обиды, а следовательно и мстителем был род, а затем, после временного и неустойчивого переходного момента денежных композиций, его заменило государство. Наглядная разница была здесь та, что в родовом быту самый акт мести совершался просто, — обидчика или солидарного с ним его родича обыкновенно при первом случае убивали как собаку, — но последствия были очень сложны в виде нескончаемых войн между племенами; в государственном же быту напротив самый акт отмщения, принятый на себя государством, чрезвычайно осложняется, превращаясь в целый уголовный процесс, заключающий в себе особые ряды актов (предварительное следствие, обвинительный акт, судебное следствие, судоговорение, совещание, приговор, исполнение приговора) с пересмотром и повторением некоторых из них (апелляция, кассация), но никаких дальнейших сложных последствий за собою уже не влечет: ибо за частным лицом преступника, подвергшегося этому медленному мщению, нет нового достаточно сильного мстителя, — он беззащитен перед государственным могуществом.
Но кроме этой внешней разницы внутреннее отношение человеческого сознания к преступлению, оставаясь в своей нравственной и практической сущности тем же, подверглось однако важному теоретическому изменению. Преступника продолжают понимать как врага, — врага данного общества; но прежде это его качество всецело и окончательно определялось объективною стороной совершенного им деяния: он это сделал, его нужно истребить. О его собственном личном отношении к совершившемуся не ставилось вопроса. Произошло ли дело случайно, в припадке сумасшествия, или по сла-
558
боумию — это все равно, важен был объективный факт и внешняя фактическая связь с ним данного существа. Личная, субъективная сторона имела тут так мало значения, что ее могло вовсе не быть, преступник мог быть вовсе не лицом, т. е. не человеком: еще в средние века в употреблении были уголовные процессы над животными.
Этот чисто-внешний взгляд, который мы будет называть диким, хотя никогда не был безусловно единственным в этой области, однако долгое время он несомненно был преобладающим. Постепенно с углублением сознания в пределах того же практического отношения к делу теоретически вырабатывалась другая и отчасти противоположная точка зрения. Преступление, по-прежнему понимаемое вообще как враждебное действие или обида, разлагается умственно на свои элементы, при чем особенно выделяется сторона субъективная, или личная, прежде оставшаяся совершенно в тени. Теперь преступление интересует главным образам как проявление враждебной нормальному общежитию, противозаконной злой воли данного лица. Преступник не есть уже нераздельная часть злого факта, он есть причина или виновник этого факта, и наказание не есть фактическое кровавое искупление совершившегося беззакония, а воздаяние за вину, за обнаружившуюся злую волю. Эта злая воля признается здесь единственною, вполне эквивалентною причиной преступления, что иреролагает безусловную свободу выбора, liberum arbitrium indufferentiae, а соответственно этому и наказание представляется с таким же формально-безусловным характером равномерного возмездия: ты убил, — ты должен быть убит.
Эта «абсолютная» теория преступления и наказания, — которую мы назовем варварской, — если ее рассматривать согласно ее собственным требованиям, именно как абсолютную и окончательную, представляет одну из самых поразительных диковинок в богатой кунсткамере человеческих заблуждений. Поразительно в самом деле, как здесь нелепое положение (что злая воля данного отдельного лица, или эмпирического субъекта есть полная причина каждого отдельного преступления) опирается на сугубо нелепом предположении (о безусловной свободе выбора), и затем делается отсюда еще более нелепый вывод (о наказании, как равномерном воздаянии). Однако эта теория, связанная с аберрациями таких великих умов, как Кант и Гегель, некогда почти нераздельно господство-
559
вала в уголовном праве и даже ныне еще имеет нескольких почтенных защитников. Мы должны поэтому на ней остановиться.
VI.
Уголовно-правовая теория безусловной вины и равномерного возмездия при всех своих утонченностях выросла на почве самых ребяческих представлений и есть только трансформация первобытного дикого взгляда. Там понятие безусловной или полной виновности отдельного преступника хотя не выделялось в своих субъективных моментах, однако несомненно присутствовало. Когда средневековые дикари судили и казнили животных, они, очевидно, считали их вполне виновными, приписывая им свободную злую волю, как и теперь, когда младенец ушибется о деревянную скамейку, он считает ее вполне ответственною за свой ушиб и старается подвергнуть ее равному воздаянию. И в известном смысле и до известной степени и дикарь и младенец, конечно, правы: ведь корова, забодавшая человека, без сомнения, была причиной этого несчастия, она сама его бодала, без нея, и не явись у нея вдруг такого дурного стремления в эту минуту, печальное событие совсем не произошло бы, конечно это ее дело; точно также деревянная скамейка, несомненно, есть причина ушиба; твердость, жесткость и неуступчивость суть собственные свойства дерева., из которого она сделана, и не стой она здесь, ушиба не произошло бы. Заблуждение дикаря и младенца заключается только в том, что частную причину, или. что то же, част причины, они принимают за целую и хотят воздействовать на нее в этом смысле. Но не разделяют ли этого заблуждения и философские защитники абсолютной уголовной теории? Какова бы ни была вообще разница между личною человеческою волей с одной стороны и стремлениями животного, или физическими силами, принадлежащими деревянному предмету — с другой, но в том отношении, о котором идет речь, между ними никакой существенной разницы быть не может: человеческая воля, так же как и те силы, есть причина обусловленных ею явлений и так же, как оне, она не есть единственная, вполне достаточная и безусловная причина происходящих посредством нея событий; способ ее действия представлярт особую разновидность частных причинных отношений, но значение всецелой и безусловной причины чего бы то ни было.
560
так же мало принадлежит наблюдаемым актам человеческой воли, как и душевным аффектам животного или силе тяжести неодушевленных тел. Утверждать противное значит отрицать связь всего существующого и единство абсолютного начала, а равно и основной логический закон достаточного основания, без которого невозможно ни рациональное мышление, ни закономерный ход явлений. Безусловная свобода воли, выбирающей что-нибудь без достаточного основания, если и возможна, то лишь в иррациональных и мистических глубинах бытия, це касающихся той реальной жизненной поверхности, с которою имеет дело уголовное право.
По представлению индетерминистов, смешивающих разнородные точки зрения, воля каждого отдельного человека есть бездна с неведомым содержанием, из которой ежеминутно выскакивают совершенно непредвиденные поступки. Каково бы ни было это представление само по себе, легко заметить, что оно не только отнимает основание у теории возмездия, ради которой оно создано, но упраздняет вообще важное понятие вменения поступков, или виновности, хотя бы относительной. Кто собственно виноват, кого судить с этой точки зрения? Бездну, т. е. саму волю? Но за что же, кода ее содержание неведомо и беспредельно, и на один дурной сюрприз, из нее выскочивший, может быть в ней найдется бесконечное число самых превосходных? Или же самый этот неожиданный поступок? Но ведь он по этой теории никакой необходимой связи с произведшею его волей не имеет, она свободна как была; этот поступок выражал не ее самое и не что-нибудь постоянное в ней, а только ту минуту, которая его произвела, он был и /его больше нет, и судить уже некого3.
Понятие безусловной вины или виновности, несомненно, опирается на свидетельство внутреннего сознания или совести, но оно всецело имеет чисто-нравственный характер и переносить его прямо в уголовную юстицию — значит непозволительным образом смешивать ре области вместо того, чтобы установить между ними нормальную органическую связь. Совесть упрекает человека за его нравственную негодность вообще и за всякие проявление этой негодности в частности, но если это есть основание уголовной ответственности, то человека следовало бы казнить всякий раз, как он
__________________________
3 См. ниже «О свободе воли».
561
испытывает на деле свою нравственную негодность, но тогда все человечество было бы уже давно переказнено. А как только делают различение, то уже становятся на почву относительности и условности и лишают себя всякого права обращаться опять к безусловной вине и возмездию. Безотносительная виновность каждого и всех во всем, о которой говорит нам совесть, есть нечто для ума загадочное, а связь этой безусловной виновности с относительными делами и судьбой людей, если подлежит какому-нибудь суду, то, конечно, лишь абсолютному, Божественному, и вмешательство в него человеческой юстиции есть и нечестие и безумие.
Кроме субъективного элемента преступления: безусловной виновности преступника, теория равномерного возмездия опирается в свою пользу и на объективный элемент — нарушенное право, с помощью отвлеченных рассуждений, которые по своей крайней несостоятельности будут, конечно, предметом изумления и глумления для потомства, подобно тому, как мы удивляемся аргументам Аристотеля в пользу рабства или некоторых церковных писателей в пользу плоской фигуры земли. Так как эти аргументы еще повторяются в разных вариантах, то приходится повторять и их опровержение.
VII.
«Преступление есть нарушение права в лице потерпевшего; право должно быть восстановлено; наказание как обратное и равномерное нарушение права в лице преступника, совершенное в силу определенного закона публичною властью, покрывает первое нарушение и таким образом восстановляется нарушенное правовое состояние». Понятие восстановления нарушенного права имеет ясный и справедливый смысл, когда дело идет о правонарушениях количественных, т. е. таких, которые пли прямо выражаются в известной величине материальных ущербов, или могут быть с некоторою точностью переведены на числовые выражения; так, если кто-нибудь без достаточного основания прямо присвоил себе принадлежащую другому сумму денег, или вырубил в чужом лесу известное количество деревьев, или самовольно напечатал и продал в свою пользу известное количество экземпляров принадлежащего другому лицу сочинения, или неисполнением каких-нибудь обязательств расстроил вверенные ему чужие дела и т. и. — во всех
562
этих случаях взыскание соответствующей денежной суммы с одного в пользу другого есть несомненное восстановление (restitutio) нарушенного права. Но перенесение этого понятия из области имущественных правонарушений в область уголовных злодеяний приводит к игре словами, которую можно было бы назвать пустым ребячеством, если бы она не была вместе с тем и игрой человеческими головами.
Действительное право есть всегда чье-нибудь, должен быть субъект права. О чьем же праве идет речь при нарушениях и восстановлениях уголовных? Сперва как будто о праве потерпевшего лица. Подставим же это действительное содержание под отвлеченный термин. Мирный пастух Авель имеет право существовать и наслаждаться всеми радостями жизни; но приходит человек злой воли, Каин, и фактически лишает его этого права посредством убийства. Требуется восстановить нарушенное право; для этого является публичная власть и, вопреки прямому предостережению Священного Писания (кн. Бытия IV, 15), вешает убийцу. Что же после этого право Авеля на жизнь восстановлено, или нет? Так как еще никогда не бывало случая, чтобы казнь убийцы воскрешала убитого, то приходится под правом разуметь здесь не право убитого, а чье-нибудь другое. Другим субъектом права, нарушаемого преступлением, может быть само общество, организованное в государство. Все частные права гарантированы государством, оно ручается за их неприкосновенность, ставя их под защиту своих законов. Закон, воспрещающий частным лицам по собственному усмотрению умерщвлять своих ближних, правомерно издан государством и следовательно в нарушении его, в убийстве, нарушается право государства, оно же и восстановляется в наказании убийцы. Это справедливое рассуждение сводится к уже принятому нами формальному определению преступления, как частного посягательства на публично-установленную правовую норму в ее реальном бытии, — и наказания, как закономерной реакции общественного целого на это частице посягательство. Но этим утверждается только наказуемость преступлений вообще; вопрос же о способе закономерной реакции илы о свойстве действительных наказаний остается совершенно открытым.
Несомненно, что раз признан необходимым известный нормальный порядок, выражаемый в существующих законах, пару-
564
шение их не должно оставаться без последствий, и что блюсти за этим принадлежит государству. Но в этом отношении, то есть как нарушения закона все преступления одинаковы. Если закон сам по себе священен, как исходящий от государства, то все законы имеют это свойство в одинаковой степени, все равно выражают право государства, и все их нарушения без различия суть нарушения этого верховного права. Материальные различия преступлений касаются лишь тех частных интересов, которые ими нарушаются; с формальной же стороны, по отношению к общему, то есть государству, как такому, — к его власти и закону, каждое преступление (разумеется вменяемое) предполагает волю, несогласную е законом, отрицающую его, то есть волю преступную, с одинаковой необходимостью вызывающую закономерную реакцию правового государства. Поэтому, если отвлечься от существа дела и остановиться на одном этом формальном принципе одинаково отрицательного отношения всякого преступления к закону, или одинаковой противозаконности всякого преступления, то пришлось бы ря всех преступлений требовать одинакового наказания. Хотя такой абсурд не пугал некоторых жрецов отвлеченной мысли, но ни юридическая практика, ни наука не приняли той логики, по которой следует все болезни лечить одним лекарством на том основании, что ведь всякая болезнь есть одинаково болезнь, а не здоровье.
Во избежание такой нелепости необходимо, кроме формально- одинакового принципа наказуемости вообще, принять еще некоторое другое специфическое основание действительных наказаний, определяющее особую связь между этим преступлением и этим наказанием. Теория возмездия усматривает такую связь в том, что право, нарушенное определенным преступным действием, восстановляется соответствующим или равным воздействием, например, убийца должен быть убит. Что рреального восстановления при этом не происходит, это уже было указано и не подлежит спору. Но есть ли тут на самом деле вообще какое-нибудь соответствие или равенство? Знаменитейшими сторонниками этой доктрины дело представляется в сущности так: право есть нечто положительное, скажем + (плюс), нарушение его нечто отрицательное, — (минус); рели произошло отрицание в виде преступления (например, отнята жизнь у человека), то оно должно вызвать другое отрицание в виде наказания (отнятие жизни у убийцы), и тогда такое двойное отрица-
564
вие, или отрицание отрицания, произведет опять положительное состояние, как восстановленное право, — минус на минус даешь плюс. Сделаем добросовестное усилие, чтобы отнестись серьезно к такой игре ума, и заметим, что понятие отрицание отрицания логически выражает прямо® внутреннее отношение между двумя противоположными актами, например, если движение злой воли в человеке есть «отрицание», именно отрицание нравственной нормы, то противоположный акт воли, подавляющий это движение, будет действительно «отрицанием отрицания», и результат получится положительный — утверждение этого человека в нормальном нравственном состоянии; точно так яда, если преступление, как реализация злой воли, есть отрицание, то реализованное или оправданное на деле раскаяние преступника было бы отрицанием отрицания (то есть не внешнего факта, конечно, а произведшей его ближайшей внутренней причины в ее реальном бытии), и результат опять был бы положительный — нравственное возрождение павшего человека. Но где же действительная плодотворная связь одного отрицания с другим в казни преступника? Здесь второе отрицание направлено не на первое, а на нечто положительное: на жизнь человека. В казни преступника собственным предметом действительного, упраздняющего отрицания не может быть его преступление, ибо оно есть факт, бесповоротно совершившийся, и, по замечанию святых отцов, самому Богу невозможно сделать, чтобы совершившееся было ненесовершившимся; но также это отрицаемое и упраздняемое здесь не есть и злая воля преступника, ибо одно из двух: или он раскаялся в своем злодеянии, и тогда злой воли уже нет, или он упорствует до конца, и тогда значит его воля недоступна данному воздействию, и во всяком случае внешнее насилие не может изменить внутреннего состояния воли. Но если таким образом в казни преступника действительно отрицается не его преступление и не его злая воля, а лишь положительное благо жизни, то значить это есть только новое простое отрицание, а не «двойное», или не «отрицанье отрицания».
А из одной внешней последовательности двух отрицаний не может выйти ничего положительного. Злоупотребление алгебраической формулой придает всему аргументу слишком комический характер. Ведь для того, чтобы два минуса, то есть две отрицательные величины, произвели плюс, недостаточно поставить их одну
566
вслед за другою, а необходимо их перемножить; но что значить помножить преступление на наказание? Очевидно, здесь нельзя идти дальше сложения вещественных результатов: можно сложить труп убитого с трупом повешенного убийцы, и получатся два безжизненные тела, то есть две отрицательные величины, два минуса.
VIII.
ВВнутреннее бессмыслие доктрины возмездия или «отмстительной справедливости» ярко подчеркивается тем фактам, что, кроме немногих и при том лишь кажущихся случаев, она не имеет никакого отношения к существующим уголовным законам, то есть не может получить применения в действительности. Если бы юридическая практика сообразовалась с этою доктриной, то вору в наказание полагалось бы быть обокраденным. Это хотя вообще и возможно, но всегда недостойно, а иногда и неисполнимо — именно в тех нередких случаях, когда кража совершена лицом неимущим. Но при других преступлениях нельзя даже придумать способа равного возмездия. Каким равным действием можно воздать фальшивому монетчику, лжесвидетелю, растлителю, многоженцу, лицу, портящему межевые знаки? В современных законодательствах единственный и то лишь кажущийся и при том постепенно исчезающий случай равномерного воздаяния есть смертная казнь за убийство. Поэтому-то псевдо-философские аргументы в пользу этой доктрины, сущность которых передана выше, — относятся именно только к этому единственному случаю — плохой признак для принципа, имеющего притязание на всеобщее значение. У нас в России, где смертная казнь, как правило, оставлена только за некоторые политические преступления, нет даже этого единственного случая кажущегося соответствия; какую хотя бы только видимость равномерного воздаяния можно найти между отцеубийством и бессрочной каторжною работой, или между простым убийством с корыстною целью и 12-летней каторгой?
Наглядным опровержением доктрины может служить то обстоятельство, что наибольшее приближение к ее осуществлению (в некоторых случаях) мы находим в юстиции народов полудиких, или же в законах варварских времен, где за известное увечье виновный подвергался именно такому же увечью, где за дерзкие речи
566
отрезали язык и т. п. Доктрина, применение которой оказывается несовместимым с известною степенью образованности, есть, конечно, доктрина, бесповоротно осужденная.
В новейшие времена принцип восстановления нарушенного права посредством равного воздаяния защищался в своем чистом виде более отвлеченными философами, нежели юристами. Последние вообще принимают уравнение наказания с преступлением лишь в относительно-количественном смысле (мера наказания), то есть они требуют, чтобы преступление более тяжкое сравнительно с другим подвергалось и более тяжкому наказанию, так чтобы существовала лестница (scala) наказаний соответственно лестнице преступлений. Но при этом основание, или низшая ступень, а следовательно и вершина карательной лестницы остаются неопределенными с точки зрения одного этого требования, а потому и характер самих наказаний может быть какой угодно — бесчеловечно жестокий, или же, напротив, крайне мягкий. Так, лестница взысканий существовала и в тех законодательствах, где за все или почти все простые преступления полагалась только денежная пеня: и там за более тяжкое увечье платился большой штраф, за убийство мужчины больше), чем за убийство женщины и т. п. С другой стороны, там, где уже за воровство вешали, за более тяжкие преступления определялась квалифицированная смертная казнь, то есть соединенная с различною степенью мучительности.
ВВ этом практическом принципе уголовной юстиции (мера или постепенность наказаний) высказывается только общее требование, чтобы карательная реакция сообразовалась с различием преступлений, но вопрос о существенном основании такой собразности остается здесь нерешенным.
IX.
Уголовно-правовая доктрина возмездия, совершенно лишенная, как мы видели, и логического и нравственного смысла, есть лишь пережиток дикого состояния, и уголовные наказания, ныне еще употребительные, поскольку в них намеренное причинение преступнику физических страданий или лишений ставится целью правовой реакции на преступление, представляют собою лишь историческую трансформацию первобытного начала кровавой мести. Прежде за обиженного мстил более тесный общественный союз, называемый ро-
567
дом, потом стал мстить более обширный и сложный, называемый государством; прежде обидчик терял все человеческие права в глазах обиженного им рода, теперь он стал бесправным субъектом наказания перед лицом государства, отмщающего ему за нарушение своих законов.
Но что же следует из этого несомненного факта, что уголовная юстиция есть видоизменение кровавой мести? Должно ли в силу этого исторического основания понятие мести, то есть воздаяния злом за зло, страданием за страдание, окончательно определять наше отношение к преступнику и характер правовой реакции государства на преступление? Вообще логика не позволяет делать таких выводов из генетической связи двух явлений. Ни один дарвинист, насколько мне известно, из принимаемого им происхождения человека от животных не выводил того заключения, что человек должен быть скотиной. Из того, что гражданская община Рима была первоначально образована разбойничьего шайкой, никакой историк не заключал еще, что истинным принципом священной римской империи должен был оставаться разбой. Относительно нашего предмета, раз дело идет о трансформации кровавой мести, то есть ли какая-нибудь возможность считать эту трансформацию законченной?? Когда именно, на каком моменте она завершилась? Мы знаешь, что отношение общества и закона к преступникам переживало очень резкия перемены, беспощадная родовая месть сменилась денежными штрафами, а они уступили место «градским казням», сначала крайне жестоким, но с прошлого века все более и более смягчающимся. Нет и тени разумного основания полагать, что предел смягчения уже достигнут, и что виселица и гильотина, пожизненная каторга и долгосрочное одиночно^ заключение должны пребывать на веки в уголовном законодательстве прогрессирующих народов.
Уголовная юстиция исходит из кровавой мести, но именно поэтому она от нее все более и более удаляется. «Абсолютные» теории возмездия представляют собою отчаянную попытку подпереть отвлеченными рассуждениями то, что разрушается в живом сознании. Слишком очевидная негодность этих априорных рассуждений о «восстановлении» права посредством убийств и мучений заставляет сторонников консервативной тенденции в уголовном праве искать эмпирической опоры в мотиве устрашения. Этот
568
ппринцип, теоретически разработанный с наибольшею полнотою и отчетливостью знаменитым криминалистом Анэельмом Фейербахом (в начале XIX века), в сущности всегда присоединялся, как подкрепляющий мотив, к принципу возмездия. Известные изречения, популярно выражающие идею воздаяния: «по делом вору и мука», или «собаке собачья и смерть» — обыкновенно сопровождались и сопровождаются дополнением: «да чтобы и другим не повадно было». Нельзя сказать, чтобы этот принцип стоял твердо даже на почве утилитарно-эмпирической. Без сомнения, страх есть один из важных мотивов действия и воздержания для животных и человека на низших ступенях развития его природы. Однако, преобладающего значения этот мотив, по крайней мере страх смерти, не имеет и здесь, как доказывают все более и более многочисленные самоубийства со стороны самых обыкновенных людей из толпы, нисколько не напоминающих Катона Утического или царицу Клеопатру. Продолжительное одиночное заключение, или каторга могут быть in re тяжелее смерти для самого субъекта, им подвергнутого, но наглядного устрашающего воздействия в объективном представлении грубого ума они не имеют. Я не буду останавливаться на этих и ругах общеизвестных возражениях против теории устрашения, каково, например, указание на остающуюся всегда у преступника надежду укрыться от суда, или уйти от наказания. Более решительное значение имеет следующее соображение. Все преступления вообще могут разделяться на совершенные по страсти и на производимые по ремеслу. Что касается до последней категории, то самое ее существование, самый факт преступлений, сделавшихся постоянным занятием, или профессией, ясно свидетельствует о недействительности устрашения, как карательного мотива. Что же касается до первой категории преступлений, то существенное свойство сильной страсти состоит именно в том, что она заглушает голос рассудка и подавляет самое основание всякого житейского благоразумия — инстинкт самосохранения.
Несостоятельная в практическом смысле, теория устрашения окончательно опровергается на нравственной почве: во-первых, принципиально — своим прямым противоречием основному нравственному началу, а во-вторых, фактически — тем обстоятельством, что именно это противоречие заставляет сторонников устрашения быть непоследовательными и все более и более отказываться в силу
569
нравственных соображений от самых прямых и ясных требований теории. Прежде, чем подтвердить эти два положения, я должен оговориться, что здесь дело идет об устрашении в смысле основного определяющего начала уголовной юстиции, а не в смысле психологического только обстоятельства, которое естественно может сопровождать всякий способ противодействия преступлениям. Так, если бы даже имелось в виду только исправление преступников путем просветительных внушений, то на людей самовольных и самолюбивых перспектива такой опеки, хотя бы самой кроткой и рациональной, могла бы оказывать устрашающее действие и удерживать их от преступлений. Но это ничего не говорит в пользу той теории, которая видит в устрашении не косвенное возможное последствие, а самую сущность и прямую непременную задачу правовой реакции против преступлений.
X.
Нравственное начало, в существе признаваемое всеми нормальными людьми, хотя на различных основаниях и с различною степенью отчетливом, утверждает, что человеческое достоинство должно уважаться в каждом лице, и что, следовательно, нельзя делать кого бы то ни было только средством или орудием для чьей бы то ни было пользы. Но в теории устрашения наказываемый преступник окончательно рассматривается именно лишь как средство для наведения страха на других ради сохранения общественной безопасности. В самом деле, если бы в намерение уголовного закона и входило также собственное благо преступника: страхом грозящей кары удержать его от совершения преступления, — то раз оно уже совершено, этот мотив сам собою отпадает, и караемый преступник остается с этой точки зрения только как средство для устрашения других, то есть для цели ему посторонней, что уже прямо противоречит безусловному нравственному требованию. С этой стороны устрашающее наказание было бы допустимо только как угроза, но угроза, никогда не приводимая в действие, теряет всякий смысл. Итак, принцип устрашающего наказания мог бы быть нравственно допустим лишь под условием своей бесполезности, и он может быть материально полезным лишь под условием безнравственного применения.
Фактически теория устрашения совсем притупила свое острие
570
и должна считаться положившею оружие с тех пор, как во всех образованных и полуобразованных странах упразднены мучительные телесные наказания и квалифицированная смертная казнь. Ясно, что если задача наказания состоит в наведении страха и ужаса на лиц, склонных к совершению преступлений, то именно самый жестокие средства и были бы самыми действительными и целесообразными. Почему же сторонники устрашения отказываются от того, что с их точки зрения должно быть признано наилучшим? Надо полагать потому, что эти меры, превосходные в смысле устрашения, признаются, однако, непозволительными, как безнравственные, противные требованиям жалости и человеколюбия. Но в таком случае устрашение уже перестает быть определяющим или решающим принципом наказания. Одно из двух: или главный смысл наказания в устрашении, и тогда необходимо допустить мучительные казни, как меры, наиболее соответствующие этому смыслу, как устрашающие по преимуществу; или же характер наказания, сверх практической полезности, должен сообразоваться с нравственным началом, решающим, что позволено и что непозволительно, и тогда нужно совсем отказаться от самого принципа устрашения, как мотива по существу безнравственного, или непозволительного с нравственной точки зрения.
В прошлом столетии, в разгар движения против жестокостей уголовного права, некоторые писатели старались доказать, что мучения преступников не только бесчеловечны, но и бесполезны в смысле устрашения, так как никого не удерживают от совершения преступлений. Это мнение, если бы оно было доказано, сверх своей прямой цели, отнимало бы еще всякий смысл у теории устрашения вообще. Ясно, в самом деле, что если даже мучительные казни недостаточны для устрашения, то еще менее такое действие могут иметь наказания более мягкие. Впрочем, если бы это мнение и было неверно, если бы бесчеловечные терзания преступников и были полезны для наведения ужаса, то они все-таки были бы бесполезны для теории устрашения с тех пор, как она должна была от них отказаться. Во всяком случае эта теория, предлагающая пугать людей всеми мерами, кроме страшных, — сама себя опровергла.
571
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
О смертной казни.
I.
Учреждение смертной казни есть последняя важная позиция, которую варварское уголовное право (прямая трансформация дикого обычая) еще отстаивает в современной жизни. Дело можно считать решенным. Все более и более редеет еще недавно густая толпа защитников, которую собрал кругом себя ветхий полуистлевший идол, еле держащийся на двух подбитых глиняных ногах: на теории возмездия и на теории устрашения.
В любопытной сравнительно-статистической таблице, которую проф. Н. С. Таганцев44 приводит из книги Гетцеля, наглядно представлен быстрый прогресс науки относительно этого вопроса. Гетцель, которого сочинение по этому предмету отличается своею библиографическою полнотою, берет всю известную ему (западную) литературу о смертной казни за столетие слишком (от появления знаменитой книги Беккарии «Dei delitti e delle pene» и до 1869 г.). Оказывается, что во второй половине XVIII века число защитников смертной казни еще было значительным и несколько превышало число ее противников (первых — 61, вторых — 45), но уже с начала XIX века устанавливается обратное отношение, которое за первую половину этого века выражается в таких цифрах: на 79 защитников уже 128 противников, а затем в эпоху, современную Гетцелю (1848—1869), число противников (158) слишком втрое больше числа защитников (48), при чем нужно заметить, что
____________________
44 «Лекции по русскому уголовному праву», вып. 4, Спб. 1892, стр. 1424.
572
кк числу последних Гетдель с немецкою «Billigkeit» относить и тех криминалистов, которые, отрицая в принципе смертную казнь, допускают только ее сохранение на практике, как временную меру. Если не останавливаться на 1869 г., то результат был бы еще более блестящим. Так, у нас в России, после смерти Баршева и Лохвицкого, не осталось ни одного криминалиста с некоторым именем в науке, который бы защищал смертную казнь.
Этому прогрессу в науке или в теоретическом правосознании соответствует такой же прогресс в жизни или в юридической практике, законодательной и судебной. Во-первых, поразительно сокращается самый объем приложения смертной казни по закону, или число тех родов и видов преступлений, за которые полагается эта кара. Еще в конце XVIII века (перед революцией) во Франции, например, сумма таких криминальных категорий была 115 (в том числе контрабанда, протестантская проповедь, блуд при духовном родстве, печатание и сбыт запрещенных книг), уже по code pénal 1810 г. оно сократилось до 38, а затем еще значительно уменьшилось по законам 1832 и 1848 гг. В Германии и Австрии по кодексу Карла V, действовавшему и в XVIII веке, смертной казни подлежали 44 рода преступных деяний (между ними: сочинение пасквилей, порча межевых знаков, двоебрачие, кража плодов и рыбы), а в настоящее время смертная казнь сохраняется только в двух случаях: при предумышленном убийстве (Mord) и при посягательстве на жизнь императора. В Англии но статутам, действовавшим еще в начале XIX века, число всех подлежавших смертной казни родов и видов правонарушений с различными казуистическими подразделениями выражается чудовищною цифрой: 6789, которая кажется несколько менее изумительною, когда мы узнаем, что смертной казни по этим законам подлежали между прочим: порубка деревьев, увечие чужого скота, воровство выше одного шиллинга при некоторых отягчающих обстоятельствах, простое воровство в 5 шиллингов, кража писем, злостное банкротство, угрозы на письме, окрашивание серебряной монеты в золотую или медной в серебряную, и т. п.
С первых годов XIX века начинается в Англии фактическое, а затем и законодательное ограничение этой уголовной безмерно-
573
сти; особенно быстро пошло дело в первой половине царствования королевы Виктории, и после коренного пересмотра статутов в 1861 г. от 6789 случаев остается только два: государственная измена и убийство. С тех пор предложение о совершенной отмене смертной казни неоднократно вносилось в парламент, и принятие его, уже имевшее за себя большинство в одной парламентской комиссии, есть только вопрос времени. Вполне отменена смертная казнь законодательным пущен: в Румынии с 1864 г., в Португалии с 1867 г., в Голландии с 1870 г. и в Италии с 1890 г. В Швейцарии, отмененная по конституции 1874 г., она была через пять лет законодательно восстановлена из 25 в 8 кантонах, но и здесь остается на практике почти без применения. В России законодательное движение против смертной казни началось раньше, чем в других государствах, но не пошло прямым путем к ее полной отмене, как в только что названных странах. Хотя за преступления против общего права эта казнь de jure не назначается с самого начала царствования императрицы Елизаветы Петровны, но более ста лет она сохранялась фактически и при том квалифицированная — под видом тех чрезмерных телесных наказаний, которые имели неизбежным своим последствием, а иногда и предуказанною целью — мучительную смерть преступника. После отмены этого рода истязаний в царствование императора Александра II, смертная казнь и фактически, как и по закону, исчезла у нас из общего порядка юстиции и осталась карательною мерою лишь для случаев особого, исключительного порядка, разумея здесь исключительность как в смысле криминальном (политические преступления), так и в смысле процессуальном (судимость военными судами), каковая специальная подсудность может иметь своим основанием или военное звание судимого в связи с особыми требованиями военной дисциплины, или военное положение данной местности в данное время, или, наконец, чудовищный и исключительно опасный характер данного преступления, при чем первое основание есть в своем роде общее, второе — особенное, а третье — единичное, вновь определяемое для каждого отдельного случая.
Кроме все больших и больших законодательных ограничений смертной казни, прогресс в этом деле можно усмотреть, во- вторых и еще прямее, из чрезвычайного уменьшения числа смерт-
574
ных приговоров вообще и приговоров исполненных в особенности. В прошлое века, несмотря на малочисленное сравнительно население, в каждой из европейских стран ежегодное количество казнимых смертью считалось тысячами. Так, в Англии за последние 14 лет царствования Генриха VIII было казнено около 72,000 человек, следовательно средним числом более 5,000 в год. За все царствование королевы Елизаветы (1558-1603) было казнено свыше 89,000, то есть около 2,000 в год. В начале XIX века, несмотря на значительно увеличившееся народонаселение, тысячи ежегодных казней заменяются сотнями и десятками: за двадцатилетие (1806-1825) было казнено 1,614 чел., следовательно по 80 в год (в частности в 1813 г. казнено 120 чел., а в 1817-115), а в царствование Виктории годовые цифры казни колеблются между 10 и 38. Во Франции еще в двадцатых годах XIX века среднее число казненных в год было 72, но в тридцатых уже только 30, в сороковых — 34, в пятидесятых — 28, в шестидесятых — 11, в семидесятых тоже 11, в восьмидесятых — только 5. В Австрии среднее годовое число в шестидесятых годах — 7, а в семидесятых — только 2.
«А потому, — справедливо заключает проф. Таганцев рассуждение об этом предмете в своих лекциях, — не надо быть пророком, чтобы сказать, что недалеко то время, когда смертная казнь исчезнет из уголовных кодексов, и для наших потомков самый спор о ее целесообразности будет казаться столь же странным, каким представляется теперь для нас вопрос о необходимости и справедливости колесования или сожжения преступников5.
Но пока это желанное и близкое будущее еще не наступило, пока этот остаток варварства не исчез совсем из законодательства и юридической практики большинства европейских стран, нельзя оставлять общественное сознание без постоянных напоминаний об этом тягучем позоре, и хотя бы новый опыт его нравственно-юридического освещения был тысяча первым, или тысяча вторым, он не может считаться лишним.6
______________________
55 «Лекции по русскому уголовному праву», вып. 4, Спб. 1892, стр. 1450.
6 Из специальной литературы вопроса, которую наш крими-
575
II.
Рассматривая (в третьей главе) воззрение на уголовное наказание, как на воздаяние злом за зло, мы обратили внимание только на два крайние конца этого воззрения — на terminus a quo: первобытный, грубый обычай кровавой мести, связанный с родовым бытом, и на terminus ad quem: схоластически отвлеченную «абсолютную» теорию равномерного возмездия. Но есть еще в уголовно-правовом развитии третий элемент, давно утративший в этой области прямое практическое значение, не лишенный однако скрытого влияния на умы консервативного направления, и именно по вопросу о смертной казни.
Не подлежит никакому сомнению, что отдельность норм и учреждений политико-юридических от норм и учреждений религиозных есть факт сравнительно поздний, а первоначально эти две области сливались между собою, что порождало явления и понятия совершенно на наш взгляд неожиданные. Если современный человек, знающий по латыни, но незнакомый с древностями, прочтет в законе XII таблиц при обозначении какого-нибудь преступления, например ночной кражи плодов, такую краткую формулу наказания: sacer esto, то он хотя и не переведет этого да будет священным (вспомнив быть может auri sacra fames и француз-
________________________
налист называет «почти необъятною», мне, как не специалисту, можно было ограничиться следующими сочинениями: Guisot, „De la peine de mort", 2-е изд., 838; Mittermaier, „Die Todesstrafe", 1862; Berner, „Abschaffung der Todesstrafe", 2-е изд., 1863; Кистяковский, „Изследование о смертной казни", 2-е (посмертное) изд., 1896. К этим монографиям я должен присоединить весьма содержательное резюме вопроса в упомянутом вып. 4 лекций Н. С. Таганцева (стр. 1234—1253 и далее 1422—1450). Фактические данные взяты мною главным образом у Кистяковского и Таганцева. Что касается да моего безусловно отрицательного взгляда на смертную казнь, то он предшествовал моему знакомству с литературою предмета. Еще в отрочестве, высказав как-то свое отвращение к холодному убиению безоружного человека, я услышал от моего отца такое внушительное определение: «смертная казнь это мерзость, это измена христианству!» С тех пор отрицание этой «мерзости» сделалось во мне неподвижною идеей, потребовавшею затем только отчетливого логического выражения и фактических подтверждений.
576
ское sacré nom d’un chien), однако под влиянием новейших понятий не сразу догадается, что это собственно значит: да будет зарезан, или да подлежит закланию. Во всяком случае такая омонимия покажется ему очень странной. Между тем тут не было вовсе никакой омонимии, т. е. употребления одного слова для различных понятий, одному слову здесь отвечало одно понятие, так как в известную эпоху под освящением, когда дело касалось живых существ, ничего другого и не мыслилось, кроме предустановленного умерщвления7. Вообще освящать значило: из суммы однородных предметов (людей, животных, плодов и т. д.) отделять некоторые, чтобы отдать их божеству. Первоначальный, коренной способ этого отдавания состоял в жертвоприношении, то есть в торжественном истреблении отделенных предметов, что и было их окончательным освящением. Оснований, по которым именно такие и эти, а не другие, предметы подлежали освящению, или истреблению, было много; главные из них были двоякого рода: естественные, каково первородство (приносились в жертву первенцы людей и скота, начатки плодов и т. д.), и социальные, в силу которых приносились в жертву чужеземцы (что было особенно лестно для национального божества), военнопленные и преступники. Так как нормы общежития теснейшим образом связывались с богопочитанием, как прямые выражения высшей воли, то всякое нарушение этих норм понималось как оскорбление божества, которому нарушитель и выдавался головой: sacer esto!
В области библейских представлений между двумя основаниями «освящения»: первородством и преступлением просвечивает мистическая связь, поскольку первенец рода человеческого Адам и его первенец Каин были оба и первыми преступниками — один прямо против Бога, другой — против человека8.. Не касаясь теологической стороны вопроса, заметим однако, что именно Библия, рассматриваемая в целом, высоко поднимает человеческое сознание над цемною и кровавою почвою дикой религиозности и рели-
_______________________
77 По-сербски и теперь осветити значит зарезать.
8 Потомство же Каина, истребленное потопом, представляло третий тип преступности — против природы, что впоследствии в малых размерах повторилось в Содоме и Гоморре.
577
гиозной дикости, из которой языческие народы лишь отчасти выбивались в своих высших классах, благодаря развитию греческой философии и римской юриспруденции.
В Библии по нашему вопросу обозначаются три главные момента: 1) После первого убийства провозглашение нормы: преступник, даже братоубийца не подлежит казни человеческой: «И отметил Превечный Каина, чтобы кто-нибудь не убил его».
2) После потопа, вызванного крайними обнаружениями зла в человеческой природе — приспособление нормы к «жестокосердию людей»: «кто прольет кровь человека, — человеком прольется кровь его»; это приспособительное положение подробно развивается и осложняется в Моисеевом законодательстве. 3) Возвращение к норме: у пророков и в Евангелии. «Мне отмщение, говорит Превечный; я воздамъ». Чем воздаст? «Милости хочу, а не жертвы». «Я пришел взыскать и спасти погибшее».
Библия есть многосложный, тысячу лет выроставший духовный организм, совершенно чуждый внешнего однообразия и прямолинейности, но удивительный по внутреннему единству и стройности целого. Выхватывать произвольно из этого целого одни промежуточные части без начала и конца есть дело фальшивое и пустое; а ссылаться на Библию вообще в пользу смертной казни — свидетельствует или о безнадежном непонимании, или о беспредельной наглости. Те, кто, подобно Жозефу де-Местр, сближают понятие смертной казни с понятием искупительной жертвы, забывают, что искупительная жертва за всех уже принесена Христом, что она всякие другие кровавые жертвы упразднила и сама продолжается лишь в бескровной евхаристии — забвение изумительное со стороны лиц, исповедующих христианскую веру. Поистине допускать еще какие-нибудь искупительный жертвы — значит отрицать то, что сделано Христом, значит — изменять христианству.
III.
ННегодная лже-религиозная замазка не может исправить растреснувшуюся глину «абсолютной» метафизической криминалистики, требующей сохранения смертной казни, как должного воздаяния за преступление. Посмотрим, крепче ли другая глиняная нога этого гнусного кумира — утилитарное воззрение, находящее смертную казнь
578
самою целесообразною мерою общественной обороны против важнейших преступников.
Лишь очень немногие криминалисты, стоящие, на точке зрения пользы, понимают пользу смертной казни в прямом смысле — как самого простого и дешевого способа отделаться от преступника. Большинство писателей стыдятся этой простоты. А между тем если стоять на точке зрения пользы и только пользы, то что можно противопоставить соображению о надежности и дешевизне виселицы сравнительно с тюрьмой? И не ясно ли также, что если это средство выгодно относительно десяти или двадцати преступников, то оно тем более выгодно относительно десяти тысяч, и что всего выгоднее для общества вешать всех преступников и всех людей, которые ему в тягость. А если такого вывода стыдятся, то значит стыдятся и того принципа, из которого этот вывод е логическою необходимостью вытекает. Но какую же цену может иметь теория, сторонники которой должны признать постыдным ее собственный принцип?
ССо времени Анзельма Фейербаха почти все криминалисты утилитарного направления признают пользу смертной казни лишь в косвенном смысле, — со стороны ее устрашающего действия. Но именно относительно смертной казни этот взгляд допускает опытную проверку. Если (как мы признали в предыдущей главе) вопрос о целесообразности устрашающих наказаний вообще остается на эмпирической почве спорным, то о смертной казни в частности этого сказать нельзя: здесь, вследствие простоты и определенности данных, вопрос может получить бесспорное опытное решение.
Если бы защитники смертной казни в смысле необходимого устрашения, удерживающего от совершения преступлений, были серьезно и последовательно убеждены в своем тезисе и признавали его полную силу, то они должны бы были задуматься над следующим приведением из взгляда к абсурду. Производимое смертною казнью устрашение есть необходимое средство для удержания от преступлений; следовательно, по мере неупотребления этого необходимого средства, число преступлений должно соответственно возрастать; независимо от этого, оно, конечно, возрастает естественным приростом (и увеличивающеюся скученностью) населения. Приложим это к фактам. При Генрихе VIII в Англии казнили ежегодно 5,000
579
преступников; с тех пор население возросло в 12 раз, следовательно, если бы «необходимое» средство устрашения продолжало применяться, то следовало бы теперь казнить ежегодно 60,000 злодеев; вместо того теперь казнят средним числом всего 15 человек, то есть в 4,000 раз меньше, чем следовало бы; такое сокращение «необходимой» меры устрашения должно бы соответственно повлиять на увеличение числа преступлений, и если для царствования Генриха VIII считать их (чтобы быть великодушным) столько же, сколько было казнимо, т. е. по 5,000 в год, то теперь этих, уже более не казнимых преступлений должно бы совершаться не менее 20 миллионов, ежегодно, то ,есть не только все взрослые англичане должны бы оказаться поголовно профессиональными преступниками, но пожалуй и некоторой части грудных младенцев обоего пола пришлось бы для оправдания теории обкрадывать своих кормилиц или делать порубки в чужих лесах.
Против такого абсурдного вывода из их теории приверженцы устрашения имеют только один довод, который в сущности есть отречение от их принципа. Они могут сказать, что обилие казней есть лишь условная необходимость и вопрос времени: при Генрихе VIII нужно было но 5,000 казней в год вследствие грубости и дикости нравов и неустойчивости общежития, а теперь довольно и 15 для устрашения наиболее опасных преступных стремлений; но если преступность до такой степени ослабела в силу общественного прогресса или благоприятного изменения жизненных условий, то на этой положительной почве и нужно до конца бороться с преступлениями, оставив раз навсегда казни, как бесполезную жестокость.
Не есть ли в самом деле вопиющая бессмыслица утверждать, что вчера еще склонность к воровству была так сильна в обществе, что воров можно было напугать только виселицей, а сегодня эта склонность вдруг почему-то ослабела, и для них уже и тюрьма оказывается достаточно страшной, а виселица должна оставаться только для убийц, которые почему-то тюрьмы не боятся?
Опытная проверка мнимой устрашающей силы смертной казни может быт сделана прямо без всякого сопоставления между собою отдаленных эпох. В тридцатых годах XIX века сравнительно с двадцатыми годами того же века никакой существенной разницы в социальных и культурных условиях жизни не было, а потому
580
если бы вообще смертная казнь имела влияние на проявление преступности, то последовавшие в это время вследствие отмены старых статутов быстрое сокращение смертных казней (со 115 в год до 15 и даже 10) должно было бы сказаться значительным увеличением злодеяний, за которые больше не грозила смерть. Между тем не только значительного, но и никакого увеличения числа преступлений в Англии не произошло, а обнаружилось, напротив, некоторое их уменьшение9. В Тоскане, где смертная казнь была совершенно отменена еще в XVIII веке (сначала фактически, потом и по закону), никакого увеличения преступности не оказалось, и бесполезность ее была так очевидна, что все позднейшие попытки ее восстановления (по соображениям политическим) не имели успеха: общественное мнение не допускало исполнения смертных приговоров. В Австрии в самом Императорском декрете (1803), которым восстановлялась смертная казнь, отмененная прежде Иосифом II, признается тот факт, что за время отмены число преступлений не увеличивалось. И во всех других случаях отмены, кончая последними, совершившимся на наших глазах, результат неизменно один и тот же: заметного увеличения числа преступлений, как следовало бы по теории устрашения, в действительности не происходит. Нельзя себе представить более блестящего опытного опровержения этой теории, последний удар которой нанесен в наши дни устраненьем публичного исполнения смертной казни. Ясно, что казнь, совершаемая секретно и стыдливо, не предназначена для устрашения. Факт этой секретности довольно красноречив, но еще красноречивее его основание: было констатировано, что публичные экзекуции, производя деморализующее действие на толпу, сопровождались подъемом преступности в данной местности.
Сравните теперь это робкое, краснеющее, по возможности комфортабельное для жертвы, юридическое убийство украдкой, в стенах тюрьмы, в утренние сумерки, — сравните его со всеми великолепиями прошлых времен: торжественно по целым дням, на многолюдных площадях при колокольном звоне у сотен людей вытягивали кишки, сдирали кожу, жгли их моренным огнем, разрывали по суставам, заливали горло свинцом, варили в ки-
______________________
9 «Archiv des Criminalrechts», 1840, 1841; Кистяковски, «Исследование о смертной казни», стр. 40.
581
пятке, в горячем масле и вине! От всего этого пришлось отказаться, и если сам ад не устоял перед проснувшеюся совестью, неужели устоит его бледная трепещущая тень?
IV.
«Никто, — говорит известный ученый, знаток этого вопроса, — никто даже из самых горячих сторонников смертной казни не мог в защиту необходимости ее привести хотя малейший факт, который бы доказал, что отмена ее в упомянутых государствах (в Тоскане и др.) повлекла за собою увеличение преступлений, что она сделала менее безопасными общественный порядок, жизнь и имущество граждан. Упомянутая отмена естественно низводила исследование о смертной казни из заоблачных сфер теории на почву здравого и нелживого опыта»10. Благодаря этому опыту личное мнение отдельных передовых умов о бесполезности смертной казни для защиты общества стало теперь положительною истиной, экспериментально доказанною, и оспаривать эту истину могут только или незнание, или недобросовестность, или предвзятость.
Но бесполезная материально для общества, смертная казнь духовно вредна, как безнравственное действие самого общества.
Это есть действие нечестивое, бесчеловечное и постыдное.
И во-первых, смертная казнь нечестива-, так как по еврей безотносительности и окончательности она есть присвоение человеческою юстицией того абсолютного характера, который может принадлежать только суду Божию, как выражению божественного всеведения. Преднамеренно и обдуманно вычеркивая этого человека из числа живых, общество заявляет: я знаю, что этот человек безусловно виновен в прошедшем, безусловно негоден в настоящем и безусловно неисправим в будущем. А так как на самом деле не только о будущей неисправимости этого человека, но и о его прошедшей виновности, хотя бы лишь фактической, обществу и его судебным органам ничего вполне достоверного неизвестно, что достаточно доказывается многими обнаруживающимися судебными ошибками, то не есть ли это явно нечестивое посягательство на пределы вечные и слепое безумие человеческой гордости, ставящей свое
_____________________
110 Кистяковекий, «Изследование о смертной казни», стр. 11.
582
относительное знание и условную справедливость на место всевидящей правды Божественной. Или смертная казнь совсем не имеет никакого смысла, или она имеет смысл нечестивый.
ВВо-вторых, смертная казнь бесчеловечна — не со стороны чувства, а со стороны нравственного принципа. Вопрос совершенно принципиальный: должно ли признавать в человеческой личности какой-нибудь предел для внешнего на нее действия, что-нибудь неприкосновенное и неупраздняемое извне? Тот ужас, какой внушает убийство, достаточно показывает, что есть такой предел и что он связан с жизнью человека. Не самый факт физического существования важен, а то, что в узкие рамки этого факта вмещена для нас теперь и им обусловлена вся бесконечная судьба человека. Убийство возмутительно не разрушением видимой действительности, всегда ограниченной и большею частью неважной, а теми безграничными возможностями, которые оно, не ведая их, уничтожает. Это есть преступление по преимуществу, потому что здесь переступается крайний предел между двумя существами, и ниспровергается последнее основание всяких отношений, — то, что есть необходимое условие для всего остального. Но вот страшное дело совершилось, человек превратил другого в бездушную вещь. Допустим, что этому нельзя было помешать, допустим, что общество пока не виновато. Оно возмущается, негодует, и это хорошо: было бы очень печально, если бы оно оставалось равнодушным. Но, справедливо ужасаясь перед убийством, каким дедом выразить оно свое чувство? — новым убийством. По какой же это логике повторение зла есть добро? Разве убийство возмутительно тем, что убить хороший человек? Он был, может быт, негодяем. Но возмутительно самое действие воли, переступающей нравственный предел, возмутителен человек, говорящий другому: ты для меня ничто, я не признаю за тобою никакого значения, никакого права, даже права на существование, и доказывающий это на деле. Но ведь именно так и поступает общество относительно преступника, и при том без всяких смягчающих обстоятельств, без страсти, без порочных инстинктов, без душевного расстройства. Виновна, но заслуживает снисхождения фактическая толпа, которая, под влиянием безотчетного негодования, убивает преступника на месте; но общество, которое делает это медленно, хладнокровно, отчетливо, не имеет извинения.
583
Особое зло и ужас убийства состоит, конечно, не в фактическом отнятии жизни, а во внутреннем отречении от основной нравственной нормы, в решимости от себя, собственным действием, разорвать окончательно связь общечеловеческой солидарности относительно этого действительного, передо мною стоящего ближнего, такого же, как и я, носителя образа и подобия Божия. Но эта решимость покончить с человеком гораздо яснее и полнее, чем в простом убийстве, выражается в смертной казни, где кроме этой решимости и ее исполнения совсем ничего нет. У общества по отношению к казнимому преступнику остается только animus interficiendi в абсолютно чистом виде, совершенно свободный от всех тех физиологических и психологических условий и мотивов, которые затемняли и закрывали сущность дела в глазах самого преступника, совершил ли он убийство из корыстного расчета, или под влиянием менее постыдной страсти. Никаких таких осложнений мотивации не может быть при смертной казни; все дело здесь выведено на чистоту: единственная цель — покончить с этим человеком, чтобы его вовсе не было на свете. Смертная казнь есть убийство, как такое, абсолютное убийство, то есть принципиальное отрицание коренного нравственного отношения к человеку.
Это в сущности признают и защитники смертной казни, которые иногда проговариваются самым неожиданным образом. Так, один из них на требование отмены смертной казни отвечал знаменитою фразой: «пусть господа убийцы начнут первые!» Здесь казнь прямо приравнивается к убийству, и казнящее общество ставится на одну доску с «господами убийцами», то есть с единичными преступниками, которым даже присваивается привилегия быть образцами и руководителями целого общества в его исправлении.
Менее наивные сторонники гильотины и виселицы прибегают к уловкам, заслуживающим внимания по своей непоследовательности. Смерть, говорят они, не есть окончательная потеря существования, человеческая душа живет и за гробом, смерть есть только переход, вовсе не имеющий безусловного значения, и т. д. Но если конец видимого, земного существования так не важен, то почему же вас до такой степени ужасает убийство? А если, несмотря на загробную жизнь, еоть основание ужасаться убийством, то позволительно ли его повторять в худших условиях? Если вы в
584
самом деле так легко смотрите на смерть, то относитесь легче к убийствам, а если они вас так возмущают, то остерегайтесь подражать им в этой жизни под предлогом ее продолжения за гробом. Если бы в самом деле смертная казнь могла быть допущена только с точки зрения будущей жизни, то произносить и исполнять смертные приговоры было бы по совести позволительно только лицам, верящим в бессмертие души, что в настоящее время есть, к сожалению, скорее исключение, чем общее правило, да я помимо этого совместима ли с понятием закона и суда подобная обусловленность субъективными мотивами личной веры?
Будучи нечестивой и бесчеловечной, смертная казнь имеет и постыдный характер, который уже давно закреплен за нею общественным чувством, как это видно из всеобщего презрения к палачу. Война, дуэль, открытое убийство могут быть бесчеловечны, ужасны, с известной точки зрения бессмысленны, но особого, специфического элемента постыдности в них нет. Что бы ни говорили сторонники вечного мира, военный человек, сражающийся против вооруженных противников с опасностью собственной жизни, ни в каком случае не может возбуждать к себе презрения. Хотя дуэль нельзя и сравнивать с войною, хотя дуэлист справедливо вызывает негодование и преследуется как за преступление, но все-таки человека, выходящего на барьер, никто за одно это искренно не презирает и по той же причине: этот человек возвышается по крайней мере нар инстинктивным страхом смерти и показывает, что его собственная физическая жизнь сама по себе без известных нравственных (хотя бы и ошибочно понятых) условий не имеет для него цены. То же до некоторой степени можно сказать и про иные случаи убийства. Но вся эта сторона самопожертвования, или риска собственною жизнью и свободой, оправдывающая войну, извиняющая дуэль и даже смягчающая в известных случаях ужас прямого убийства, — в смертной казни совершенно отсутствует. Здесь заранее и заведомо обезоруженный и связанный человек убивается человеком вооруженным, совершенно ничем не рискующим и действующим исключительно из низкого своекорыстия. Отсюда специфически постыдный характер и безграничное всеобщее презрение к палачу.
Лучше всяких отвлеченных аргументов говорит здесь прямое нравственное сознание и чувство, которое так ярко выражено въ
585
превосходном стихотворении Хомякова Ritterspruch — Richters-spruch:
Ты вихрем летишь на коне боевом,
С дружиной твоей удалою, —
И враг побежденный упал под конем,
II пленный лежит пред тобою.
Сойдешь ли с коня ты, поднимешь ли меч?
Сорвешь ли бессильную голову с плеч?
Пусть бился он с диким неистовством брани,
По градам и селам пожары простер, —
Теперь он подъемлет молящие длани:
Убьешь ли? О стыд и позор!
А если вас много, убьете ли вы Того, кто охвачен цепями,
Кто стоптанный в прахе, молящей главы Не смеет поднять перед вами?
Пусть дух его череп, как мрак гробовой,
Пусть сердце в нем подло, как червь гноевой,
Пусть кровью, разбоем он весь знаменован;
Теперь он бессилен, угас его взор,
Он властию связан, он ужасом скован...
Убьете ль? О стыд и позор!
Странно было бы опровергать постыдность смертной казни и презренность палача указанием на те древние времена, когда смертная казнь была священнодействием и совершалась жрецами, а также и на ту более позднюю старину, когда и светские высокопоставленные лица не гнушались исполнят обязанности палача. Что же это может доказывать? Было время, когда проституция, как в естественных, гак и в противоестественных формах, была религиозным учреждением. Но из того, что женщины древнего Вавилона смотрели на блуд с иностранцами за деньги как на священнослужение богине Милитте, не вытекает никакого оправдания проституции для наших дней. Точно также никакие воспоминания о каннибальской старине не помешают тому, что на той ступени нравственного сознания, которой уже достиг теперешний средний человек, смертная казнь осуждена не только как нечестивое и бесчеловечное, но и как постыдное дело.
Будучи противна первоосновам нравственности, смертная казнь вместе с тем есть отрицание права в самом его существе. Мы знаем (см. во главе второй), что это существо состоит в равновесии
586
двух нравственных интересов: личной свободы и общего блага, откуда прямой вывод, что последний интерес (общего блага) может только ограничивать первый (личную свободу каждого), но пи в каком случае не иметь в намерении его полное упразднение, ибо тогда очевидно всякое равновесие было бы нарушено. Поэтому меры против какого бы то ни было лица, внушенные интересом общего блага, никак не могут доходить до устранения этого лица, как такого, чрез лишение его жизни или чрез пожизненное отнятие у него свободы. Следовательно, законы, допускающие смертную казнь, пожизненную каторгу, или пожизненное тюремное заключение, не могут быть оправданы с точки зрения юридической, как упраздняющие окончательно данное правовое отношение чрез упразднение одного из субъектов. При том утвержденье, что общее благо в известных случаях требует окончательного упразднения данного лица, представляет и внутреннее логическое противоречие. Общее благо потому только и есть общее, что оно содержит в себе благо всех единичных лиц без исключения, — иначе оно было бы лишь благом, большинства. Из этого не следует, чтобы общее благо состояло в простой арифметической сумме всех частных интересов отдельно взятых, или заключало в себе сферу свободы каждого лица во всей ее беспредельности, — это было бы другое противоречие, так как эти сферы личной свободы могут сами по себе отрицать друг друга и действительно отрицают. Но из понятия общего блага с логическою необходимостью следует, что, ограничивал именно как общее (общими пределами) частные интересы и стремления, оно никак не может упразднять хотя бы одного носителя личной свободы или субъекта прав, отнимая у него жизнь и самую возможность свободных действий. Общее благо по самому своему понятию должно быть благом и этого человека; но когда оно лишает его существования и возможности свободных действий, следовательно, возможности такого бы то ни было блага, — тем самым это мнимо-общее благо перестает быть благом и для вето, следовательно, утрачивает свой общий характер, само становится лишь частным интересом, а поэтому теряет и свое право ограничивать личную свободу.
И в этом пункте мы видим, что нравственный идеал вполне согласен с истинною сущностью права. Вообще право в своем особом элементе принуждения к минимальному добру, хотя и различается от нравственности в тесном смысле, но и в этом
587
своем принудительном характере, служа реальному интересу той же нравственности, ни в каком случае не может ей противоречить. Поэтому, если какой-нибудь положительный закон находится в принципиальном противоречии с нравственным сознанием добра, то мы можем быть заранее уверены, что он не отвечает и существенным требованиям права, и правовой интерес относительно таких законов может состоять никак не в их сохранении, а только в их правомерной отмене.
588
ГЛАВА ПЯТАЯ.
Принудительное правосудие, как нравственная обязанность.
I.
Тот факт, что в современных уголовных законодательствах исчезли наиболее последовательные и действительные виды отмщения и устрашения, исчезло именно то, что с первой из этих точек зрения должно быть признано самым логичным, а со второй — самым полезным, — один этот факт достаточно показывает, что начало «дикой» юстиции и ее «варварские» трансформации решительно пережиты нравственно-правовым сознанием, и что иная более высокая точка зрения уже проникла в отношения общества к преступлению и преступнику и достигла здесь значительных успехов. Тем не менее и в тех странах, где совершается этот прогресс — в Европе и Америке, — остается еще в картельном праве и в пенитенциарных системах много ненужного насилия и мучительства, объясняемого только как мертвое наследие отживших начал отмщения и устрашения. Таковы смертная казнь, хоть и потерявшая под собою почву, но все еще упорно отстаиваемая в известных кругах, далее пожизненное лишение свободы, каторжные работы, долгосрочная ссылка в местности с губительными жизненными условиями и т. д.
Все это систематическое мучительство возмущает нравственное сознание и изменяет первоначальное чувство к преступнику. Если жалость к обиженному или потерпевшему и побуждение защитить его и других вооружает против единичного обидчика, то когда общество, несоизмеримо сильнейшее, чем этот преступник, обращает на него, уже обезоруженного, свою неодолимую вражду, и де-
589
лаиет его предметом долговременного мучительства, тогда уже он, становясь обиженным, ши потерпевшим, возбуждает в нас жалость и потребность защитить его. Юридическое сознание большинства, как и пенитенциарная практика, решительно отказались только от последовательного проведения начал отмщения и устрашения, а не от самих этих идей, и существующая в образованных странах система наказаний представляет в своей совокупности иррациональный и безжизненный компромисс между этими негодными принципами с одной стороны и некоторыми требованиями человеколюбия и справедливости с другой. Строго говоря, мы встречаем здесь лишь в разной степени смягченные остатки старой дикости, и никакой объединяющей мысли, никакого руководящего начала. На почве такого внешнего компромисса не может быть решен единственный существенный для нравственного сознания в этом деле вопрос: лишается ли преступник самим фактом преступления своих человеческих прав или нет? Если не лишается, то каким же образом можно у него отнимать первое условие всякого права — существование, как это делается в смертной казни, — или, оставляя ему только физическое существование, отнимать у него заранее и навсегда самую возможность свободной человеческой жизни, т. е. возможность пользования каким бы то ни было правом, — как это делается в приговорах к пожизненному тюремному заключению? Если же факт преступления лишает преступника его естественных прав, то зачем все эти юридические церемонии с бесправными существами? Эмпирически, значение этой дилеммы ослабляется тем, что между преступлениями полагается различие, при чем одни считаются лишающими преступника человеческих прав, а другие — только ограничивающими их в большей или меньшей степени. Но не только принцип и мера этих ограничений остается неопределенною и изменчивою, но и самое различение между двумя главными родами преступлений, — совсем отнимающими у человека присущие ему права, или же только ограничивающими их, — оказывается произвольным и неодинаковым, смотря по местам и временам. Казалось бы однако, что, — даже допуская невозможное с нравственной точки зрения полное отнятие у человеческих существ всякого права, — все-таки столь важный факт, как превращение человека из самостоятельного и полноправного лица в страдательное вещество для карательных упражнений, должен зависеть от
590
какого-нибудь объективного условия, или определяющего начала, одинакового всегда и везде; между тем, оказывается, что в одной стране для такого превращения из лица в вещь нужно совершить простое убийство, в другой — убийство с отягчающими обстоятельствами, в третьей — какое-нибудь политическое преступление и т. д.
Такое неудовлетворительное состояние! этого важного дела, такая прискорбная легкость отношения к жизни и судьбе людей вызывает естественную реакцию нравственного чувства, которая, как это обыкновенно бывает, переходит в противоположную крайность, побуждая некоторых моралистов отрицать самую идею наказания в широком смысле, т. е. как реального противодействия преступлениям. Согласно этой доктрине всякое принуждение или насилие над кем бы то ни было и ради чего бы то ни было — непозволительно безусловным образом, а потому на преступника следует действовать исключительно лишь словом вразумления. Достоинство такого воззрения, напрасно ищущего себе опоры в оторванной половине одного евангелического изречения, заключается в чистоте намерения; недостаток же в том, что по самому существу дела это намерение не может быть исполнено предлагаемым способом.
Принцип пассивного отношения к преступникам, отвергая всякое принуждение вообще, исключает не только меры отмщения и устрашения — в чем он прав, — но также и все меры предупреждения преступлений, необходимой обороны себя и других и положительного воспитательного воздействия на самих преступников. Государство с этой точки зрения не имеет права арестовать человека, относительно которого достоверно известно, что он принял решение совершить убийство; оно не имеет также права запереть, хотя бы только на время, профессионального разбойника; наконец, оно лишается права поместить преступника в более нормальную среду, хотя бы даже исключительно для его собственного блага. Соответственно этому и для частного человека признается непозволительным силою удержать злодея, бросающегося на свою жертву: допускается только обратиться в нему со словами вразумления. В разборе доктрины я остановлюсь именно на (противодействии злодеяниям со стороны единичного человека, как в случае простом и основном. Если, как я надеюсь показать, индивидуальный человек в известных обстоятельствах имеет право и обязанность принужде-
591
ния относительно другого лица, то тем более человек собирательный, представляемый государством.
II.
Вообще люди совершают преступления или по глубокой нравственной испорченности, или в силу умственных аномалий, или, наконец, вследствие потери самообладания в данную минуту. И на тех, и на других, и на третьих слово разумного убеждения за крайне редкими исключениями совсем не действует. Приписывать своему слову исключительную силу действия и ожидать от него полезных результатов при всяких условиях было бы болезненным самомнением, а ограничиваться словом без уверенности в его успехе показывало бы большой недостаток правдивости и человеколюбия. Обижаемый человек имеет нравственное право на всю возможную помощь от нас, а не на одно только словесное заступничество, которое в огромном большинстве случаев было бы только комичным; и точно также обидчик имеет право на всю нашу помощь, чтобы удержать его от дела, которое для него есть еще большее бедствие, чем для потерпевшего. Только остановивши сначала его внешнее действие, можем мы затем со спокойною совестью вразумлять его словами. Кода, вир занесенную над жертвою вооруженную руку убийцы, я ее схватываю, будет ли это, несомненно насильственное, действие или принуждение безнравственным? Ясно, напротив, что оно будет по совести обязательным, как прямо вытекающее из требований нравственного начала не только относительно угрожаемого лица, но и относительно угрожающего: удерживая человека от убийства, я деятельно уважаю и поддерживаю в нем человеческое достоинство, которому предстоял существенный урон от исполнения его намерения, — защищая его жертву, я еще более защищаю его самого. Странно было бы думать, что простой факт этого насилия, то есть известное прикосновение мускулов моей руки к мускулам руки убийцы, с необходимыми последствиями такого прикосновения, заключает в себе что-нибудь безнравственное; ведь в таком случае было бы безнравственно вытаскивать утопающего из воды, ибо и это не обходится без большого применения мускульной силы к телу спасаемого и без некоторых физических страданий для него. Если позволительно и нрав-
592
ственно обязательно вытащить утопающего из воды, хотя бы он этому сопротивлялся, то тем более — оттащить преступника от его жертвы, какие бы царапины, синяки и даже вывихи от этого ни произошли. А если, удерживая убийцу, мы в борьбе невольно причиним ему более тяжкие увечья и даже смерть, это будет большое для нас несчастие, о котором следует сокрушаться, как о невольном грехе, но, во всяком случае, нечаянно убить преступника есть меньшее зло и меньший грех, нежели намеренно допустит убийство невинного.
Но помимо такого крайнего случая, происходит одно из двух. Или оставленный нами преступник еще не вполне утратил человеческие чувства, и тогда он, разумеется, будет только благодарен, что его вовремя избавили от греха, — не менее благодарен, чем утопающий, которого вытащили из воды, и, значит, в этом случае насилие, которому он подвергся, было согласно с его собственною настоящею волей, и никакое право его не нарушено, так что тут собственно и не было вовсе насилия в смысле нравственно-юридическом, ибо volenti non fit injuria. Или же преступник настолько потерял человеческие чувства, что будет и после недовольным, что ему помешай зарезать его жертву, — но к человеку в таком состоянии обращать только одни слова разумного убеждения было бы уже верхом нелепости, все равно, что мертвецки пьяному говорить о пользе воздержания вместо того, чтобы облить его холодною водой.
III.
Если бы самый факт физического насилия, то есть применение мускульной силы, был, как такой, чем-нибудь дурным или безнравственным, тогда, разумеется, употребление этого дурного средства, хотя бы для самых лучших целей, было бы непозволительно, — это значило бы признать правило, что цель освящает средства, правило решительно несовместимое с истинною нравственностью. Противодействовать злу злом непозволительно и бесплодно, ненавидеть злодея за его злодеяния и потому мстить ему есть нравственное ребячество, или дикость. Но если мы без ненависти к злодею, напротив — с жалостью к нему, рада его собственного блага, удерживаем его от преступления, и таким образом чрез минутное внешнее стеснение его свободы освобождаем его заранее от не-
593
сравненно большей и более продолжительной внутренней тяготы и тесноты бесповоротно совершившегося злодеяния, — то в чем же тут может быть зло? Так как в мускульной силе самой по себе вовсе нет ничего предосудительного, — все равно как в теплоте, электричестве, притяжении и всяких других физических явлениях, которыми можно пользоваться и для добра и для зла, — то нравственный или безнравственный характер применения этой силы может решаться только в каждом случае намерением лица и существом дела: разумно употребляемая для действительного блага ближних, нравственного и материального, мускульная сила есть средство хорошее, а вовсе не дурное, и такое ее применение не запрещается, а прямо предписывается нравственным началом.
Тут есть, быть может, тонкая, но совершенно точная и ясная граница между нравственным и безнравственным употреблением физического насилия. Все дело в том: противодействуя злу, как смотрим мы на злодея? Сохраняется ли у нас и к нему человеческое нравственное отношение, имеется ли в виду и его собственное благо? Если сохраняется, если имеется, то в нашем вынужденном насилии не будет никаких элементов отмщения и мучительства, ничего безнравственного, — это насилие будет только неизбежным по существу дела условием нашей помощи этому человеку, вое равно как хирургическая операция, или лишение свободы буйного сумасшедшего.
Нравственный принцип запрещает делать из человека только средство для каких бы то ни было посторонних целей (т. е. не включающих в себя его собственное благо); поэтому, если мы, противодействуя преступлению, видим в преступнике только средство, орудие, или материал для отмстительных или охранительных целей, то мы поступаем безнравственно, хотя бы нашим побуждением была бескорыстная жалость к обиженному, искреннее негодование на злодейство и забота о безопасности общественной. С нравственной точки зрения этих хороших расположений еще недостаточно: требуется жалеть обе стороны, и если мы этому следуем, если мы действительно имеем в виду общее их благо, то разум и совесть покажут нам, в какой мере и в каких формах необходимо здесь применять физическое принуждение.
Нравственные вопросы окончательно решаются совестью, и я смело предлагаю каждому обратиться к своему внутреннему опыту
594
(мысленному, если не было иного), в каком из двух случаев совесть упрекает нас, — в том ли, когда мы, имея возможность помешать злодеянию, равнодушно прошли мимо, сказав несколько бесполезных слов, или в том, когда мы ему действительно помешали, хотя бы ценою некоторых физических повреждений? Всякий понимает, что этой дилемме нет места в совершенном обществе, где всякое принуждение к наименьшему добру исчезает за ненадобностью, в виду осуществления добра наибольшего; но, ведь, такое совершенство должно быть достигнуто, и тут уже вполне очевидно, что представить людям испорченным, злым и беумным полную свободу истребить людей нормальных никак не есть прямой и верный путь для осуществления совершенного общества. Желательна не всецелая свобода зла, а хотя бы некоторая организация добра. «Но, говорят новейшие софисты, общество часто принимало за зло то, что потом оказывалось добром, и преследовало, как преступников, людей невинных и даже благодетелей человечества: значит уголовное право никуда негодно, и нужно вовсе отказаться от всякого принуждения». По такой логике ошибочная система Птоломея есть достаточное основание, чтобы отказаться от астрономии, и из заблуждений алхимиков следует негодность химии.
IV.
При явной несостоятельности этого учения о безусловно пассивном отношении к преступлениям казалось бы непонятно, каким образом, помимо заведомых софистов, люда другого ума и характера могут защищать такую точку зрения. Но дело в том, что настоящее ее основание лежит, насколько я понимаю, не в этической, а в мистической области. Главная мысль тут такая: «то, что нам кажется злом, может быть вовсе не зло: Божество или Провидение лучше нас знает истинную связь вещей и как из кажущегося зла выводить действительное добро; сами — мы можем знать и ценить только свои внутренние состояния, а не объективное значение и последствия своих и чужих действий». Должно признаться, что для ума верующего взгляд этот весьма соблазнителен; однако он обманчив. Истинность всякого взгляда проверяется тем, можно ли его логически провести до конца, не впадая в противоречия и нелепости. Такой необходимой проверки указан-
595
ная точка зрения не выдерживает, она не оправдывается разумом, и, следовательно, в ней нет добра. Если бы наше извинение всех объективных последствий наших собственных и чужих действий было достаточным основанием для пребывания в бездействии, то в таком случае нам не следовало бы противиться своим явно безнравственным страстям и дурным влечениям: почем знать, какие прекрасные последствия всеблагое и премудрое Провидение может извлечь из чьего-нибудь блуда, пьянства, злобы на ближних и т. д. В виду современного значения этой ошибочной доктрины и ее ближайшего отношения к основам уголовного права нам нужно на ней остановиться.
Некто в зимний вечер, имея влечение напиться вином, воспротивился этому дурному влечению и ради воздержания не пошел в трактир. Между тем, если бы он туда пошел, то на обратном пути нашел бы полузамерзшего щенка и, будучи в данном состоянии склонен к чувствительности, подобрал бы его и отогрел, а этот щенок, ставши большою собакой, спас бы утопавшую в пруду девочку, которая потом сделалась бы матерью великого человека; тогда как теперь вследствие неуместного воздержания, расстроившего планы Провидения, щенок замерз, девочка утонула, а великий человек, родившись от другой матери, оказался идиотом.
Иной некто, склонный к гневу, хотел дать пощечину своему собеседнику, но опомнился во-время и удержался; а между тем, если бы он не удержался, то оскорбленный воспользовался бы этим случаем, чтобы подставить другую щеку, чем умилил бы сердце обидчика к вящему торжеству добродетели, тоща как теперь их беседа кончилась ничем.
Доктрина, безусловно отвергающая всякое принудительное противодействие злу или защиту ближнего силою, опирается в сущности именно на подобных рассуждениях. Кто-то силою спас жизнь человека, обезоружив разбойника, на него напавшего; но потом спасенный сделался страшным злодеем, хуже чем разбойник, значит не следовало его спасать. Но ведь точно такое же разочарование могло последовать, если бы этому человеку угрожал не разбойник, а бешеный волк. Что же? Не нужно никого защищать и от диких зверей? Более того, если мы спасем кого-нибудь на пожаре, или при наводнении, то также ведь может легко случиться,
596
что спасенные будут потом крайне несчастны или окажутся ужасными негодяями, так что для них самих и для их ближних лучше было бы им тогда сгореть или потонуть, — значит не нужно никому помогать вообще ни в какой беде? Никому, потому что хотя бы мы знали с хорошей стороны человека, нуждающегося в нашей помощи, но мы никогда не можем быть твердо уверены ни в своей теперешней проницательности, ни в будущей неизменности этого человека. Но ведь помогать ближним в беде есть прямое нравственное требование, и если откинуть обязанность деятельного человеколюбия рада того, что внушаемые этим мотивом поступки могут иметь неведомые нам дурные последствия, то на этом основании логически необходимо откинуть также и обязанность воздержания, кротости и все прочие, так как несомненно, что и их выполнение может иметь последствия пагубные, как в приведенных выше примерах. Но если из видимого добра выходит зло, то, значит, и, наоборот, из видимого зла может выходить и добро. При таком рассуждении, что можем мы противопоставить каким бы то ни было своим злым побуждениям? К счастью, весь этот взгляд сам себя уничтожает, ибо ряд неведомых последствий может идти дальше, чем мы думаем. Так, в нашем первом примере, когда поборовший свою склонность к напиткам господин Х косвенно воспрепятствовал через это будущему рождению гениального человека, — почему мы знаем, не причинил ли бы этот великий человек великих бедствий человечеству? А в таком случае хорошо, что он родился в виде идиота и, следовательно, господин X прекрасно сделал, что принудил себя остаться дома. Точно так же мы не знаем, какие дальнейшие последствия имело бы торжество добродетели вследствие великодушно перенесенной пощечины; весьма возможно, что это крайнее великодушие сделалось бы зачем поводом к духовной гордости — худшему и опаснейшему из всех грехов — и погубило бы душу человека, так что г-н Y хорошо сделал, что употребил насилие над своим гневом и помешал проявлению великодушия своего собеседника.
Вообще, в каждом случае, мы можем с одинаковым правом делать всякие предположений о возможностях и в добрую и в худую сторону, не зная ничего с достоверностью. Но то общее соображение, что мы не знаем, к каким последствиях могут привести когда-нибудь наши поступки, не есть достаточное основание
597
для воздержания от поступков в том или другом единичном случае. Другое дело, если бы мы знали наверное, что дальнейшие последствия данного поступка, кажущегося нам хорошим, будут необходимо только дурными. А так как они равно могут быть и дурными и хорошими, то, значит, мы имеем здесь одинаковое основание, или, точнее, одинаковое отсутствие основания для действия и бездействия, с этой точки зрения мы не можем знать, что для нас нравственно лучше: действовать или бездействовать, и, следовательно, все это соображение о возможных косвенных результатах наших поступков лишено для нас всякого практического значения. Чтобы оно могло иметь действительно определяющую силу для нашей жизни, нужно было бы нам не только знать ближайшие звенья в ряду будущих следствий, но так как за ближайшими мы всегда вправе предположить дальнейшие обратного характера и разрушающие ваши первые заключения, то нам необходимо было бы знать весь ряд следствий до конца света и по конце света, что для нас недоступно.
Итак, наши действия пли воздержание от действия должны определяться вовсе не на соображениях о их возможных, но нам неведомых, косвенных последствиях, а побуждениями, прямо вытекающими из нравственного начала. И это так не только с точки зрения этической, но и с нравственно-религиозной. Если все относить к Провидению, то, конечно, не без ведома Провидения человек обладает разумом и совестью, которые внушают ему, что должно делать в каждом случае в смысле прямого добра, независимо от всяких косвенных последствий. И если мы искренно верим в Провидение, то верим, конечно, и в то, что Оно не допустит, чтобы чьи-нибудь действия, согласные с разумом и совестью, могли иметь окончательно дурные последствия. Если мы сознаем, что одурять себя крепкими напитками противно человеческому достоинству или безнравственно, то сама совесть не позволит нам рассчитывать, не моги ли бы мы в состоянии опьянения сделать что-нибудь такое, что потом могло бы привести к хорошим последствиям. Точно так же, если мы, по чисто нравственному побуждению, без злобы и мести, хотя и силой, помешали разбойнику убить человека, то нам и в голову не придет рассуждать, не вышло ли бы из этого чего-нибудь дурного, не лучше га было бы допустить убийство.
598
Как благодаря разуму ж совести я твердо знаю, кто порабощение плотским страстям — пьянство или разврат — само по себе дурно, или противно добру, и что должно с этими страстями бороться, так, в силу того же разума и той же совести, я не менее твердо знаю, что деятельное человеколюбие, как прямое выражение добра, хорошо само по себе, и что должно поступать в этом смысле, реально помогать ближним, защищать их от стихий природы, от диких зверей, а также от злых и безумных людей. Поэтому, если кто по чистому побуждению человеколюбия вырвет нож из рук убийцы и избавит его от лишнего греха, а жертву его от насильственной смерти, или если кто употребит физическое принуждение, чтобы помешать больному белой горячкой свободно бегать по улицам, то он всегда будет оправдан своею совестью и общим сознанием, как исполнивший на деде нравственное требование: помогай всем, сколько можешь.
Из нашего зла Провидение, конечно, извлекает добро. Но из нашего добра Оно выводит еще большее добро, и, что особенно важно, этот второй род добра получается при нашем прямом и деятельном участии, тогда как то добро, которое извлекается из нашего зла, не касается нас и не принадлежит нам. Лучше быть сотрудником, чем простым материалом всеблагого Промысла.
V.
Наказание, как устрашающее возмездие (типичный вид которого есть смертная казнь), не может быть оправдано с нравственной точки зрения, потому что оно отрицает в преступнике человека, лишает его присущего всякому лицу права на существование и нравственное совершенствование и делает из него страдательное орудие чужой безопасности. Но точно так же не оправдывается нравственно и пассивное отношение к преступлению, оставляющее его без противодействия, ибо здесь не принимается в уважение право обижаемых на защиту, право всего общества на безопасное существование, наконец, право самого преступника на общественную помощь для нравственного перевоспитания, и все ставится в зависимость от произвола худших людей. Нравственное начало требует реального противодействия преступлению и определяет это противодействие (или наказание в широком смысле слова, не совпадаю-
599
щем с понятием возмездия), как правомерное и обязательное средство деятельного человеколюбия, законно и принудительно ограничивающее крайние проявления злой воли не только ради безопасности общества и его мирных членов, но непременно также и в истинных интересах самого преступника.
Таким образом, наказание по истинному своему понятию есть нечто многостороннее, но его различные стороны одинаково обусловлены общим нравственным началом человеколюбия, обнимающим как обиженного, так и обидчика. Терпящий от преступления имеет право на защиту и по возможности на вознаграждение; общество имеет право на безопасность; преступник имеет право на вразумление и исправление. Законное противодействие преступлениям со стороны организованного общества или государства, в согласии с нравственным началом, должно осуществлять или, по крайней мере, иметь всегда в виду равномерное осуществление этих трех прав.
600
ГЛАВА ШЕСТАЯ.
Антропологическая школа криминалистов, ее заслуги и недостатки.
I.
При всех важных теоретических различиях между «абсолютным» и утилитарным взглядами на уголовную юстицию они оба сходятся в том, что сосредоточиваются на факте преступления, а собственное существо преступника или вообще не принимают во внимание, или останавливаются только на тех моментах, его воли и действий, которые имеют прямое отношение к внешнему факту. Как старинные драматурги в своих трагических злодеях изображают злодейство и заставляют их и есть, и пить, и агонизировать не иначе как по-злодейски11, так и прежние классические криминалисты занимались только преступною волей, преступными или вредными действиями и, за преступлением плохо видя преступника, — за преступником уже совсем не видели человека. Они имели дело только с тем или другим случайным представителем общей отвлеченной идеи преступления, в которой для одних («абсолютных» криминалистов) преобладал субъективный момент — виновность, — а для других (утилитаристов или приверженцев теории устрашения) объективно-реальная сторона — зловредность деяния. Из такой, лишь наполовину справедливой, критики исходит новая школа, не точно называющая себя антропологическою.
_______________________
11 Типичный пример дает наш Сумароков, заставляющий своего Лжедимитрия умереть с таким злодейским восклицанием:
Иди душа во ад и вечно буди пленна,
О если бы со мной погибла вся вселенна!
601
Главная заслуга этой школы состоит в том, что она в основу всего уголовного учения кладет конкретное, соответствующее действительности понятие ненормального существа, а главный ее недостаток Е том, что это существо берется ею преимущественно и даже исключительно с анатомо-физиологической, а не е нравственной стороны, — вместо человека берется, по выражению А. Ф. Кони, человек-зверь. «Между тем, — как справедливо замечает этот знаменитый судебный деятель, — те из нас, кто имел действительное дело с преступниками, знают, что в преступном деянии духовная сторона играет не меньшую роль, чем физическая, и что она освещает его внутренним светом, который доступен исследованию внимательного наблюдателя».
Как было выше замечено, название антропологической школы не отвечает ее действительному характеру; в самом деле, именно то, что составляет отличительную особенность человека, его нравственная личность, не останавливает на себе внимания этой школы, которую правильнее было бы назвать биологическою, а еще точнее анатомо-физиологическою, или нервно-патологическою. Выгодно отличаясь от прежней криминалистики принципиальным отрицанием всякой случайности в происхождении преступлений, новое учение, к несчастью, подверглось слишком сильному влиянию господствующей в естествознании за последние полвека тенденции всецело подчинять явления высшего порядка законам низшего порядка. Как большинство современных химиков и физиков стараются свести изучаемые ими явления на чистую механику молекул и атомов, как биологи того же направления пытаются явления жизни вывести всецело из безжизненных процессов физических и химических, так и эти антропологи стремятся объяснит поступки человека исключительно из данных его низшей природы.
Но хотя надежда адекватно познать l᾽uomo delinquente, устранивши собственную сущность l’uomo вообще, должна быть признана тщетною, однако самое стремление изучать реальные факты и условия преступности как объект реальных мер предупредительных, педагогических и терапевтических, — вместо прежней абракадабры равномерного воздаяния и огородных чучел устрашения, — должно быт признано залогом и началом важных практических успехов.
Не считая криминальную «антропологию» новооткрытою Амери-
602
кой, мы думаем, что это есть тот ошибочный «путь в Индию», который на деле приведет, может быть, к открытию нового мира.
II.
Последователи новой школы первым родоначальником ,ея признают Галля с его френологией12. Это очень характерно. Что такое френология Галля? Верная общая мысль, воплощенная в совершенно ложной и вздорной системе. Общая мысль состоит в утверждении — вопреки отвлеченному и одностороннему спиритуализму — тесной связи и соответствия между внутреннею психическою и внешнею физическою сторонами человека. Но затем начинается ряд заблуждений. С одной стороны, душевная жизнь с ребяческою аккуратностью распределена по так называемым способностям, а с другой стороны, соответствующими физическими показателями этих способностей приняты кости черепа.. Такое сопоставление висит на целой цепи ошибочных предположений, а именно: 1) душевная жизнь человека своим непосредственным материальным органом имеет головной мозг; 2) от особенностей головного мозга можно заключать к особенностям душевного характера данного человека; 3) особые свойства мозга выражаются окончательно (помимо общего объема и веса) в наружной конфигурации его частей; 4) эта конфигурация мозга прямо определяет формы костей черепа, по которым, следовательно, и можно судить об особенностях мозга, а чрез них и о соответствующих особенностях душевных.
Все эти предположения не имеют достаточных оснований. Начиная с первого, — данные психопатологического опыта доказывают только, что мозг есть орган раздельной и сознательно-координированной душевной деятельности, или того, что некоторые психологи называют дневным, или бодрствующим сознанием. Но это есть только половина душевной жизни, и если некоторые отвлеченные философы принимали ее за целое, то едва ли найдется такой неопытный психиатр, или такой нерассудительный криминалист, которые бы впали в подобную ошибку. Если бы головной мозг был необходимым органом душевной жизни вообще, то есть всякого
_______________________
12 См. Д. А. Дриль, «Преступность и преступники», гл. I.
603
психического действия и состояния, тогда существа, лишенные этого органа, как большинство низших беспозвоночных животных, должны были бы считаться неодушевленными автоматами, все безмозглое было бы тем самым и бездушным. Но мы знаем безмозглых или почти безмозглых животных, как муравьи и пчелы, которые проявляют психическую деятельность, высокая интенсивность и широкая экстенсивность которой были бы совершенно непонятны, если бы душевная жизнь была связана только с головным мозгом; эти животные прекрасно обходятся своими брюшными нервными узлами. А эти узлы существуют и у человека в довольно развитом состоянии (особенно у женщин), и нет никакой причины считать их только платоническим воспоминанием о пчелиной стадии бытия. Не оттуда ли, напротив, идут и у человека все инстинктивные душевные движения, все импульсивные, безотчетно возникающие, состояния, сознания достаточно знакомые и психиатрам и криминалистам? А соответственно этому, не следует ли и положение основных органов для доброй половины Галлевых душевных способностей спустить от черепа вершков на 12 ниже.
Но если бы даже головной мозг и имел то исключительное значение, которое ему приписывается френологией, то прямое заключение от органа к тому деятелю, который этим органом пользуется, не может быть логически оправдано. Никто еще не мог возразит ничего дельного на древнее замечание Платона, что плохой разбитый инструмент может принадлежать искусному и здоровому музыканту и наоборот.
Но если бы и в этом пункте можно было уступить френологии, то совершенно недоказанным остается третье ее предположение о том, что существенные особенности мозга всецело выражаются в особенностям его внешней конфигурации, и наконец, если бы даже и это было доказано, то последнее и практически самое важное предположение о точном соответствии между наружною поверхностью черепа и формою мозга остается не только недоказанным, но и прямо опровергнутым элементарными данными анатомии. Всякий студент-медик или естественник знает, например, что две лобные кости бывают полыми внутри, т. е. состоят из двух стенок, наружной и внутренней — более или менее расходящихся и оставляющих между собою пустое пространство, так что, когда мы видим выпуклый и нависший над глазами люб, то эта форма может проис-
604
ходят от двух совершенно различных и даже противоположных причин: или от большого развития передних частей мозга, выпирающих, так сказать, лобные кости вперед, или же, напротив, при самом слабом развитии этих мозговых частей — от чрезмерной величины пустого пространства между стенками лобных костей, так что в этом случае буквально оправдывается народная поговорка: лоб велик, а мозгу мало. При том важном значении, которое форма лба имеет в френологической краниоскопии, одного этого элементарного факта достаточно для ниспровержения всей системы.
Мы остановились несколько на этом устарелом учении потому, что методологические недостатки, которые проявились в нем с крайнею резкостью, повторяются, хотя и в более смягченной форме, в новой «антропологической» школе, к которой мы теперь и возвращаемся.
III.
Общая теоретическая основа антропологической школы уголовного права состоит в убеждении, что душевная деятельность, если не сама по себе, то, во всяком случае, как предмет научного исследования и достоверного знания, всецело определяется анатомо-физиологическим субстратом человеческой жизни, а потому преступность, как аномалия душевной жизни, сводится к тем или другим аномалиям анатомо-физиологических условий этой жизни.
Основатель новой школы, Ломброзо, начал с того, что объявил всех преступников особою расой, пли органическим типом, представляющим возвращение к диким предкам, и отметил анатомические признаки этого типа. Если бы поверить его указаниям, то сколько бы почтенных граждан, известных писателей и ученых и далее высоко-заслуженных сановников пришлось бы посадить в тюрьму, как предназначенных по самому своему телосложению к преступным посягательствам. Какие же однако преступления имеет в виду Ломброзо, какого рода деяния фатально совершаются людьми, составляющими эту атавистическую расу? В первых двух изданиях своей книги Ломброзо не дает особого определения преступления, он берет преступников огулом, т. е. всяких нарушителей какого бы то ни было публичного закона, имеющего уголовную санкцию. И несмотря на условность такого понятия
605
и на случайность определяемой им группы, он всех этих нарушителей причисляет к одной особой расе! Таким образом, какой-нибудь несчастный оборванец, под влиянием голода внезапно решившийся стащить хлеб у булочника; затем, немецкий пастор в прибалтийском крае, который счел себя нравственно обязанным окрестить по евангелическому- обряду ребенка своих прихожан, административно записанных православными; наконец, какой-нибудь блестящий светский молодой человек, который, желая добыть большие деньги на бриллианты своей француженке, искусным образом отравляет своих богатых, но добродетельных родителей, — все эти uomini delinquenti одинаково представляют одну особую расу или тип, с одинаковыми анатомическими признаками! Таких диких абсурдов никто не мог поддерживать и мосле того, как главный приверженец новой школы в Италии, Ферри, вместо одной общей расы признал пять различных категорий преступников: прирожденных, сумасшедших, привычных, случайных и но отрасли, — сам Ломброзо в третьем издании «L᾽uomo delinquent» ограничил свою преступную расу одними прирожденными преступниками, которых вместе с тем довольно непонятным образом сближал с душевно-больными, потом он стал сближать преступность с наследственным вырождением, с эпилепсией, с гениальностью и т. п. Все эти сближения сводятся к одному положению, в сущности верному, хотя слишком общему и не исчерпывающему предмета, а именно, что настоящая, прирожденная преступность обыкновенно связана с более или менее глубокими органическими аномалиями и патологическими состояниями.
IV.
В последнее годы антропологическая школа к анатомо-физиологическим факторам преступности присоединяет и социологические, но так как общество понимается здесь лишь как собрание отдельных лиц, определяемых в своей деятельности опять лишь анатомо-физиологическим субстратом их жизни, как в нормальном, так и в ненормальном его состоянии, то это расширение кругозора нисколько не изменяет самого принципа. Почтенный Д. А. Дриль горячо протестует против обозначения этого принципа как материалистического. Антропологическая школа, заявляет он,
606
не отрицает самостоятельного существа души, но она обходится без него в своих объяснениях, для которых достаточны биологические и социологические факторы. Но если сущность души не проявляет себя ни в каком действии, и если нет надобности принимать ее в расчет ни в науке, ни в жизни, которым она ничем не дает о себе знать, то не видно разумного основания не только признавать ее, но и говорить о ней, так как, говоря о ней, о чем же собственно мы говорим, если все, что мы знаем, — не она и никакого отношения к ней не имеет? Не преследуя эту диалектику, которая отдалила бы нас от предмета, ограничусь двумя замечаниями на основании сообщения самого Д. А. Дриля.
Говоря о двух знаменитых убийцах, Ласенере и Авриле, для которых, с точки зрения новой школы, кровавые злодеяния были роковою физическою необходимостью, почтенный автор тут же сообщает о находившихся с ними в том же месте заключения двух профессиональных ворах и постоянных тюремных сидельцах, Батоне и Фрешаре, которые всегда решительно отказывались принимать участие в каких бы то ни было убийствах, категорически заявляя, что их руки никогда не обагрятся кровью человека13. Такое явление не объясняется простым отсутствием у этих людей органического предрасположения к кровопролитию. Если бы все дело было только в отсутствии физических условий кровожадности, тогда это было бы достаточным основанием для этих воров не ставить убийство своею целью, не искать крови для крови, но, посвятив свою жизнь добыванию денег путем преступлений, они и при отсутствии органической кровожадности не имели причины безусловно отвергать убийство как одно из средств для их цели. Откуда же это решительное и внутреннее непреодолимое отвращение от убийства? С точки зрения рассматриваемой теории для достаточного объяснения таких явлений необходимо допустить, что наряду с органическими факторами, фатально предопределяющими к совершению известных преступлений, как-то убийств, изнасилований и т. п., существуют и такие тоже органические факторы, которые столь же фатально препятствуют совершать преступления того пли другого рода. Допустить это можно только как предположение ad hoc в силу априор-
_________________________
13 Дриль, «Преступность и преступники», стр. 235.
607
ных требований теории, что однако не согласно с позитивно-научными притязаниями новой школы.
Органическую подкладку для фатальных убийц г. Дриль находит в аномалиях половой сферы. «В фактах, — говорит он, — у меня не было недостатка. Напротив, они подавляли своею многочисленностью, и я встречал затруднения лишь в выборе, потому что во врем множестве известных мне случаев убийств, когда только бывали собраны хотя сколько-нибудь достаточные сведения о личности и прошлой жизни убийц, более или менее ясные указания на те или другие уклонения и затронутом половой сферы встречались всегда»14. Что же это доказывает?
Все без исключения случаи чахотки сопровождаются периодическими уклонениями от нормальной температуры тела. Следует ли из этого, что повышенная температура есть причина и основа чахотки? Для того, чтобы отмеченная г. Дрилем интересная связь между половыми аномалиями и влечением к убийству имела то значение, которое он ей приписывает, ему нужно было бы дополнит свои исследования. Если бы было доказано, что не только все убийцы были подвержены половым аномалиям, но что и все субъекты, страдавшие такими аномалиями, имели вместе с тем влечение к кровопролитию и становились убийцами, тогда, конечно, причинная связь была бы здесь установлена, но так как в действительности эти две сферы явлений далеко не покрывают друг друга и существует множество таких людей с половыми аномалиями, которые не только не имеют неодолимого влечения к убийствам, но и вообще никаких кровожадных свойств не обнаруживают, то логический вывод из наблюдений нашего автора не может идти далее того утверждения, что врожденная кровожадность одним из своих сопутствующих обстоятельств имеет уклонения от нормы в половой сфере, — факт, кажется, совершенно достоверный, но требующий дальнейшего объяснения, которого в криминальной «антропологии» он не находит.
V.
На брюссельском международном конгрессе в 1892 г. Д. А. Дриль формулировал основные принципы уголовно-антропологической
_________________________
14 Там же, стр. 241.
608
школы в следующих семи положениях, содержащих то, в чем согласны между собою все последователи школы и что вместе с тем вызывает наименее возражений со стороны беспристрастных приверженцев классической юриспруденции.
«1) Основанием наказания и его первенствующею целью новое направление признает не возмездие, а необходимость ограждения общества от зла преступления.
«2) Антропологическая школа стремится изучить при помощи всех точных научных методов разновидности действительных преступников, производящие их причины, их деятельность, их преступления и наиболее действительные средства воздействия на них.
«3) В преступлении антропологическая школа видать результат взаимодействия особенностей психофизической организации преступника и внешних воздействий.
«4) Антропологическая школа рассматривает преступника как в большей или меньшей мере несчастную, порочную, неуравновешенную и недостаточную организацию, которая вследствие того мало приспособлена к борьбе за существование в легальных формах.
«5) Причины преступления антропологическая школа делит: а) на ближайшие — порочность психофизической организации деятеля; е) более отдаленные — неблагоприятные внешние условия, под влиянием которых постепенно вырабатываются первые; с) предрасполагающие, под влиянием которых порочные организации наталкиваются на преступления.
«6) Уголовно-антропологическая школа изучает преступников и совершаемые жми преступления, как естественно-общественные явления, во всей совокупности их разнообразных факторов, даже наиболее отдаленных. Этим она сливает вопрос о преступности с великим социальным вопросом нашего времени и настаивает на необходимости широких мер предупреждения для успешности борьбы с преступлением.
«7) Исходя из этих положений, уголовно-антропологическая школа отрицает разумность наперед определенных мер репрессии и ставит их в зависимость от изучения индивидуальных особенностей каждого деятеля преступления»15.
________________________
13 Дриль, «Преступность и преступники», стр. 94-96.
609
Со всем, или почти со всем, что высказывается в этих положениях, можно по совести и разуму согласиться; недостаток школы и в теоретическом и в практическом отношении заключается в том, о чем здесь умалчивается. Разберем эти основные положения в том порядке, в каком они выставлены г. Дрилем.
VI.
Первое основоположение уголовно-антропологической школы, как оно выражено ее русским представителем, уже содержит в своем определении наказания и главную практическую заслугу школы, и ее существенный недостаток: заслугу — в безусловном отрицании варварского понятия возмездия и недостаток — в одностороннем призвании целью наказания только «необходимости ограждения общества от зла преступления». Такой взгляд принципиально сближает новую школу с прежнею теориею устрашения, которая также ставит наказанию эту исключительно-утилитарную цель. Д. А. Дриль одушевлен гуманнейшими чувствами и симпатичнейшими стремлениями, но это делает честь только ему лично, а не школе, так как он не может отрицать, что такие ее представители, как сам Ломброзо, находят наиболее целесообразным средством против неисправимых и опасных преступников — простое их умерщвление. И это уже не есть только личное мнение, а логическое следствие из утилитарного понятия о наказании, в котором принимается во внимание только внешняя общественная польза и совершенно устраняется внутреннее человеческое право. Раз человек есть только продукт анатомо-физиологических и социологических условий, и этот продукт в данном случае оказывается безнадежно негодным, какое разумное основание может препятствовать обществу его уничтожить? Д. А. Дриль основательно защищает новую школу от упрека в безнравственности, которую видят в ее отрицании безусловной виновности иди свободы воли; но действительное и неизбежное столкновение криминальной антропологии с нравственным началом происходит не в этом метафизическом пункте, а в нравственно-юридическом вопросе о пределе общественного права над личностью. Здесь новая школа еще тверже старой держится на варварской почве древних и средневековых понятий о бесправии лица перед общественным целым: внутри человека здесь не при-
610
знается ничего такого, перед чем общество должно было бы остановиться, — неисправимого преступника следует спокойно убить как бешеного зверя. В принципиально-важном вопросе о смертной казни новая школа создает тяжелый тормоз нравственно-юридическому прогрессу.
Стремление уголовной антропологии изучать преступность и преступников в их конкретной действительности есть великая заслуга этой школы, уменьшаемая, однако, в той мере, в какой эта конкретная действительность берется только с одной материальной стороны и преступник рассматривается только как больное и вырождающееся животное. Живой мозг и даже мертвые кости черепа суть, конечно, предметы реальные и более конкретные, нежели «мыслящая субстанция»; но когда френология в этих реальных и конкретных предметах видит эквиваленты целого человека, то она впадает в такое же злоупотребление абстракциею, как и картезианский спиритуализм. Подобным образом при всей реальности и конкретности тех анатомических и физиологических аномалий, на которых сосредоточивается уголовная антропология, эти естественные аномалии так же не составляют целого преступника, как не составляют его безусловная виновность, animus nocendi старых юристов.
Определение преступления, как результата взаимодействия между организацией преступника и внешними воздействиями (положение 3) и определение самого преступника как несчастной, порочной, неуравновешенной и недостаточной организации (положение 4) могли бы быть приняты, если бы из этой «организации» не исключалось молчаливо то, что составляет особенность человека как личного деятеля — способность к восприятию чисто-нравственных мотивов, реально испытываемых, как голос совести и как чувство раскаяния. Положим, злодеяние есть результат взаимодействия между индивидуальною организациею и внешними влияниями; но сама эта организация в данном своем состоянии уже есть в значительной степени (несмотря на наследственность) результат взаимодействия, или борьбы между силою нравственного сознания и безнравственными влечениями низшей природы, при чем, разумеется, каждая победа усиливает победителя. А что бывают отдельные случаи, когда нравственное сознанье или по недоразвитию, или по окончательной атрофии, или по временному затемнению вовсе не действует и не пола-
611
гает никакой задержки органическим влечениям и внешним побуждениям — это было давно и хорошо известно и классической юриспруденции, не мало занимавшейся вопросом об условиях вменяемости и невменяемости преступлений.
В определении причин преступления (положение 5) о собственной воле преступника, конечно, нет и речи; преступник не признается лицом, он только пассивное произведение биологических и социологических условий. Отсюда для последовательной мысли может быть только одно практическое заключение: общество должно с испорченным продуктом, который называется преступником, поступать так, как полиция поступает с испорченными припасами на рынке: предавать их истреблению. Этого требует логика, которой, как известно, и подчиняются многие последователи нового учения с Ломброзо во главе, признающие не только существование неисправимых преступников (чего и нельзя вообще отрицать), но и приписывающие себе знание определенных внешних признаков этой неисправимости, что уже есть большое безумие и в случае успеха таких воззрений — большая опасность для человечества. Никакое учение не может долго жить непоследовательностью и недоговоренностью, и новой школе придется поставить вопрос ребром: так как преступник есть явление, всецело определенное одними эмпирическими условиями без всякого участия каких-нибудь безусловных факторов, то на каком основании общество должно воздействовать на него иначе, нежели на другие зловредные явления, каковы бешеные звери, болезнетворные микробы и т. д. Наследственность, значение которой особенно подчеркивается новою школою, беспредельно увеличивает опасность преступников и необходимость для общества подвергнуть их скорейшему истреблению, ибо с точки зрения «антропологии» зловредность этой породы не ограничивается ее наличным составом, а простирается до бесконечности в будущие поколения, роковым образом осужденные на преступность своим происхождением от преступников.
Необходимость истребления преступной породы не устраняется указанием 6-го положения на связь преступности с условиями социальной жизни и на возможность и необходимость бороться против зла посредством «широких мер предупреждения», т. е. чрез улучшение жизненных условий для всех классов населения. Это положение само по себе совершенно верно и очень важно, и обращение
612
ннаучного и общественного внимания в эту сторону есть одна из заслуг новой школы. Но в связи с основною ошибкою всего учения и этот пункт логически теряет свою благотворную силу. Во- первых, антропологическая криминалистика не дает нам достаточных оснований заключать, что нормальные общественные условия представляют собою вообще фактор более могущественный, нежели органическая сила наследственности, а во-вторых, каким образом с точки зрения школы возможно улучшение общественных форм, пока существуют органические элементы регресса, увековечиваемые наследственностью? Если общество улучшается только чрез свой материальный состав, а качество этого состава определяется только данными органическими условиями, то ясно, что прежде всего должен быть изменен органический фактор. Если коренная причина болезни — размножающиеся микробы, то прежде всего должно истребить микробов, чтобы они не поддерживали болезнь сами, а главное — не поддерживали ее чрез свое потомство. Ясно в самом деле, что при участии выродков общество возродиться не может. Итак, для изменения социальных факторов преступности прежде всего следует уничтожить самые организмы преступников, и Ломброзо в смысле последовательности более прав, чем г. Дриль.
Седьмое положение, отрицающее разумность наперед определенных мер репрессии и ставящее их в зависимость от изучения индивидуальных особенностей каждого деятеля преступления, есть само по себе святая правда, но с точки зрения «антропологической» школы не имеет достаточного основания. Когда благоустроенная полиция, ради общественной пользы, отбирает на рынке испорченные и зловредные припасы, должна ли она ставить эту свою репрессию в зависимость от изучения индивидуальных особенностей каждого куска колбасы? Очевидно, в этом нет никакой надобности, так как общего зловония в этом случае вполне достаточно. Но чем же отличается с точки зрения «антропологической» кусок испорченного человечества от куска испорченной колбасы? И то и другое суть «естественно-общественные» явления, продукты органического материала, обработанного воздействиями собирательной среды, данные свойства и состояния продукта роковым образом предопределенные: в одном случае — органическими качествами, унаследованными свиньею от ее родителей и прародителей, затем соци-
613
ально-экономческими условиями колбасного производства и торговли и, наконец, привходящими внешними обстоятельствами, неизбежно производящими свежесть или гнилость, а в другом случае — такими же наследственными качествами человеческой организации, совокупностью социальных условий и, наконец, личными житейскими обстоятельствами, которые при этом организме и при данных социальных условиях неизбежно делают одного человека нравственно нормальным, а другого преступным. Изучение всего этого в частности может иметь интерес исключительно лишь теоретический. А практическое отношение может здесь определяться только пользою или вредом. Нисколько не обвиняя гнилую колбасу, ее просто истребляют — не в смысле возмездия, а лишь в виде целесообразной репрессии производимого ею вреда; точно так же следует поступать и с испорченными кусками человечества, и это тем настоятельнее, чем сложнее вред, причиняемый ими чрез наследственность.
Отождествление или тесное сближение преступности с болезнью есть положение обоюдоострое, из которого могут следовать прямо противоположные выводы, смотря по точке зрения. В силу известного принципа чисто-этического, я могу заключить, что преступников, как больных, должно лечить. Но в силу другого принципа, утилитарно-материалистического, которого в теории держится «антропологическая» школа, необходимо сделать прямо обратное заключение: что вредные больные, как и преступники, должны быть истребляемы.
Если Ломброзо и его последовательные ученики ничего не имеют против истребления неисправимых преступников, которых они однако считают лишь особого рода неизлечимо-больными, то что могут они логически возразить против истребления и всех других неизлечимо-больных, опасных для общественного блага прямою заразою окружающих и наследственною передачею заразы потомству?
Если отдельные представители школы, например, почтенный Д. А. Дриль, искренно возмущаются таким заключением, то это говорит только об их личной чувствительности, но подобает ли научной школе основываться на личных чувствах?
Положительною заслугой криминальной антропологии остается ее стремление изучать преступников, как живую действительность, но предвзятое ограничение этой действительности одною материальною
614
сстороной бытия приводит к таким практическим заключениям, которые еще более противоречат нравственному сознанию, нежели прежния положения классического правоведения. К счастью, нам нет надобности выбирать между различными заблуждениями, так как есть один путь правды, дающий возможность нормально относиться и к ненормальной части человечества.
615
ГЛАВА СЕДЬМАЯ.
Нормальное уголовное правосудие.
I.
Преступник есть человек, сознательно уклоняющийся на деле от минимальных требований доброго поведения, установленных в уголовном законе ради безопасности человеческого общежития. Данная психофизическая организация, социальные условия и житейские обстоятельства могут предрасполагать к преступлению, но настоящая его причина, как доказывается фактом совести и раскаяния, есть собственная решимость человека16. В отличие от несчастных случаев и от психофизических болезней, настоящее, вменяемое преступление есть результат внутреннего духовного процесса, в котором всегда есть хотя один момент действительного решения, то есть сознательного отречения от нравственной нормы, сознательного отвержения добрых духовных влияний и сознательной отдачи себя злым влечениям. Только в этом может состоять определенное различие между преступлением и невро-психозом, — различие, которое нехотя допускают и более благоразумные последователи криминальной антропологии, хотя и не могут с своей точки зрения указать, в чем оно заключается.
Настоящее свое наказание преступник, как и всякий безнравственный человек вообще, получает по законам нравственного порядка от суда Божия, человеческое же правосудие должно быть только
_____________________
16 Писатели новой школы любят останавливаться на несомненных случаях нераскаянности преступников, забывая, что эти случаи не могли бы быть замечены как нечто особенное, если бы раскаяние не было общим правилом.
616
целесообразною реакцией общества против явлений преступного характера ради необходимой самообороны, для действительной защиты угрожаемых лиц и для возможного исправления самого преступника. Так как никакое действие преступника не может упразднить безусловных прав человека, то правомерная уголовная репрессия, охраняя общество от вреда злодеяний, должна непременно иметь в виду и собственную пользу преступника, иначе она была бы таким же фактическим насилием, как и само преступление.
Из этой общей идеи истинного, бесстрастного и беспристрастного правосудия, чуждого мстительности и злобы, прямо вытекают некоторые определенные правила уголовного судопроизводства и пенитенциарной системы.
II.
Первый шаг правомерного и целесообразного воздействия на преступника есть временное лишение его свободы. Это необходимо не только для ограждения от него других, но и для него самого. Как расточитель справедливо лишается свободы распоряжения стоим имуществом не только в интересах своих близких, но и в своих собственных, так же и тем более необходимо и справедливо, чтобы убийца или растлитель был прежде всего, рада чужого и собственного блага, лишен свободы злоупотреблять своим телом. Особенно это важно для него самого, как решительная остановка в реализации злой воли, как возможность опомниться, одуматься и переменить настроение. Для этого необходимо, чтобы краткое предварительное заключенье было одиночным. Если даже заключенный окажется невинным, то это не большая беда, потому что уединение и перемена обстановки полезны для каждого человека. Но помещать обвиняемого, быть может невинного, в принудительное сообщество осужденных преступников, в общие условия с ними — есть во всяком случае варварская бессмыслица.
ППредварительное следствие, установляющее только факты, может в основании оставаться таким, каким оно существует в современном уголовном процессе, хотя в сомнительных случаях не мешало бы расширить участие научной экспертизы, не ограничивая ее одними медиками.
Дальнейшая участь преступника в настоящее время почти везде окончательно решается судом, который не только определяет
617
его виновность, но и назначает ему наказание. Но при действительном и последовательном исключении из уголовного правосудия мотивов отмщения и устрашения должно исчезнуть и самое понятие о наказании в смысле заранее, окончательно и в сущности произвольно предопределяемой меры воздействия на преступника. Безусловной предопределенности не существует, конечно, и теперь: как присяжным в определении виновности, так и судьям в определении наказания дается некоторый простор, а затем смягчение приговора предоставляется верховной власти, в силу принадлежащего ей права помилования. Но все это — только уступка нравственному чувству, еще далекая от принципиального и последовательного признания той истины, что справедливое и целесообразное наказание должно реагировать на данного преступника in concreto, т. е. на это живое личное существо, а не на случайный образчик того или другого рода, вида или подвида преступности. Подведение данного преступника под эти формальные определения составляет только предварительную задачу уголовного правосудия, принадлежащую всецело судебной власти, представители которой обладают и необходимым для этого формальным юридическим образованием. Но окончательное реальное воздействие общества на преступника, желательное для блага обеих сторон, находится, очевидно, в существенной внутренней связи не с общими понятиями права и не с теми или другими статьями законов, а с действительными душевными состояниями самого преступника, которые в своих последующих переменах не могут быть заранее предусмотрены. Поэтому суд может установить только фактическую правовую часть дела, определить качество виновности, степень ответственности преступника и его дальнейшей опасности для общества, из которой вытекает и право государства принимать против него дальнейшие меры принудительного воздействия. Но сами эти меры, если только они должны быть целесообразны, не могут быть установлены заранее. Суд может и должен сделать общий диагноз и прогноз данной болезни, но предписывать бесповоротно способ и продолжительность терапевтического воздействия противно разуму. Ход и приемы лечения, очевидно, должны изменяться соответственно переменам в ходе самой болезни, и суд, который по окончании заседания прекращает всякие действительные отношения к преступнику, должен его предоставить всецело тем пенитенциарным учреждениям, в ведение которых он
618
поступает после окончательного судебного приговора. Кроме общей справедливости такого положения, оно важно в частности и тем, что практически легко устраняет тяжелые последствия судебных ошибок.
II.
Отнимать у суда право предрешающих карательных приговоров, делать из него экспертизу ученых правоведов, какую-то комиссию уголовных юрисконсультов — вот мнение, которое еще недавно должно было показаться неслыханною ересью, возможною только со стороны жалкого профана, совершенно чуждого и практике, и науке юридической. А теперь с этою обидною для профессиональной гордости идеею не только мирятся в теории, но уже и на практике сделан в некоторых странах — в Бельгии, Ирландии и др., важный шаг к ел осуществлению — именно чрез допущение условных приговоров. В известных случаях человек, совершивший в первый раз известное преступление, хотя и приговаривается по суду к определенному наказанию, но, в виду возможности случайного характера этой первой вины, приговор не приводится в исполнение, и осужденный выпускается на свободу до тех пор, пока не впадет в рецидив, или не совершить нового преступления, и тогда сверх новой карательной меры он должен отбыть и прежде присужденную.
При других обстоятельствах условный характер наказания относится лишь к сроку тюремного заключения, который сокращается сообразно последующему доведению осужденного. Несмотря на ограниченный пока круг применения, эти условные приговори по своему огромному принципиальному значению открывают новую эру уголовного правосудия с новым нравственным взглядом, обращенным на живого человека, а не прикованным к мертвой букве статей и параграфов уложения. После уничтожения пыток не было другого столь важного успеха в области уголовного процесса, и отныне нормальное правосудие здесь перестает быть мечтательным идеалом и начинает становиться действительностью. В зависимости от этого прогресса должно совершиться и уже совершается расширение юридического образования, которое, не отказываясь от своей связи с прошедшим, в римском праве и истории местных законодательств — должно отчетливее и последовательнее
619
включать в себя факторы будущего, заключающиеся в изучении действительного человека, — в психологии, психопатологии и нравственной философии.
IV.
Кроме последовательного распространения условных приговоров, нормальное правосудие требует перемен и в самом содержании наказаний, в смысле большей их целесообразности. Хотя истинный интерес самого .преступника непременно должен входить в цель уголовной репрессии, но, обращая усиленное внимание на эту прежде неведомую или отрицаемую сторону дела, не следует забывать и другой стороны' — интереса потерпевшего, удовлетворение которого также должно но возможности входить в содержание наказания. Как угрожаемое общество имеет право на охранение своей безопасности, как дошедший до преступления порочный человек имеет право на исправление, так и невинно потерпевший от преступления имеет право на возможное вознаграждение.
Это вознаграждение потерпевшие (сами, или в случае убийства — в лице своих семей) могли бы получать от государства, которое, в свою очередь, имело бы право покрывать этот расход на счет преступников. Источников для этого может быть два: конфискация имуществ и доход от принудительного труда осужденных. Против первого восстает большинство юристов главным образом по следующим основаниям: во-первых, конфискация поражает права невинных лиц — семьи преступника, а во-вторых, она вносит неравенство в наказание, так как богатый преступник, у которого отбирается имущество, терпит более, чем бедный, у которого нечего отобрать.
С обоими соображениями нельзя согласиться. Нет необходимости, чтобы конфискация распространялась непременно на все имущество, — часть, достаточная для обеспечения семьи, всегда может быть выделена, а если, несмотря на это, в редких случаях очень богатых преступников материальное положение их семейств должно все-таки существенно измениться, то тут нет ничего несправедливого: было бы, напротив, возмутительно для нравственного чувства встречать крайнюю роскошь в семье убийцы или грабителя — все равно, что шумное веселье в доме покойника, — и, во всяком случае, государство не имеет причины более заботиться о семьях
620
преступников, чем о семьях невинно-потерпевших. Точно так же в неравенстве силы наказания вследствие конфискации нет ничего несправедливого, так как богатый злодей до совершения преступления имел в своем богатстве такое благо, которого был лишен преступник неимущий, и следовательно последующее неравенство только уравновешивает прежнее; при том богатство, связанное с большими возможностями образования и умственного развития, есть само по себе — ceteris paribus — отягчающее обстоятельство для преступника.
Впрочем, вопрос о конфискации, вследствие сравнительной немногочисленности богатых преступников, не имеет большого практического значения. Более важен вопрос об утилизации труда преступников. Принудительная работа уже в качестве необходимого воспитательного средства должна быть сохранена, как постоянный ингредиент всякой карательной репрессии. Справедливо и целесообразно, чтобы доход с этой работы употреблялся частью на вознаграждение потерпевших или их семей. Серьезных возражений против этого я не знаю, и этим путем наказание явно приобретает желательный характер естественной справедливости в отличие от произвольного отмщения.
V.
ЛЛишение свободы на более пли менее продолжительный срок, определяемый не заранее, а сообразно с действительными переменами в состоянии преступника, и затем принудительные работы для собственной пользы и для вознаграждения потерпевших — вот и все содержание нормального наказания. Оно сводится к условному ограничению личных и имущественных прав преступника, как естественному следствию преступления. Это есть то, что общество должно взять у преступника; но взамен этого оно должно дать ему деятельную помощь в его исправлении и нравственном возрождении. Именно с этой стороны особенно необходимо коренное преобразование тюремных учреждений для превращения их в нравственно-психиатрические заведения.
Было время, когда с людьми душевнобольными обращались как с укрощаемыми дикими зверями, сажали их на цепь, били палками и т. д. Еще лет сто тому назад и даже меньше это считалось совершенно в порядке вещей, теперь же об этом вспоми-
621
нают с ужасом. Так как историческое движение идет все быстрее и быстрее, то я еще надеюсь дожить до того времени, когда на наши обыкновенные тюрьмы и каторги будут смотреть так же, как теперь все смотрят на старинные психиатрические заведения с железными клетками и цепями для больных. Теперешнее положение тюремного дела, несмотря на несомненные успехи повсюду за последнее время, все еще в значительной степени определяется древним понятием наказания, как мучения, намеренно налагаемого на преступника, согласно правилу: «по делом вору и мука»17.
По истинному понятию о наказании положительная его задача относительно преступника есть не фактическое его мучение, а нравственное исцеление или исправление. Эта идея, уже давно принимаемая различными писателями (преимущественно теологами и философами и лишь немногими юристами) вызывает против себя решительные возражения двоякого рода: со стороны юристов и со стороны «криминальной антропологии». С юридической стороны утверждают, что исправлять преступника значит вторгаться в его внутренний мир, и что общество и государство не имеют на это права. Но тут есть два недоразумения.
Во-первых, задача исправления преступников есть в указанном отношении лишь один из случаев обязательного и положительного воздействия общества или государства на его несостоятельных в каком-нибудь отношении и потому не полноправных членов. Отрицая такое воздействие в принципе, как вторжение во внутренний мир, придется отказаться от обучения детей в общественных школах, от лечения умалишенных в общественных больницах и т. п. Да и где же тут вторжение во внутренний мир? На самом деле преступник актом преступления обнаружил, обнажил свой внутренний мир и нуждается в обратном воздействии, чтобы войти в его нормальные пределы. Особенно странно в этом возражении то, что за обществом признается право ставить человека в развращающие условия, каковы между прочим и
______________________
17 Яркие подробности о применении этого правила у нас в недавнем прошедшем (и еще не совсем прошедшем) можно найти между прочим в превосходной монографии А. Ф. Кони о докторе Гаазе («Вестн. Евр.», январь и февраль 1897). Много хорошего было предпринято в русском тюремном ведомстве по инициативе К. К. Грота, а также в управление М. Н. Галкина-Врасского.
622
нынешние тюрьмы и каторги, а право и обязанность ставить человека в условия морализующие отнимается у общества.
Второе недоразумение состоит в том, что исправление понимается как навязывание извне каких-нибудь готовых правил нравственности. Но зачем же неумелость принимать за норму? Для преступника, вообще способного к исправлению, оно, разумеется, главным образом есть самоисправление, при чем внешнее содействие должно собственно только ставить человека в наиболее благоприятные для этого дела условия, помогать ему и поддерживать его в этом внутреннем процессе.
Но возможно ли вообще исправление преступников? Многие представители криминальной антропологии утверждают физически-роковой характер наследственных прирожденных преступных наклонностей и следовательно их неисправимость. Что существуют преступники наследственные и преступники прирожденные, это несомненно; что между ними есть неисправимые — это довольно трудно отрицать; но утверждение, что все, или хотя бы большинство преступников безусловно неисправимы — совершенно произвольно, противоречит опыту и не заслуживает критики. Если же мы в праве допустить только то, что некоторые из преступников неисправимы, то при невозможности сказать заранее с полною уверенностью, принадлежит, или нет данный преступник к этим некоторым, необходимо ставить всех в условия, наиболее благоприятные для возможного исправления.
Первое и основное условие успешного решения исправительной задачи есть конечно то, чтобы в главе пенитенциарных учреждений стояли люди способные к такому трудному и высокому назначению — избранные юристы, психиатры, моралисты и лица с истинным религиозным призванием.
Общественная опека над преступником с целью его возможного исправления, поручаемая особенно одаренным для этого людям — вот окончательное определение «наказания» или положительного противодействия преступлению согласно с нравственным началом. Таким наказанием всего лучше удовлетворяется и право на самоохрану, несомненно принадлежащее обществу: преступник исправленный не только не будет опасен обществу, но и сторицею воздаст ему за его попечение. Нормальное уголовное правосудие и соответствующая ему пенитенциарная система — действительная
623
правда и милость к преступникам бек ущерба для невинных — вот самое явное и полное доказательство истинной связи между правом и нравственностью, или истинного понятия о праве как равновесии двух нравственных интересов: общественного блага и личной свободы. Помимо этой связи, или этого равновесия гуманное исправительное заведение для преступников так же, как и лечебница для опасных больных, есть принципиальная бессмыслица. Если дать перевес общественному благу, то преступников, как и вредных больных, следует просто истреблять. Если же дать перевес личной свободе, то нужно отказаться от всякого принудительного воздействия на тех и на других. Совесть и разум, а ныне уже и опыт, указывают на правый путь, не допускающий ни бесчеловечного истребления вредных людей, ни бесчеловечного дозволения им истреблять других.
______________
624
Страница сгенерирована за 0.17 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
