13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Степун Фёдор Августович
Степун Ф.А. Россия накануне революции
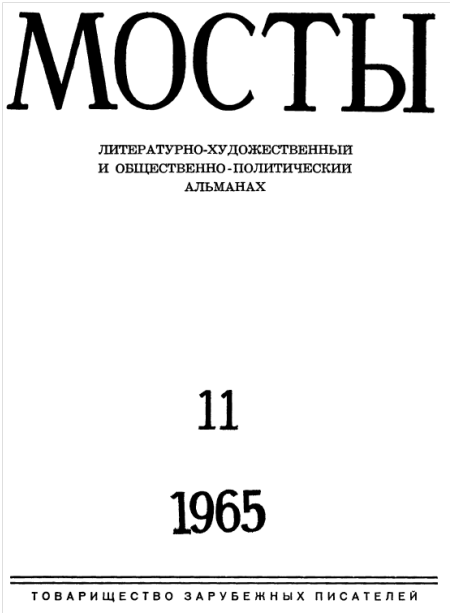
Germany. München
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Файл в формате PDF взят с сайта http://www.emigrantika.ru/
ФЕДОР СТЕПУН
Россия накануне революции
КАНУН ВОЙНЫ
О состоянии России накануне первой Великой войны будут еще много писать не только в русской, но и в европейской прессе. Исследование этой темы давно ведется, есть и работы, помогающие широкому читателю ориентироваться как в причинах возникновения войны, так и в вопросе об ответственности за нее отдельных наций и классов. Так как современность занята прежде всего вопросами внешней политики, порожденными революционными потрясениями, то естественно, что внимание исследователей кануна первой войны привлекается главным образом к этим же потрясениям. Когда пишут о России, то исследуют прежде всего предвоенную борьбу русской реакционной монархии с революционной интеллигенцией. Не подлежит сомнению, что эта борьба сыграла большую роль в развитии нашего столкновения с Германией, но я все же думаю, что громкий политический диалог между монархией и революционным социализмом отнюдь не отражает всех сложных чувств и мыслей, волновавших Россию в то время.
Немецкий социолог Зиммель создал понятие молекулярной социологии, представляющее собой как бы перенесение в историческую науку принципа дифференциального исчисления: бесконечно большого значения бесконечно малых величин. Пользуясь зиммелевским методом, Гротхейзен написал исключительно интересную историю французской революции. Этим же методом пользуюсь и я в моем анализе России накануне первой мировой войны, дополняя свои анализы личными воспоминаниями.
Вернувшись в 1910 году из Германии, я застал в революционной среде большие изменения. Ненависти к правительству было не меньше, чем раньше; презрения к отцам-либералам было в социалистическом лагере, пожалуй, даже больше. Но во всем этом оппозицион-
253
ном кипении уже не было прежней воли к наступлению и уверенности в успехе. Подсознательно многие начали сдавать позиции. Радикальные кандидаты прав записывались, с не совсем чистой совестью, в помощники к знаменитым присяжным поверенным буржуазно-либерального лагеря. Радикальные сыновья серых купцов шли торговать в отцовские лабазы. Кое-кто из студентов-общественников словно в монастырь уходил в науку. И лишь притаившиеся в темном подполье выздоравливающей жизни неизлечимые левые марксисты ждали нового прилива революции. На первый взгляд, возникающая вокруг них жизнь не давала им никаких надежд на осуществление их чаяний.
Москва росла и отстраивалась с чрезвычайной быстротой. Булыжные мостовые главных улиц заменялись где торцом, где асфальтом, улучшалось освещение; фонарщиков с лестницей через плечо и с круглой щеткой за пазухой для протирания ламповых стекол я по возвращении в Москву уже не застал. Шире разветвлялась трамвайная сеть. Постепенно уходили в прошлое милые конки с пристегом где одной лошаденки, а где и двух уносов.
Всюду как грибы после дождя выростали дома. У Мясницких ворот высоко подняла свои круглые часы башня нового почтамта. В тылу старенького училища живописи и ваяния взгромоздились высокие корпуса с квартирами-студиями. Особенно быстро преображалась «улица Св. Николая» — интеллигентский Арбат. Едешь и дивишься: что ни угол, то новый дом в пять-шесть этажей.
Провинция преображалась, пожалуй, еще быстрее Москвы. Умные и работоспособные крестьяне, даже не выходя на отруба, быстро шли в гору, смекалисто сочетая сельское хозяйство со всяческими промыслами в городе. Большой новый дом под железной крышей, две, а то и три сытые лошади, две-три коровы становились не редкостью. Дельно работала кооперация, снабжая маломощных крестьян всем необходимым: от гвоздя до сельскохозяйственной машины.
В связи с хозяйственным ростом страны, которого не отрицает даже и советская наука, рос и менялся в своем существе и культурный облик России. Многие близкие, по своим исходным политическим настроениям и убеждениям, социал-демократической партии философы и поэты, пораженные явленным Россией в 1905 году революционным обликом, начали быстро отходить от прежних позиций и перекочевывать кто в идеалистический, а кто и в православный лагерь. Для русского марксизма, а также и для русского православия характерен тот факт, что наиболее значительные русские богословы и религиозные философы пришли ко Христу на путях преодоления марксизма — Булгаков, Бердяев, Франк, Струве и Федотов.
Как философия, так отошла от марксистской революции и рус-
254
ская литература. До 1905 года в ней явно господствовал Максим Горький. Как он сам, так и близкие ему по духу писатели-реалисты были представителями революционных настроений и идеологий. Над всей этой литературой витал «черной молнии подобный» горьковский «Буревестник». Большинство романов горьковского лагеря представляло собой художественное оформление хозяйственного и политического состояния России. Бунин дал мрачный облик дореволюционной деревни; Куприн проанализировал в «Молохе» грехи капиталистической системы, в «Поединке» — недостатки армии, в «Яме» — упадочность капиталистическо-буржуазной морали. В свое время весьма левый Шмелев дал критическую картину отношений деревни к городу. Юшкевич, как беллетрист, главным образом занимался еврейским вопросом. Этически-политическим лозунгом всего этого движения можно считать строки Некрасова: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».
Характерно, что основанное Горьким издательство, в котором выпускались вещи перечисленных авторов, называлось «Знание», чем подчеркивался практически-рационалистический характер литературного «передвиженчества». Распространялись книги главным образом не через книжные магазины, а непосредственно самим издательством: борьба с прибавочной стоимостью.
За несколько лет до войны ведущая роль в литературе перешла к новаторам-символистам (манифест символистов был впервые провозглашен Мережковским), к футуристам, а впоследствии и к акмеистам. В творчестве символистов раскрылся совершенно новый облик России. Характерной чертой всего движения символизма надо считать восторженную оторванность от здешнего мира, взвихренность в поднебесье. За семь лет до русско-японской войны Соловьев, которого можно в известном смысле считать отцом символизма, предсказал не только то, что она будет, но и победу японцев, предсказал он и угрожающую нам сейчас опасность «желтого» наступления на Европу. На смертном одре он молился за евреев, предвидя их страшную судьбу. Но кроме этих предсказаний, близких к ясновидению, знал Соловьев и видения. В своей поэме «Три свидания» он рассказал о встречах со Св. Софией — премудростью Божьей, о которой говорится в притчах Соломона. Этот образ женщины «с очами, полными лазурного огня», слился впоследствии у поэтов символизма с образом вечной женственности Гете. Его воплощением надо считать «Стихи о прекрасной даме» Александра Блока. В них можно видеть защиту платоновского эроса от сексуализма арцыбашевских женщин, которые неизбежно говорят низким контральто, кокетничая прищуривают опушенные длинными ресницами глаза и, смеясь грудным смехом, колыхают грудью. Характерно для той эпохи, что в Москве существовали «Лига свободной любви» и «Клуб самоубийц».
255
То же изменение, что происходило в литературе, происходило и в живописи. Народническое передвижничество начало быстро сменяться импрессионистической живописью, кубизмом и другими школами. Нельзя забывать, что руководящую роль в создании и распространении беспредметной живописи сыграли три русских художника: Кандинский, Яв ленский и Бур люк, участники содружества „Der blaue Reiter" («Голубой всадник»).
Было бы неправильно думать, что весь этот перелом настроений и вкусов происходил лишь в узких художественных и философских кружках, что Россия им не дышала. Против этого говорит, во-первых, та меценатская щедрость, которая своими симпатиями и капиталами поддерживала новую литературу и новое искусство; во-вторых, тот большой интерес, с которым провинция прислушивалась и приглядывалась к нарождающимся новым веяниям. Организационным центром, взявшем на себя удовлетворение духовного голода провинции, было Бюро провинциальных лекторов, созданное при Обществе распространения технических знаний. Люди, работавшие в нем, были исполнены живой любви к русскому народу и его просвещению. В провинции оно опиралось главным образом на губернское и уездное учительство и на левую интеллигенцию.
В 1908 году к двенадцати комитетам Общества была, по инициативе графини Бобринской, прибавлена тринадцатая организация — образовательных экскурсий за границу. Так началось паломничество неимущей русской интеллигенции и прежде всего провинциального учительства за границу. Уверен, что если бы кому-нибудь из советских учителей попались в руки отчетные сборники этого комитета, у него глаза полезли бы на лоб от удивления той свободой, которая допускалась в царской России. Начавшие выходить после революции 1905 года педагогические журналы: «Русская школа», «Вестник воспитания», «Журнал для народного учителя» содержат много очень интересного материала.
Записавшись в Бюро провинциальных лекторов, я изъездил почти всю Россию — от Нижнего до Царицына, от Смоленска до Ташкента и Коканда, от Петербурга до Николаева, и до сих пор с радостью вспоминаю, с какой быстротой расцветала провинция. Наиболее живой и социально пестрой аудиторией была аудитория Нижнего Новгорода. Здесь крепко стояли на страже своих миросозерцйний две традиции: традиция Максима Горького и традиция Владимира Короленко. В Нижнем все лекции посещались и наиболее интеллигентными сормовскими рабочими. Лучшей нижегородской аудиторией была аудитория губернских и уездных учительских курсов. Сколько готовности к жертвам, сколько веры в науку, сколько любви к народу светилось в глазах сельских учительниц, в альбомах которых я часто находил строки Блока «Девушка пела в церковном хоре». Еще десять-двадцать лет дружной и упорной работы — и
256
Россия быстро вышла бы на дорогу окончательного преодоления того разрыва между необразованностью народа и ненародностью образования, в котором славянофилы правильно видели основную трудность русской жизни и русской культуры: народ искони верил в церковь, часть русской интеллигенции — с годами все больше в Маркса, Ленин же из марксизма сделал церковь, и в этом мы все запутались.
Европа чувствовала происходящее в России духовное обновление и интересовалась нами. Перед войной в качестве гастролеров в Москве и Петербурге перебывали не только все именитые эстрадные артисты и многие актеры Европы, но также известные писатели, художники, ученые. Запомнились выступления Матисса, Верхарна, Маринетти, социолога Зомбарта и философа Когена.
Заканчивая характеристику хозяйственного, общественного и культурного обновления России, нельзя хотя бы мимоходом не коснуться армии. Призванный в 1905 году в качестве прапорщика запаса на действительную военную службу, я на войну не попал, а прослужил несколько недель в лагере при селе Клементьеве, у Можайска. Батарея, к которой я был прикомандирован, теоретически ежедневно ожидала отправки на фронт, но фактически с этой возможностью не считалась: жила скучной, унылой бытовой жизнью, мало обременяя себя вопросами военной подготовки к выступлению. Все как-то считали, что при старых орудиях заниматься артиллерийскими учениями не стоит, надо ждать новых орудий; лошадей тоже перед походом надо беречь, а не гонять их по конным учениям. Живой национальной скорби ни среди офицеров, ни среди солдат не замечалось. Раз решили было отпраздновать поступок капитана, заявившего по начальству о своем желании добровольцем отправиться на фронт, но вышло неудачно: крепко напившись, герой заявил, что едет на дальний фронт только потому, что платят двойное жалование, а у него «две семьи на шее». Подумать страшно, какой позор обрушился бы на Россию, если бы мы вступили в первую мировую войну, не пережив поражения 1905 года.
К счастью, победа японцев в связи с общим подъемом России отразилась и на армии. Призванный в 1911 году уже в третий раз для отбывания воинской повинности, я застал армию в совершенно другом состоянии: в Клементьевском лагере велась живая, напряженная и весьма интересная работа. Психология летнего пикника отошла в далекое прошлое. Лагерем владело ощущение возможной войны и ответственности за нее.
Нарисованная мною картина хозяйственного, общественного и культурного оздоровления России, безусловно, верна, но было бы неверно предполагать, что этому возрождению не препятствовали весьма значительные силы. Наибольшей из них надо считать оставшееся в крестьянстве от революции 1905 года убеждение, что по-
257
мещичья земля по праву принадлежит им, что революция ее им почти что отдала, но царская власть в последнюю минуту опять ее у них украла.
Живя в предреволюционные годы в деревне, нельзя было не видеть, что помещики стали продавать свои имения потому, что боялись повторения крестьянской революции. Эта боязнь имела полное основание. Да и как было забыть слова председателя крестьянского съезда 1905 года: «Не было ни одного случая насилия: били только помещиков и их управляющих, да и то только в том случае, если они сопротивлялись». Подмосковная деревня была внешне спокойна, но чувствовалось, что этот покой лишь захлороформированное беспокойство. Беспокойство чувствовалось и в Москве; угрожающими символами остались в памяти две картины: резкие свистки и поднятые кулаки сидевших рядом со мной на верхушке конки рабочих перед окнами богатого ресторана, из которого слышалась музыка. Другая картина: злой и задорный хохот рабочих парней, повстречавшихся на Пречистенском бульваре с нарядной барыней, рядом с которой бежал породистый выхоленный дог: «Чай, у собаки было больше докторов, когда ее корнаухали, чем у нас в деревне, когда наши бабы рожают». Пройдя мимо барыни, они запустили в нее камнем.
Чтобы спасти Россию от углубленного повторения революции, правительство должно было бы быстро и решительно провести давно назревшие социальные реформы, прежде всего на аграрном фронте. На это у него не хватило мужества и таланта, добрая воля все же была.
О покойниках не принято говорить ничего дурного. Русская интеллигенция этого рыцарского правила не соблюла. О большевиках говорить, конечно, не приходится, но и эмиграция, как либеральная, так и социалистическая, начав во всем винить правительство, упорно занималась тем же и дальше, не чувствуя своей вины в том, что она, — когда, благодаря дарованию Думы, все же создалась возможность сотрудничества с монархией, — продолжала не на живот, а на смерть борьбу с ней. Подумать страшно, что признанный вождь русского либерализма профессор Милюков ответил на дарование Думы знаменитым: ничего не изменилось, борьба с правительство^ продолжается дальше. Ложным пафосом и антиисторическим утопизмом было и Выборгское воззвание, требовавшее от народа саботирования государственных законов. Так злосчастным сотрудничеством этих сил, тормозивших развитие власти, с объятой легкомысленной нетерпеливостью общественностью, совлеклась Россия с того восходящего к новой жизни пути, который дарованием Думы ей все же был дан.
После пробной мобилизации 1912 года общественное настроение сразу же потемнело, почувствовалась близость неотвратимой опас-
258
кости — войны ли, революции, — было неясно, о том гадали. Шли разговоры и на тему — не хочет ли правительство войны, чтобы избавиться от революции. Царствовали грехи великопостной молитвы Ефрема Сирина, «грехи уныния и празднословия». Многим казалось, что над Россией нависла неотвратимая катастрофа:
«Плачь, сердце, плачь ...
Покоя нет! Степная кобылица
Несется вскачь».
ВОЙНА
Анализ сложных причин возникновения первой мировой войны не входит в мои задачи, тем не менее хочется сказать несколько слов о будто бы господствовавшем в России накануне войны панславизме, мечтавшем о завоевании мира. Мне эта теория представляется величайшим заблуждением, желанием придать русской политике агрессивный, воинствующий характер и тем свалить на нее большую часть ответственности за войну. Даже такой хороший знаток России, как фон Раух, написавший объективную книгу о большевизме, вскользь все же говорит, что на войну Россию подвинул «агрессивный панславизм», всколыхнувшийся в России в связи с назревавшей в Европе войной. Если читать придирчиво, то можно даже подумать, что победоносное наступление русских в Галиции отчасти объясняется тем, что Россия там освобождала славян-галичан, чего на прусском фронте не было.
Частично объяснение тому, что в Германии создалось убеждение о ведущей роли панславизма в русской историософии и политике, можно видеть в логической неряшливости, с которой в России употреблялся термин «славянофилы». Благодаря этой неряшливости западные историки и публицисты привыкли сливать воедино славянофилов с панславистами, на что, в сущности, не было никакого основания. Пафос славянофильства определенно религиозный и историософский, но отнюдь не расово-националистический. Философские истоки славянофилов связаны с немецкой романтикой; Киреевский пришел к православию на путях изучения Шеллинга. Орган славянофилов назывался «Европеец», а не «Москвич» и был запрещен правительством.
Второе поколение славянофилов было менее философски и более политически настроено. До некоторой степени оно приближалось к панславизму в западноевропейском смысле слова, но и самый значительный из славянофилов второго поколения все же не был панславистом. Говорил же Погодин в своей речи, что «провидение западу дало совершенно определенные задачи, а востоку другие и запад
259
в истории так же необходим, как и восток». Правда, Погодин собирался в 1867 году созвать в Москве славянский конгресс, но из этой затеи ничего не вышло, так как поляки, вслед за известным французским историком *) считая, что русские не славяне, а туранцы, в Москву не приехали. Единственный русский историософ, которого можно, пожалуй, считать панславистом, — это Данилевский. Но все же нельзя забывать, что Владимир Соловьев в своем «Национальном вопросе в России» убедительно доказал, что концепция культурно-исторических типов Данилевского заимствована им у немецкого историка Генриха Рюкерта. К этому надо еще прибавить, что Данилевский, как и Герцен, считал центром славянства не Москву, а Константинополь.
Все мною сказанное не опровергает, конечно, того, что правительственные круги прикрывали и оправдывали свои внешнеполитические замыслы национальными теориями, носившими иной раз всеславянский характер. Но в подлинной России воинствующих панславистских настроений все же никогда не было. То, что моему мнению могут быть противопоставлены многие цитаты не только из монархической, но и из либеральной прессы, я, конечно, знаю, но мне кажется, что их чернильный патриотизм неверно отражал подлинные настроения страны и армии: в армии, где лилась кровь, чернил не любили. В сущности, в широких общественных кругах боролись только два течения: течение пассивного патриотизма и течение пораженчества. Интересно и характерно, что Марк Вишняк в своих воспоминаниях «Дань прошлому» зачисляет себя самого, а тем самым и значительную часть эсеровской партии, в лагерь пассивных патриотов, этим оспаривая мнение, будто бы во вступлении России в войну сыграло большую роль возрождение шовинистического панславизма не только в правительстве, но и в общественном мнении. Заподозрить Вишняка, многолетнего идеолога эсеровской партии, к тому же русского гражданина, принадлежащего к преследовавшейся части русского народонаселения, в симпатиях к монархии нельзя. Если бы Россию подвинуло на войну националистически-панславистское настроение, Марк Вишняк это, безусловно, заметил бы и не написал бы того, что мы читаем в его воспоминаниях:
«В сложном клубке противоречивых и противоборствующих интересов национальных, классовых, политических — Сербия явно была жертвой нацелившегося хищника. И Россия, ставшая на защиту слабой стороны, какие бы цели она не преследовала попутно, во всяком случае не была виновницей войны, а выступала в роли сопротивляющегося насилию ...»
Своеобразная пассивность русского патриотизма, чувствовавшаяся даже и в армии, — наступая она не очень ликовала, отсту-
*) Henry Martin (1810-1883), La Russie et l’Europe.
260
пая не очень печалилась, — до некоторой степени объясняется верой в непобедимость России, охватившей шестую часть мира. К захвату чужих стран солдаты относились явно без большого интереса. Помню, как мои сибиряки, быстро отступая в Галиции, говорили мне: «На што нам, ваше благородие, эти горы, пахать неудобно. Разве что на волах, да мы к этому непривычны».
Пока армия была в относительном порядке, пораженческие циммервальдовские идеи Ленина вели на фронте, да и в тылу, лишь приглушенно-подпольное существование. Вышли они из подполья уже после известия, что в Петербурге вспыхнула революция.
То, что в России во время войны господствовали только два настроения — настроения пассивного патриотизма и пораженчества — доказывается прежде всего тем, что только их носителям и защитникам удалось сразу же после падения монархии создать свои действенные организационные центры, борьба между которыми и решила судьбу России. Пассивный патриотизм сразу же завладел общерусским «Советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», а пораженчество — Петроградским советом, в котором постепенно поело, а в конце концов и выросло, большевистское наступление на Россию. Правые и национальные силы организоваться не смогли, а потому ни в малейшей мере и степени не определили пореволюционную судьбу России. В сущности и министры Временного правительства, принимавшие участие в подготовке дворцового переворота, были тоже лишь пассивными патриотами, стремившимися спасти Россию от полного военного разгрома, но не мечтавшими о покорении мира. Эта пассивность сказалась и в том, что после того, как из-под копыт дворцового переворота взвилась народная революция, все главные деятели Временного правительства — Милюков, Львов, Гучков — с непостижимой легкостью начали подавать в отставку, ощущая себя видимо не вождями русского народа в тяжелую минуту, а министрами коституционного демократического правительства. Правда, Милюков еще говорил о завоевании Дарданел, но это было скорее профессорским доктринерством, чем воинствующим национализмом.
Я, конечно, знаю, что против моей характеристики России накануне и во время войны можно выдвинуть, на первый взгляд, очень существенные возражения. Достаточно напомнить о погроме немецких квартир и магазинов в Москве, с выбрасыванием роялей из верхних этажей на улицу, и о восторженном приеме солдатских эшелонов на всех станциях, где они останавливались. Все это верно. Тем не менее я утверждаю, что все, как будто опровергающее мой образ России, является лишь случайным выпадением ее из присущего ей духовного и бытового образа. Московские, и не только московские, погромы были, конечно, предельно гнусны, но они не
261
были извержениями русской народной души, а лишь оплаченными деньгами и водкой инсценировками якобы народного патриотизма.
Солдат, правда, встречали на всех станциях с величайшим восторгом, но политической демонстрацией русского национализма эти встречи все же не были. Иногда, правда, слышались возгласы — «Защитите Россию, задайте немцам» или «Проучите немцев», но такие выкрики слышались очень редко. В общем же в глазах людей, и прежде всего в глазах тех женщин, которые подносили к открытым окнам вагонов цветы и оделяли нас папиросами, чувствовалась глубокая материнская скорбь. Я шесть недель ехал эшелоном из Иркутска через Москву в Ивангород, и на всех станциях были все те же озабоченные, любящие и печальные глаза. Воинственной ненависти не запомнилось. Миролюбива была даже и армия.
Об этом говорит следующая запомнившаяся картина. На какой-то большой еще доуральской станции, где мы все собрались вкусно пообедать, буфет первого и второго класса оказался до того забитым голубыми австрийскими офицерами, что для нас не нашлось ни места, ни тарелки щей. Повертевшись в буфете, мы вернулись на платформу. Пленные и тут с жадностью скупали всякий провиант у баб и подростков, толпами стоявших вдоль платформы. Купив кое-что, мы не солоно хлебавши вернулись в свои вагоны. Приказать пленным австрийцам очистить для нас зал никому и в голову не пришло. Не думаю, что нечто подобное могло бы быть и на немецкой стороне.
Я выше писал о предвоенных разговорах по поводу войны и о ее предполагавшихся виновниках. Об этом же, конечно, думали и солдаты. Должен признаться, что самое разумное и нравственно глубокое, что мне пришлось на эти темы услышать, я услышал от солдат-сибиряков.
Однажды, будучи дежурным по бригаде, я разговорился у коновязи с моими сибиряками. Вопросы сыпались один за другим: «И с чего это немец нам войну объявил, ваше благородие?» «А далеко ли до немца ехать?» «Крещеный ли немец народ, или как турки — нехристи?» «Может быть, они с того и на рожон лезут, что жить им тесно? С хорошей жизни на штык не полезешь. Так нельзя ли от них откупиться?» «Если бы немцу примерно треть того отдать, во что война обойдется, то, может быть, он бы и угомонился, и Государю Императору не надо было бы зря народ калечить». Отвечать было трудно. План Маршалла мне пришлось объявить запоздавшим: война началась — назад не вернешь. Объяснив мужичкам, что немцы христиане и что до них ехать эшелоном недель шесть, я вызвал у солдат полное недоумение. По их мнению, Россия воевала только с язычниками — турками и японцами, а с христианами войны не вела. Мысль же, что к немцам надо ехать целых шесть недель навстречу, показалась им уже окончательно бессмысленной:
262
«Да зачем же нам врага искать, пущай сюда придет, тогда увидит, что от него останется — ничего».
В моей автобиографии «Бывшее и несбывшееся» я рассказал эту сцену со всей ее жанровой сочностью, но дело не в жанре, а в глубокой истине, которая жила в крестьянских душах. Христианам убивать друг друга и впрямь не должно. Если же признавать неизбежность войны в связи с трагической сущностью мировой истории, то признавать можно, конечно, лишь войну защитительную. Кроме малограмотных сибирских крестьян, эту истину даже и в миролюбивой России никто не защищал. Защищая демократию, то есть народоправство, никто из ведущих войну народов не защищал первичной народной веры. У моих умных сибиряков были еще глаза в то время, как у большинства интеллигентов, и прежде всего у циммервальдских революционеров, уже давно во лбу вместо глаз тускнели идеологические точки зрения, которыми правды не увидишь.
Не видя, что война есть правда о той лжи, которой до войны жили вступившие в нее народы, эти народы слепо обвиняли друг друга. Немцы русских, русские — немцев. Русским солдатам эта тяжба была чуждой. Они ощущали войну не столько в историческом, сколько в космическом и даже религиозном порядке: прогремел гром, хлынул ливень с черного неба, что тут поделаешь! Это чувство очень хорошо выражено в стихотворном сказе, записанном сестрой милосердия Софией Федорченко в ее ценной книге «Народ на войне»:
Эх, кого винить, кого грехом корить,
Эх, как бы знать нам то, кабы ведати!
Да не немцы-то не поганые,
Не австриец, болгарин — продана душа,
Да не кто человек не винен в войне,
Сама война с того света пришла,
Сама война и покончится.
Цитированные строчки, конечно, результат коллективного творчества и потому они бесспорно соответствуют общерусскому народному отношению к войне. Из этого отношения следуют и выводы. У Софии Федорченко записаны и следующие слова одного из раненых:
«Запиши ты твердо слово, наша жизнь такая теперь, что век ее помнить надо. Коли ты эту жизнь нашу теперешнюю проспишь, так значит нас и трубе при Страшном суде не разбудить будет. Не только что помнить, а и вовек по новой по науке жить надо до смерти».
К сожалению в высших кругах русской духоведческой интеллигенции, на заседаниях религиозно-философского общества, в кругу символистов-соловьевцев, этой мудростью не веяло. В горячих спо-
263
рах, которых я вволю наслышался за время моего почти годичного пребывания в лазарете, произносилось много остро отточенных суждений, витиеватых построений, оригинальных прозрений, но всему этому не хватало предметности и органической связи со всем тем, чем жила Россия и о чем она думала в своей народной глубине. Единственно, что связывало религиозно-философское витийствование с народной мудростью — это отсутствие в ней воинствующего национализма. Как бы памятуя соловьевский афоризм — «Нация относится к национализму, как личность к эгоизму» — русские религиозные философы со страстью защищали нацию, но не национализм. Так горячий патриот Вячеслав Иванов писал в статье безусловно искренне, что если бы Россия объявила войну немцам, руководясь политическим честолюбием или, еще того хуже, ради экономических выгод, то надо было бы пожелать, чтобы она была побеждена немцами, но, к счастью, Россия может гордиться тем, что она подняла меч в защиту дружественных ей алтарей. Признав право Германии на объединение, которое было осуществлено Бисмарком, Вячеслав Иванов критикует очень жестоко объединенную Германию. Достижение высокой цели совпало, по его мнению, с ее уничтожением. Став крупной политической силой, Германия быстро перестала быть страной поэтов и мыслителей: перешла «от Канта к Круппу» (заглавие книги Владимира Эрна). Отсюда вырастала задача России: вернуть Германию к ее духовным истокам. Это падение Германии иллюстрировалось примером судьбы гетевского Фауста. Потеряв веру в живительную силу духа, Фауст назначил во второй части трагедии своим заместителем Мефистофеля, который сразу же начал управлять миром по внушению самого черта, отчего Фауст впервые в своей жизни ощущает удовлетворение. Все же, достигнутое Мефистофелем даже в сфере внешней цивилизации, оказывается злом: гибнут мирные поселения у канала (это толкуется, как художественное предвосхищение разгрома Бельгии). Единственное, что в Фаусте остается положительным, это любовь к земле. Он еще чувствует ее религиозную тайну, тайну Богоматери: «Земля — Богородица есть» (Достоевский). В воюющей Германии эта тайна уже давно погасла.
Этому отрицательному образу Германии противопоставлялся положительный образ Франции, все еще достойной дочери Церкви, и Англии, предназначенной для экуменического устроения мира.
Говорили, конечно, и о политическом устроении будущей России. Монархию уже не защищали, мотивируя защиту демократии тем, что в России высшим церковным авторитетом является не Папа, но церковный собор, на что, конечно, нельзя было возражать, что политической формой католических стран является все же демократия. Все эти речи, в которых я по своему солдатскому настроению не участвовал, помнится, очень глубоко волновали меня.
264
Когда я, замученный и затуманенный тыловыми настроениями и выдумками, вернулся в действующую армию, я сразу же остро и скорбно почувствовал происшедшие в ней изменения. Надежда, что война — Бог даст — разгромом России все же не кончится, была уже на исходе. Даже артиллерийское офицерство было не только угнетено, но и озлоблено. Среди солдатских масс ходили темные слухи о Распутине, государыне и Штюрмере; перешептывались о том, что готовится предательство. Кое-кто из прапорщиков запаса уже начинал подсказывать мысль, что немецкая, петербургская монархия хочет отдать Россию немцам. Шептали и о том, что Россию может спасти только революция. Вражда к монархии, бросившей миллионы людей на фронт, не подготовив военных и хозяйственных предпосылок успешного ведения войны, разделялась как правыми консервативными, так и левыми революционными кругами. Разница была только в том, что левые хотели не только низвержения Николая II, но и окончательной ликвидации монархии; правые же надеялись низложением Николая выиграть войну, а может быть и спасти монархию, придав ей конституционную форму. Среди офицерства ходили слухи о том, что правая оппозиция при участии некоторых родственников царской семьи и крупных военных подготовляет дворцовый переворот. Все эти слухи были, конечно, еще окутаны туманом.
Дальнейшее развитие России определилось тем, что народная рабоче-солдатская революция опередила дворцовый переворот. Ктото в своих воспоминаниях — имени не помню — рассказывает, как рабочий, шедший в революционной толпе, которую теснила усмиряющая конница, попросил у казака прикурить. Казак нагнулся с седла, и революционер прикурил свою папиросу. В этом вспыхнувшем огоньке сгорел дворцовый шфеворот, оставив поле действия только народно-рабочей революции. Этого не поняли будущие деятели Временного правительства, и это непонимание подготовило победу большевиков. Пойми они, что после революции продолжение войны стало невозможным и что их задача может состоять только б спасении России от революционного разгрома, они должны были бы решиться на три меры: во-первых, заявление союзникам, что создавшееся положение требует быстрого начала мирных переговоров, во время которых русская армия может держать фронт, но при условии, что не будет наступления; в случае же отказа союзников от начала мирных переговоров — угроза подготовки сепаратного мира с Германией. Во-вторых, возможно быстрый созыв Учредительного Собрания для передачи помещичьей земли крестьянам, дабы прекратился разгром помещичьих усадеб и оказалось возможным еще некоторое время держать солдат в окопах. В-третьих, немедленный арест Центрального Комитета большевиков с угрозой
265
применения высшей меры наказания, если они будут продолжать революционную работу.
Применение этих мер было Временному правительству не под силу по целому ряду очень сложных причин, о которых здесь говорить невозможно. За это бессилие Россия заплатила Лениным, а Европа Гитлером.
266
Страница сгенерирована за 0.09 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
