13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Федотов Георгий Петрович
Федотов Г.П. Письма о русской культуре. 3. Создание элиты
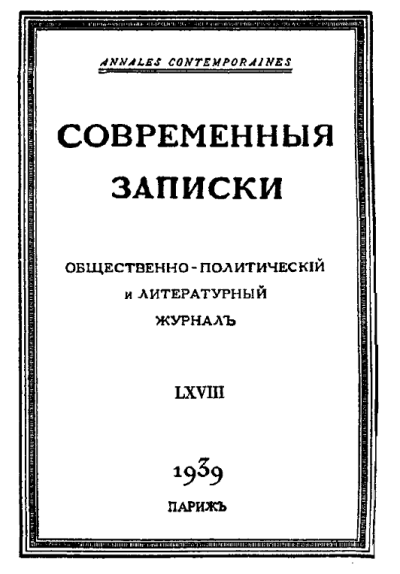
Г. ФЕДОТОВ
ПИСЬМА О РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ
III. СОЗДАНИЕ ЭЛИТЫ
1
В то время как мы пишем эти строки, где-то, в темных подвалах политического мира, принимаются решения, которые надолго определяют судьбу России. Нет сомнения, что ближайший день русской культуры сложится в тесной зависимости от политического исхода русской революции. Отстоит или нет Россия свою независимость, оборонит ли свою Империю-Союз или будет отброшена к границам Великороссии; сохранится ли, в смене власти, преемство Октября и созданного им отбора, или хозяевами России, на известное время, явятся эмигранты — под защитой немецких штыков, — нам не дано знать. Но вся внутренняя жизнь России на поколения определится развязкой затянутого Сталиным узла. Россия может развиваться в новую трудовую демократию или пройти через фашизм, то есть еще через новую форму фашизма, через новую идеократию, новую чекистскую организацию культуры. Можно ли при такой неясности делать какие-либо прогнозы о ее культуре? Не крайнее ли это легкомыслие и дерзость?
Тем не менее, мы смеем утверждать, что есть некоторые общие темы русского культурного развития, которые независимы, или почти независимы, от политики. К кругу таких тем принадлежит и поставленная нами в настоящем письме. Каков бы ни был политический смысл русской революции, ее культурное содержание может быть описано, с крайней схематичностью, следующим образом: русская культура, доселе творимая и хранимая интеллигенцией, спускается в самую глубину масс и вызывает полный пере ворот в их сознании. То обстоятельство, что в первый период революции большевики пытались организовать всю культуру вокруг марксизма, имеет случайное значение. Этот период проходит или уже прошел. Вместо марксизма много других идей и идеологий могут быть еще брошены в котел, где плавится новое народное миросозерцание. Существенным остается одно: все-
388
народный, или, скромнее, демократический, характер новой русской культуры. Никто не думает, конечно, что в России высшая математика или философия стали доступны массам. Но культура перестала быть замкнутой или двухэтажной. Старое противоположение интеллигенции и народа потеряло свой смысл. От центра к периферии движение интеллектуальной крови совершается без задержек и перебоев. Россия в культурном смысле стала единым организмом. Этот факт непреложен и неотменяем. Никакие реакции и перевороты не могут изменить его: не могут отнять книгу у народа или воздвигнуть стену между массами и национальной культурой. Из этого факта мы исходим, и последствия его пытаемся оценить.
То, что произошло в России, не представляет ничего странного и небывалого. Россия просто приблизилась, по своему культурному строению, к общеевропейскому типу, где народная школа и цивилизация XIX века уже привели к широкой культурной демократизации. Однако в России, в условиях небывалой революции, этот давний и неизбежный процесс демократизации культуры был не только форсирован. Благодаря сознательному и полусознательному истреблению интеллигенции и страшному понижению уровня, демократизация культуры приобретает зловещий характер. Широкой волной текущая в народ культура перестает быть культурой. Народ думает, что для него открылись все двери, доступны все тайны, которыми прежде владели буржуи и господа. Но он обманут и обворован. Господа унесли с собой в могилу — не все, конечно, — ключи, — но самые заветные, от потайных ящиков с фамильными драгоценностями. Университеты открыты для всех, в России насчитывается до 700 высших школ, но есть ли хоть одна высшая школа, достойная этого имени, равная по качеству старому университету? В этом позволительно сомневаться. Рабочий или крестьянский парень, огромными трудами и потом стяжавший себе диплом врача или инженера, не умеет ни писать, ни даже правильно говорить по-русски. Приобретя известный запас профессиональных сведений, он совершенно лишен общей культуры и, раскрывая книгу, встречаясь с уцелевшим интеллигентом старой школы, на каждом шагу мучительно чувствует свое невежество. Специалистом он, может быть, и стал — очень узким, конечно, — но культурным человеком не стал и не станет. И не потому, конечно, что у него нет поколений культурных предков, что у него не голубая кровь. В старой, полудворянской России «кухаркин сын», пройдя через школу, мог овла-
389
деть той культурой, которая сейчас в рабоче-крестьянской России ему недоступна. Причина ясна и проста. Исчезла та среда, которая прежде перерабатывала, обтесывала юного варвара, в нее вступавшего, лучше вся кой школы и книг. Без этой среды, без воздуха культуры школа теряет свое влияние, книга перестает быть вполне понятной. Культура как организующая форма сознания распадается на множество бессвязных элементов, из которых ни один сам по себе, ни их сумма не являются куль турой.
Дело не в грамотности и не в запасе благородных и бес полезных сведений — по истории, литературе, мифологии. Можно легко допустить, что с годами, ценой большого напряжения школьной дисциплины, в России добьются сносной орфографии и даже заставят вызубрить конспекты по греческой мифологии. И все это останется мертвым грузом, забивающим головы, даже отупляющим их, если не совершится чудо возрождения подлинной культуры; если, перефразируя в обратном смысле слова Базарова, мастерская не станет храмом.
Выражаясь в общепринятых ныне терминах, в России развивается и имеет обеспеченное будущее цивилизация, а не культура, и наше отношение к этому будущему — оптимистическое или пессимистическое — зависит от того, к какому стану мы примыкаем, к стану цивилизации или культуры. Водораздел проходит довольно четкий — как здесь, в эмиграции, так и в рядах старой интеллигенции там, в России. Это различие можно определять по-разному, как различие качества и количества или образования гуманистического и реалистического. Последнее определение можно формулировать точнее, культура построена на примате философски-эстетических, а цивилизация — научно-технических элементов. Но мы и без определений понимаем, в чем дело. Начиная с девяностых годов русская интеллигенция разделилась на два лагеря — не по политическим настроениям, но как раз по линии различного понимания культуры. Бои между людьми культуры и цивилизации велись жаркие, даже ожесточенные. К началу войны они заканчивались относительным торжеством культуры. Философия, эстетика овладевали твердынями «заветов», завоевали позиции в толстых журналах, в школе в газете. Однако их торжество было недолговечным. Народные массы оставались чуждыми этому культурному ренессансу. Они едва просыпались от средневекового сна к диковинкам соблазнительной цивилизации. Чудеса науки и техники действовали неотразимо на детские умы, вчера еще жившие
390
верой в чудотворные иконы и мощи. Обвал старого религиозного мировоззрения был резок и катастрофичен. Вместе с тем обнаружились новые ножницы между интеллигенцией и народом, совершенно обратные рас хождениям шестидесятых и семидесятых годов. Народ оказался духовно в XVIII веке, когда интеллигенция вату пила в XX. Большевистская революция не создала этого конфликта — она лишь трагически углубила его.
В известном смысле можно сказать, что большевизм был возвращением к традициям шестидесятых годов. Конечно, в нравственном смысле нельзя и сравнивать Ленина с Чернышевским. Но умственный склад их был сходен, не даром Чернышевский вошел в творимую легенду революции как предтеча большевизма. Можно было бы утверждать даже, что большевики кое в чем смягчили вандализм Писаревых, никто уже не думал теперь о разрушении эсте тики или о развенчании Пушкина. В этом смысле усилия последнего поколения рыцарей культуры не прошли даром. Им мы обязаны тем, что разрушительный разлив русской революции остановился перед некоторой культурной преградой. Без «Мира искусства» была бы невозможна «Охрана памятников старины». Характерно, что беспощадное разрушение церквей и старины началось уже тогда, когда ушел в могилу или в тюрьму первый интеллигентский строй сподвижников Ленина: все эти Луначарские, Каменевы, Троцкие (или Троцкия), которые не остались чужды культуре XX века. Сталин от нее совершенно свободен, как и тот низовой, полуграмотный слой, который он вызвал с собою к власти. Культурный вандализм большевизма разгулялся тогда, когда революционный дух его уже выдохся. Этот парадоксальный факт показывает, что самый страшный враг культуры в России — не фанатизм, а тьма, и даже не просто тьма, а тьма, мнящая себя просвещением, суеверие цивилизации, поднявшее руку на культуру.
Мы здесь, за рубежом, мучительно переживаем распродажу картин из Эрмитажа как неисцелимую рану, нанесенную русской культуре. Не думаю, чтобы широкие массы в России были хоть сколько-нибудь ею взволнованы. Продать картины, чтобы купить машины или хлеб, — должно было казаться естественным. Тем более что убыль качества покрывалась ростом количества. Эрмитаж все разрастается, захватывая чуть ли не весь Зимний дворец свезенными отовсюду музейными вещами. Бесконечные экскурсии, де филирующие целый день по его залам, смогут ли заметить исчезновение нескольких шедевров в этом море картин, от которого голова
391
идет кругом? Для них, для цивилизации — все на месте. И цивилизации нужен музей, но по-другому нужен, чем культуре. Одни люди влюбляются в картину и целую жизнь посвящают ее культу, другие — глазеют, спеша отбыть «культурную» повинность и сделать «социологические» выводы из запечатленной на полотне трагедии.
Но ведь такой была, в массе своей, и русская интеллигенция шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годов. Эти поколения еще не исчезли из жизни, а, исчезая, оставили наследников. Современная молодежь и здесь, за рубежом, опять откровенно предпочитает техническую цивилизацию — эстетической и философской культуре. Для старых семидесятников и для молодых людей «тридцатых» годов драма русской культуры одинаково не существует. Просвещение в России разливается неудержимо. Тираж книг доходит до миллионов. Все шероховатости и пробелы сегодняшнего дня будут завтра исправлены, и Россия действительно догонит и обгонит Америку.
Да, Америку... Ее догнать нетрудно. Не сомневаемся, что «Новая Америка» сможет многое организовать и лучше старой. Но что же в ней будет от России? Почему этот евразийский континент стоит нашей любви более чем все другие, превращающиеся на наших глазах в унылое единообразие планеты?
Мы, не согласные на Россию-Америку — и чающие для нее иного, высшего будущего, обязаны наметить мост от нашей мечты к действительности. Что делать нам здесь сейчас и завтра там, чтобы, если возможно, отклонить «ход истории», согнуть «железную необходимость»? Словом, еще раз обойти Гегеля, как Ленин раз уже обошел Маркса. Против течения!
Разумеется, жизнь и смерть культуры, в отличие от цивилизации, заключают в себе огромный элемент иррационального. Никто не знает, почему расцветает и почему чахнет искусство. Все наши самые героические усилия не могут создать гения, который определяет на века содержание культуры и дает ей известную форму. Но мы можем создать условия благоприятные — не для появления гениев, а для их роста и их влияния. Да разве одни гении движут культурой? Тысячи работников ведут плуг по указанной учителем борозде. Культура, как и цивилизация, нуждается в организации, в школе, в трудовой дисциплине. И Адам был призван «возделывать рай» — иными приемами, конечно, чем возделывает свое поле американский фермер. А гениев мы имели до-
392
статочно за истекший век. Вряд ли другой народ имел столько великих людей за одно столетие. Бог не обидел Россию. Только бы нам оказаться достойными этого наследства. И не только сохранить, но и творчески приумножить его — что, в сущности, одно и то же.
Проблема культуры, в отличие от цивилизации, имеет два аспекта, допускающих оба сознательное воспитательное и общественное усилие. Культура отличается от цивилизации, во-первых, иной направленностью интересов; во-вторых, приматом качества над количеством. В настоящий исторический день обе проблемы сводятся к одной: как воссоздать в России тот разрушенный революцией культурный слой, который был бы способен поднять качество культурной работы и передвинуть центр интересов с вопросов техники к вопросам духа.
2
Создание элиты, или духовной аристократии, есть задача, прямо противоположная той, которую ставила себе русская интеллигенция. Интеллигенция нашла готовым культурный слой, главным образом дворянский по своему происхождению и отделенный от народа стеной полного непонимания. Она поставила своей целью разрушить эту стену любой ценой, хотя бы уничтожения самого культурного слоя, ради просвещения народа. Опуститься самим, чтобы дать подняться народу, — в этом смысл интеллигентского «кенозиса», или народничества. Русское народничество как культурное умонастроение много шире того социально-политического течения, которое называется этим именем. За немногими исключениями, почти вся интеллигенция разделяла его основные предпосылки. И это было для нее тем легче, что основной темой предшествую щей, петровской, императорской эпохи было «просвещение». Просвещение предполагает истину данной, систему культурных ценностей уже установленной. Для торжества истины нужно лишь приобщить к ней темные массы. Просвещение, или цивилизация, России была, конечно, насущной необходимостью, вопросом ее существования. Но преобладание этой темы налагает на весь XVIII век, при всем его внешнем великолепии, печать элементарности. Творческая эпоха, в сущности, начинается в Але-
393
ксандровские годы, чтобы через несколько десятилетий смениться просветительным народничеством. Различие между просвещением петровским и народническим весьма существенно, хотя легко ускользает от наблюдателя. Просветитель стремится поднять до себя просвещаемую массу, на родник — спуститься до нее. Конечно, и народник спускается, чтобы поднимать, — по крайней мере, в своем дневном сознании, — и просветитель должен популяризировать, то есть принижать свою истину. Но для последнего всего дороже истина, для первого — народ, то есть люди. Первый движется интеллектуальным и эстетическим увлечением истиной, второй нравственным стремлением к Равенству. Каких только жертв не приносит народник на алтарь равенства! Н. К. Михайловский резко формулировал юношеские крайности своего поколения: «Пусть нас секут! Мужика секут же». Это жертва свободой, то есть самым дорогим для русской интеллигенции. Что же сказать о науке, искусстве, философии? Щедрин любил высмеивать благонамеренные общества, которые выпускают «101 том трудов». Какие общества имел в виду сатирик? Вероятно, те исторические, географические и филологические общества, труды, которых являются теперь для нас неисчерпаемым источником познания России и исполняют нас законной гордостью за русскую науку. Щедрин смеялся над трудами академий. Вряд ли ему приходило в голову смеяться над учебниками для народных школ. Народная школа была со зданием интеллигенции, ее гордостью. Академия наук казалась роскошью, излишеством. Звание народного учителя и было самым почетным в России. Звание профессора было — и осталось — почти бранным словом. Считалось аксиомой, что культура (то есть цивилизация) растет снизу, а не сверху. Я знал одного старого чудака, который говорил: «Ведь и человек растет не с головы, а с ног». Существование образованной элиты в безграмотной стране считалось аномалией, чем-то вроде помещичьих оранжерей и крепостных балетов. Большевики, при всем своем марксизме, разделяли (и даже до крайности обострили) это народническое понимание культуры. Они сделали опыт: все для народа, ценою разрушения высших этажей культуры. Университет был полуразрушен, зато СССР гордится почти поголовной грамотностью. Но вот при первой попытке поднять эту грамотность хотя бы до уровня грамотности орфографической встретилось неожиданное (!) препятствие: то, что называется на условном милитаристическом жаргоне — проблема кад-
394
ров. Нет учителей. Чтобы создать народных учителей, надо иметь приличную среднюю школу, чтобы создать среднюю школу, надо иметь университет. Так, на собственном, то есть народном, лбе большевики опытно проверили народническую философию культуры и отрицательно оправдали дело Петра. Да, в отсталой и девственно невежественной стране нужно начинать с Академии наук, а не с народной школы. Таким путем шел весь мир. Западная Европа имела «Академию» при Карле Великом, а народную школу лишь в XIX веке. Просвещение разливается, как вода, заполняя высокие водохранилища, чтобы переливаться, если не через край, то по желобам или шлюзам, все в более низкие водоемы. Народничество предпочитало более органические сравнения: с ростом дерева, например. Земля при этом представлялась источником творческих сил: все из народа. Народ, и именно низы его, творит из себя свою интеллигенцию, которая поднимается все выше и выше, не отрываясь от массы. Таков идеальный порядок культуры, нарушенный аристократическим или буржуазным грехопадением. Что можно возразить на это? Оставаясь в границах органических символов, приходится сказать, что земля сама ничего не производит. Семя падает сверху в ее лоно, которое лишь питает его. Растение столько же дитя солнца, как и земли. Безотцовская, лишь материнская, народническая или земная сила всегда остается темной и бесплодной. Порыв личности к свету, к солнцу, к свободе неизбежно создает надрыв, если не разрыв ее связей со средой, с материнским лоном народа. Неизбежна драма непонимания, отчуждения, борьбы. Народ идет за духовными вождями против воли, упираясь, — всякий народ, хотя бы и высококультурный. Масса, в которую бросали просвещение подвижники XVIII века, была еще почти исключительно дворянской, как дворянской, и даже вельможной, была та чернь, которую бичевал Пушкин. Есть, правда, расстояния, которые оказываются пропастью. Такие пропасти могут поглотить государство, это был случай России. Но для России заполнение пропасти требовало методов просвещения, а не народничества, от Академии к народной школе, а не обратно.
Но теперь вопрос ставится уже не о возврате от народничества к просвещению, а о дальнейшем шаге — от просвещения к творчеству. За просвещение мы можем быть спокойны. И государство, и народ, то есть все слои его, одинаково в нем заинтересованы. В сущности, оно нуждается лишь в материальных средствах и организации. Оно может пока
395
еще — и долго — совершаться в России самотеком, то есть по инерции, силой разбуженной в массах жажды знания.
Иное дело творчество, то есть культурное творчество. Работа для него потребует методов, коренным образом отличных от народнических. Методов не только непривычных для нас, но и прямо враждебных нашим «заветам».
Поставить творчество впереди просвещения — то же самое, что в хозяйственной жизни подчеркнуть производство перед распределением. Логически может ли быть иначе? Прежде чем распределять, нужно, чтобы было что распределять. Лишь XIX век с его титаническим, почти стихийным ростом производства, как и культурного накопления, приучил нас поверхностно скользить над проблемою производительных сил. Социализм сводился к проблеме распределения. Понадобилось тоталитарное осуществление социализма в СССР, чтобы вопросы производства встали в порядок дня. Производство падает. Мощный поток хозяйственной энергии, вчера, казалось, неистощимой, иссякает, как степной ручей. Нужны планомерные и сознательные усилия, чтобы оживить его. Сюда относится борьба с «уравниловкой», премиальные тарифы, стахановщина, восстановление кадров, техническое образование. Обобщая, можно было бы сказать: создание неравенства, или технической элиты. Следует признать, что основное направление технической политики выбрано правильно. Страна должна создать свою техническую элиту, если хочет выбиться из нищеты. Лишь органическое головотяпство режима (отчасти совпадающее с самым духом большевизма) губит все разумные начинания.
В сфере духовной культуры меньше места плановому вмешательству, организации, больше свободе, иррациональным силам духа. Но основная проблема воспитания и здесь та же самая: создание элиты, культурного неравенства. Потрясенные фактом общественного неравенства — действительно безнравственного и уничтожающего возможность подлинного национального общения, — мы проглядели ценность и вечность духовной иерархии. Должно быть расстояние между учителем и учеником, между писателем и читателем, между мыслителем и популяризатором. Иначе нечему будет учить. Напряженность восходящего движения к культуре пропорциональна расстоянию ее полюсов, — если только связь между ними не утрачена: так сила тока пропорциональна разности потенциалов. Конечно, расстояние между полюсами должно быть заполнено посредствующими деятелями; строение культурного мира ступенчато, иерархично. Академик не должен, да и не
396
может, не умеет преподавать в народной школе. Вот то, чего у нас не одни большевики, но почти никто не понимает. Непосредственное творчески-трудовое общение происходит между смежными звеньями иерархии. Тогда — и только тогда, — по слову Данте, nunni tirati son e tutti tirano — «все влекомы, и все влекут».
И, наконец, отрешаясь от всех соображений педагогической целесообразности и даже общественного блага, надо отдать себе отчет в том, для чего, собственно, существует культура. Культура ли для народа или народ для культуры? Единственный смысл существования нации — в ее творчестве: в открытой ею истине, в созданной красоте, в осуществленной или прозреваемой ею правде. Хотя сказано, что суббота для человека, но человек — для Бога. Суббота относится к цивилизации.
Наша радость о Греции, наша благодарность ей за созданное ею вечное достояние омрачается, правда, мыс лью о рабстве, об узости того социального слоя, который был носителем ее культуры. Но кому серьезно придет в голову отказаться от этого наследия), есть в духовном смысле отвергнуть его) лишь потому, что оно пахнет рабством? Или от великой русской культуры, — которая почти вся вскормлена крепостным строем? Неравенство, в самых тяжких социальных формах, до нынешнего дня было необходимым условием высшей культуры: таков закон социального грехопадения. Лишь наше время — впервые в истории мира — благодаря неслыханному накоплению материальных средств сделало возможным — покамест только теоретически — культуру, построенную если не на равенстве, то на общности, на всенародном общении, на бесклассовом, в экономическом смысле, обществе. Это наше счастье, наша привилегия. Сумеем ли мы воспользоваться ею? Лишь в том случае, если на почве экономического почти-равенства сумеем создать культурное неравенство, иерархию духовной элиты. Надо постоянно повторять это, кричать об этом — в наши дни, когда не в одной России, а в половине Европы торжествующая демагогия хочет обезглавить элиту и утопить ее в красном, черном, коричневом, но, по существу, всегда сером национальном однообразии.
3
Создание элиты в России дело не столь безнадежное, как может показаться с первого взгляда. Прежде всего, в какой-
397
то мере, она существует. В России работают ученые с мировым именем. Время от времени выходят художественные издания, тонкие книги по литературе и искусству. Доходят изредка письма, свидетельствующие о неистребимости старой интеллигенции. Старый режим оставил большевикам в наследство не только сотни ученых, но и тысячи «аспирантов». Ими и по сию пору питается русская советская наука. Большинство писателей — выходцы из иной среды, дети новой России и, в смысле культуры, вряд ли удовлетворяют строгим требованиям. Но элита или, вернее, ядро ее существует. Она рассеяна, придавлена, из мучена, лишена корпоративного сознания. Но она не только существует, она способна расти. Этот прирост ее, или ее накопление, может совершаться из трех источников: из подрастающих поколений старой интеллигенции, из нового правящего слоя и из народных низов.
Мы знаем, что многие из представителей интеллигенции, стареющей, обессиленной и уходящей из жизни, су мели, ценою героических усилий, дать своим детям образование, соответствующее требованиям старой России. Молодежь духовно далеко ушла от отцов, большинство прошли через комсомол и через увлечение сталинским строительством, но культурный отпечаток сохранился. Сейчас они, конечно, пережили горькое похмелье. Иные сумели чудом сохраниться и духовно. Эта молодежь и будет носительницей культурного преемства.
Новый правящий слой, который сформировался в России и уже резко отталкивается от народной массы, связан исключительно с государством и службой. При всем старании его внешне подтянуться и лакироваться, при всех усилиях его цивилизации, внутренне он остается совершенно варварским. Сравнение с обществом директории или наполеоновской Империи окажется далеко не в его пользу. Новые люди подчас играют в меценатов, ведут дружбу с писателями, подражая Сталину, но, конечно, ни в какой элите им нет места. Однако они стараются дать своим детям лучшее образование: приглашают частных учителей, учат иностранным языкам. Золотая молодежь вступает в жизнь морально развращенной, падкой на привилегии, жадной до успеха. Но по своему уровню она может быть вторым источником для питания элиты. Влияние потомков старой интеллигенции, перелом духовной направленности может спаять их в один слой.
Наконец, выходцы из народа. Мы знаем, что пора равенства в России прошла, что массы отброшены назад в
398
своем социальном быте и самосознании. Тем не менее, порыв революции для них не прошел бесследно. Тяга к знанию, к цивилизации огромна. Среди пробивающих себе дорогу посредственностей, сильных только волчьей хваткой или лисьей способностью к приспособлению, есть и настоящие таланты. Вспомним хотя бы об успехах музыки, о советских певцах и пианистах. Правда, талант одно, а куль тура другое. Гениальный Шаляпин, как и очень талантливый Горький так и не могли до конца слиться с русским культурным слоем. Но при огромном материале и строгом отборе даже сейчас возможен приток культурных единиц из низов. Несколько сотен из миллионов. Впоследствии пригодная система образования значительно расширит этот приток.
Каким образом из этих материалов может создаться элита? В двух словах: путем отбора и концентрации. Культурных людей в России еще немало. Но они рассеяны, рас сыпаны в ее страшных пространствах. Погруженные в море варварства, они окрашиваются в его защитный цвет. Лишенные общения, они обречены на бесплодие. Соберите их, сделайте их участниками национальной беседы, и жизнь вспыхнет, как огонь из сухого дерева под фокусом оптического стекла. Этот отбор и концентрация могут, и должны, происходить двумя путями: государственным и частным. Не может не быть государственной в наше время организации науки. В России, вероятно, нет ни одной подлинной высшей школы. Но есть Академия наук. Она раз бухла, наводнена полуучеными и политическими агитаторами. Нужно начать с ее чистки. Очищенная, Академия и в настоящее время будет представлять солидное ученое учреждение, — какого не было у Петра, когда он задумывал создание науки в России. Академия без труда отберет из 700 высших (!) школ профессорские кадры для одного университета. Другой она может обслуживать сама. Не будем бояться, что, оттягивая все лучшие силы в центр, мы обездолим провинцию. Задача восстановления центров стоит на первом плане и должна проводиться бесстрашно. Два университета на Россию, уже сейчас, но настоящих, — это не слишком смелая мечта. Трудно найти студентов. Но здесь отбор лучших учеников производится из десятков тысяч школ. Можно представить себе, что такой строгий отбор даст исключительно даровитый состав молодежи, с которой можно начинать дело. Ее подготовка будет все-таки недостаточной. Для будущих студентов должны быть сразу же открыты две классические шко-
399
лы, весьма замкнутые и привилегированные, как и первые университеты. Но привилегии обеспечиваются исключительно знаниями и способностями. Через 10 лет историко-филологические факультеты, наиболее обескровленные теперь, будут пополняться прекрасным составом слушателей, каких не имел и наш старый демократический университет. Главное дело университета будет состоять не в чтении популярных лекций, а в лабораторно-семинарских занятиях для подготовки будущих ученых. Неизбежно придется посылать молодежь за границу — на первое время в широких размерах — для научного усовершенствования: Слишком долго длилась искусственная изоляция России от Европы за десятилетия революции. И, прежде всего этот путь на Запад должен быть открыт для сотен молодых ученых новой формации — даже для тех, кто занимает в России командные места. Большинство из них, конечно, претерпят deminutio capitis, как и вся масса высших школ превратится в технические и общеобразовательные курсы. Просветительная работа, количественная и экстенсивная; может не прерываться и не сокращаться. Она лишь потеряет свои необоснованные претензии и титулы.
Таков государственный план воссоздания научной элиты. Захочет ли государство проводить его, мы не знаем. Если пореволюционная власть останется в руках людей, созданных революцией, то мы не можем ожидать от них настоящего понимания культуры и ее задач. Культурной элите придется, может быть, выдержать нелегкий бой — за Академию, за университет, за классическую школу. Но эта борьба не безнадежна. Проблема качества и проблема кадров пробивают уже в России самые темные мозги.
Во всяком случае, перед остатками и новыми ростками интеллигенции остается другой путь: путь общественного, вольного воспитания элиты и создания в России культурного воздуха. Когда интеллигенция получит возможность дышать и думать вслух, она почувствует непреодолимую тягу к объединению — в кружки, в группы, в общества. Одна потребность говорить на своем языке, с людьми, понимающими собеседника с полуслова, сделает свое дело. Ведь до сих пор интеллигенция в России живет как колонии европейцев среди цветных рас — с той только разницей, что здесь белые находятся в рабстве у цветных. Эта интеллигенция давно отвыкла от политики, потеряла всякий вкус к ней. Зато работа культурная приняла для нее характер почти религиозного служения. Задача воссоздания культуры в России
400
может стать делом жизни и призванием целого поколения — я хочу сказать, чисто формальная задача культуры — безотносительно к ее ценностному содержанию. Объединения интеллигенции могут иметь различные формы: от салонов и кружков до правильно организованных культурных обществ. Их цели и работа могут быть самыми разнообразными: религиозные, философские, исторические, литературные, «общества ревнителей русского языка и грамматики», «общества любителей латинского и греческого языка» и т. п. В самых глухих местах невозможна специализация: культурные люди просто тянутся друг к другу отвести душу за чашкой чая, поговорить о новой или старой книге. Но выше уже необходимо разделение интересов и труда. Нечего бояться пуризма и педантизма. Старый опыт интеллигентской кружковщины предостерегает скорее от другой опасности: дилетантского всезнайства. Да и самая задача новой элиты иная: не решение всех вековечных вопросов жизни, а культурное воспитание для работы, для восхождения по ступеням духовной иерархии. Когда приходится бороться за русский язык или за культурную грамотность, кружки или салоны должны проявлять такую же строгость, как университеты. Доступ в них должен быть труден и ограничен. Важно лишь одно: чтобы в основе этой замкнутости не лежало никаких старых сословных или политических реминисценций. Старая интеллигенция должна соединиться с новой на единственном условии равного качества. Новые люди принесут с собой новые взгляды; возникнет плодотворная борьба идей, которая помешает интеллигентским группам выродиться в бесплодных хранителей заветов, себя переживших и никому не интересных.
Гораздо важнее всякой просветительной литературы в России завтрашнего дня создание литературы для избранных, для немногих. Книг, совершено свободных от заботы — не о читателе, конечно, но о грамотности читателя. Вы не понимаете? — значит, это не для вас. Ищите более подходящей литературы, только и всего. Для кого же тогда писать? Опыт эмигрантской литературы показывает, что 300 читателей уже обеспечивают сбыт книги. Триста читателей из необъятной России найдутся на всякую книгу. Печатать мы будем, но это потребует от всех нас жертв. Интеллигенции придется изменить свое отношение к книге как к почти бесплатному общественному продукту, за которым идут в библиотеку. Некоторые книги надо будет вырезать из скромного бюджета, покупать их ценою поста.
401
За всеми внешними формами организации элиты и ее работы стоит ее духовная организация. Говорят нередко, что старая русская интеллигенция была орденской. Она имела не внешнюю организацию ордена, но его внутреннее самосознание. Была исполнена сознанием своей миссии и своей выделенности из толпы. Выделенности не для привилегий, а для страданий и борьбы. При всех изменившихся условиях, при иной, противоположной даже направленности, новая элита не менее старой нуждается в орденском самосознании. Только ее образцом будет не столько масонство, сколько средневековый клир, организовавший свою латинскую культуру вокруг общезначимой и всенародной Церкви. Жертв и страданий новое подвижничество во имя культуры потребует немало — может быть, не менее политического подвижничества старой интеллигенции. Однако новая антикенотическая направленность требует и новой этики: этики не столько самоуничижения, сколько достоинства. Ныне поставленная на колени перед властью и народом, новая элита во имя достоинства куль туры должна потребовать и уважения к себе. Должна научиться бороться за свое собственное достоинство и право, умея отличать достоинство от интересов и право от привилегий. Она должна занять в обществе подобающее ей место: не привилегированной касты, но всеми признанной духовной аристократии. Место первого среди равных.
4
Достоинство интеллигенции — не в противопоставлении ее народу. Перо и кисть не должны противополагаться серпу и молоту. Если будущая Россия, как, впрочем, и вся пережившая социальную революцию Европа, будет организована корпоративно или профессионально, интеллигенция должна занять свое место среди трудовых корпораций или союзов. Идея труда не противна высокому строю культуры — более того, она созвучна нашему современному пониманию творчества. Мы все ставим ремесло подножием искусству. Современный университет в своей организации хранит следы своего корпоративного происхождения; это последняя из сохранившихся средневековых гильдий. Художники Ренессанса все сознавали себя людьми ремесла и цеха. Таковы и средневековые миннезингеры. Лишь романтизм противопоставил вдохновение труду, и в этом было его трагическое заблуждение. Мы все — и люди науки, и люди искусства — возвращаемся теперь к древним
402
и вечным основам искусства-ремесла — techne, ars — и не гнушаемся высоким званием работника. Признаюсь, «работ ник науки» звучит для меня честнее, чем «ученый», в котором много самомнения. Кто, по совести, может назвать себя ученым? Мы все учимся и учим, и в этом видим наше право на уважение. А творческим должен быть всякий труд, труд столяра не менее труда живописца.
Поэтому интеллигенция не должна возражать против включения ее в систему общенациональных трудовых корпораций. Но в то же время она должна бороться за первое место, среди них. Ненормально, чтобы это место было занято металлистами, как в коммунистической России, или земледельцами в возможной России крестьянской. Первое место интеллигенции предполагается иерархией ценностей в системе национального производства. Мысль, слово, форма и звук важнее, выше практических материальных вещей, ибо имеют более близкое отношение к цели культуры, к самому смыслу существования наций. Telos, конечная цель, определяет место каждого звена в системе иерархии. Место мыслителя и художника непосредственно вслед за святым и рядом со священником в нормальной иерархии. Но святость не принадлежит к иерархии социальной.
Корпоративная организация интеллигенции, конечно, не должна означать непременно корпоративной организации ее труда и творчества. Труд ее может быть или совершенно личным (поэт), или корпоративным (академический ученый), или лично-общественным (музыкант), но корпорация сейчас более чем когда-либо, необходима для защиты социального достоинства интеллигенции. Мы сознательно говорим о достоинстве, а не об интересе, ибо не считаем задачей дня борьбу за материальные интересы интеллигенции. Более того, мы боимся, что борьба за материальные интересы, за более высокое вознаграждение может повредить ее достоинству. Внутри каждой профессии, как интеллигентной (!), так и механической (!), неизбежна далеко расходящаяся шкала вознаграждений — от ученика до мастера, и до мастера единственного в своем цехе. Но между цехами не должно быть принципиального неравенства. Нам не следует притязать на уровень жизни, высший уровня рабочей или крестьянской семьи — при условии, если народное хозяйство даст возможность для всех жить безбедно. Более того, нам духовно легче переносить и бедность, ибо наш труд дает высшее удовлетворение. Художник готов голодать ради своего искусства, но ни один ремеслен-
403
ник не будет голодать ради своего ремесла, ибо он не служит ремеслу, а живет им.
Неравенство материальное, вырастающее на почве куль туры, может компрометировать ее достоинство в глазах масс, как богатство Церкви или даже слишком большая ее обеспеченность содействует росту сект и антицерковных движений. С другой стороны, соблазн комфортабельной жизни может вызвать прилив в ряды интеллигенции людей, ей чуждых по духу, карьеристов, которых и сейчас более чем достаточно в ее рядах. Ей лучше очиститься от лишних элементов, облегчиться от буржуазного наследства, чтобы с орденской суровостью отдаться своему строгому служению.
Но, отказываясь от лишних рублей, интеллигенция тем более должна настаивать на уважении к ней — в стране, где попирание интеллигенции так долго было возведено в систему.
Эта защита достоинства прежде всего, требует ограждения независимости своего труда от всякого вторжения самоуверенного невежества. Мы не можем принять никаких приказов и указаний в области нашей компетенции. Ныне в России сапожники (фигуральные) учат художников, а вахмистры — писателей. Русская интеллигенция глубоко унижена или сама себя унизила. Это ее великий грех перед культурой и Россией. Нелегко ей будет изгладить из памяти народной эти позорные страницы вольного и невольного рабства. Но она должна искупить их. Искупить самоотверженной борьбой за свободу своего святого ремесла.
В прошлом, в первые годы революции ее свобода нередко попиралась рабочим или человеком из народа, впервые ворвавшимся в храм культуры и учинившим в нем порядочный погром. В будущем опасность угрожает, кажется, не от рабочего, а от солдата. Политически Россию завтрашнего дня, в ее трудной международной и междунациональной обстановке, трудно представить себе иначе, чем в форме военной или полувоенной диктатуры. Опыт всех современных диктатур показывает, как трудно дается им самоограничение. Наш век соблазняет тоталитарностью, и генерал, привыкший решать политические и социальные вопросы своего времени, кончает декретами в области поэзии и музыки. Такая перспектива обязывает быть на страже. Интеллигенция должна оградить свою духовную свободу от всех покушений, откуда бы они ни исходили, снизу или сверху, от рабочего, крестьянина или солдата, от партийного, государ-
404
ственного и даже — случай, конечно, для России фантастический, — клерикального вмешательства.
Но это ограждение достоинства культуры не исчерпывается долгом политической независимости. Еще большее значение, пожалуй, имеет восстановление должных иерархических отношений между учителем, или мастером, и учеником. Эта давно уже разрушенная в России иерархия требует того, чтобы ученик относился с уважением к учителю, который посвящает его в тайны своего искусства или науки. Учитель не софист, торгующий мудростью, а служитель мудрости. Признание высшей ценности требует уважения к тем, кто стоит на высшей ступени посвящения или искусства. Не уважая себя, заискивая перед народом, интеллигенция в прошлом приучила народ относиться к ней без всякого уважения. Революция породила целые поколения самоуверенных полузнаек, которые снисходят до спецов, но мстят им презрением за прошлое неравенство. А между тем без искреннего сознания неравенства нельзя и представить себе культурного восхождения. Всякий работник культуры, занимающийся не только личным творчеством, но и учительством, должен начинать с того, чтобы вызвать в ученике, безотносительно к его уровню, сознание своего невежества. Ученичество начинается со смирения. За смирением — трудовая аскеза. Кто не хочет идти методом Сократа — и сказать от всего сердца: «Я ничего не знаю», не может быть допущен в строящийся храм. Здесь не должно быть никакой преступной снисходительности. Никто не должен читать перед аудиторией глумящейся или даже скучающей. Никто не должен учить тех, в ком не встречает достаточного уважения. Культура не должна быть недоступной, но не должна быть и общедоступной. Она окружена кольцом если не огня, то трудового искуса, и путь к ней, особенно к ее вершинам, должен рисоваться по образу искания Грааля.
Конечно, прежде чем заставить народ так относиться к своему служению, интеллигенция должна сама поверить в него. Для этого нужен глубокий переворот в самой культуре и ее понимании. Культура должна быть понята религиозно, или она будет растоптана тяжелым сапогом демагога. На уважение не может претендовать ни легко продающаяся, скептическая буржуазная интеллигенция, ни раболепствующая интеллигенция тоталитарных народов. И здесь и там культурная элита находится в процессе своего разложения. Воскрешение ее требует, прежде всего, воссоздания духовной иерархии
405
ценностей и потом уже социального воспитания и организации, ей соответствующих. «Ищите, прежде всего, Царствия Божия...»
5
Остается последнее большое сомнение. Отрекаясь от традиции народничества и призывая русскую интеллигенцию на новый, культурно-аристократический путь, не совершаем ли мы духовной измены? Измены не только нашим отцам — тем, что сами так легко отрекались, — но и чему-то высшему. За культурно-политическим кенозисом русской интеллигенции, не скрывается ли более глубокий кенозис — религиозный? Да, так оно и есть, конечно. В отрицании государственно-культурного идеала ренессанса (Петра) русское народничество бессознательно выражало отношение к нему русской религиозной души. Кенотично было русское христианство с младенческих своих лет. Первым русским народником можно признать преп. Феодосия Печерского. Народ, возлюбивший во Христе превыше всего образ убого смирения, народ, хранивший до наших дней — единственный во всем христианском мире — культ юродивых, имеет, несомненно, свое особое религиозное призвание. Посягать на него не значит ли совершать отступничество от того, что является самым заветным в душе народа?
Борьба с народничеством очень распространена в наше время. Но часто она ведется с таким пафосом, на таком языке, что христианин не может не почувствовать себя уязвленным. В борьбе против народничества, как в борьбе против Толстого (или в современной борьбе против иудаизма) сплошь и рядом, сознательно или бессознательно, происходит восстанание против Христа.
Кенозис есть одна из существеннейших идей, или, точнее, один из основных фактов христианства. Может быть, главный, — но не единственный. На нем нельзя строить ни политики, ни культуры — в этом убедил нас и горький опыт истории. Но на нем можно строить духовную жизнь, и это обязывает нас в отношении к нему к крайней осторожности.
Культура, как и политика, не принадлежит к самому глубокому и высшему плану бытия. Но бытие многопланно, и христианство сложно. Его истина, объемлющая все истины, есть совпадение противоположностей, coincidentia oppositorum; то, что отрицается в одном из низших планов, утверждается в высшем. В вере, в личной религиозной жизни для тех,
406
кто воспитан в русской православной традиции, нет ничего выше кенотического опустошения. Но даже и здесь, в отрыве от других данных христианского опыта, кенозис может быть соблазном.
Христианская любовь двухстороння: она нам открылась одновременно и как Эрос, любовь восходящая, творческая, радостная, и как Агапе — нисходящая, сострадательная, жертвенная любовь. Сейчас много спорят о том, какая любовь является по преимуществу христианской. Бесполезный спор: они не могут существовать одна без другой. Чистый Эрос приводит к язычеству, чистая, кенотическая Агапе — к моральному атеизму. Конечно, культура вырастает из Эроса — из творческой радости об истине, о красоте. Но в этической сфере Эрос изменяет нам и нуждается в кенотическом восполнении. Впрочем, может быть, не только в восполнении. Эрос, сам себя опустошающий в жертвенном снисхождении — к миру и человеку, — есть все же высший образ любви. По крайней мере, таков завет русского христианства.
Вот почему, восстанавливая иерархический стройкультуры, не будем думать, что этот строй есть уже строй Царствия Божия. Последнее слово мудрости — о собственном невежестве. Последнее слово земной красоты — в обезображенном крестной мукой Лице.
Было бы глубоко печально, — хотя исторически и диалектически естественно, — если бы будущая русская интеллигенция замкнулась в гордом самодовлении. Ее борьба за достоинство своего служения не должна закрывать от нее последней правды о своей человеческой нищете. Отстаивая себя перед господствующим уже народом и его вождями, она должна по-прежнему склоняться перед нищим и страдальцем. Нищета и страдание — метасоциальны. Это духовные категории падшего мира. Склоняясь перед ними, мы склоняемся перед Тем, Кто один может искупить все страдания мира и превратить в чудесные сокровища его нищету.
407
Страница сгенерирована за 0.13 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
