13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Хеффнер Герд
Хеффнер Г. Жить перед лицом смерти
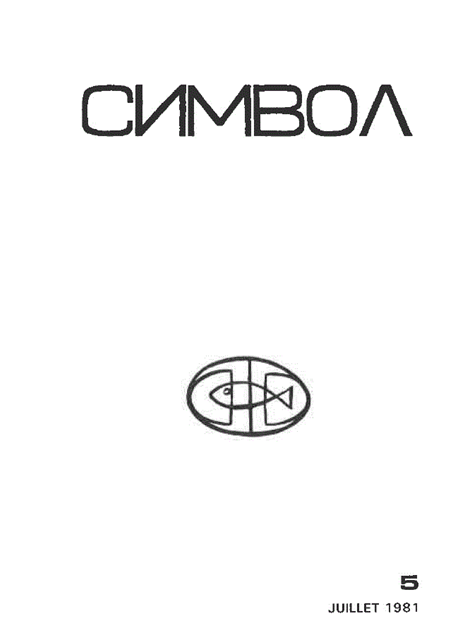
PARIS
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Герд Хеффнер
ЖИТЬ ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ
Недавно во Франции было основано общество танатологии. Какое приобретение для круга ученых обществ — хотя и до стою они занимались многими и подчас странными делами, но никогда столь мрачными. Академия смерти! Получится ли из этого что-нибудь значительное и новое? Такое общество имело бы большой успех уже и том случае, если бы ему удалось заставить нас глубже постигнуть то что далеко не ново и кажется давно известным: мы смертны до самой последней клетки нашего организма; мы сами вынуждены определить свое отношение к смерти, что, впрочем, делает нам честь.
I
Когда умирает человек, то не только разлагается организм, имеющий наряду с другими функциями также и нечто подобное «знанию»; разрушается именно конкретное существование, незаменимая личность, по-своему заключавшая в себе целый мир. Безусловно, человеческий организм можно во многих отношениях отождествить с организмом животного: у них один и тот же тип организации, отправления функций, развития и разложения. Но умирает не прост тело, а субъект, обитавший в нем. Однако животное является субъектом совершенно в ином смысле, нежели человек. Следовательно человек смертен в ином смысле, чем животное.
«Умереть» может только такое существо, которое так или иначе представляет собой субъект. Например, машина или камень не могут быть субъектом, тогда как растение, и тем более животное, могут. Животное может быть субъектом в той мере, в какой оно неким определенным образом само является центром, с которым само себя
32
соотносит. И другое, не оно, может быть соприсутственным ему, и оно само может стать соприсутственным самому себе; именно для него, животного, по отношению к нему существуют враги, предметы, которые можно поедать, которые укрывают, требуют подчинения, притягивают сексуально. С другой стороны, оно соприсутственно самому себе в чувствах наслаждения и страдания, страха или желания. Но соприсутственность животного другому, также как и самому себе, остается несовершенной, в некотором роде блокированной. Отношению животного к самому себе противостоит сила, которая мощнее его, то есть род, вид, препятствующие тому, чтобы индивидуальность животного становилась целью для самой себя; эта сила изначально подчиняет животное закону, удерживающему равновесие между рождением и воспроизведением, приходом в жизнь и исчезновением. Животное в своей индивидуальности не в состоянии как бы взглянуть на себя, на свою породу, со стороны. Именно поэтому судьба, приговаривающая животное к смерти, если можно так выразиться, есть нечто наиболее естественное в мире.
Субъект животного определяется общей жизнью вида (который, тем не менее, реально существует именно в индивидуальных субъектах животных); следовательно, животное не обладает индивидуальным «я» в точном смысле этого слова, следовательно, у него нет самосознания и, наконец, сознания своей смертности.
Совсем по-иному обстоит дело у человека, который способен относиться к другому как таковому и общаться с ним независимо от закона, определяющего его сохранение, рост и воспроизведение. Такая способность основывается на том факте, что человек настолько поручен самому себе, что сам может придать смысл своей жизни и тому, что он, человек, производит; человек сам может наделить смыслом личности и явления, с которыми сталкивается. Итак, существует некая дистанция между существом человека и его «я», дистанция, благодаря которой он может познать себя и принять то или иное решение относительно самого себя. Конечно, таким образом я постигаю целый ряд данных о человеческом существовании вообще и о собственном в частности - данных, в отношении которых я не свободен, в том смысле, что не могу их изменить. Но это не значит, что в отношении этих неизменяемых черт моего существования я не могу свободно вынести какое-либо решение: я могу сказать «Да» или «Нет» своему бытию, даже если не могу избежать его. И хотя нельзя сказать, что это окончательные «Да» или «Нет», все же они могут служить подлинным двигателем моих решений в тех обстоятельствах, когда можно что-то изменить, когда я по той или иной причине чувствую себя в состоянии действовать. И один из основных определяющих мое существование факторов, относительно которого я должен сказать «Да» или «Нет», — это моя смертность.
33
Никто и никогда меня не спрашивал, желаю я быть смертным или бессмертным, — так же как меня не спрашивали, желаю я быть свободным или нет. Случилось так, что я и смертен, и свободен. Следовательно, моя смертность, с одной стороны, является непреложным законом моего существования, но, с другой стороны, она не просто объективный факт, а в то же время и постоянный вопрос, поставленный перед моей свободой. Почему необходимо признать себя существом смертным? Могу ли я этого избежать? А если это невозможно, то как я должен это принимать?
Таким образом, неизбежность смерти — это один из основных вопросов существования, как и свобода, которая только что была упомянута: от рождения, на всех ступенях физического, психологического, морального развития, вплоть до сего дня, когда я задался вопросом о самом себе, — все это время я был поручен самому себе как некая задача или как некий груз, как некто, кто, не будучи властен над тем, что является его основой, все же должен быть свободным. Как в одном случае (свобода), так и в другом (смерть) нечто распоряжается мною в той глубине, где совершается мое собственное распоряжение самим собой. В обоих случаях гордость не может перенести именно того, что тобою распоряжаются, не спрашивая на то разрешения.
И наоборот, смиренное и здравое утверждение себя как творения становится причиной радости и благодарения, порождаемых именно пониманием того, что источник моего существования не во мне. Но всякое иное осознание себя выливается или в протестующий вопль, или в горькое молчание, безропотность перед лицом той бессмыслицы, которая у меня — призванного, казалось бы, к бытию - постепенно отбирает здоровье, друзей, страну, в конце концов целиком меня самого. Умирание — частичное или полное — неизбежно. В этой победе небытия над бытием нет ничего положительного, и все же этого невозможно избежать. Опыт умирания, по-видимому, выявляет бессмысленность нашей жизни и ложность ее обетований. И не естественно ли для всякого, кто не отступает перед смертью, но мужественно глядит в лицо истине, предаться тем же размышлениям, какие поместила в конце своих воспоминаний Симона де Бовуар:
Так же как и прежде, я ненавижу мысль о том, что должна отойти в небытие. С грустью я думаю обо всех прочитанных книгах, увиденных местах, приобретенных знаниях — этого больше не будет. Столько музыки, живописи, культуры, разных мест, и вдруг больше ничего... Вся эта уникальная совокупность, мой собственный опыт с его последовательностью и случайностями — Пекинская опера, арены Гуэльвы.
34
белые ночи Ленинграда, колокольный звон в освобожденном Париже... нигде и никогда это не воскреснет. Будто ничего и не было. Я вновь вижу изгородь из орешника, которую колеблет ветер, и себя, полную ожиданий, бередивших мое сердце, когда я смотрела на золотую жилу, лежавшую у моих ног, - жизнь, которую предстояло прожить. Обещания были выполнены. Однако, окидывая недоверчивым взглядом свое доверчивое отрочество, я с изумлением замечаю, до какой степени я была обманута («Сила вещей», Париж, НРФ, 1962, стр. 686).
Если, читая этот текст, мы вспомним библейского Екклесиаста, то сказанное Симоной де Бовуар наполнится чисто христианским содержанием.
II
Если поверхностное бурление жизни и неизбежность ее конца часто вызывает у нас разочарование, то это, может быть, из-за того, что мы слишком многого от нее ожидали? Может быть, нам нужно к ней приспособиться, удовлетвориться скромной долей, которая нам предназначена? Может быть, любая попытка, несмотря ни на что, поверить в жизнь, которая не будет иметь конца, лишь глупость и высокомерие, наказуемые богами, единственно законными собственниками бессмертия, ревниво относящимися к своей привилегии — вечной жизни? Во всяком случае, именно этому учит мудрость древних, и примером может служить речь, произнесенная особой наполовину божественного происхождения хозяйкой гостиницы, где остановился герой вавилонского эпоса Гильгамеш во время своего странствия по миру в поисках древа бессмертия.
Гильгамеш, куда ты стремишься? Жизни, что ищешь, ты не найдешь! Боги, когда создавали человека, смерть определили они человеку, бессмертие в своих руках удержали. Ты же, Гильгамеш, насыщай свой желудок, днем и ночью будешь ты весел! Праздник справляй ежедневно, днем и ночью играй и пляши ты! Одевайся в одежды чистые ты, омывай главу твою, купайся в водах чистых! Гляди, как дитя твою руку держит, своими объятиями радуй супругу! Только в этом удел человека! (Табл. 10.111.1-14) .
35
Смерть для нас — это стена, отталкивающая своим холодом, стена, которую невозможно преодолеть. Любая попытка взять ее приступом только еще яснее показывает наше бессилие перед силой смерти. И если мы исходим именно из этого бессилия и смотрим на здешний мир как на удел нам предназначенный, он приобретает полноту, безусловно ограниченную, но восхитительную. Эта мысль древних учителей мудрости может иметь положительный смысл также и для нас. Конечно, сегодняшний человек не слишком сильно надеется на нескончаемое продление своей жизни, но тем более соблазнительным становится для него стремление ухватить то безграничное, к чему он тяготеет, но на этот раз в пределах предоставленной ему возможности — в конечной жизни. Имеется два пути, на которые человек может стать. Они взаимно противоположны и именно поэтому могут рассматриваться как диалектические сопряженные способы осуществления одного и того же основополагающего принципа.
В первом случае человек размышляет, в целом, следующим образом: раз жизнь так коротка и так скупа на блага, то соберу все, что имею, и поставлю на одну карту. По крайней мере хоть раз по-настоящему познаю вершины и бездны, все, что есть в жизни самого святого и самого низкого: никакого взгляда со стороны на самого себя, никакой сдержанности, никакого страха, никакого иного закона, кроме закона Диониса, который в своем упоении может теперь же соединиться с бесконечным, смеясь над прошедшим и будущим. Ощутить жизнь во всей ее полноте хотя бы раз — и ничего другого, жить стоит только ради этого мгновения, все остальное — глупая пассивность и баранье существование. Может ли такой план построения жизни достигнуть своей цепи, увековечить время в самом времени? Не потеряет ли человек, преследующий подобную цель, и те небольшие блага, которые, словно нищенское жалованье, с презрением отбрасывает прочь, оставаясь бессильным достичь того великого блага, которого так чаял? Ибо, боясь что-нибудь упустить, он без передышки начнет бросаться от одного увлечения к другому, не в силах задержаться ни на одном и по-настоящему глубоко удовлетворить свои желания. Очень скоро его потянет к чему-то более впечатляющему, более редкостному, более извращенному, но все это, соблазняя его, будет приводить лишь к все большему опустошению и истощению. Так что абсолютное «Да» конечному, «Да», которое должно было бы принести ему бесконечное сокровище, достаточно быстро оборачивается ненавистью к конечной реальности и прежде всего к самому себе. Игрушка не ответила ожиданиям, и ее выбросили. Та, из-за которой пытаются найти бесконечное в конечном, та, у которой пытались вырвать часть бесконечного, — смерть — именно она прежде времени отнимает у человека существование и счастье, которые, в свою очередь, также конечны.
36
Умудренный таким опытом (опытом других) «философ» отправляется по другому пути. Он тоже не в силах просто примириться с конечным. Но он знает, что бесконечное, даже если оно где-нибудь и существует, в любом случае не может содержаться в самом конечном, поскольку в этом случае оно, бесконечное, раскрывалось бы в каком-либо суждении, которое не имело бы ничего общего с конечным как таковым. Из всего этого он делает вывод, что истинная жизнь может быть обретена и сохранена лишь в том случае, если он, насколько возможно, будет держаться в стороне от конечного и будет, прежде всего, отстаивать свое достоинство разумного и независимого существа, пребывающего в гордом одиночестве перед лицом всех тех соблазнов, которые затягивают человека в трясину этого мира, с его хрупкими и разнообразными благами. С ясностью, присущей высокому стилю, подобную жизненную позицию выразил философ-стоик Эпиктет:
По поводу каждой вещи, которая тебя восхищает, тебе служит или тебе дорога, не забудь точно определить, какова она. Начни с самых незначительных: если тебе нравится глиняный горшок, скажи: «.Мне нравится глиняный горшок». Таким образом, если он разобьется, ты не будешь взволнован; если ты обнимаешь своего маленького сына или жену, скажи себе, что ты обнимаешь человеческое существо, - таким образом, если они умрут, ты опять-таки не будешь взволнован.
Такое отношение к жизни способно было, и еще до сих пор способно — из-за своего сходства с мыслью апостола Павла «имеющие должны быть, как неимеющие» (1 Кор 7.29), — привлечь также и некоторых христиан. И люди, обладающие таким отношением к жизни, куда более защищены от разрушительного воздействия смерти, нежели те, чье отношение к жизни прямо противоположно. Но это лишь потому, что они отказываются от жизни, как от риска, и уже как бы заранее выбрасывают белый флаг перед всемогущей смертью, утвердившей свой престол в самом сердце конечного. Каждый, кто боится, что его или того, кого он любит, когда-нибудь настигнет смерть, неспособен из-за этого любить конечное существо; еще живя, он становится лишь тенью того, чем мог и должен был стать, каким-то опустошенным, одиноким, лишенным жизненных корней «я».
Любая попытка воспротивиться неумолимому величию смерти, с тем чтобы так или иначе преодолеть ту ограниченность, на которую мы, смертные, обречены, не только не отвращает свершения закона
37
конечного, но еще усиливает его действие, которое свершается в виде некоей метафизической казни. Похоже, что древняя мудрость, содержащаяся в эпосе о Гильгамеше, и сегодня не утратила своего смысла: богатство и полнота той меры жизни, что дана человеку, открываются лишь тому, кто, произнося простое, свободное от отчаянного отрицания смерти «Да», признает тем самым, что положительная сторона дарованной ему жизни сама конечна.
Но это простое «Да», которое, несмотря на свою простоту, столь редко встречается в жизни, — каким образом может оно стать реальным? Конечно, не через подавление ощущения смерти и не через извращение смысла самого понятия смерти — извращение, которое могло бы придать этому понятию положительное содержание. Ибо, не говоря уже об иллюзиях, которые в этом случае строит себе человек, подобное «Да» не может быть простым уже потому, что оно явилось бы следствием такого подавления и извращения, то есть именно следствием отрицания реальности смерти, которая, в силу этого, приходит раньше срока. Вероятнее всего, подлинное «Да» исходит из действительного познания конечности всех вещей и явлений, сопряженного, однако, с пониманием того, что наши дела определяются не этой конечностью, но исключительно положительностью конечного бытия, как если бы эта положительность в своей глубине была свободна от любого отрицания.
Эта мысль кажется несколько странной. И тем не менее она не чужда живой реальности — подтверждение этому мы находим в драме Габриэля Марселя «Смерть назавтра».
В разгар жестокой окопной войны под Верденом (1917 г.) один французский солдат отправляется на побывку домой. Потом он должен вернуться на фронт, и поэтому всем ясно, что эта поездка домой, скорее всего, окажется последней. Его жена тоже понимает это и накануне его возвращения на фронт отказывается спать с ним: спать с мужем, который завтра будет мертв, для нее — святотатство. Ее брат, узнав об этом, упрекает ее: «Жанна, того, кто жив сегодня, ты приносишь в жертву тому, кто умрет завтра. Прежде времени почитая его как мертвого, ты не способна принести счастья человеку из плоти и крови, который тебя желает. И почему, уж не из желания ли приготовиться к менее горькому вдовству? Жанна, поверь мне, такое отношение и есть настоящая измена. Любить это значит сказать любимому: «Любовь моя, ты не умрешь».
Эти слова «Ты не умрешь» неизбежно будут опровергнуты действительностью: это можно предугадать уже в тот момент, когда они произносятся. Следовательно, мы могли бы сказать, что человек таким образом сознательно предается самообману. Но, с другой стороны, несомненно, что у любящего есть право и долг всегда, даже
38
когда надежда ничтожно мала, строить все на том, что любимый не умрет. Другое отношение было бы изменой, оно лишь способствовало бы гибели того, кого называют любимым, означало бы вступление в заговор с безликой судьбой, проявляющейся во всех житейских обстоятельствах и враждебной этому хрупкому существу, чающему твоей поддержки. Бытовую действительность невозможно примирить с подлинной верностью. Суждение «Ты не умрешь», понимаемое как предсказание некоего события, есть суждение, ложность которого можно доказать. Но как проявление любви «Ты не умрешь» служит выражением чего-то высочайшего, того, что находит оправдание на самом глубоком уровне бытия,— даже если тот, к кому эти слова обращены, больше и не вернется.
Слова «Ты не умрешь» — как и любовь, которая их порождает, - разумеется, невозможны, если конечное и чувственно данное полностью отождествляются. И наоборот, слова эти вполне возможны, если верно, хотя бы отчасти, что человек, которого любят, не умирает полностью, после того как его настигла смерть: иными словами, если он уже во время своей земной и конечной жизни переступал за грань конечного (понимаемого не только негативно, но прежде всего позитивно), опираясь на Бесконечное, раскрываясь по отношению к Нему и устремляясь к Нему. Такое раскрытие и устремление к Бесконечному, в свою очередь, возможны потому, что бесконечно положительное существо Божие, обладая своей положительностью, не отбрасывает при этом конечное в его ограниченность, иными словами, Бог, совершенно не будучи «завистником», наполняет Своей жизненной силой (которая все же остается непередаваемой) всю совокупность того, что составляет конечное, призванное к существованию ничем иным, как любовью. Так что возвышающаяся перед нами стена смерти покрывается трещинами, через которые проникает свет, утверждающий надежду в самом сердце конечного.
Если справедливо, что созидать следует на этом и только на этом основании, то отсюда следует, что жизненные обетования, столь притягательные для юности, никак не являются просто миражами. Невозможного, обманывающими даже тех, кто, как говорится, пресыщен жизнью, не говоря уже о тех, кто проводит жизнь полную лишений и унижений.
И если мы можем строить на этом основании, то это означает еще, что мы имеем право жить и любить посреди смертного и конечного мира, как если бы смерти не существовало.
Известен рассказ о святом Людовике Гонзагесе, которого, когда он играл в мяч, спросили, что бы он стал делать, если бы узнал, что через час время его жизни истечет. Он отвечал, что продолжал бы спокойно играть в мяч. В основе этой истории лежит то же убеждение, что и в Павловых Посланиях Рим. 8.2 и 31-38; 1 Кор 3.2-23; Евр. 2.14.
39
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
