13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Булгаков Сергий, протоиерей
Булгаков С., прот. Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева?
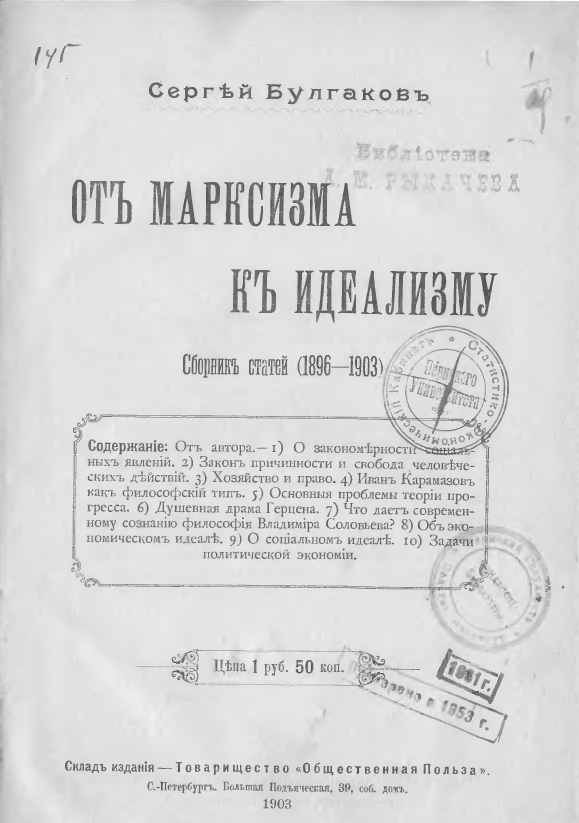
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
7) Что дает современному сознанию философия Владимира Соловьева?1)
В настоящем очерке автор не ставит себе задачей полное изложение и надлежащий анализ философии Соловьева. Едва ли такая ее постановка была бы своевременна ввиду того упорного равнодушия и подозрительного недоверия, с каким передовая часть нашей интеллигенции все еще относится к философии Соловьева. Поэтому я преследую здесь скорее публицистическую, нежели прямо философскую цель. Я хочу показать, хотя бы в бледных контурах, фигуру действительного Соловьева во весь ее колоссальный рост и тем содействовать его опознанию. Это опознание я считаю самой важной, очередной задачей в духовном развитии нашего общества.
Но есть ли почва для такого опознания? Или, другими словами, что может дать современному сознанию философия Владимира Соловьева?
Ответить на этот вопрос мы можем, только выяснив, в чем оно больше всего нуждается, какова духовная жажда современного человечества? Оно жаждет более всего того, что составляет основное начало всей философии Соловьева, ее альфу и омегу, — положительного всеединства. Современное сознание, разорванное, превращенное в обрывок самого себя в системе разделения труда, не перестает болеть этой своей разорванностью и ищет целостного мировоззрения, которое связывало бы глубины бытия с повсед-
_______________________
1) Настоящий очерк представляет собой расширенную переработку публичной лекции, читанной в Киеве, Полтаве, Кишиневе. Напечатано в «Вопросах Философии и Психологии», 1903 г., кн. I-II.
195
ненной работой, осмысливало бы личную жизнь, ставило бы ее sub speciem aeternitatis. Идеал Соловьева — идеал цельного знания, цельной жизни, цельного творчества, — присущ каждому развитому сознанию. Между тем, при всем богатстве знаний и развитии науки современная мысль представляет картину внутреннего распада и бессилия. Те элементы, которые нормально должны находиться в гармонии, теперь враждуют между собою или находятся в состоянии взаимного отчуждения: положительная наука заподазривает метафизику в нарушении своих прав, метафизика вместе с наукой в том же заподазривают религию, а практическая жизнь идет своим порядком, независимо как от той, так и другой.
Такое состояние нс может почитаться ни окончательным, ни нормальным, и выход из него может указать только синтетическая философия, которая помирит в современном сознании религию, метафизику и науку и осветит их совокупным светом практическую жизнь с ее областью должного, ее этическими и историческими задачами. Опыт такого философского синтеза, единственного в своем роде в новейшее время, дает Вл. Соловьев: этим и определяется его значение для современного сознания.
Дух, который оказался способен к выполнению такого универсального синтеза, должен и сам обладать в высокой степени универсальностью, и Соловьев действительно отличался ею. Он обладал ею прежде всего, как философ. В истории философии положительно нельзя указать философской системы, которая была бы в такой степени многостороння, как Соловьевская: не говоря уже о том, что вся новейшая философия, начиная с Декарта, является для нее необходимой предпосылкой, нет ни одного великого философского и религиозного учения, которое не вошло бы как материал в эту многогранную систему: философия греков, находящая свое историческое завершение в Плотине и неоплатониках, буддизм и христианство, каббалистическая философия, всему отведено свое место. В этом смысле система Соловьева есть самый полнозвучный аккорд, какой только когда-либо раздавался в истории философии. Что здесь не может быть и речи об эклектизме, в смысле механического соединения различных учений, лучше всего свидетельствуется тем фактом, что в философии Соловьева указано свое место учениям, друг друга отрицающим, как, например, Гегелевский панлогизм и эмпирический позитивизм. Гегель создал науку истории философии, положив в ее основу тот принцип, что в различных философских системах мы познаем моменты диалекти-
196
ческого развития понятия, другими словами, видим односторонние аспекты единой, универсальной истины, которая является поэтому не их отрицанием, а органическим синтезом. Каждая позднейшая синтетическая система поэтому естественно вбирает в себя односторонний истины предшествующих систем, и в истории философии совершается, таким образом, постепенное раскрытие этой вселенской истины. Отсюда вытекает, между прочим, все значение истории философии как науки для современного философского сознания. Система Соловьева является универсальной именно с точки зрения истории философии в Гегелевском смысле. Но для полноты философского синтеза современный философ должен быть не чужд и естествознания, по крайней мере, в его последних выводах. Этому требованию также удовлетворяет Соловьев, в системе которого нашли себе место все важнейшие доктрины современного естествознания. Философ должен быть одарен и живым чувством красоты, без которого для него остается закрытым особый путь к постижению вселенной. Соловьев и в этом отношении был богато наделен природой: он соединял в себе не только первоклассного литературного критика, но и поэта; чарующая прелесть и искренность его музы, несмотря на ее скромность, отводит Соловьеву совершенно особое и самостоятельное место в сонме русских поэтов.
Рядом с этим, в интересах философского оправдания религии или религиозного оправдания философии, философ должен быть и религиозной натурой, иметь не только мысль о Боге, но и чувство Бога. И относительно Соловьева можно уверенно сказать, что религиозная сторона его духа была, без сомнения, самою основною, окрашивающей в свой цвет все его философские построения.
Наконец, для полноты философского синтеза необходимо, чтобы философ был не только кабинетным мыслителем, но и человеком, сердцу которого близки и понятны все скорби и нужды современности, он должен быть сыном своего времени, быть гражданином. Это требование звучит, быть может, странно для тех, кто разделяет довольно распространенный предрассудок и думает, что философские искания и религиозное настроение только парализуют в человеке отзывчивость к явлениям общественной жизни. Соловьев представляет собой живое опровержение этого взгляда. Он был гражданином в самом широком смысле слова. Это не значит, конечно, чтобы он сам занимался поли-
197
тикой, — это исключается необходимостью разделения труда и крайней непрактичностью философа, — но он был постоянно занят вопросами практической справедливости, и публицистика Соловьева является одной из самых блестящих, а главное получивших общее признание сторон его деятельности. Публицистика помешала, несомненно, внешней законченности и выработанности системы Соловьева, — вместо немецкого лербуха в тысячу страниц мы имеем лишь легкий и не вполне законченный набросок, но в нем есть, благодаря именно этому публицистическому темпераменту философа, дыхание жизни, которого нет в лербухах, несмотря на их внешнюю законченность и архитектуру. Что еще можно прибавить к этому послужному списку философа? Разве еще то, что он одновременно есть не только философ, но и богослов, как и некоторые из славянофилов. По разным соображениям как внутреннего, так и внешнего характера мы совершенно не будем касаться здесь деятельности Соловьева, как богослова.
Таков внешний облик нашего философа. Обратимся к знакомству с его идеями.
У входа в храм философии на страже ныне стоит теория познания, от которой всякая философская доктрина должна получить паспорт на право жительства. Непреходящее значение Канта в истории философии состоит в том, что после него метафизика, даже теология, должна быть критической, т. е. ранее построения всяких учений должна поставить и дать сознательный ответ на вопрос о природе самого знания и его компетенции. Содержание теории познания составляет вековечный Пилатовский вопрос: что есть истина, — вопрос, понимаемый не со стороны своего материального содержания: в чем состоит истина, а со стороны формальных условий познания: как и в какой мере оно возможно? Для определения позиции, занятой Соловьевым по отношению к Пилатовскому вопросу, нужно знать итоги предшествовавшего развития философской мысли, тот «кризис западной философии», с выяснения которого начал свою философскую деятельность Соловьев.
Чтобы понять этот кризис, следует вернуться к Канту. Учение Канта есть центральная станция, чрез которую движется вся новейшая философия. От него разбегаются во всевозможных направлениях пути современной мысли. Благодаря, с одной стороны, многозначительности его философского дела и, с другой, — незаконченности, вследствие которой учение Канта с равным правом служит основанием для самых противоположных фило-
198
софских направлений, понимание и оценка Канта являются характерным и для всего философского учения. В паспорте философской системы самой верной «особой приметой» является то, в какого Канта она верует, и изучение Канта, Кантология, составляет самое излюбленное дело теперешней школьной философии.
Кант подготовил два взаимно противоречащие направления: логический идеализм Гегеля и эмпиризм или позитивизм современного естествознания. Он поставил Юмовский вопрос: как возможен опыт, как возможно научное знание? Анализ познания в «Критике чистого разума» показал, что оно возможно лишь благодаря наличности в нашем сознании субъективных познавательных форм, — времени и пространства, как форм чувственного восприятия, и категорий (между которыми на первом месте стоит категория причинности), как форм мышления. Человеческому сознанию стало раз навсегда очевидно, что наше научное знание покоится на этих свойствах чистого разума, короче говоря, что разум сам является законодателем природы, сам установляет ее законы, потому что эти законы суть вместе с тем законы нашего мышления, для которого чувственность дает материал. Всю познавательную энергию Кант вобрал в субъекта, по отношению к которому пассивным материалом являются показания чувственности, то, что «дано» (gegeben) нам. Кант разорвал всякое реальное единство между познающим и познаваемым; между субъектом или формой знания и материей знания или чувственностью открылась пропасть. Вопрос о том, как же могут накладываться эти субъективные формы на познавательный материал и даже возможно ли это накладывание, т. е. самое познание, остается неразрешенным. Стремясь установить формальные условия познания, Кант подорвал самое знание и должен был капитулировать в область веры, назвавши ее «практическим разумом» и провозгласив «примат практического разума». Свидетельством этого бессилия Кантовой философии осталось его учение о вещи в себе, которое явной своей противоречивостью и неясностью не позволяет остановиться на Канте (как пытаются в настоящее время неокантианцы, заменяющие философию гносеологией). Классическая философия немецкого идеализма с удивительной последовательностью развивает все возможное содержание учения Канта, последнее слово которого сказал Гегель. Основной дуализм между субъектом и объектом познания, созданный философией Канта, был разрешен Фихте в пользу поглощения объекта субъектом (не я является лишь положе-
199
нием я). Этот солипсизм1) не может, очевидно, считаться разрешением проблемы, потому что он ее не разрешает, а только снимает, уничтожая один из членов дилеммы. (Недостаточность этого решения вопроса всегда чувствовалась Фихте, постоянно перестраивавшим свою систему и в последней ее редакция существенно приблизившимся к Канту, т. е. возвратившимся к своему исходному пункту). Проблему примирения или внутреннего соединения субъекта и объекта взяла походным пунктом философия тожества Шеллинга, искавшего такое абсолютное начало, которое явилось бы единством или тожеством субъекта и объекта. После Шеллинга, в дальнейшей своей деятельности отклонившегося от этой проблемы и во многих своих философских прозрениях упредившего свое время и предварившего Соловьева, ту же проблему поставил Гегель. Гегель решает ее подобно Фихте, именно уничтожает особый объект или материал познания, с той только разницей, что у Фихте все бытие принадлежит чистому я, а у Гегеля чистому мышлению. «Отправляясь от того положения Канта, что объективное познание возможно лишь благодаря субъективным формам познания, в своей совокупности образующим априорную логику, Гегель приходит к тому выводу, что это априорное логическое мышление и является истинно сущим; оно есть все, и вне его и помимо его ничего нет. Мысль, мыслящая саму себя, одновременно и субъект ее и объект, таково начало философии Гегеля. Таким образом, нет ничего кроме мышления, следовательно, наука, изучающая это мышление, является не только учением о формах познания, но и о формах бытия, раз бытие и мышление — тожественны. Отсюда понятно то значение, которое в учении Гегеля приобретает «Wissenschaft der Logik», т. е. наука о сущем.
Но если все имеет подлинную действительность только в своем понятии, то и познающий субъект есть не что иное, как понятие и в этом отношении не имеет никакого преимущества пред остальным бытием, таким образом, понятия или идеи, образующие все существующее, не суть идеи мыслящего субъекта (он сам есть только идея) — они суть сами по себе, и все существующее есть, как сказано, результат их саморазвития или,
________________________
1) Солипсизм (от solus ipse) есть отрицание всякого бытия кроме познающего субъекта и его представлений, следовательно, отрицание бытия не только внешнего мира, но и других людей.
200
точнее, саморазвитие одного понятия, чистого бытия или ничто. Другими словами, все происходит из ничего или все в сущности есть ничто. Все есть чистая мысль, т. е. мысль без мыслящего и без мыслимого, как без действующего и без предмета действия»1).
Запутываясь в логических противоречиях, вытекающих из основного принципа, философия Гегеля оказалась еще более бессильной в своих притязаниях на универсальность. Если справедливо основное положение Гегелевскаго панлогизма, что все есть мысль и все познается из чистого мышления, то это чистое мышление должно было в процессе диалектического развития понятий развить из себя и все естествознание, всю историю, всю опытную науку; панлогизм не оставляет места эмпирии. Вот здесь-то, в этой попытке реально измерить свои силы и оправдать свои притязания, философию Гегеля и ждало наибольшее банкротство. Фактически оказалось, что действительность не может быть целиком познана диалектикой понятий, следовательно, логическое мышление не есть универсальное познание, не есть все, а это и есть отрицание основного положения панлогизма.
Не взирая на то, что в Гегеле философская мысль нового времени достигает своей вершины, именно Гегель способствовал более всего распространению того вредного предрассудка, будто философия и наука друг другу противоречат. Историческая Немезида, на смену зазнавшейся спекуляции, вывела самое слабое в философском отношении направление, которое однако заняло и еще продолжает занимать философский трон Гегеля. Наибольшую несправедливость философия Гегеля оказала эмпиризму и требованиям эмпирического исследования, и панлогизм был победоносно вытеснен именно эмпиризмом, нашедшим философскую формулировку в позитивизме.
Господство философии позитивизма совпадает с расцветом естественных наук, и нередко думают, что оба эти явления находятся в причинной связи, друг друга обусловливают. Однако нетрудно показать, что это неверно, что позитивизм не может дать философского обоснования естествознанию и в своем последовательном развитии приводит к противоречию и абсурду. При
______________________
1) В. Соловьев. Философские начала цельного знания. Собр. соч., I, 276. Позднее Соловьев отказывался от этого аргумента: см. его статью о Гегеле в приложении к книге Кэрда (перепечатана из Энциклоп. словаря), стр 299. Но, во нашему мнению, Соловьев в этом пункте сам себя не опроверг.
201
совершенном игнорировании или незнакомстве с предшествующем историей философской мысли и в частности с развитием послекантовской философии, представители позитивизма тешат себя наивной уверенностью, что, изучая явления или, как они любят выражаться, «факты» (не подозревая, что каждый факт содержит уже в себе целую философию, согласно справедливому замечанию Гёте), они познают и законы явлений, следовательно, ни много, ни мало, истинный смысл всего сущего. «Но спрашивается, по какому праву эмпиризм может говорить о каких-либо законах, оставаясь на почве явлений? Предполагается, что эти законы наука узнает из опыта. Но в опыте мы можем наблюдать только эмпирические отношения явлений, т. е. их отношения в данных случаях, подлежащих нашему опыту. Известное отношение последовательности и подобия между данными явлениями, одинаковое во всех наших прошедших опытах, есть факт; но что ручается за неизменность этого отношения во все времена безусловно, как последующие, так и предшествующие нашим опытам, в которые, следовательно, мы не можем утверждать этого отношения в качестве факта? Что дает эмпирической, фактической связи явлений характер всеобщности и необходимости, что делает его законом? Наш научный опыт существует, можно сказать, со вчерашнего дня и количество случаев, ему подлежавших, в сравнении с остальными бесконечно мало. Но если бы этот опыт существовал миллионы веков, то и эти миллионы веков ничего не значили бы в отношении к бесконечному времени впереди нас и, следовательно, нисколько не могли бы способствовать безусловной достоверности найденных в этом опыте законов»1).
«Таким образом, учение о закономерности и единообразии законов природы есть совершенно произвольно принятая аксиома, не имеющая никаких оснований в позитивизме. Будучи не в состоянии обосновать науки, эмпиризм у наиболее глубоких своих представителей ведет к скептицизму, подвергающему сомнению всеобщее господство даже математических аксиом, возвращает нас к Юму (такова философская позиция Д. Ст. Милля).
С другой стороны, признавая существующими только явления, позитивизм необходимо является сенсуализмом: мы знаем только наши ощущения и ничего, кроме ощущений, которые и классифицируем по разным категориям, как-то мир внешний и внутрен-
__________________________
1) Соловьев, ibid., 272.
202
ний и т. д. Не только о внешних объектах, но и о других людях я знаю только посредством моих ощущений, они существуют для меня только в этих состояниях моего сознания, следовательно, они и суть не что иное, как состояния моего сознания. Но и о самом себе, как субъекте, я знаю только в состояниях своего сознания, следовательно, я и сам, как субъект, должен быть сведен к состоянию моего сознания; но это нелепо, так как мое сознание уже предполагает меня. Остается, следовательно, допустить, что существуют явления сознания, но не моего, так как меня нет, а сознания вообще, без сознающего так же, как и без сознаваемого»1). К такому абсурду приводит философия позитивизма.
Итак, возьмем ли мы исходным пунктом форму познания или его материю, философия рационализма, как и философия эмпиризма, ведет нас к противоречию. Есть ли выход из того тупика, в который приводит новейшее развитие философской мысли? Возможно ли познание, есть ли истина, как объект этого познания, есть ли вообще что-нибудь, внешний мир, другие люди, мы сами? Вот вопрос, который ставил себе Декарт, основатель новейшей философии, и этот же вопрос повторяет эта философия, совершив свой полный цикл развития. Очевидно, вопрос этот может быть решен лишь помощью третьего источника познания, помимо эмпиризма и рационализма, и источник этот есть умственная интуиция (intellektuelle Anschaung) или вера. «Мы ощущаем известное действие предмета, мыслим его общие признаки и уверены в его собственном или безусловном существовании. Эта уверенность нисколько не обусловлена ощущениями, получаемыми нами от предмета и понятием нашим о нем, а напротив, объективное значение наших ощущений и понятий прямо обусловлено уверенностью в самостоятельном бытии предмета. В самом деле, если бы я не был уверен, что известный предмет существует независимо от меня, то я не мог бы относить к нему своих понятий и ощущений; тогда сами эти понятия и ощущения были бы только субъективными состояниями моего сознания, моими внутренними чувствами и мыслями, в которых я не познавал бы ничего кроме них самих, как психических фактов. Таким образом, объективное, познавательное значение моих ощущений и понятий зависит от уверенности в независимом, безусловном существовании их
__________________________
1) Ibid. 274.
203
предмета, в ого существовании за пределами моих ощущений и мыслей. Это безусловное существование, которое не может быть действительно дано мне ни в моих ощущениях, ни в моих мыслях, которое не может быть предметом ни эмпирического, ни рационального познания и которым, однако, это познание обусловливается, составляет, очевидно, предмет некоторого, особого, третьего рода познания, который правильнее может быть назван верой»1). «Мы верим, что предмет есть нечто сам по себе, что он не есть только наше ощущение или наша мысль, не есть только предел нашего субъективного бытия, мы верим, что он существует самостоятельно, — «веруем, яко есть». В этом состоит собственный элемент веры или вера в тесном смысле, как утверждение безусловного существования. Эта безусловность одинаково принадлежит всему существующему, поскольку все существующее есть»2).
Из предыдущего ясно, что если мы не сомневаемся в существовании внешнего мира, чувствуем себя окруженными живыми людьми, а не считаем их лишь своими представлениями, не сомневаемся, наконец, в существовании своего собственного я, постоянного и пребывающего, несмотря на смену дум, чувств и ощущений, то все эти знания даются только верой и не могут быть никак доказываемы разумом и ощущениями, потому что они превышают содержание показаний, получаемых нами из того или другого источника. А так как эти предположения о бытии мира, людей и нас самих служат необходимыми условиями не только жизни, деятельности, но и самой науки, то можно сказать, что вера скрепляет и обосновывает всю нашу жизнь и всю нашу науку; научное знание держится на вере.
Как же определяется первоначало бытия, составляющее предмет веры и обосновывающее наше знание? Здесь возможны пока общие и предварительные определения. Нельзя мыслить его как вид бытия, как это делалось в философии; понятие бытия не является самостоятельным понятием, оно есть лишь предикат или сказуемое, необходимо требующее своего подлежащего; оно подразумевает поэтому известное отношение и потому, являясь само относительным, не может служить основанием всякого бытия или отношений. Поэтому когда Гегель попытался понятие чистого бытия вознести в абсо-
______________________
1) Соловьев. Критика отвлеченных начал. Собр. соч., т. II, 308-9.
2) Ibid. 316.
204
лютное первоначало и сделать исходным пунктом своей объективной логики, то обнаружилось, что чистое бытие, ни к чему не отнесенное и представляющее сказуемое без подлежащего, есть совершенно бессодержательное понятие и обращается в свою противоположность ничто. Абсолютное начало не может быть поэтому бытием или, точнее, видом бытия, оно должно иметь способность к бытию, но в то же время быть выше бытия; его можно определить как сущее. Подобно тому, как живой субъект не сливается ни с одним из своих состояний или образов своего бытия, являясь в то же время их основанием, так и абсолютное первоначало имеет положительную мощь бытия, само оставаясь в то же время выше бытия. Поскольку сущее принимает образы бытия, становится в известное отношение к другому, оно делается познаваемым.
Это определение абсолютного начала как сущего, а не бытия (как определял его Гегель и предыдущая философия), имеет решающее значение и для философии Соловьева и, как нам кажется, для всей новейшей философии. Именно здесь, в этом понятии, философски осиливается Гегель, делается положительный шаг вперед в философском познании. Сродство понятия сущего у Соловьева с основным понятием философии Плотина не уменьшает значения философского открытия Соловьева потому, что гениальная интуиция Плотина находит здесь критическое обоснование, познается как итог векового развития философии. Понятием сущего окончательно преодолевается философия пантеизма и философски утверждается понятие живого личного Бога, необходимое для религии.
Очевидно, что абсолютное первоначало может быть только едино, — несколько первоначал, вступая в известные взаимные отношения, явились бы уже относительными и требовали бы нового единящего начала; поэтому усилия философии всех времен направлялись именно к тому, чтобы найти эту единую первооснову бытия. Но, будучи единым, оно не может быть беднее содержанием, нежели всякое бытие, а должно быть, напротив, богаче, должно включать все, но в форме единства. Поэтому абсолютное первоначало определяется как положительное всеединство. Дальнейшие определения раскроются нам в онтологии, а здесь отметим несколько выводов, проистекающих из сказанного.
Истинность или неистинность факта или положения, очевидно, определяется его отношением к этому положительному всеединству. «Разумность какого-нибудь факта и состоит лишь в его взаимоотношении со всем, в его единстве со всем; понять смысл или
205
разум какой-нибудь реальности, какого-нибудь факта, ведь, и значит только понять его в его взаимоотношении со всем, его всеединстве»1). Предполагая возможность какого бы то ни было познания, мы уже подразумеваем, хотя не всегда достаточно сознательно, некоторое реальное, существенное единство познаваемого объекта с нами; только это единство делает возможным познание, которое есть некоторое внутреннее соединение познающего с познаваемым. Познание было бы невозможно, если бы субъект и объект познания были совершенно чужды друг другу; объективная связь их или единство есть необходимый prius познания. (И из обычной практики нам известно, что глубина и так сказать интимность познания прямо пропорциональны близости объекта познания познающему духу).
Единство познающего и познаваемого выражается в их логическом единстве, молчаливом признании, что нормы или законы мышления, применяемые нами в познании, суть в то же время и законы объективного бытия, находятся между собою в соответствии. В самом деле, если бы закон причинности или достаточного основания имел только субъективное значение, а объективная действительность была бы от него свободна, очевидно, познание было бы невозможно. Признание единства всего сущего включает необходимо и единство объективного логоса или разума всего сущего. Законы мышления суть и законы бытия. Эта основная мысль логики Гегеля совершенно справедлива, если освободить ее от той исключительности, какую Гегель придал логическому началу. (В «Философских началах цельного знания», Соловьев делает мастерской очерк, оставшийся, к сожалению, незаконченным, объективной логики в смысле Гегеля).
Абсолютное первоначало, одной стороной обосновывая логос всего сущего или логическое мышление и философскую спекуляцию, другим образом своего бытия обусловливает эмпирию, дающую материал для опытной науки. Последняя здесь не умаляется в своих правах, как она была умалена Гегелем, а наоборот, восстановляется в них, потому что ей ставится определенная цель, — познание истины, т.-е. единства в явлениях, и признается вместе с тем необходимый для нее неопределенно широкий эмпирический базис.
Итак, в философии и пауке нам открывается дна образа бытия сущего, которое мы познаем внутренней интуицией или верой. «Ветви одного и того же дерева разнообразно скрещиваются и пере-
______________________
1) В. Соловьев. Критика отвлеченных начал. Собр. соч., т. II, 284.
206
плетаются между собою, причем эти ветви и листья различным образом соприкасаются друг с другом своими поверхностями, — таково внешнее или относительное знание; но те же самые листья и ветви помимо этого внешнего отношения связаны еще между собою внутренне посредством своего общего ствола и корня, из которого они одинаково получают свои жизненные соки, — таково знание мистическое или вера»1).
Отсюда следует, что различные способы познания сущего для полноты этого познания взаимно друг друга предполагают, и нормальным отношением между ними является не взаимная отчужденность или даже вражда, но гармонический синтез, составляющий идеал знания. Этот синтез мистического, научного и философского знания Соловьев определяет как идеал «свободной теософии».
Мы указали основные идеи теории познания Соловьева, этим только нам и придется ограничиться, ибо из всех философских учений теория познания наименее поддается общедоступному изложению. Поставим в заключение основной вопрос, нас интересующий: что же дает современному сознанию теория познания Соловьева? Компетенция теории познания не идет дальше решения формального вопроса о праве на существование того или иного источника познания, того или иного учения. И в этом смысле можно сказать, что гносеология Соловьева расширяет и укрепляет самые исконные и дорогие права человеческого сознания. Мы знаем уже, что она критически обосновывает возможность отвлеченного мышления, эмпирического знания и веры; она показывает, что разными способами здесь познается одно и то же абсолютное первоначало и нормальное отношение их — не вражда, а единство; этим заключается не временный компромисс между ними, а вносится внутренний мир и гармония. Но еще важнее тот результат теории познания Соловьева, что ею признаются права эмпирического, живого или «конкретного» сознания: в этом сознании неразрывно соединены все три источника познания: вера, разум, опыт. В истории философии поочередно выдвигался какой-нибудь один из них, и объявлялись безумием оба остальные, хотя живое сознание никогда не отказывалось и не может отказаться от них. В эпоху господства богословия, отвлеченного клерикализма, по выражению Соловьева, признавались права одной слепой, не просветленной «блудницей» разумом и научным знанием веры: во славу веры горели костры инквизиции, возжигае-
______________________
1) Ibid. 314.
207
мые против свободного исследования. Прошли века, и веру постигло такое же гонение от разума и науки, какому она сама их в свое время подвергала: самые законные и священные потребности веры подвергались осмеянию или просто игнорировались. Но вместе с тем, временно соединившись против общего их мнимого врага — веры, наука и философствующий разум вступили в распрю между собой и в конце концов взаимно друг друга отвергли (гегелианство и позитивизм). Все это привело философию к кризису, из которого указывает выход Соловьев. Опираясь на итоги ее развития, он показал всю неправильность противопоставления источников познания взятых в их отвлечении, всю необходимость и законность гармонии между ними. Он провозгласил неотъемлемые права живого человеческого сознания, которое подвергалось философской вивисекции, и это провозглашение было делом не первобытного, наивного, нефилософского сознания, а опосредствованным выводом, критическим итогом всего векового развития философии. Живую человеческую душу не удалось иссушить в монастыре, препарировать под микроскопом, превратить в сухой лист абстракции, она как феникс воскресла из пепла истории1).
Наибольшему умалению в наши дни подвергаются права веры, и именно вере принадлежит центральное место в теории познания Соловьева. Восстановление нрав веры является важнейшим практическим результатом гносеологии Соловьева, ибо ни в чем так не нуждается современное сознание, как в этом.
Теперь обратимся к онтологии Соловьева, к дальнейшим определениям сущего. Сущее или положительное всеединство является как истина для познающего духа; но «отделить теоретический или познавательный элемент от элемента нравственного или практического и от элемента художественного или эстетического можно было бы только в тех случаях, если бы дух человеческий разделялся на несколько самостоятельных существ, из которых одно было бы только волей, другое — только разумом, третье — только чувством». На самом деле, «теоретическая сфера мысли и познания, практическая сфера воли и деятельности и эстетическая сторона чувства и творчества различаются между собою не образующими элементами, которые во всех них одни и те же, а только сравнительной степенью преобладания того или другого элемента в той или
__________________________
1) Доктрину, весьма близкую к Соловьевской, хотя и независимо от него, развивает кн. С. Н Трубецкой в своих замечательных статьях «Основания идеализма» («Вопросы Фил. и Псих.»1896 г.).
208
другой сфере»1). «Если таким образом истина, составляющая содержание настоящей философии, должна находиться в необходимом отношении к воле и чувству, отвечая их высшим требованиям, то, очевидно, исходная точка этой философии — абсолютно-сущее — не может определяться одной только мыслительной деятельностью, а необходимо также волей и чувством. И действительно, абсолютно-сущее требуется не только нашим разумом, как логически необходимое предположение всякой частной истины, — оно также требуется волей как необходимое предположение всякой нравственной деятельности. как абсолютная цель или благо; наконец, оно требуется также и чувством, как необходимое предположение всякого полного наслаждения как та абсолютная и вечная красота, которая одна только может покрыть собой видимую дисгармонию чувственных явлений «и разрешит торжественным аккордом их голосов мучительный разлад»2). Итак, абсолютное первоначало, положительное всеединство, открывается человеку под тремя аспектами, как добро, истина и красота.
Существование этого абсолютного или божественного начала, как мы уже знаем, утверждается только верою. Соловьев относится совершенно отрицательно к попыткам дать рациональное доказательство бытия Божия. «Содержание же божественного начала, так же как и содержание внешней природы (существование которой утверждается также только верою) дается опытом. Что Бог есть, мы верим, а чтó Он есть, мы испытываем и узнаем»3). «Совокупность религиозного опыта и религиозного мышления составляет содержание религиозного сознания. Со стороны объективной содержание это есть откровение божественного начала, как действительного предмета религиозного сознания. Так как дух человеческий вообще, а следовательно и религиозное сознание, по есть что-либо законченное, готовое, а нечто возникающее и совершающееся (совершенствующееся), нечто находящееся в процессе, то и откровение божественного начала в этом сознании необходимо является постепенным. Как внешняя природа лишь постепенно открывается уму человека и человечества, вследствие чего мы должны говорить о развитии опыта и естественной науки, так и божественное начало постепенно открывается сознанию человеческому, и мы должны говорить о развитии религиозного опыта и религиозного мышления. Так как божественное
________________________
1) Собр. сочин., I, 316-17.
2) Ibid., 317.
3) Чтения о богочеловечестве. Собр. сочин., т. III, 31.
209
начало есть действительный предмет религиозного сознания, т. е. действующий на это сознание и открывающий в нем свое содержание, то религиозное развитие есть процесс положительный и объективный, это есть реальное взаимодействие Бога и человека, — процесс богочеловеческий.
Ясно, что вследствие объективного и положительного характера религиозного развития ни одна из ступеней его, ни один из моментов религиозного процесса не может быть сам по себе ложью или заблуждением. «Ложная религия» есть contradictio in adjecto. Религиозный прогресс не может состоять в том, чтобы чистая ложь сменялась чистой истиной, ибо в таком случае эта последняя являлась бы разом и целиком без перехода, без прогресса»1). Соловьев часто повторяет выражение Лейбница, что всякая религиозная и философская система бывает несправедлива не в том, что она утверждает, а что она отрицает, придавая своему утверждению характер односторонности, «отвлеченного начала».
«Очевидно, что с религиозной точки зрения целью является не minimum, а maximum положительного содержания, религиозная форма тем выше, чем она богаче, живее, конкретнее. Совершенная религия есть не та, которая во всех одинаково содержится (безразличная основа религии), а та, которая все в себе содержит и всеми обладает (полный религиозный синтез). Совершенная религия должна быть свободна от всякой ограниченности и исключительности, но не потому, чтобы она была лишена всякой положительной особенности и индивидуальности, — такая отрицательная свобода ость свобода пустоты, свобода нищего, а потому, что она заключает в себе все особенности и следовательно ни к одной из них исключительно не привязана, всеми обладает и следовательно ото всех свободна»2). В этих словах заключается величайшая мудрость, к сожалению, чуждая философскому сознанию нашей эпохи: теперь религиозное сознание считается тем выше, чем оно скуднее и абстрактнее, чем ближе к нулю его положительное содержание. Для религиозной жизни считается достаточным одного из аспектов Божества, взятых в их отвлечении (натуралистический пантеизм и в особенности модный ныне этический пантеизм). Тем же стремлением сведения религиозного начала к минимуму характеризуется новейшее развитие свободного протестантского богословия, которое
_________________________
1) Ibid. 32-3.
2) Ibid. 35.
210
стоит под сильным влиянием Канта и характеризуется теологическим агностицизмом, сводя религию только к этике (сюда же примыкает и учение гр. Л. Н. Толстого). Последнее слово этого направления мы находим в трудах замечательнейшего представителя господствующей школы Ричля — берлинского профессора Ад. Гарнака, лекции которого «Wesen des Christenthums» приобрели значение литературного события и выдержали в короткое время целый ряд изданий (здесь он популяризует основные идеи своего капитального трехтомного труда Lehrbuch der Dogmengeschichte). «Чтения о богочеловечестве» Соловьева и «Wesen des Christenthums» Гарнака, вот два классических сочинения, выражающие собой крайние полюсы, между которыми движется современное религиозное сознание.
На первых стадиях религиозного сознания божественное начало остается скрытым, неразличенным от стихий природы. Это эпоха натуралистического политеизма, обожания сил природы. Следующая стадия состоит в том, что природа теряет власть над человеком, он отрицает ее как высшее первоначало. Эта чисто отрицательная стадия развития нашла полное свое выражение в индийской философии. У Капилы, одного из индийских мудрецов, эта мысль выражена так: «истинное или совершенное знание, которым достигается освобождение от всякого зла, состоит в решительном и полном различении вещественных начал природного мира от чувствующего и познающего начала, т.-е. я».
«Разумеется, уже признание природы за зло, обман и страдание отнимает у нее значение безусловного начала, но так как кроме нее в сознании природного человека нет никакого другого содержания, то безусловное начало, которое не есть природа, может получить только отрицательное определение: оно является как отсутствие всякого бытия, как ничто, как нирвана. Нирвана есть центральная идея буддизма»1). В этом смысле буддизм есть отрицательная религия, понимающая безусловное начало как ничто. «И поистине оно есть ничто, так как оно не есть что-нибудь, не есть какое-нибудь определенное, ограниченное бытие или существо наряду с другими существами, — так как оно выше всякого определения, так как оно свободно ото всего»2). Но будучи свободно ото всего, оно обладает всем, и в этом смысле само боже-
_______________________
1) Ibid. 41.
2) Ibid. 44.
211
ственное начало есть все. Но это все но может бить лишь совокупностью природных явлений, не имеющих пребывающего бытия и непрерывно сменяющихся в потоке времени. За корою естества уже Платон прозревал мир идеальных сущностей, идеальный космос, бледным отображением которого является наш природный мир. Однако чистое учение платонизма отделено от современного сознания пропастью, чрез которую необходимо перекинуть мост. Мостом послужат нам основные понятия современной критической философии и естествознания.
Субъективный идеализм Канта дал посылки для вывода, с наибольшей решительностью сделанного Шопенгауэром, что этот мир, звенящий и сверкающий, не имеет самостоятельного бытия, а есть наше представление, определяемое нашей представляющей способностью (конечно, мысль эта в той или другой форме вовсе не является новостью в истории философии). Эту же истину подтверждает и естествознание, которое учит нас, что теплота, свет, звук, электричество суть лишь различные виды движения и, следовательно, даже для опытной науки представляются не тем, что они суть для нашего чувственного бытия. Картина мира, даваемая папаши чувствами, определяется нашими воспринимательными способностями. По древнеиндийскому выражению, дух есть зритель, а природа — танцовщица пред духом.
В то же время непосредственное сознание говорит нам, что этот мир, хотя и есть наше представление, не является однако делом нашей воли (каким некоторое время пытался представить его Фихте, признавший в конце концов загадочный для его философии äussere Anstoss). Возбуждать в себе представления не в нашей воле, здесь мы подчинены какой-то внешней для нас силе, действие которой мы испытываем как насильственное вторжение в нашу субъективность. Как же можно мыслить эту силу, что представляет собою внешний мир в этом смысле?
Современное естествознание отвечает на этот вопрос учением об атомах, философские основы которого заложены еще Демокритом. Атомы, во-первых, должны быть множественны, потому что без этого условия непонятна была бы множественность явлении. Во- вторых, они неизменны, неразложимы, неделимы, просты, следовательно, вечны. Нужно сказать, что естествознание не выработало общего философского понятия атома, который различие понимается в разных его отраслях. Поэтому последнее слово здесь принадлежит философии, которая, прежде всего, вскрывает основное проти-
212
воречие, лежащее в определении атома: атом неделим, но все, что занимает пространство, делимо, следовательно, или он не занимает пространства и в таком случае не может служить дли объяснения пространственного мира, или он делим, т.-е. не есть атом. Это коренное и неустранимое противоречие уже предостерегает нас не мыслить атомы так, как они представляются в философии вульгарного материализма, т.-е. как материальные частицы, слоняющиеся в пустом мешке бесконечного пространства. Эту точку зрения оставляет и научное естествознание, которое начинает заменять понятие атома понятием энергии и понятие материи разрешает в понятие силы. (Из новейших философов выдающимся представителем этого учения является Эд. ф.-Гартман как в первых своих трудах, так и в новейшей работе Die Grundanschaungen der modernen Physik. Berlin. 1902). Мыслить атомы как частицы вещества, т.-е. нечто телесное, не позволяет нам уже то, что телесность, т.-е. известные осязательные впечатления, есть тоже одно из наших представлений, от которых мы хотим здесь отделаться. Единственным признаком атома в таком случае останется непроницаемость, или оказываемое им противодействие. Следовательно, нужно предположить некоторую противодействующую силу, которой и принадлежит реальность. Итак, атомы суть элементарные силы, взаимодействием которых создается мир. Но взаимодействие предполагает способность не только действовать, по и воспринимать действие. Чтобы действовать вне себя, на других, сила должна стремиться от себя, наружу, а чтобы воспринимать действие других, данная сила должна давать место другой силе, притягивать ее, ставить пред собой или представлять. Таким образом каждая основная сила необходимо выражается в стремлении и представлении, и основы реальности суть стремящиеся и воспринимающие или представляющие силы; они могут действовать от себя и воспринимать действие, иметь действительность не только для другого, но и для себя, такие силы суть более чем силы, это суть существа, монады, понятие о которых введено в философию Лейбницем. Их взаимодействие предполагает их качественные различия, иначе бы они не различались и не могли бы воздействовать друг на друга; эти качества монад, по своему понятию вечные и безусловные, составляют идеи этих существ1) уже в
_________________________
1) «Для уяснения того, что есть идея, может служить указание на внутренний характер человеческой личности. Каждая человеческая личность есть прежде всего природное явление, подчиненное внешним условиям и
213
том смысле, как учил Платон. Итак, истинная действительность, положительное все, есть царство идей, идеальный космос. Существование идей удостоверяется, между прочим, фактом художественного творчества, которое есть как бы некоторое ясновидение идей. Поэтому не случайно, что эллинизм, высшим продуктом которого в философии являются истины платонизма, в области религии создал культ красоты, царство художественной интуиции.
Таким образом, основное онтологическое воззрение Соловьева можно определить как спиритуализм, учение о всеобщей одушевленности и духовности мировой субстанции. Это воззрение, находящееся в полном согласии с естествознанием, представляется в настоящее время единственно возможным в философии, и времена грубого атомистического материализма, надо надеяться, безвозвратно отошли в вечность. В этом пункте Соловьев отличается от других философов только большей законченностью и ясностью монадологии, приводимой им в связь с платонизмом. Вообще же спиритуалистическое миропонимание в той или другой форме является теперь в философии господствующим: победоносная борьба с естественнонаучным материализмом составляет особенную заслугу философов пессимизма — Шопенгауэра и Гартмана (представителями спиритуализма в новое время являются также Лотце и Вундт).
Объединяясь в общем признания истины спиритуализма, философы расходятся в дальнейшей разработке этого учения. Отличительные особенности философии Соловьева в этом пункте раскрываются нам только в дальнейшем развитии монадологии.
Необходимое условие взаимодействия, служащего источником всякой действительности, есть множественность монад или идей; но равно необходима и существенная внутренняя связь между ними, потому что из множества чуждых, несвязанных элементов не может получиться никакого единства, каким во всяком случае является наш мир. Основным недостатком монадологии Лейбница было его предположение, что монады «не имеют окон», замкнуты друг для друга; поэтому для объяснения единства мироздания и даже возможности его познания потребовалось предположение внешнего вмешательства Божества, предустановленной гармонии; мир монад уподобляется
______________________
определяемое ими в своих действиях и восприятиях. Но вместе с этим каждая человеческая личность имеет в себе нечто совершенно особенное, совершенно неопределимое внешним образом, не поддающееся никакой формуле, и несмотря на это налагающее определенный индивидуальный отпечаток на все действия и на все восприятия личности». (Чтения о богочеловечестве, собр. соч., III, 51).
214
как бы большому количеству часов, заведенных и пущенных в одно время; хотя в движениях стрелок наблюдается полное соответствие, однако оно нисколько не свидетельствует о внутреннем их единстве, а только о существовании руки, некогда все эти часы однообразно заведшей. Божество при этом определяется тоже как монада, хотя и центральная, отношение Его к миру остается чисто внешним. Все эти странные мнения явились у Лейбница следствием его исходного ошибочного мнения о взаимной непроницаемости монад, — следствием их механизирования, применения к области духа отношений вещества. Именно в этом пункте монадология Соловьева делает решительный шаг вперед, устанавливая как необходимое условие взаимодействия проницаемость монад, не внешнее, а внутреннее отношение между ними (путь, предуказанный Платоном). Его можно уподобить группировке явлений в понятиях, зараз охватывающих обширные группы явлении, с той однако разницей, что в понятиях расширение объема понятия сопровождается уменьшением его содержания, то есть отвлекаемых признаков (монах, понятие более широкое по объему, чем францисканец, содержит меньшее количество признаков, чем это последнее), между тем как в группировке идей расширение объема прямо пропорционально расширению содержания. Поэтому правильнее эту группировку определить понятием организма, в котором все отдельные части, не теряя своих особенностей, входят в состав общего целого. Восходя вверх в организации идей, мы доходим до такой идеи, которая является единством всех идей, вмещает в себя все. Такая идея определится как безусловная любовь или благость. В самом деле, всякая идея есть любовь и благость для своего носителя, всякое существо есть то, что оно любит; следовательно, всеобщая или универсальная идея — есть безусловная благость или любовь.
Итак, полнота идей или полнота бытия должна мыслиться не как механическая совокупность, а именно как внутреннее их единство, которое есть любовь. Мы узнали основное понятие всей философии Соловьева, ее неизменный центр, этот центр есть (говоря словами его стихотворения) «неподвижное солнце любви». Онтология Соловьева приводит нас к формуле: «Бог есть любовь».
Обратимся к дальнейшему анализу понятия центральной идеи. Чем больше элементов соединено в организме, тем неразрывнее связь этих элементов и тем менее возможно такое же соединение элементов в другом существе, к другом организме. Следова-
215
тельно, тем больше особенности, оригинальности, индивидуальности имеет такой организм. Отсюда следует, что наибольшей индивидуальностью или оригинальностью отличается организм универсальный; он должен быть абсолютно-индивидуальным, в своем роде единственным. И если всякая идея, как существо, обладает своим собственным самоопределением и существует в этом смысле но только для других, но и для себя, есть не только объект, но и субъект, то это же самое должно быть признано относительно всеединой идеи, которая «должна быть собственным определением единичного центрального существа»1). Полагая себя объектом, она тем самым является субъектом или лицом; обладая всем, она не может быть лишена чего-либо, в частности личного бытия. Итак, абсолютное первоначало есть не только все, но и лицо. Таким образом, философским анализом мы получаем понятие живого Бога, по христианскому выражению, Бога вседержителя. дающего место полноте бытия, но не сливающегося с миром, как это принимает философия пантеизма2). Понятие личного Бога (который есть любовь) является центральным понятием метафизики Соловьева, составляя ее отличительную черту. Характерно именно то, что оно получается чисто спекулятивным путем, как результат анализа основных определений бытия, следовательно, в полной независимости от какой бы то ни было исторической религии или откровения, хотя и необходимо приводит к нему и непосредственно соединяется с ним.
Бог, как субъект или как лицо, есть главное содержание ветхозаветной религии, иудейского монотеизма. Бог еврейского народа есть абсолютный субъект, лицо, «огнь попаляющий». «Аз есмь сущий», открывает о Себе Бог Моисею.
Итак, умозрение приводит нас к теизму, к определению абсолютного первоначала как субъекта. Рассмотрим новые определения, какие получаются при дальнейшем анализе этого понятия.
Абсолютному первоначалу, как сущему, необходимо свойственно бытие; без этого оно было бы лишено всякого проявления и превратилось бы в ничто. Бытие есть, как мы уже знаем, отношение между сущим и его объективной сущностью, которой необходимо является не что-нибудь отдельное и ограниченное, а все. Итак, Бог проявляет или утверждает свою сущность как все. Но для
__________________________
1) Ibid. 64.
2) Не забудем, что то же понятие «сущего» мы имели в гносеологии и в объективной (органической) логике.
216
того, чтобы утверждать это все как свое, как единство, Бог должен содержать все в потенциальном единстве, владеть всем, таким образом, первое положение Божества состоит в том, что оно все содержит потенциально, как в сущем или в своем корне. Но для того, чтобы это все было действительным, Бог должен его содержать не только в себе, по и утверждать для себя как свое другое, от себя различное, различать не только потенциально, но и актуально. Мы имеем, таким образом, второй вид или второе положение сущего: скрытая возможность всего полагается как действительность. Некоторую аналогию здесь представит отношение художника к художественной идее в акте творчества: эта идея есть духовная суть его как субъекта, но, содержа ее потенциально в себе, он тем не менее стремится представить ее и для себя, дать ей действительность, объективировать.
В другом сущее остается тем же, во множестве — единым. Но это тожество и это единство необходимо различаются от того тожества, того единства, которое представляется первым положением сущего: там оно есть непосредственное и безразличное, здесь же оно есть утвержденное, проявленное ила опосредствованное1). Мы имеем здесь третье положение сущего, - законченное или абсолютное единство, осуществившее себя, утвердившее себя как такое. Аналогию этой тройственности отношений пли положений сущего можно найти и в нашей внутренней жизни: человек существует как субъект, содержащий в потенции все проявления духовной жизни, как проявляющийся во вне или во многом, и затем как утверждающий себя или свое единство в этих проявлениях, рефлектирующий на себя. Но в нас эти положения, несовместимые разом, существуют в различные моменты времени. В абсолютном существе, не подлежащем времени, все эти три состояния могут быть даны только разом. Но так как три исключающие друг друга положения не могут быть даны в одном и том же акте одного и того же субъекта, то для этих трех вечных актов необходимо предположить три субъекта. «Из них второй, непосредственно порождаясь первым, есть прямой образ ипостаси его, выражает своей действительностью существенное содержание первого, служит ему вечным выражением или Словом, а третий, исходя из первого, как уже име-
__________________________
1) Ibid., 83.
217
ющего свое проявление во вторам, утверждает его как выраженного или в его выражении»1).
Но не впадаем ли мы в противоречие с требованиями единобожия и не являются ли эти три ипостаси тремя богами? «Если с именем Бога соединять всецелое и актуальное обладание всей полнотою божественного содержания во всех его видах, в таком случае и трем божественным субъектам (ипостасям) название Бога принадлежит, лишь поскольку они необходимо находятся в безусловном единстве, в неразрывной внутренней связи между собою. Каждый из них есть истинный Бог, но именно потому, что каждый неразделен с двумя другими. Если бы один из них мог существовать в отдельности от двух других, то, очевидно, в этой отдельности он не был бы абсолютным, следовательно, не был бы Богом в собственном смысле, но именно такая отдельность и невозможна»2). Отдельность же их существует только для нашей отвлкающей мысли.
Определив отношение трех божественных субъектов в самой общей логической форме (как в себе — бытие, для себя — бытие и у себя — бытие), мы можем определить и некоторые способы или модусы этого бытия. Так первое положение Божества, где сущий открывается как начало своего другого, есть воля; второе положение, где сущий различает сущность своей воли как свое другое, — есть представление; наконец, третье положение, где сущий снова соединяется с своей сущностью, находит в ней себя и ее в себе, где сущность и сущий становятся таким образом ощутительны друг для друга, — есть не что иное, как чувство.
Мы различаем в себе волю, изнутри возбуждаемую или творческую (напр., воля художника творить) и извне возбуждаемую или пассивную (похоть), когда предмет ее находится вне ее, дается, а не создается волей. Этого различия, очевидно, не может быть в абсолютном субъекте, содержащем в себе все и вне себя ничего не имеющем; его воля есть непосредственно творческая или мощная. Точно так же мы различаем в себе представления, соответствующие действительности и не соответствующие или фантастические, далее представления созерцательные или воззрительные (интуитивные) и представления отвлеченные или собственно мышление. Это различие зависит от того, что отдельные существа, выделенные из целого,
________________________
1) Ibid., 87. Курсив автора.
2) Ibid., 87-8.
218
имеют вне себя целый мир внешнего независимого от них бытия, это создает различие между внешним и внутренним опытом, истинными и неистинными представлениями. Для абсолютного, не имеющего независимого от себя бытия различие объективного и субъективного определяется его собственной волей. Поскольку представляемая сущность не только представляется, но и утверждается волею сущего как другое, постольку она получает значение собственной действительности и как такая воздействует на волю в форме чувства. В области чувства в абсолютном не может быть, наконец, различий между чувством, возбуждаемым внешним миром или ощущениями, и внутренним, или волнениями, ибо различия внешнего и внутреннего здесь не существует.
«Три божественные субъекта, очевидно, но могут быть обособлены в том смысле, чтобы каждый из них имел только волю, только представление или только чувство, необходимая для их существования особность может заключаться только в обособлении самого сущего, как, во-первых, преимущественно волящего, во-вторых, преимущественно представляющего и, в-третьих, преимущественно чувствующего. Приписывая каждому из божественных субъектов особенную волю, представление и чувство, мы разумеем, что каждый из них есть волящий, представляющий и чувствующий, т. е. каждый есть сущий субъект или ипостась, сущность же их воли, представления и чувства — есть одна и та же... и только отношение этих трех способов бытия у них различно1).
Соответственно различиям в трех основных способах бытия сущего, различаются и способы бытия идеи или сущности, представляющей содержание воли, представлений и чувства сущего Как содержание воли сущего или как его желанная, идея является благом, как содержание его представления она является истиной, как содержание чувства сущего — красотой. Абсолютное хочет как блага того же самого, что оно представляет как истину и чувствует как красоту, и именно всего. Благо, истина и красота суть три вида или образа единства, под которыми для абсолютного является его содержание, т. е. все, а так как всякое внутреннее единство есть любовь, то благо, истина и красота являются тремя образами любви. «Благо есть единство всего или всех, т. е. любовь, как желаемое, т. е. как любимое, — следовательно, здесь мы имеем любовь в особом преи-
_________________________
1) Ibid, 100.
219
мущественном смысле, как идею идей: это есть единство существенное. Истина есть та же любовь, т.-е. единство всего, но уже как объективно представляемое — это есть единство идеальное. Наконец, красота есть та же любовь, но как проявленная или ощутимая — это есть единство реальное. Отношение это в короткой формуле может быть выражено так: «абсолютное осуществляет благо чрез истину в красоте»1).
Учение о триединстве Божием не является новостью в истории философии: в той или другой форме оно было свойственно александрийской философии2), вполне сознательно оно было формулировано в церковно-догматическом учении на соборах IV-VII веков; эта формулировка вызывалась потребностями христологии. церковного учения о Христе. Это учение проходит далее чрез всю историю философии, появляясь в XIX веке у Шеллинга и Гегеля. Соловьеву принадлежит заслуга развития этой философской и богословской идеи на основе критической философии и придания ей формулировки, отвечающей современному состоянию философской мысли и устраняющей главные спекулятивные трудности философии теизма-унитаризма.
Эта философская доктрина приводит нас па почву положительного христианского вероучения. Христианство, как учение, синтетически соединяет в себе все выше отмеченные моменты развития религиозного сознания, а также и философского учения о Боге: аскетическое начало буддизма, выражающееся в учении, что «мир во зле лежит», платоновский идеализм — признание идеального космоса, «неба», рядом с «землей»,строгий монотеизм иудейской религии, на почве которой и возникло христианство, и наконец, учение о троичности ипостасей, органически вытекающее из учения о Христе.
В противность современной стерилизации христианства в ученой богословской литературе протестантизма, которая стремится из христианства устранить учение о Христе и превратить его в моральную доктрину («кантизировать»), Соловьев справедливо указывает, что существеннейшим содержанием христианства является учение о Христе, как Богочеловеке; напротив, основные черты христианской морали встречались и ранее (напр. учение о любви в буддизме как ни разнится однако оно от христианского). Потому последовательнее поступают те, кто совер-
________________________
1) Ibid, 402.
2) Ср. вообще кн. С. Трубецкой. Учение о Логосе в его истории. Для истории развития идеи Логоса в древнегреческой философии ср. его же: Метафизика в древней Греции.
220
шенно отвергает самостоятельное значение христианства, нежели те, кто относится к нему с такой половинчатостью. Согласно своей задаче мы однако оставляем в стороне богословское трактование этой проблемы. В доктрине Соловьева Христос есть единящее начало универсального организма, положительного все. В этом организме можно, следовательно, различать единство производящее — божественный Логос или Христос, и единство произведенное, воспринимающее единящее действие Логоса (подобно тому, как «во всяком организме мы имеем два единства: единство действующего начала, сводящего множественность элементов к себе как единому; с другой стороны эту множественность, как сведенную к единству, как определенный образ этого начала»). Второе, произведенное, единство Соловьев называет библейским именем, София.
Мы имеем в вышеизложенном анализ содержания понятия сущего, причем определения абсолютного первоначала смыкаются в стройную и законченную онтологию. Однако дело философа не может считаться законченным. Еще далеко не все проблемы бытия (или, что то же, мировые вопросы) нашли здесь ответ. И прежде всего осталась неотвеченной космологическая и в частности всемирно-историческая проблема. В идеальном космосе, воплощающем полноту совершенства, нет места процессу, развитию, переходу от менее совершенного к более совершенному, короче, всей исторической драме, нет места злу, лжи, безобразию, горю, таким образом, настоящей «загадкой для разума» представляется не этот идеальный и ясный космос, а наш мир, непонятный, нестройный и преходящий.
Нетрудно однако видеть, что этот мир предполагает мир идеальный как свою норму, как критерий для своей оценки. Мы не находили бы его полным заблуждений, если б не имели представления о сущей истине, мы не считали бы его злым, если бы не носили в себе идею добра, мы не чувствовали бы в нем безобразия, если бы были слепы к красоте. Все те определения, которые мы даем миру и которые делают его до такой степени загадочным и иррациональным, возможны лишь при признании самостоятельного, пребывающего значения истины, добра и красоты. Вот почему та формулировка космологической проблемы (проблемы теодицеи), которую дает Иван Карамазов, выражая самое жгучее из своих жгучих сомнений, философски безукоризненна: я не Бога не принимаю, а мира Его не принимаю. Действительно, не приняв Бога, мы
221
теряем всякую почву для сознательного отношения к Его миру, и сознательное отрицание «мира» возможно только при признании объективной идеальной нормы, т.-е. Бога. Поэтому космологическая проблема сама собой разрешается в проблему об отношении Бога, или абсолютного совершенства, к несовершенному миру. т. е. о возможности существования этого несовершенного мира, об его происхождении и об абсолютном смысле его существования, ого цели.
Посредствующим звеном между миром идеальным и земным у Соловьева является человек, который принадлежит и тому и другому миру, имеет абсолютные или безусловные стремления и в то же время связан с преходящими явлениями природного мира.
Между Богом и миром стоит человечество, София; по отношению к миру оно служит единящим началом, само воспринимая начало единения от Логоса. София, или человечество, образует произведенное единство в универсальном организме, «тело» Христа, который является в этом смысле Богочеловеком.
Очевидно, человечество разумеется здесь не в эмпирическом смысле, ибо эмпирический человек появляется и существует во времени, и единство такого эмпирического человечества есть абстракция, собирательное понятие. В данном случае имеется в виду идеальное человечество, умопостигаемая сущность, которая лежит в основе эмпирического явления; человечество в этом смысле не совпадает ни с индивидуальным, ни с коллективным человеком. Если коллективный человек представляет собою логическую абстракцию, то и индивидуальный человек, строго говоря, представляет то же самое, ибо что можно принять действительной основой индивидуального человека? Его физический организм? Но этот организм состоит из органов и клеточек, почему же не принять такой единицей каждую клетку, а организм за собирательное целое, находящееся к клеточке в таком же отношении, как человечество к отдельному человеку? Однако и клеточка есть еще сложное бытие, пойдем далее и остановимся на атоме; но и атом, как протяжное бытие, все еще делим, и не есть последняя единица; таким образом, мы можем остановиться лишь на нуле. Не лучше будет, если в основу человека мы положим его душевный мир, ибо этот мир представляет собой постоянное чередование бодрствования и сна, смену переживаний, которых результатом является наше эмприческое я: подобно тому, как в известный промежуток времени обновляется наш физический организм, и человек в этом смысле заменяется другим, то же совершается и в психи-
222
ческом мире. Мы должны, оставаясь последовательными, или совсем отрицать бытие человека, или видеть в нем идеальную, умопостигаемую сущность, лишь находящую выражение в эмпирическом человеке. «Если человек как явление есть временный, преходящий факт, то как сущность он необходимо вечен и всеобъемлющ. Что же это за идеальный человек? Чтобы быть действительным, он должен быть единым и многим, следовательно, это не есть только универсальная общая сущность всех человеческих особей, от них отвлеченная, а это есть универсальное и вместе индивидуальное существо, заключающее в себе все эти особи действительно. Каждый из нас, каждое человеческое существо существенно и действительно коренится и участвует в универсальном или абсолютном человеке»1). Это идеальное человечество образует как бы мировую душу, Платоновское понятие, играющее в системе Соловьева весьма важную роль.
Учение о мировой душе, пли универсальном человечестве встретит, конечно, самый неблагосклонный прием со стороны позитивистов, но, кроме термина, в нем не вводится ничего, что не было бы давно привычно современному сознанию, воспитавшемуся на позитивизме. Разве не являются именно позитивисты представителями подобного же космологического антропоцентризма? Разве, человек не служит у них центром или царем мироздания если не по положению, то по ценности? (Ср., напр., откровенный и сознательный антропоцентризм у г. Михайловского в его известных статьях о прогрессе). Разве не трактуется у них человечество не как абстракт, собирательное понятие, а как реальное единство, даже божество? В основе этих представлений лежит правильная метафизическая мысль о существенном идеальном единстве человечества и об его центральном значении в мироздании и мировом процессе. Эта идея, в той или другой форме, неустранима из развитого человеческого сознания. Но так как метафизика у позитивистов есть контрабанда, то она остается бессознательной и догматической2). Во всяком случае пусть позитивисты узнают в «мировой душе» столь привычное им и столь ими излюбленное понятие «человечества». Но у Соловьева мы имеем это понятие
___________________________
1) Ibid, 116. С этим Соловьев связывает учение о свободе воли человека и бессмертии или, точнее, вечности души.
2) Основные противоречия и неясности в понятии человечества и бессилие позитивизма их устранить я пытался показать в статье «Основные проблемы теории прогресса».
223
проясненным критической метафизикой, показывающей для «человечества» возможность не абстрактного только, а существенного идеального единства.
Обращаясь непосредственно к проблеме мирового зла, нужно констатировать, что ненормальное или недолжное в мире состоит не в законах мира физического, а в зле и страдании, явлениях мира нравственного. Источником его является эгоизм, стремлений к исключительному самоутверждению, свойственное всему живущему, и эта «невозможность, оставаясь в своей исключительности. быть действительно всем, есть коренное страдание», к которому все остальные относятся как частные случаи к общему закону. Зло и страдание «суть состояния индивидуального существа: а именно зло есть напряженное состояние его волн, утверждающей исключительно себя и отрицающий все другое, а страдание есть необходимая реакция другого против такой воли». (Нетрудно уловить здесь отзвук философии Шопенгауэра).
Причина зла, очевидно, не может быть в Боге, который есть благость, ни вне Бога, ибо он содержит в себе все. Оно может быть объяснено, очевидно, только особенным взаимным отношением элементов бытия, их перестановкой, так что мир идеальный и мир реальный отличаются между собою не по существу, а лишь по положению элементов: первый «представляет единство всех сущих, или такое их положение, в котором каждый находит себя во всех и все в каждом; другой же, напротив, представляет такое положение сущих, в котором каждый в себе или в своей воле утверждает себя вне других и против других (что есть зло) и тем самым претерпевает против воли своей внешнюю действительность других (что есть страдание)».
«Если же зло или эгоизм есть некоторое актуальное напряженное состояние индивидуальной воли, противопоставляющей себя всему, всякий же акт воли по определению своему свободен (как действие от себя), то, следовательно, зло есть свободное произведение индивидуальных существ»1). Но оно не может быть произведением воли человека, как существа физического, ибо последнее родится уже во зле и находит мир розни, внешнего, раздельного существования. Не имея физического, зло может найти только метафизическое объяснение: «первоначальное происхождение зла может иметь место только в области вечного доприродного мира»2).
___________________________
1) Ibid., 123.
2) Ibid. 124. Нужно заметить, что эта часть учения Соловьева налага-
224
В первоначальном единстве с Божеством существа образуют три сферы, в зависимости от того, каким из божественных действий они определяются (воля, представление и чувство). Чистые духи первой сферы находятся в непосредственном единстве любви с первоначалом и не имеют особного, выраженного бытия. Чистые умы, составляющие область Божественного Логоса, имеют бытие как раздельные представления не только для Бога, но и друг для друга. Они находятся в определенном отношении между собою. Здесь каждое «умное» существо есть определенная идея, имеющая свое место в идеальном космосе. Но и духи, и умы, не имея обособленного и сосредоточенного существования, не способны к взаимодействию с Божеством, что требуется для полноты Божественного бытия. Поэтому Божество выводит свою волю из безусловного субстанциального единства первой сферы бытия, обращает эту волю на всю совокупность идеальных предметов второй сферы и, останавливаясь на каждом из них в отдельности, «сопрягается с ним актом своей воли и тем утверждает, запечатлевает его как самостоятельное, бытие, имеющее возможность воздействовать на божественное начало». Это и есть собственно акт божественного творчества. Каждая идея, соответственно своему содержанию, воспринимает эту волю по-своему, для себя и тем самым выделяется как реальное существо, имеющее собственную действительность и от себя воздействующее на божественное начало, становится душою. Итак, вечные предметы божественного созерцания, обособляясь в силу присущей им особенности, становятся в «душу живу». Их единство является живым средоточием или душе» всех тварей, реальной формой Божества.
Мы знаем уже, что это единящее начало или мировая душа производит это единство не от себя, а от божественного Логоса. «Поэтому, хотя и обладая всем, мировая душа может хотеть обладать им иначе, чем обладает, т.-е. может хотеть обладать им от себя как Бог, может стремиться, чтобы к полноте бытия, которая ей принадлежит, присоединилась и абсолютная самобытность в обладании этой полнотой, что ей не принадлежит. В силу
__________________________
ется им в «Чтениях о богочеловечестве» в общефилософских понятиях, напротив в La Russie et l᾽eglise universelle. Livre troisieme, а также в «Истории и будущности теократии», глава II (Собр. соч., т. IV) по преимуществу в понятиях богословских, применительно к библейскому повествованию. Согласно своей задаче, здесь мы будем держаться, насколько возможно, первой формулировки. Между тем и другим изложением существует некоторая разница, принципиального значения однако не имеющая.
225
этого душа может отделить относительный центр своей жизни от абсолютного центра жизни божестве иной, может утверждать себя вне Бога». по тем самым мировая душа теряет свое центральное положение и из всего сама становится одним из многих. Вместе с тем теряется и единство мироздания, всемирный механизм превращается в механическую совокупность атомов. Частные элементы всемирного организма теряют в ней общую связь и, предоставленные самим себе, обрекаются на разрозненное эгоистическое существование, корень которого есть зло, а плод страдание. «Таким образом, вся тварь подвергается суете и рабству тления не добровольно, а по воле подвергнувшего ее, т.-е. мировой души, как единого свободного начала природной жизни»1).
Отпавший от божественного единства мир есть хаос разрозненных элементов. Непроницаемость их друг для друга создает реальное пространство; механическое взаимодействие их — мир вещества. Мир сохраняет смутное стремление к идеальному всеединству и его осуществление есть смысл и цель мирового процесса. Процесс этот представляет собой взаимодействие мировой души, начала пассивного, и божественного начала, вносящего активное единство. Прежде чем говорить о формах и моментах мирового процесса, остановимся на вопросе об общих его основаниях.
«Почему это соединение божественного начала с мировой душой и происходящее отсюда рождение вселенского организма, как воплощенной божественной идеи (Софии), отчего это соединение и это рождение не происходят разом в одном акте божественного творчества? Зачем в мировой жизни эти труды и усилия, зачем природа должна испытывать муки рождения и зачем, прежде чем произвести совершенную форму, соответствующую идее, прежде чем породить совершенный и вечный организм, она производит столько безобразных, чудовищных порождений, не выдерживающих жизненной борьбы и бесследно погибающих? Зачем все эти выкидыши и недоноски природы? Зачем Бог оставляет природу так медленно достигать своей цели и такими дурными средствами? Зачем вообще реализация божественной идеи в мире есть постепенный и сложный процесс, а не один простой акт? Ответ на этот вопрос весь заключается в одном слове, выражающем нечто такое, без чего не могут быть мыслимы ни Бог, ни природа, это слово есть свобода». Соединение всего существующего с Божеством, составляю-
________________________
1) Чт. о Богочел., собр. соч., т. III, 131.
226
щее цель бытия, для своей полноты должно быть обоюдным, при чем, не имея этого единства в вечном акте как Бог, мировая душа должна осуществлять его во времени и постепенно. Если бы это искомое, т.-е. «всеединство во всей своей полноте, было разом сообщено или передано ей, то это для нее явилось бы только как внешний факт, как что-то роковое и насильственное, а для того, чтобы иметь его как свободную идею, она должна сама усваивать и овладевать им. Таково общее основание мирового процесса»1).
Итак, мировое зло является как бы выкупом за нравственное достоинство человека как существа разумно-свободного, способного «как боги» знать добро и зло. И если нравственная свобода есть высшее благо и вместе условие для высшего, т. е. сознательного соединения с Божеством, то мировое зло этим самым оправдано и понято в своей высшей целесообразности, как бы ни было мучительно состояние лежащего во зле мира. Это признание зла относительным и, следовательно, бессильным основано, таким образом, на вере в окончательное реальное торжество добра; тем, у кого такой веры нет, зло должно представляться абсолютным, неискоренимым, унижающим своим присутствием бытие; достоинство человеческой личности требует в той или иной форме отказаться от этого бессмысленного, ибо злого и лживого, не имеющего в самом себе никакого разумного оправдания мира, уйти от него, такова всегда была философия пессимизма2).
Проблема мирового зла не допускает решения иначе, как только в общей форме; это решение не может быть индивидуализировано. Нам никогда не понять вполне смысла каждого отдельного факта, в котором сплетаются совокупные действия и отчужденного от нас физического мира, и стихийных сил истории, и живой человеческой любви и злобы. Нам никогда но понять смысла Андижанского землетрясения, или какой-нибудь железнодорожной катастрофы, или изуверства деспотического правительства. Взятые в своей отдельности, как частные случаи неизбежного зла, они представляются совершенно иррациональными. Трагизм сомнений Ивана Карамазова в том именно и состоит, что он хочет найти смысл в каждом отдельном факте зла («деточки») именно «эвклидов-
_________________________
1) Ibid 135-6.
2) Заметим, что между метафизическим оптимизмом (точнее, оптимо-пессимизмом) и пессимизмом нет и не может быть ничего среднего. Никакое относительное решение, каким хочет довольствоваться позитивизм, здесь невозможно.
227
ским», т.-е. обособленным от единства с сущим, умом. Разумность зла вообще мы можем еще понять, в грядущее торжество добра мы можем только верить (и именно веры-то и ищет и не может найти Иван Карамазов), но отдельные случаи зла для нас всегда неразумны. И в этом, т.-е. в неразумности, и состоит роальная сила зла. Зло, понятое в своей разумности и целесообразности, не есть уже зло, которое есть прежде всего бессмыслица. Непонятность индивидуального зла вытекает поэтому из его определения.
Можно привести еще следующие метафизические и этические основания для существования зла как такового, т. е. прежде всего как бессмыслицы. Если зло есть следствие отделения мировой души от божественного начала, то прямым следствием этого отделения служит обособление всех элементов, следовательно, и нашего я от связи с целым, первым результатом этого будет утрата понимания связи этого целого; оставаясь неизбежно на одной из точек периферии бытия, мы никак не можем попять связи, соединяющей эти точки с центром и в совокупности образующей окружность. Фатальная наша ограниченность сказывается при этом в скудном и неясном понимании всего сущего, не только зла, но и добра, таким образом, мы получаем вывод, что один и тот же акт является причиной не только происхождения зла, но и его иррациональности. Связь со всем и понимание всего возможна только при восстановлении первоначального божественного единства, когда злу уже нет места.
Итак, хотя иррациональность является основным признаком объективного зла, эта истина не может однако противоречить вере в то, что в мире царит разум и потому событий абсолютно иррациональных нет. Философское и религиозное сознание приходит здесь в противоречие с рассудочным, эмпирическим, и состояние этой распри, всегда существующей в человеческом сознании, художественно воплощено в образе Ивана Карамазова. Философское и религиозное сознание велят здесь идти против эмпирической очевидности, отрицать ее во имя высшего знания, давать, действительно, «вещей обличение невидимых», перед которым тускнеют краски вещей видимых, такая вера есть нравственная задача, дело не столько ума, сколько сердца, которое во всех основных жизненных вопросах видит и понимает яснее рассудка. Отсюда между прочим явствует вся безнадежность попыток доказать конечное бессилие зла рассудком. Доказывать это рассудком, значит идти против
228
рассудочной очевидности. К счастью, рассудок в этих вопросах не есть высшая или единственная инстанция.
Рассматривая тот же вопрос с этической стороны, мы найдем, что полпая реальность зла (и, следовательно, его иррациональность) есть основное условие нравственной жизни и развития. Имея пред собой мир, состоящий из разорванных элементов, человек должен строить свою жизнь и деятельность, считаясь только с этими элементами и их так или иначе оценивая, штемпелюя их как добро или зло. Если бы нам было дано знать разум всего сущего и потому весь план мирового процесса, то эти элементы, в своей отдельности представляющиеся безусловным злом, с точки зрения этого предвечного плана таковым не оказались бы, но в таком случае нет места нравственным различиям.
Поэтому, зло не было бы злом, не могло бы известным, определенным образом аффицировать нашу волю, если бы было понятно в своей непосредственной цели: мы еще раз приходим к выводу о необходимой иррациональности зла. Система Гегеля, которая рационализирует все существующее не с точки зрения общего плана и конечной цели, но прямо как действительность («все действительное разумно»), совершенно не оставляет места для долженствования или нравственности: если все разумно и не может быть неразумным, то всякое различение и выбор, на котором основана нравственность, исключаются наперед1). Но, лишая человечество добра и зла, она лишает его и способности выбора, т.-е. нравственной свободы, оставляя только необходимость.
Итак, в конечном итоге, мы получаем пару полярных и в то же время взаимно обусловливающихся понятий, причем иррациональность и рациональность полагают границы друг другу. Нравственная свобода, требующая иррациональности, мирится с необходимостью или божественным фатумом, требующим рациональности, ибо эта необходимость осуществляется свободно. Мы достигаем здесь глубочайшей основы всякой метафизики — конечного и существенного единства свободы и необходимости, где находят примирение и взаимное восполнение Кант и Гегель, эти антиподы в области этики; Кант дает тезис, Гегель - антитезис, у Соловьева мы находим синтез. В системе Канта и в особенности в этической системе Фихте, в которой сказано последнее слово этики Канта, цен-
______________________
1) Формула Гегеля имеет, конечно, неоспоримое значение, поскольку она содержит идею разумности мирового плана, идею теодицеи. Ср. post-scriptum к статье «Основные идеи теории прогресса».
229
тральное место принадлежит идее долженствования и соответствующей ей идее свободы, это — субъективный или этический идеализм: что касается объективного идеализма, то Фихте не идет здесь дальше идеи нравственного миропорядка (этического пантеизма). Напротив, Гегелевский панлогизм представляет систему самого решительного объективного идеализма, исключающего идеализм субъективный или этический. У Соловьева удерживаются и примиряются оба «отвлеченные начала», которые, будучи взяты в отвлечении, взаимно исключают друг друга.
В связи с этим обсуждением проблемы теодицеи нам хочется подчеркнуть неотъемлемое свойство всякого учения, пытающегося найти смысл в бессмысленности мирового зла и гармонию в мировой дисгармонии, это его эсхатологический характер. Всякая теодицея переходит необходимо в открытую или прикровенную эсхатологию, и в этом сходятся все философские и религиозные учения, сколь бы различны по содержанию ни были их эсхатологии. Для каждого ясен, например, эсхатологический характер современного позитивного и атеистического учения о прогрессе, мечтающего о земном рае. Эсхатология не чужда даже философам пессимизма Гартману и Шопенгауэру, хотя идеал их не положительный, а отрицательный — покой небытия, Нирвана буддистов. В наше время господства рассудочного мышления принято стыдиться откровенной эсхатологии, мысль о которой считается «ненаучной»; это но мешает, однако, эсхатологии проникать в самые якобы научные построения, пример чему мы имеем в упомянутой теории прогресса. Это служит лучшим доказательством того, что эсхатологическая проблема неустранима из человеческого сознания, и поэтому лучше сознательно и откровенно сделать ее предметом философского обсуждения, нежели трусливо замалчивать, чтобы затем вводить эсхатологические учения контрабандой и тайком. Можно без всяких ограничений выставить следующее положение: подобно тому, как каждый сознательный человек имеет свою философию (какова бы она ни была) и свою религию, так же точно каждый человек имеет и свою эсхатологию, живет не настоящим только, а будущим и для будущего, от которого он ждет осуществления своих лучших надежд. Самое ужасное для человека потерять веру в будущее.
Мы сказали уже, что в эсхатологию гонит нас проблема теодицеи, потребность найти в этом лежащем во зле мире, а следовательно, — что для нас здесь всего важнее, в нашей собствен-
230
ной жизни разумный смысл, оправдать добро, которому мы служим. В существующем мире присутствие зла является отрицанием и оскорблением этого добра, поэтому одно из двух: или добро есть субъективное порождение человеческого мозга и бессильно в мире, неспособно к победе над злом, к изгнанию зла из мира, иди же добро есть объективное и мощное начало, дающее начало и миру и человеку и некогда имеющее уничтожит зло. В проблеме теодицеи противопоставляются всеблагой и всемогущий Бог и дурной несовершенный мир, и на выбор каждого отдельного человека предоставляется поверить в Бога или добро, или же в силу злого и немощного мира? Этой дилеммой не мучается, ее не чувствует лишь тот, кто как нельзя более доволен этим миром (хотя в нем есть одно для всех и особенно для довольных людей неприятное обстоятельство, это смерть).
Эсхатологическое разрешение проблемы теодицеи содержит прежде всего ту мысль, что сам в себе мир и зло в нем не может быть оправдано, не может найти в себе права на существование пред лицом всесильного Добра или Бога и даже пред лицом человека, способного к нравственному суждению. Какой смысл можно приписать объективному злу и страданию, которое, как мы знаем, по самому своему существу есть бессмыслица? или какое право на существование имеет пред лицом Добра нравственное зло, свсрх-человечество Навухудоносора или предательство Иуды? Ведь поставить эти вопросы значит уже ответить на них отрицательно. Итак, мир и зло в нем, если добро не есть лишь наше субъективное представление и потому иллюзия, не могут рассматриваться как самоцель, а лишь как средство, ведущее к внемировой и сверх-мировой цели — осуществлению добра. Средство не имеет самостоятельного значения, а определяется и оправдывается целью. Мы знаем уже, что в теодицее Соловьева мир есть скорбное средство к цели сознательного и свободного соединения с Божеством; это сознательное и, так сказать, опосредствованное соединение возможно только для нравственно-свободных существ, имеющих возможность выбора и реально испытавших добро и зло; этим даются общие основания мирового процесса, понятного для нас в своей идее, но непонятного в подробностях своего осуществления, из которых и составляется наша индивидуальная жизнь.
Зло, в котором лежит мир, имеет двоякий характер: зла субъективного или нравственного (греха или порока), и зла объективного или страдания (причиняемого как враждебными стихиями мира,
231
так и человеческою глупостью и злобой). Нравственная эсхатология необходимо включает в себя поэтому два вопроса: о победе добра субъективного и объективного. В первом случае дело идет, очевидно. о человеческой совести, как единственной арене, где добро и зло встречаются в открытом и сознательном бою. Победа добра здесь может выразиться в субъективном его признании: положительным образом — в сознательном ему служении, или отрицательным образом — в муках совести в случае измены добру, последний путь есть путь нравственного возрождения.
Реальной ареной для нравственного самоопределения, где человек может испытать себя в добре и зле, является человеческая жизнь. Естественная форма жизни, состоящей из чувствований, есть удовольствие и неудовольствие, счастие и несчастие. Нравственная природа человека велит ему искать счастия только в добре, определять всю свою жизнь руководящею идеей добра. Между тем в жизни люден на место добра и помимо ого являются другие источники счастия, в этом и состоит реальная сила нравственного искушения; человек может находить удовольствие и в зле или оставаться равнодушным к добру, отдаваясь своей чувственности1). Победа добра в индивидуальном сознании значит такое состояние сознания, когда, свободное от оков чувственности, оно имеет пред собой только дилемму добра и зла в их чистом виде, при чем добро оказывает свое неотразимое действие на душу чрез посредство совести («слово Мое будет судить вас в последний день»).
Итак, идея нравственного мздовоздаяния входит необходимою частью в нравственную эсхатологию; добро было бы бессильно и призрачно, если бы оно не имело окончательного торжества в человеческой совести2). Не даром Кант установляет бессмертие души в качестве постулата нравственного сознания или практического разума. Но здесь ми переходим к эсхатологии объективной.
_______________________
1) Предыдущие рассуждения, конечно, не имеют никакого смысла для тех, кто, отрицая свободу человеческой воли и нравственного самоопределения, тем самым в корне подрывают нравственность и самому добру придают значение иллюзии, необходимого звена в причинной связи событий.
2) Конечно, оценка нравственного состояния человека на основании его поступков есть крайне грубый и несовершенный масштаб, потому что при этом остается закрытой главная и единственная арена борьбы добра и зла — человеческая совесть. Вообще определить, что в каждой индивидуальной жизни принадлежит внешним, от воли не зависящим обстоятельствам, и что — свободной нравственно самоопределяющейся воле, подвести, другими словами, баланс добра и зла в каждой индивидуальной жизни — есть задача для эмпирического сознания совершенно неразрешимая.
232
Существование зла объективного в форме незаслуженных и бессмысленных страданий требует своего уничтожения, если добро всесильно. Ни как может быть оно уничтожено? Если человек болен, то есть два способа уничтожения болезни: первый — выздоровление, а второй — смерть; если болит зуб, то его можно вылечить также двумя средствами: устранить причину боли или вырвать. Который из этих способов может считаться победой над болезнью? В жизни мира, существующего во времени и пространстве, практикуется обычно второй способ разрешения проблемы зла и страдания: уничтожаются не они, а их объекты, люди, создания природы и т. д., и постоянное обновление жизни — есть постоянное обновление зла. Это ли есть победа и всесилие добра? Очевидно, логический вывод из признания всесилия добра есть восстановление в состоянии добра всего, что существует в мире в состоянии зла, а не всеобщее уничтожение, составляющее закон натурального миропорядка.
Необходимость такого вывода можно пояснить анализом позитивной эсхатологии или теории прогресса, позитивисты не могут искоренить из себя веры в сущее, объективное добро, которое отрицает их философия, они не могут призвать мира, как он ость. Поэтому ими принимается основанная будто бы на науке, на самом же деле, конечно, коренящаяся в вере эсхатология, согласно которой в историческом развитии человечества зло будет побеждаться добром. Примем эту эсхатологию целиком, даже в той самой крайней формулировке, согласно которой зло будет со временем окончательно изгнано из мира, и, начиная с некоторого момента исторического развития, мы будем иметь поколение людей добрых, счастливых, мудрых, человекобогов или сверх-человеков. (В позитивной эсхатологии обыкновенно умалчивается о том, имеет ли человеческая история конец или бесконечна, как ни чуждо и ни противоречиво понятие бесконечности для позитивного философа). В состоянии ли такая эсхатология удовлетворить запросы нравственного сознания, которое верит в объективное и потому всепобеждающее добро? Конечно, нет, ибо разве выкупаются страдания и все неправды ранних периодов истории правдой и счастием позднейших? Ведь даже одно представление о такой мене или цене прогресса не коробит ли нравственного чувства и не свидетельствует ли не о всепобеждающей силе добра, а об его бессилии? Нас хотят уверить, что часть равна целому, что смысл всего исторического развития определяется жизнью нескольких последних поколений. Все может иметь целью только все:
233
торжество добра во всем требует поэтому восстановления его во всем и для этого восстановления всего. Очевидно, позитивная эсхатология еще менее способна разрешить проблему зла индивидуального: те люди, которые всю жизнь служили злу безнаказанно и пользовались внешним благополучием, никогда не сознают всемогущей силы добра в просветленной человеческой совести, — они умерли не только физически, но и для добра. И рядом с этим воззрением современный индивидуализм доказывает абсолютную ценность человеческой личности, последняя раздувается в своем безграничном самолюбии в сверх-человека, микрокосм хочет наполнить собой макрокосм. Какая непоследовательность мысли! У представителей позитивного мировоззрения хватает веры, чтобы создать представление о будущем человечестве (ибо, снова повторяем, оно держится верой, и только наивное неведение может считать, что оно основывается на «науке»), допустить частичную победу добра, но придать добру атрибут всемогущества, без которого оно перестает быть добром, это считается «ненаучным» суеверием.
Итак, эсхатология есть необходимый вывод из анализа самого понятия добра: или добро есть иллюзия, субъективное наше порождение. тогда служение ему и вообще нравственная жизнь лишена всякого смысла, или оно есть и потому всесильно, и в таком случае вступает в свои права эсхатология. Обе основные идеи философской эсхатологии, — нравственного суда и восстановления всего, составляют основное содержание и христианской эсхатологии, которую теперь даже богословская наука (в протестантизме) считает подлежащей устранению, как инородный придаток к чистому этическому учению, не замечая, что это есть лишь необходимый вывод из этого учения1). Что касается Соловьева, то он всегда стоял на почве эсхатологического учения христианства и с этой стороны подвергался особенно упорному непониманию. В последний раз эти идеи были выражены им в «Трех разговорах», в полемике с этическим рационализмом графа Л. Н. Толстого2). Но возвратимся к прерванному изложению метафизики Соловьева.
_______________________
1) При склонности современной немецкой мысли к сублимированию, нередко схоластическому, этических и особенно религиозных понятий, нисколько не удивительно встретить, напр., у Вундта такую мысль, будто идея личного бессмертия (которого вообще Вундт не отрицает) диктуется эгоистическим гедонизмом. См. его неясные и сбивчивые рассуждения по этому предмету в «Системе философии», перевод А. М. Водена. Спб. 1902, стр. 413-20.
2) Приводим в примечании подлинное место: «Зло действительно существует, и оно выражается не в одном отсутствии добра, а в поло-
234
Божественное начало вызывает в космическом хаосе единство, сначала в самой внешней форме закона тяготения, единство механическое, далее более тесное единство динамическое и, наконец, единство органическое. Здесь Соловьев идет об руку с современным естествознанием, до теории Дарвина включительно. Известно, что Соловьев был горячим приверженцем естественнонаучного эволюционизма1). Отличие его как философа от естествоиспытателей состоит в том, что естествознание давало для него ответ на проблемы не естественнонаучные, а натурфилософские. Не было более скомпрометированного в истории философии учения нежели натурфилософия (что однако не мешает ей последнее время снова подымать
_________________________
жительном соотношении и перевес низших качеств над высшими во всех. областях бытия. Есть зло индивидуальное, — оно выражается в том, что низшая сторона человека, скотские и зверские страсти, противится лучшим стремлениям души и осиливает их в огромном большинстве людей. Есть зло общественное: оно в том, что людская толпа, индивидуально уже порабощенная злу, противится спасительным усилиям немногих лучших людей и одолевает их; есть, наконец, зло физическое в человеке, - в том, что низшие материальные элементы его тега сопротивляются живой и светлой силе, связывающей их в прекрасную форму организации, сопротивляются и расторгают эту форму, уничтожая реальную подкладку всего высшего. Это есть крайнее зло, называемое смертью. И если бы победу этого крайнего, физического зла нужно было признать как окончательную и безусловную, то никакие мнимые победы добра в области лично нравственной и общественной нельзя было бы считать серьезными успехами. В самом деле, представим себе, что человек добра, скажем Сократ, восторжествовал не только над своими внутренними врагами — дурными страстями, но что ему еще удалось убедить и исправить общественных своих врагов, преобразовать эллинскую политию, — какая польза в этой эфемерной и поверхностной победе над злом, если оно торжествует окончательно в самом глубоком слое бытия над самыми основами жизни? Ведь и исправителю, и исправленным один конец — смерть. По какой логике можно было бы ценить нравственные победы Сократовского добра над нравственными микробами дурных страстей в его груди и над общественными микробами афинских площадей, если бы настоящими-то победителями оказались еще худшие, низшие, грубейшие микробы физического разложения... Наша опора одна: действительное воскресение. Мы знаем, что борьба добра со злом ведется не в душе только и в обществе, а глубже: в мире физическом. И здесь мы уже знаем в прошедшем одну победу доброго начала жизни в личном воскресении. Одного и ждем, будущих побед в собирательном воскресении всех. Тут и зло получает свой смысл, иди окончательное объяснение своего бытия, в том, что оно служит все к большему и большему торжеству, реализации и усилению добра... Царство Божие есть царство торжествующей чрез воскресение жизнь, — в ней же действительное, осуществляемое, окончательное добро. В этом вся сила и все дело Христа». Ср. глубокие и интересные мысли у В. Несмелова. Наука о человеке. Том второй. Метафизика жизни и христианское откровение. Казань. 1903.
1) Соловьев признавал поэтому за Гегелем «огромную заслугу решительного установления в науке и общем сознании истинных и плодотворных понятий процесса, развития». (Гегель. Соч. проф. Кэрда. Приложение Соловьева, стр. 300).
235
свою голову), и тем не менее натурфилософская проблема необходимо входит в метафизику и отвечает одному из основных стремлений нашего духа — определить свое отношение к природе. Собственно здесь два вопроса: чем является по отношению к нам природа но своему существу и в своем развитии или процессе?
Ответ на первый вопрос дан был уже выше общим учением спиритуализма. Согласно этому воззрению, между нами и природой качественного различия нет, существуют только градации. Природа, не есть мертвый мир вещества, «не — слепок, не бездушный лик», а живой мир духовных субстанций, действительно, «инобытие духа», как это и было принято немецким идеализмом. Если мы чувствуем себя чуждыми природе и ее языку, понятному однако поэтам и поэтически настроенным душам, то это имеет причиной не внутреннюю ее нам чуждость, а общее состояние нашего мира.
С точки зрения натурфилософии и эволюционная доктрина современного естествознания получает особый смысл: человек является не только по происхождению и по сложности организации самым последним продуктом природного мира, но и по существу он есть цель этого развития, его последнее слово в порядке не только генетическом, но и метафизическом. С появлением человека кончается так называемая естественная история и открывается история человеческая: природа начинает служить человеку и человек — ее покорять. Идея натурфилософии неразрывно связана с именем Шеллинга, который прорвал в ней, наконец, душную ограду фихтевского солипсизма и открыл мир природы. Но тот же Шеллинг, особенно его ученики безнадежно скомпрометировали идею натурфилософии тем, что стремились не естествознание претворить в философию, а философией заменить естествознание. Они сделали попытку (как и Гегель) лишить естествознание того неопределенно широкого эмпирического базиса, который оно должно иметь, и заменить его априорными схемами, не замедлившими придти в столкновение с фактами и тем надолго лишившими кредита натурфилософию. Философия должна идти дальше строгого естествознания, ставя новые вопросы и вводя его итоги органической частью в более широкий синтез. Но она никогда но может претендовать на права опытной науки. В метафизике Соловьева мы имеем пример такого нормального союза философии с естествознанием.
С появлением человека начинается новый процесс развития внутреннего всеединства, которое является теперь не как внешняя
236
только граница, а в форме сознания и свободной деятельности. «В человеке мировая душа впервые внутренне соединяется с божественным Логосом в сознании как чистой форме всеединства. Будучи реально только одним из множества существ в природе, человек в сознании своем имея способность постигать разум или внутреннюю связь (λογος) всего существующего, является в идее как все и в этом смысле есть второе всеединое, образ и подобие Божие. В человеке природа перерастает саму себя и переходит (в сознании) в область бытия абсолютного»1). Человек есть второе абсолютное или «становящееся абсолютное». Лишь один человек, не ограничивается одним материальным началом, но «имея в себе, во-первых, стихии материального бытия, связывающие его с миром природным, имея, во-вторых, идеальное сознание всеединства, связывающее его с Богом, человек, в-третьих, не ограничиваясь исключительно ни тем ни другим, является как свободное «я», могущее так или иначе определять себя по отношению к двум сторонам своего существа, могущее склониться к той или другой стороне, утвердить себя в той или другой сфере. Если в своем идеальном сознании человек имеет образ Божий, то его безусловная свобода от идеи также как и от факта, эта формальная беспредельность человеческого «я», представляет в нем подобие Божие. Человек не только имеет ту же внутреннюю сущность жизни — всеединство, которое имеет и Бог, но он свободен восхотеть иметь ее как Бог, т.-е. может от себя восхотеть быть как Бог»2). Утверждая себя вне Бога, человек отпадает или отделяется от Него, как и мировая душа, и, подобно последней, он утрачивает свое центральное положение. Он находит себя в отчуждении от природы и теряет внутреннее единство в своем сознании. Сознание остается пустой формой, ищущей своего содержания. Постепенное наполнение этой абсолютной формы абсолютным содержанием или одухотворение человека чрез внутреннее усвоение им божественного начала и составляет собственно исторический процесс. Он представляет переход от зверочеловечества к богочеловечеству. Божественное начало открывается человеку, то как подавляющее злую волю, то как просвещающее, то как, наконец, перерождающее. Последнее возможно лишь в форме индивидуальной, как единственной форме, в которой
__________________________
1) Чт. о богочел., III, 138.
2) Ibid., 139.
237
существует природное человечество, перерождение может состоять только в полном взаимном проникновении божеского и человеческого начала. И, действительно, божественный Логос рождается как индивидуальный человек (Христос), удерживая в себе как божескую, так и человеческую природу. Но то, что случилось однажды в абсолютном индивидууме, это должно совершиться и в человечестве, пред которым открывается задача достижения в исторической жизни положительного всеединства в сознании, взаимных отношениях и в жизни. Эта задача должна быть осуществляема им свободно, т. е. в историческом развитии. Идеи философии истории еле намечены у Соловьева, почему и мы ограничиваемся этой краткой схемой. В этом пункте философия в собственном смысле кончается, и начинается уже бесспорная область богословия, выходящая за пределы настоящего очерка, (точно так же как и эстетика Соловьева и этика)1).
Таким образом, основною особенностью, проникающею насквозь всю систему Соловьева и характеризующею ее в истории философии, является идея богочеловечества; она есть его логический и нравственный центр, к ней сходятся все нити аргументации и ее нельзя удалить, не разрушив всего здания.
Наметив общие основания философской системы Соловьева, поставим свой прежний вопрос: что же дает она современному сознанию? Она дает стройный и гармоничный синтез современной мысли и знания, цельное миросозерцание, в котором приняты во внимание и согласованы и запросы критической философии, и метафизического творчества, и естествознания. Нет ни одной значительной философской и научной идеи XIX века, которая не отразилась бы так или иначе в этом построении, не была бы в нем усчитана.
Но есть еще одна черта, делающая ее значение совершенно исключительным для современного атеистического общества, это ее отношение к христианской религии. Мы видим, что философия Соловьева органически сливается с христианской метафизикой, является как бы критическим введением в богословие, осуществляя на деле идеал «свободной теософии». Эту неразрывную связь сам Соловьев считал наиболее существенной особенностью своего
__________________________
1) Этика представляет — да и по существу дела не может не представлять наименее оригинальную часть учения Соловьева: в формальном ее развитии он следует Канту, со стороны содержания учению религии. Трактат «Оправдание добра» является прекрасной книгой для чтения, за ним переживаешь как бы личное общение с высокой и оригинальной личностью философа. В ней есть главы и страницы блестящие
238
миросозерцания, так что однажды прямо заявил, что своего учения не имеет и считает себя верным сторонником христианского учения. Можно вообще различно понимать отношение философии и религии: считать их совершенно независимыми, безотносительными областями, следовательно, совершенно отделять философию от религии или же видеть в философии свободное исследование содержания религиозного сознания; с этой точки зрения всякая философия необходимо обосновывает свое богословие1). Это составляет, по нашему мнению, ее главную задачу, ее жизненный нерв, между тем как в первом случае философия или нерешительно останавливается на полдороге или же превращается в jeu d’ésprit, не имеющую серьезного значения. Те или иные выводы религиозного характера, вообще определенное отношение к религии не является поэтому чем-то случайным для философии, делом для нее посторонним, — такое мнение есть пустой и вредный предрассудок, имеющий основание лишь в индифферентизме, — а делом необходимым, жизненным и важным. Связь эта очевидна даже в тех случаях, когда философия дает основания для атеизма, представляющего собою определенное, хотя и отрицательное вероисповедание; тем в большей степени она должна существовать относительно положительных религиозных и философских учений. Перемена философского миросозерцания необходимо сопровождается переменой и религиозного2). Все великие философы нового времени оказывали
___________________________
и глубокомысленные (рядом, впрочем, с совершенно слабыми по специальным вопросам, напр., экономическому). Но в целом это произведение прибавляет очень мало к чисто философскому творчеству Соловьева. Я держусь того же мнения и о трех гносеологических его статьях («Первое начало теоретической философии», «Достоверность разума» и «Форма разумности и разум истины»), где он отказывается от некоторых старых гносеологических мнений; возражения его неубедительны и нашли уже отчасти сильную, хотя и дружескою критику в статье проф. Лопатина «Вопрос о реальном единстве сознании» (Вопросы философии и психологии, 1899, V). Вообще период наиболее напряженного и продуктивного философского творчества Соловьева приходится на возраст до 30 лет (в этом он сближается с Шеллингом и отчасти Шопенгауэром). Далее он бросает кабинет философа и выходит на арену публицистического борца. Смерть застала его в начале обратного возвращения к философии.
1) Это верно и относительно философии атеизма, — позитивизма, потому что и здесь обосновывается своеобразное богословие или религиозное учение, — о человечестве и его грядущих судьбах. Мне приходилось уже указывать, что современная теория прогресса есть богословие атеизма.
2) На это, быть может, станут возражать, что религия есть дело сердца и что мы хотим ее рационализировать. Не отрицая того, что религиозная жизнь есть по преимуществу дело сердца, мы укажем, что неустранимым элементом в нее входит и известное учение, и сознательное отношение к нему необходимо предполагает известный рационализм,
239
могущественное влияние на богословскую мысль, особенно глубоко здесь было влияние Канта, которого Паульсен не без основания характеризует «als Philosoph des Protestantismus» (в сборнике Philosophia militans).
Поэтому связь философии с религией у Соловьева не есть недоразумение или слабость философа, отдавшего философию на службу богословию, а есть, напротив, признак ее законченности, внутренней зрелости, серьезности ее замысла. «Проклят всяк творяй дело Господне с небрежением», любил повторять Соловьев, и разве не явилось бы чудовищным небрежением со стороны философа не определить своего отношения к религии, не довести свою систему до определенных религиозных выводов! Проповедь истинного христианства должна совершаться не только в форме мощного этического призыва и личного примера, но и во всеоружии философии и науки, и эту последнюю задачу и стремится выполнять своей философской деятельностью Соловьев.
_____________
Если с метафизикой христианства совпадает главное содержание теоретической философии Соловьева, то христианская мораль служит руководящим началом его публицистической деятельности. Он старался освещать им все вопросы общественной жизни, и если при этом можно встретить иногда отдельные ошибки частного свойства, то никогда вы не встретите не только измены этим принципам, но даже какой бы то ни было теоретической сделки с враждебной действительностью или уступки ей. Не может быть публициста более кристальной честности и строгой принципиальности нежели Соловьев, и, если принять во внимание, что эти руководящие принципы являются у него последним выводом теоретической философии, то нужно еще к сказанному прибавить, что миросозерцание Соловьева — независимо от своей правильности или неправильности — отличается замечательной цельностью, причем эта цельность является результатом не насильственной простоты его, а внутренней полноты, основанной на победоносной «критике отвлеченных начал» и их сознательном синтезе.
________________________
т.-е. философию; и чем шире это чисто философское сознание, тем богаче и религиозное миропонимание. Современный теологический агностицизм, стремясь совсем устранить философию или всякое вообще учение из религии, на самом деле этим самым предлагает известное философское и богословское учение, хотя и очень плохое. Что касается тех, кто отрицает права разума в религии просто из обскурантизма, о них говорить здесь не приходится.
240
Соловьев верно и высоко нес свое знамя, хотя это требовало истинного героизма, и отважный крестоносец не находил себе полного сочувствия и понимания ни в одном из двух станов, на которые история расколола русскую жизнь. Трагический ореол вынужденного одиночества, неизбежный удел всякого человека, опережающего свое время, озаряет эту рано поседевшую голову.
Соловьеву всю жизнь пришлось вести борьбу на два фронта: обличать противухристианство тех, которые имеют имя Христа на устах и распинают Его своей жизнью, и тех, которые Ему служат делом, но мыслью Его отрицаются1). Это основное недоразумение русской жизни может быть вполне устранено только великими историческими событиями, которые радикально изменят условия не только религиозной, но и общественной жизни народа, но ранее оно должно быть сознано как таковое. Это-то понимание, являющееся вместе с тем идеальным предварением будущего, с наибольшей ясностью мы находим у Соловьева.
В стан наших «охранителей», где чаще всего приемлется всуе имя Христа, пошел Соловьев, чтобы сказать там, к чему действительно обязывает их словесная вера в Него. Первое и самое важное из сказанного им здесь сводится к тому, что христианство, если оно есть действительно вселенская истина, должно быть осуществляемо в собирательной жизни человечества и давать высший критерий при оценке всех явлений и запросов текущей жизни. Словом, обязательна христианская политика. Главный
_______________________
1) «Недостатком сознательности в русском обществе объясняются еще особые странности в нашей новейшей истории. С одной стороны, люди, требовавшие нравственного перерождения и самоотверженных подвигов на благо народное, связывали эти требования с такими учениями, которыми упраздняется самое понятие о нравственности: «ничего не существует, кроме вещества и силы, человек есть только разновидность обезьяны, а потому мы должны думать только о благе народа и полагать душу свою за меньших братьев». С другой стороны, люди, исповедовавшие, и даже с особым усердием, христианские начала, вместе с тем проповедовали самую дикую антихристианскую политику насилия и истребления. Первое противоречие принадлежит прошедшему. Второе, более глубокое и пагубное, еще тяготеет над нами. Пора, наконец, освободиться от этого исторического яда, поражающего самые источники нашей жизни». (Собр. соч., г. V, стр. 529). В своем знаменитом реферате, читанном в 1891 году в Московском психологическом обществе, Соловьев применяет для характеристики отношений лицемерного христианства и неверующей интеллигенции евангельскою притчу «О двух сынах: один сказал: пойду — и не пошел, другой сказал: не пойду — и пошел. Которым из двух — спрашивает Христос - сотворил волю Отца?» (Вопр. фил. и психол., 1901, кн. I).
241
грех Византии, как это неоднократно указывает Соловьев1), состоит в том, что она знала только домашнее и храмовое христианство, оставляя всю область общественной и государственной жизни низшим, темным стихиям человеческой натуры. Современная жизнь представляет собою нечто подобное, и стремиться к устранению такого ненормального состояния есть обязанность каждого искреннего христианина. «Если русский национальный идеал действительно христианский, то он тем самым должен быть идеалом общественной правды и прогресса, т.-е. практического осуществления христианства в мире. Идеал, не требующий такого осуществления. не налагающий никаких общественных обязанностей, сводится к пустым и фальшивым словам. Нельзя поклоняться христианской истине и при этом мириться с антихристианской действительностью, как с чем-то навеки неизменным и неотвратимым. Истинный христианский идеал русского народа есть, вместе с тем, широкая практическая задача, обнимающая все общественные отношения, внутренние и внешние»2). Попытки представить христианство как учение только личного душеспасительства, оправдывающее общественный индифферентизм и отрицающее обязательность забот о судьбе великого целого — народности и человечества, Соловьев справедливо называет подделками христианства и в статье «О подделках», представляющей собой как бы общественное его credo, мы находим следующие, глубоко справедливые суждения: «Царствие Божие, совершенное в вечной божественной идее («на небесах»), потенциально присущее нашей природе, необходимо есть вместе с тем совершаемое для нас и чрез нас. С этой стороны оно есть наше дело, задача нашей деятельности. Это дело и эта задача не могут ограничиваться разрозненным индивидуальным существованием отдельных лиц. Человек — существо социальное, и высшее дело его жизни, окончательная цель его усилий лежит не в его личной судьбе, а в социальных судьбах всего человечества. Как общая внутренняя потенция царствия Божия для своей реализации необходимо должна перейти в индивидуальный нравственный подвиг, так и этот последний для полноты своей неизбежно входит в социальное движение всего человечества, примыкает так или иначе в данный момент и при данных условиях к общему богочеловеческому процессу всемирной истории. Если
_________________________
1) См. La Russie et l’eglise universelle, часть первая. Собр. соч., т. IV, стр. 40-41 и сл., т. V, стр. 514 15 и сл.
2) Собр. соч., т. V, стр. 386.
242
царствие Божие есть сочетание благодати Божией с человеком, то, конечно, не с человеком, обособляющимся в своем эгоизме, а с человеком, как живым членом всемирного целого»1). Для сторонников индивидуалистического христианства является предметом величайшего соблазна учение о прогрессе, столь популярное, напротив, в стане «погибающих за великое дело любви», причем эти последние изощряют свои силы в разрешении неразрешимой задачи: дать прочное логическое обоснование этому, по существу дела, религиозному учению, в пределах «науки» развить учение о царствии Божием без Бога. Против тех и других, с той широтой мысли, которая дается только пониманием справедливости и вместе односторонности обеих точек зрения, обоих «отвлеченных начал», Соловьев развивает следующее воззрение: «Из того, что многие эволюционисты придерживаются односторонне-механического понятия об эволюции, исключающего действие Высшей силы и всякую телеологию, из того, что многие проповедники исторического прогресса понимают под ним беспредельное самоусовершенствование человека без Бога и против Бога, — из этого поспешно выводят явно вздорное заключение, что самые идеи развития и прогресса имеют какой-то атеистический и антихристианский характер. Между тем не только это не так, но, напротив, эти идеи суть специфически-христианские (или точнее еврейско-христианские), они внесены в сознание людей только пророками Израиля и проповедниками Евангелия»2). «Только христианская (или, что то же, мессианская) идея царствия Божия, последовательно открывающегося в жизни человечества, дает смысл истории и определяет истинное понятие прогресса. Христианство дает человечеству не только идеал абсолютного совершенства, но и путь к достижению этого идеала, следовательно, оно по существу прогрессивно»… «По праву носящие имя христиан должны заботиться по о сохранении и укреплении во что бы то ни стало данных социальных групп и форм в мирском человечестве, а напротив об их перерождении и преобразовании в христианском духе (насколько они к тому способны), — об истинном введении их в сферу царствия Божия. Итак, идея царствия Божия необходимо приводит нас (разумею всякого сознательного и искреннего христианина) к обязанности действовать — в пределах своего призвания — для реализации христианских начал в собирательной жизии человечества,
_______________________
1) «Вопросы философии и психологии», 1891, кн. 8, стр. 1545.
2) Ibid., 159.
243
для преобразования в духе высшей правды всех наших общественных форм и отношений, то есть приводит нас к христианской политике»1).
Ранее всех других, конечно, должны быть осуществлены те требования христианской политики, которые касаются самой христианской религии, т.-е. требования свободы совести и веротерпимости. Эти вопросы занимают первое место в публицистике Соловьева, который продолжает этим дело славянофилов, начиная с Хомякова и кончая Ив. О. Аксаковым. «Веротерпимость или религиозную свободу я считаю такою же важною и насущною потребностью для современной русской жизни, какою сорок лет тому назад была потребность в освобождении крестьян»2). С обычным остроумием он сравнивал эту сторону своей публицистической деятельности с добровольным «послушанием», налагаемым в монастырях и состоящим в том, чтобы «выметать тот печатный сор и мусор, которым наши лжеправославные лжепатриоты стараются завалить в общественном сознании великий и насущный вопрос религиозной свободы»3). Казенщина, внедрившаяся в церковную жизнь, была главным злом, с которым боролся здесь Соловьев. Вот как в письме к Рачинскому он объяснял несомненное духовное бессилие церкви, вооруженной всеми средствами могущества земного: «Духовной самодеятельности за собственной нравственной ответственностью не допускается. Религиозная и церковная истина вся сполна находится на сохранении в крепком казенном сундуке за казенными печатями и под стражей падежных часовых. Безопас-
______________________
1) Ibid. 161. Этому воззрению Соловьев оставался верен до конца жизни и ему не противоречат идеи «Повести об антихристе», где поставлена проблема о конце всемирной истории, столь чуждая современному сознанию, хотя и представляющая необходимый элемент философского и религиозного миросозерцания. Я не буду здесь останавливаться на этой проблеме; очевидно, однако, что учение о прогрессе и обязательности стремлений к нему совершенно совместимо с мнением о конечности, относительности и вообще ограниченности этого прогресса; то же самое представляет собой индивидуальная жизнь, которая хотя кончается смертью, но дает место индивидуальному развитию и определяемым им требованиям, как по отношению к самому себе, так и к окружающей обстановке. Что касается общего пессимизма Соловьева в последние годы жизни и его мрачных предчувствий, то вообще говоря, это можно считать его личными мнениями, которые, имея опору в субъективном настроении, представляют огромный биографический интерес, но объективной убедительности не имеют по самому существу дела и даже не могут претендовать на нее.
2) Собр. соч., т. V, 462.
3) Собр. соч., т. V, 474. Ср. «Национальный вопрос», passim, наприм., т. V, стр. 74-75.
244
ность полная, но живого интереса никакого. Где-то далеко происходит религиозная борьба, но нас это но касается. У наших пастырей нет равноправных противников. Враги православия находятся вне сферы нашего действия, если же попадают в нес, то лишь со связанными руками и заткнутым ртом... От настоящей серьезной борьбы за православие мы избавлены государственной опекой. Но зато и само православие вместо всеобъемлющего вселенского знамени народов становится у нас простым атрибутом или придатком русской государственности... Вот требование ясное, простое и легко исполнимое: избавить нашу церковь от уголовной и цензурной охраны, при которой не может быть прямой и открытой борьбы за религиозную истину. Упразднить принудительное православие, — вот первое элементарное средство для возрождения истинного православия, для общего обновления наших церковных сил в пастырях и пастве»1).
Как частный случай борьбы за веротерпимость является всем известное отношение Соловьева к еврейскому вопросу, который он считал по всей справедливости христианским вопросом, вопросом о христианском отношении к евреям. Иногда антисемитизм этот разогревается во имя религиозных различий, и от такого антисемитизма не был свободен даже И. С. Аксаков, отожествлявший отсутствие его с религиозным индифферентизмом. Здесь мы имеем, таким образом, замаскированную или даже незамаскированную религиозную нетерпимость, недостаток которой так заставлял скорбеть самого же Аксакова, насколько дело касалось христиан. Ко всем такого рода ревнителям обращены слова Христа: не знаете, какого вы духа2).
__________________________
1) Собр. соч., т. IV, 179-180. Казенщину, как главное зло церковной жизни, прекрасно формулировал еще Ю Самарин: «требование от веры какой бы то ни было полицейской службы есть не что иное, как своего рода проповедь неверия, может быть, опаснейшая из всех» (Ю. Самарин. Предисл. к богосл. соч. Хомякова). Замечательно, что славянофильская ограниченность политического горизонта и Самарина и Соловьева мешала им придать вопросу о свободе совести внецерковную постановку, т.-е. привести его в связь с основными условиями русской жизни превращающими веру в «полицейскую службу», и направить главные удары против этих условий. Вопрос об общей церковной реформации необходимо связанный с отношением церкви к «власти предержащей», к сожалению, не может быть здесь подвергнут обсуждению.
2) Очевидно, имея в виду этого рода христиан, Соловьев писал в «Трех разговорах»: «Мне трудно вам передать, с каким особым удовольствием я гляжу на явного открытого врага христианства. Чуть не во всяком из них я готов видеть будущего апостола Павла, тогда как в иных ревнителях христианства поневоле мерещился Иуда предатель». Благо, что Соловьев не дожил до ужасов Кишинева!
245
Область христианской политики должна, по Соловьеву, охватывать все стерший общественной жизни, от международных отношений, где царят принципы «людоедства», до экономических и правовых. Божественное начало проникает и преобразовывает все сферы человеческой жизни, и это усвоение собирательным человечеством божественного начала есть осуществление свободной теократии, как Соловьев обозначал (не вполне удачно) положительный религиозный идеал общественного развития. Идея христианской политики представляет отличительную и, на наш взгляд, необыкновенно ценную и плодотворную особенность философии Соловьева. Она освобождает понимание христианского учения от той монашеской односторонности, с которым оно истолковывалось исключительно как учение о личном душеспасительстве, холодно оставляющее «мир» его греховным силам, и она же не механически а органически объединяет практические стремления современных прогрессистов, христиан без Христа, с Христовым учением. Этим стремлением, тщетно ищущим себе обоснования в наукообразных построениях, дается абсолютная религиозная санкция, современная социальная наука увенчивается недостающим ей абсолютным идеалом. И вместе с тем обличаются те лжехристиане, представители злобного обскурантизма и дикой реакции, которые являются у нас лучшими проповедниками неверия. В учении Соловьева о христианской политике дается ясное и «достаточное основание для теоретического и практического преодоления той розни и того недоразумения, которое залегло в нашем обществе между религией и жизнью и которое подлежит, наконец, уничтожению, ибо правильно понятая религия не только не освобождает и не велит отказываться от тех общественных обязанностей, которые возлагает на нас совесть, но еще более их закрепляет.
Евангелие с его учением о Царствии Божием, о пришествии которого учил молиться Христос, с его учением об абсолютной ценности человеческой личности и с заповедью любви, как высшей нормой человеческих отношений, ставит человеческой воле в качестве абсолютного требования те самые идеалы, которые воодушевляют современное человечество1). Правда, этим человечеством
________________________
1) Справедливо говорит проф. Гарнак: «Der Gedanke des unschätz-baren Werthes, den jede einzelne Menschenseele besitzt, tritt in der Verkundigund Jesu dentlich hervor und bildet das Complement, zur Botschaft von dem in der Liebe sich verwirklichenden Reiche Gottes. In diesem Sinne ist das Evangelium imtiefsten individualistisch und socialistich zugleich» (Prof. Ad. Harnack. Lehrbuch der Dogmengeschichte. Erster Hand. Freiburg i. B., 1886, стр. 53). Cp. Peabody. Iesus Christus u. Sociale Frage. 1903.
246
не сознается и даже отрицается эта связь, идеалы его лишены всякой религиозной основы, по это но делает неверными или безнравственными самые идеалы. Каким образом идея любви и абсолютной ценности человеческой души может санкционировать политическое порабощение личности, бесправие, произвол или экономическое порабощение, эксплуатацию детского и женского труда? Ведь достаточно только ясно поставить этот вопрос, чтобы окончательно устранить эту кощунственную идею. Не подлежит никакому сомнению, что те требования гарантий личной свободы, которые выставляются политической демократией и те стремления к осуществлению справедливости в экономических отношениях, которые объединяются в понятии социализма, объемлются и положительными заповедями христианской религии, и отрицать это можно или по неспособности к логическому мышлению, или по недобросовестности, tertium non datur. Справедливость этого положения не уничтожается от того, что те формы и основания, которые придаются этим требованиям в современной жизни, христианству чужды и даже враждебны; это зависит от их превращения в «отвлеченные начала», ищущие основания в самих себе, а не в высшем идеале. Всего яснее это на судьбах социализма. Социализм, в наиболее распространенной форме теории экономического материализма или марксизма, представляет собой типичный пример отвлеченного начала. Очевидно, основное его содержание — требование внесения справедливости в экономических отношениях — предполагает идею справедливости, известные этические понятия уже данными. С этой точки зрения учение социализма должно бы, казалось, войти как часть в состав более обширного целого, цельного философского миросозерцания Но социализм, по крайней мере в марксизме, этого сделать не хочет, он хочет сам быть всем и тем самым превращается в отвлеченное начало, являющееся в то же время началом ряда противоречий. Если справедливости, как абсолютного объективного начала, нет, очевидно суррогата ему надо искать в эмпирической действительности, а здесь мы имеем только борьбу классов и их интересов. Высшим принципом является классовая борьба и классовой эгоизм; но если стать на эту, чуждую вопроса о справедливости, почву, то интересы класса рабочих чем отличаются от интересов класса капиталистов? И тот и другой класс в полном своем праве, и, если за отсутствием идеальных масштабов, вопросы права решает их реальное соотношение, т.-е. сила, то сила до сих пор остается еще в руках буржуазии, следовательно, с точки зрения права сильного
247
справедливо учение не социалистов, а апологетов буржуазии. Последовательно развитое учение о классовой борьбе должно бы привести к апологии сильного, и от этого вывода спасает только логическая непоследовательность, да удерживаемая контрабандно идея справедливости, вслух отвергаемая как предрассудок1).
Справедливость приносится в жертву идее теоретической истины, ибо установляется теория, по которой идея справедливости и вся вообще «идеология» есть «рефлекс» экономических отношений. Но этим упраздняется и понятие истины, ибо, если всякое положение есть рефлекс, необходимый в свое время, по лишенный всякого объективного значения, то таким же рефлексом является и самый экономический материализм, учение о рефлексах есть тоже рефлекс, но в таком случае па чем же основаны его претензии? Повторяется история того критянина, который, говоря, что все критяне лгуны, сам себя опровергал, ибо и сам оказывался лгуном и потому не мог делать истинного утверждения.
Все эти трудности исчезают, если только мы признаем, что экономический материализм является вредным придатком к идеям социализма, поэтому и устранение его ничуть не влечет за собой уничтожения искажаемого нм идеала. Так, или приблизительно так, смотрел на этот вопрос Соловьев. Он не раз говорит о правде социализма, которую он всецело признает. И однако, по его мнению, «общий существенный грех социализма состоит в том предположении, что известный экономический порядок (как-то: слияние капитала с трудом, союзная организация промышленности и т. д.) сам по себе есть нечто должное, безусловно нормальное и нравственное, т. е., что этот экономический порядок, как такой, ужо заключает в себе нравственное начало и вполне обусловливает общественную нравственность, которая вне его не может и существовать, так что здесь нравственное начало, начало должного или нормального, определяется исключительно одним из элементов общечеловеческой жизни — элементом экономическим, ставится в полную зависимость от тех или других экономических порядков, тогда как поистине, наоборот, экономические отношения, будучи сами по себе лишь фактами материального порядка, для того, чтобы иметь нормальное или объективно нравственное значение, должны определяться формально нравственным началом и следовательно с этой стороны от него зависеть...
_______________________
1) См. об этом статью «О социальном идеале».
248
Главный грех социалистического учения не столько в том, что оно требует для рабочих классов слишком многого, сколько в том, что в области высших интересов оно требует для неимущих классов слишком малого и, стремясь возвеличить рабочего, ограничивает и унижает человека1). «На той материальной почве, на которой стоит экономический социализм, невозможно найти в человеке ничего неприкосновенного, ничего такого, что делало бы его res sacra или лицом в собственном смысле этого слова; нет здесь того существенного ядра, о которое должна разбиться всякая внешняя сила, всякий внешний гнет. За неимением же такого существенного начала, делающего человека неприкосновенной личностью, всякий протест против эксплуатации одного класса другим является лишь выражением субъективного стремления, ни для кого не обязательного, таким образом и с этой стороны социализм впадает во внутреннее противоречие, восставая против экономической эксплуатации и вместе с тем не признавая за человеком того безусловного значения, единственно в силу которого такая эксплуатация может быть в принципе осуждаема»2). Та же принципиальная точка зрения выражена и в «Оправдании добра» (в главе «Экономический вопрос с нравственной точки зрения»). Однако нужно оговориться, что как ни глубоки руководящие идеи Соловьева в вопросе о социализме и сколь ни существенно их значение для цельного миросозерцания, политическая экономия вообще представляет Ахиллесову пяту философа, и в области чисто экономических вопросов читатель, прошедший надлежащую экономическую школу, найдет много неверного, соблазнительного, вообще несоответствующего по своему достоинству общему учению философа3). Не считая Соловьева экономистом (на что он и не претендовал), мы пройдем молчанием эти чисто экономические его суждения, как не представляющие существенного интереса при рассмотрении общих основ его миросозерцания. Во всяком случае, в области экономи-
_________________________
1) Критика отвлеченных начал, собр. соч., т. II, 129-30.
2) Ibid, 137. Замечательно, что справедливость этих замечаний, высказанных четверть века назад, начинает сознаваться только теперь, как у нас, так и на западе. На этом примере ясно, насколько Соловьев опередил свое время.
3) Экономические статьи Соловьева, собранные теперь в пятом томе полного собрания сочинений, равно как глава об экономическом вопросе в «Оправдании добра» представляют собой, по нашему мнению, самое слабое и бесцветное из всего, что писал Соловьев. Отдельные его суждения прямо противоречат и искажают его принципиальную точку зрения.
249
ческой, учение Соловьева подлежит восполнению во всем, что касается вопросов реальной политики. Здесь доктрина Соловьева может и должна быть восполнена реалистическими элементами марксизма.
Идеал свободной теократии (в указанном смысле) являлся руководящим для Соловьева и в теории права, на которой мы не будем здесь подробно останавливаться. Заметим кратко, что та совершенно законная и неустранимая из человеческого духа потребность критики права с точки зрения идеальных норм, идеального долженствования, словом, идея естественного права, при всей своей бесспорности, находит в настоящее время у юристов недостаточное обоснование. Дело в том, что они берут естественное право только как факт сознания, между тем как на их обязанности лежит выяснение метафизической природы и содержания этого факта, приведение учения об естественном праве в связь с общим метафизическим миросозерцанием, подчинением первого последнему. А так как всякая серьезная метафизическая система необходимо приводит и к определенному религиозному учению, то проблема естественного права состоит не в голом признании бледного и бескровного долженствования, как факта сознания, а в установлении живой связи между абсолютными велениями религии и их осуществлением, поскольку оно возможно в нраве. Истинную норму права, настоящее естественное право, дает религия; в частности с точки зрения христианской религии такой нормой является божественная заповедь любви, «необходимая форма которой есть справедливость»1). Независимо от того, прав или неправ был Соловьев в отдельных своих юридических построениях, проблема естественного права или свободной теократии в применении к праву была формулирована им во всю ее философскую ширь, и в этом отношении опять-таки, как и в политической экономии, его учение имеет огромное принципиальное значение и напоминает нам лучшие времена философии права, когда проблема естественного права (например, у Фихте) ставилась в связи с общим философским мировоззрением, а не в том только гносеологическом образе, как теперь.
Одной из важнейших сторон публицистики Соловьева является правильная постановка и разрешение национального вопроса: борьба Соловьева с эпигонами славянофильства общеизвестна и, кажется,
_______________________
1) Соловьев, собр. соч., II, 173.
250
считается никем не оспариваемой его заслугой. Тем важнее и интереснее установить действительные воззрения Соловьева во всем их объеме. В своей полемике ему приходилось бороться с крайностями национализма и становиться таким образом спиной к самой идее национальности. Благодаря этому у многих может явиться представление, что Соловьев был космополитом или, что есть практически одно и то же, «западником». Между тем это совсем неверно. Соловьев был сторонником универсализма, но не отрицательного, космополитического, безнародного, а положительного или сверх народного1). Он часто повторяет, что христианство не отрицает народностей, хотя само является и сверхнародным. По его мнению, «народность или национальность есть положительная сила, и каждый народ по особому характеру своему назначен для особого служения. Различные народности суть различные органы в целом теле человечества, — для христианина это очевидная истина»2). Разделяя веру славянофилов в «идеально религиозное призвание русского народа»3), Соловьев однако учил, что «идея культурного призвания может быть состоятельной и плодотворной только тогда, когда это призвание берется не как мнимая привилегия, а как действительная обязанность, не как господство, а как служение»4). Идея национальности, понимаемой в смысле культурной миссии, сделалась в руках Соловьева орудием борьбы против национализма, и вся сокрушительная сила его нападений объясняется именно этим: он боролся с национализмом не с пустыми руками, не во имя бесплодного и абстрактного космополитизма, но стоя на общей с ним почве — признания национальности положительной силой; последним словом Соловьева были не заветы космополитизма, что национальность есть химера или естественный факт, не имеющий никакого принципиального значения, а христиан-
_________________________
1) Пример настоящего патриотизма Соловьев видел в еврейских пророках: «пример еврейских пророков, величайших патриотов и вместе с чем величавших представителей универсализма, в высшей степени поучителен для нас, указывая на то, что если истинный патриотизм необходимо свободен от народной исключительности и эгоизма, то вместе с тем и тем самым истинное общечеловеческое воззрение, истинный универсализм для того, чтобы быть чем-нибудь, чтобы иметь действительную силу и положительное содержание, необходимо должен быть расширением или универсализацией положительной народной идеи, а не пустым и безразличным космополитизмом». (Чтения о богочеловечестве. Собр. соч., т. III, 73-4).
2) Национальный вопрос, собр. соч., т. V, 10.
3) Ibid, 328.
4) Ibid, 8.
251
скал заповедь: «люби все другие народы, как свой собственный»1). До такой высоты в национальном вопросе еще ни разу не поднималась европейская мысль за все века своего существования, в частности в ХIХ веке: стоит лишь вспомнить ограниченный патриотизм Фихте и Гегеля. Национальный вопрос решается в настоящее время или в духе космополитизма, или зоологического патриотизма. Соловьев показал возможность высшей точки зрения, устраняющей ограниченность предыдущих, поставив и разрешив вопрос в духе положительного христианского универсализма.
Чтобы понять воззрения Соловьева по национальному вопросу, определившиеся в полемике с славянофильством, нужно дать хотя бы краткую характеристику последнего. Славянофильство и западничество в русской литературе и жизни представляют собой два умственных течения, различающиеся между собою не одним только отношением к национальному вопросу, но основами всего миросозерцания. И если умерли старые формы славянофильства и, быть может, западничества, то спор двух миросозерцании далеко не закончен, он ждет еще своего разрешения, которое должно состоять в высшем синтезе положительных элементов того и другого.
Первоначальное славянофильство в такой же мере является идейным общественным течением, как и западничество. Оба направления исходили из отрицания существующего, оба одинаково страдали от цензуры и были равно подозрительны для Николаевского правительства и, в то же время, оба отрицали друг друга в такой степени, что вели постоянную ожесточенную войну. Для этого первоначального славянофильства кружка Хомякова характерны следующие черты.
Во-первых, славянофилы отрицательно относились к западническому космополитизму своих противников и видели в национальности положительную силу: ими ясно была сознана и формулирована идея национального призвания. Конечно, независимо от теоретических различий, и славянофилов и западников воодушевляло одинаково страстное чувство любви к угнетаемой родине и пламенная ненависть к ее угнетателям. Но это практическое согласие вовсе не уничтожает философских разногласий. Держась того мнения, что идея национальности есть необходимый элемент миросозерцания и космополитизм есть чепуха, как выразился Тургенев, мы думаем,
_______________________
1) Оправдание добра, 2-е изд., 374.
252
что здесь были правы славянофилы, а не западники, и будущее в этом пункте принадлежит славянофильскому воззрению.
Во-вторых, славянофилы с самого начала стали на философскую и религиозную почву. Свое миросозерцание они во все времена своего существования сознательно и неизменно строили на метафизике и религии (мы оставляем в стороне частности их философских и религиозных мнений, которые едва ли кто-либо будет поддерживать целиком в настоящее время). Напротив, в западнической литературе, начиная с Белинского и кончая публицистами наших дней, прочно укоренилась философия атеизма, выступающая под различными формами: позитивизма, материализма, агностицизма. Если где-либо существует между обоими течениями не недоразумение или случайное разногласие, но пункт коренного различия, целая философская пропасть, то именно здесь. Какой же традиции последует молодая Россия, будущие сыны свободного отечества? удовлетворятся ли они атеизмом и позитивизмом или будут искать ответов на высшие запросы духа в метафизике и религии? Несомненно одно, что для этого должна быть устранена одна важная причина, являющаяся теперь серьезным препятствием к свободной мысли в России, именно тот предрассудок, будто известные философские и религиозные воззрения неразрывно связаны с определенными политическими мнениями, будто религиозный человек может быть только реакционером, а прогрессист непременно атеистом. Этот предрассудок имеет за себя, — увы! — слишком много исторических оснований, и он может быть устранен лишь логикой событий. Во всяком случае, указанная связь есть лишь фактическая, а не внутренняя и логическая. В основах своего философского мировоззрения, славянофилы стоят выше западников и, верю, восторжествует, наконец, их философская традиция, и русская интеллигенция оставит так мало к ней идущую философию позитивизма.
Третьей особенностью первоначального славянофильства является его коренной демократизм, в области экономической переходящий в социализм (что выразилось в учении о социалистическом характере земельной общины и вообще хоровом и артельном начале, составляющем особенность именно славянофильства)1). В связи
_________________________________
1) Конечно, о социализме славянофилов можно говорить лишь в смысле общего признания ими идеалов экономической солидарности и демократии, а не определенной экономической программы, которой у них и не было. Напротив, исторические формы социалистического движения нередко встречали у славянофилов резкую и не всегда справедливую критику (напр., у Достоевского). Славянофилы не выдвинули из своей
253
с этим стоят славянофильские требования развития земщины и самоуправления и горячая ненависть к бюрократическому началу. Славянофилы принципиально стояли на той же почве свободолюбия и народолюбия, что и западники. Эта третья основная особенность славянофильства, общая у него с западничеством, представляет собой основную и неустранимую черту русской интеллигенции, от которой она, конечно, не может отказаться, не переставши быть сама собой.
Теперь мы переходим к отрицательным чертам славянофильского учения. И прежде всего, следует отметить политический романтизм славянофилов, приводивший их к фальшивой идеализации действительности и превращавший их во многих отношениях в реакционеров. Славянофилы делали положительную ошибку считая, что Россия может изобрести какую-то новую форму гарантии человеческих прав сравнительно с западом, они не хотели признать справедливости требования: wer А sagt, muss auch В sagen, и этой своей несчастной ошибкой они больше всего скомпрометировали себя в глазах того нашего передового общества, которому были одинаково, как и им, дороги человеческие права, но которое справедливо искало их гарантий, опираясь не на романтические измышления, а исторические примеры Запада.
К сожалению, от славянофильской ограниченности и романтизма никогда не освободился вполне Влад. Соловьев, политические воззрения которого оставляют желать очень многого относительно ясности и правильности. В общем он повторяет славянофильское учение со всеми его достоинствами и недостатками1) (приправляя его еще собственной дурной и неосновательной схематизацией, знаменитой триадой: царь, первосвященник, пророк). Объясняя прискорбную слабость философа в этом пункте незаконченностью его политических воззрений и некоторой абстрактностью его натуры, а также традициями воспитания и обстановки молодости, с которыми он не успел окончательно порвать, мы не видим никакой органической связи между общим учением и политическими воззрениями философа, которые так любят истолковывать в свою пользу реакционеры,
_____________________
среди ни одного выдающегося экономиста. В своих конкретных требованиях они нередко выступали представителями интересов имущих классов. Вообще речь идет лишь об общих идейных традициях, которые впоследствии от славянофильства перешли к народничеству.
1) Наилучшее и наиболее резкое выражение политического славянофильства Соловьева см. в его статье «Государственная философия по программе министерства народного просвещения». Собр. соч., т. V.
254
прикрывая его авторитетом собственные темные вожделения. Во всяком случае, для меня не подлежит никакому сомнению, что славянофильство как политическое миросозерцание умерло и никогда по воскреснет, оно должно быть в этом пункте восполнено учением западничества.
То же можно сказать и относительно экономического славянофильства — старого народничества, которое окончательно разложилось на наших глазах под напором исторических фактов, благодаря чему совершенно теперь исчезла еще недавно столь острая антитеза между марксизмом и народничеством1). И о политическом и об экономическом славянофильстве следует сказать: requiescant in pace.
Наряду с политическим романтизмом следует поставить вторую отрицательную черту старого славянофильства, его национальную исключительность, склонность к национальному самопревознесению насчёт «гниющего» Запада. Этот национализм внес в славянофильство инородную прибавку, весьма любезную обскурантам и реакционерам, но компрометировавшую его в глазах благомыслящих людей. Оправдание славянофильству можно найти в крайностях западничества, по после того, как Соловьев вскрыл всю ложь такого национализма и обнаружил действительное содержание национальной идеи, враждебное всякой исключительности, тратить много слов для борьбы с пей значит ломиться в открытую дверь.
Исконное славянофильское учение содержало в себе противоречивые элементы, и эти элементы, выделившись и обособляясь в дальнейшем развитии, определили два основных течения славянофильской мысли, его правое и левое крыло. Правое получилось чрез одностороннее развитие и усиление отрицательных элементов славянофильского миросозерцания. Национальная исключительность нашла себе теоретика к лице Данилевского, в его чрезвычайно интересном сочинении «Россия и Европа». Охранительные тенденции с наибольшей решительностью выражены К. Леонтьевым с его учением о «подмораживании» ради охранения. Наконец, первоначальный политический романтизм, освобожденный от всяких теоретических украшений и иллюзий и сведенный к культу грубой силы, сказал свое последнее слово в Каткове, этой «Немезиде славянофильства», и его эпигонах, утерявших окончательно право счи-
_________________________
1) Если существует область, в которой первоначальное мировоззрение русского марксизма сохраняет свою силу без всяких существенных изменений, то это именно понимание экономического развития России как капиталистического процесса, связанного с развитием индустриализма.
255
таться представителями идейного течения и опустившихся до уровня добровольных литературных доносов и сыска. Соловьев был нарочито призван обличить ложь этого вырождения славянофильства, ибо он стоял на общей с пим теоретической почве; нападение оказалось потому именно так действительно, что было произведено в известном смысле в собственном лагере. Критика, исходящая от западников, здесь не могла иметь такой убедительности, ибо она исходила бы из чуждой принципиальной точки зрения. Нужно было, не отрицая идеи национальности, показать, что известного рода патриотизм зоологичен и безнравственен, что христианская религия не мирится ни с проповедью международной ненависти, ни с проповедью обожествления государственной силы как таковой.
Излагать здесь славную и победоносную борьбу Соловьева с правой славянофильства значило бы передавать содержание «Национального вопроса»; мы ограничимся только общим выводом Соловьева относительно охранительного славянофильства: «около половины исторического человечества издавна живет верой в Бога, как в абсолютную силу, пред которой уничтожается человек. Эта вера нашла себе полное выражение в мусульманской религии, которая сама себя называет исламом, что значит покорность или peзигнация пред высшей силой. У нас, в России, среди псевдохристианского общества явился такой «ислам», но только не по отношению к Богу, а по отношению к государству. Пророком этой новой или, лучше сказать, возобновленной религии был Катков в последнее 25-летие своей деятельности. С подлинно-мусульманским фанатизмом Катков уверовал в русское государство, как в абсолютное воплощение нашей народной силы. Как для правоверного последователя корана всякое рассуждение о сущности и атрибутах божества кажется празднословием или преступной хулой, так Катков во всяком идеальном запросе, обращенном к его кумиру, усматривал или бессмысленные фразы, или замаскированную измену. Невидимая народная сила воплотилась в видимой силе государства. Этой силе вовсе не нужно выражать какую-нибудь идею, соответствовать какому-нибудь идеалу, она не нуждается ни в каком оправдании, она есть факт, она просто есть, и этого довольно. От человека требуется признать ее безусловно и бесповоротно, покориться и отдаться ей всецело, совершать одним словом акт «ислама».
«В последнее время повсюду совершилась важная перемена: главным препятствием истинному прогрессу является не то или
256
другое учреждение, а одичание мысли и понижение общественной нравственности. Нелепо было бы верить в окончательную победу темных сил в человечестве, но ближайшее будущее готовит нам такие испытания, каких еще не знала история. Утешительно при этом, что положение дела уясняется и как бы в предварение страшного суда начинается уже некоторое отделение пшеницы от плевел. В области идей, по крайней мере, это уже очень ясно. Представители темной силы, бывшие доселе, частью по недоразумению, частью по лицемерию, защитниками «всего святого и высокого», договорились, наконец, до принципиального отрицания добра, правды и всяких общечеловеческих идеалов, и вместо имени Христа, которым столько злоупотребляли, откровение клянутся именем Ивана Грозного. Тут утешительна не только ясность, но и законченность мысли: очевидно, это направление высказалось вполне, далее ого представителям говорить уже нечего и не о чем»1). Эти знаменательные строки были написаны более 10 лет тому назад, и как подтвердила история этого десятилетия справедливость приговора Соловьева!
Несмотря на вырождение правой славянофильства, последнее нашло в себе элементы и положительного развития, и они выразились в его левой, представителями которой являются Ив. Аксаков и группировавшиеся около него публицисты, Достоевский и сам Вл. Соловьев. Это течение было более сродно демократизму, на национально-религиозной основе. Однако, неся в себе противоречивые элементы, славянофильство должно было в своем развитии осилить эти противоречия и от них освободиться. И прежде всего противоречие существовало между положительным универсализмом христианского учения, которое исповедовалось славянофильством, и национализмом, понимаемым в смысле национальной исключительности. Примиряющую формулу здесь впервые дал в Пушкинской речи Достоевский, который в своем учении о всечеловеке и всечеловечности, как основной стихии русской души, прорвал, наконец, плотину, отделявшую «отвлеченное» (в Соловьевском смысле) славянофильство от «отвлеченного» западничества, и вдохновением пророческого экстаза их помирил. Однако это примирение было только пророчеством, содержание которого надо было, во-первых, надлежащим образом понять и далее теоретически обосновать, а, во-вторых, надо было его исполнить, практически
_______________________
1) Национальный вопрос, собр. соч., т. V, 196, 221.
257
проведя в жизнь, т. е. сделать его руководящим началом публицистики и политики. Сам Достоевский лишь в конце своего скорбного жизненного пути поднялся до этого пророческого созерцания; даже в собственной публицистической деятельности он иногда грубо противоречил этим принципам, впадая в национализм, шовинизм, антисемитизм1).
Завет Достоевского исполнил Соловьев, который разрешил вопрос не на оснований факта (верен он или неверен) всечеловечности русского народа, а на почве принципиальной. Он провозгласил принцип признания прав всякой национальности, поставив высшей нормой международных отношений начало любви, а не ненависти народов друг к другу. Внутреннее противоречие славянофильства тем самым было осилено и устранено, таким образом, желательный синтез славянофильства и западничества, национальный универсализм, в основных чертах совершен Соловьевым.
Однако здесь следует маленькое или даже немаленькое «но». Мы видели уже, что славянофильство содержало в себе такие элементы, которые могли породить Каткова и его присных. Этот же политический романтизм, который является вместе с тем национальным самобытничаньем, отделял славянофильство от демократических элементов нашей интеллигенции, между тем как западничество, смотревшее действительности прямо в глаза, именно в своей свободе от политических предрассудков славянофильства имело главную притягательную силу. От этой своей несчастной особенности должно непременно освободиться первоначальное миросозерцание славянофильства, и от нее его не освободили ни Достоевский, ни Соловьев. Достоевский вместе с Аксаковым разделял все предрассудки славянофильства, согласно которым наибольшая народная свобода достижима при отсутствии всяких юридических ее гарантий, существующих на Западе. Но, считая западную свободу для нас недостаточной, Достоевский практически
_________________________
1) Соловьев справедливо писал о Достоевском, указывая эту противоречивость в его публицистике: «если мы согласны с Д., что истинная сущность русского национального духа, его великое достоинство и преимущество состоят в том, что он может внутренне понимать всё чужие элементы, любить их, перевоплощаться в них, если мы признаем русский народ вместе с Достоевским способным и призванным осуществить в братском союзе с прочими народами идеал всечеловечества, то мы уже никак не можем сочувствовать выходкам того же Д. против «жидов», поляков», французов, немцев, против всей Европы, против всех чужих вероисповеданий». (Собр. соч., т. V. 382-3).
258
оказывался политическим реакционером. Соловьев умел ценить юридические гарантии и высмеивал предрассудки славянофилов, будто духу русского народа всякие юридические гарантии противны, справедливо считая это проповедью принципиального бесправия. Однако, как мы уже знаем, сам Соловьев не сделал всех выводов, проистекающих из признания значения и необходимости юридических гарантий, ибо последовательный отсюда вывод может быть только один — политическое credo русского западничества. Этот последний шаг и остается теперь сделать в деле очищения славянофильского учения и восполнения его положительными элементами западничества. Такой шаг не может встретить решительно никаких принципиальных возражений, ибо национальность не состоит в тех или других исторических пережитках, но представляет собою положительную духовную силу, которая требует их устранении для своего полного и свободного проявления1).
Довершив свое окончательное преобразование, реформированное славянофильство или, лучше сказать, национальный универсализм окажется способным сделаться и политическим знаменем для прогрессивных элементов нашего общества, а вместе утолить его философскую и религиозную жажду; шаткие основы позитивного миросозерцания «западничества», привлекательного теперь в силу связанных с ними прогрессивных политических стремлений, быстро утратили бы свою обаятельность, раз только стало бы ясно, что переход к новому миросозерцанию не обязывает от них отказываться и основное историческое недоразумение русской жизни было бы наконец исчерпано. Пора уже!
Идею христианской политики Соловьеву приходилось защищать не только против тех, кто полагал ее в принципиальном насилии, но и против тех, кто основным ее требованием считает проповедь принципиального бессилия. Мы имеем в виду проповедь непротивления злу силою, связанную с именем Л. Н. Толстого. «Великий писатель земли русской» имеет бессмертные заслуги в религиозной жизни русского общества, ибо он первый своей могучей проповедью приковал внимание русской интеллигенции к вопросам религии в то время, когда она считалась пережитым и отжитым предрассудком. За самые последние годы Толстой сделался как бы
______________________
1) Это основное требование истиной политики национализма с большим публицистическим подъемом было формулировано в статье «В чем же состоит истинный национализм?» (Струве. «На разные темы». Ранее напечатано в Вопр. Фил. и Псих., 1901. IV).
259
общественной совестью России, нелицеприятию и беспощадно обличающей всякую неправду. Свое христианство он стремится сделать не учением только, но прежде всего жизнью, и это требование оп предъявляет всем, именующим себя христианами. Уже по этому одному проповедь Толстого представляет колоссальное религиозное событие в русской истории. Но при этом он усвоил такое понимание христианского учения, которое, являясь по меньшей мере спорным, принимается многими как единственно возможное, а учение о непротивлении злу, принципиальное отрицание государства и его учреждений, науки, культуры и лежащего в ее основе разделения труда неосторожно выдается за подлинную сущность христианского учения. Многие, в особенности индифферентно или враждебно относящиеся к религии, вполне искренно считают, что последовательный христианин должен отрицать культуру и активную борьбу со злом. И однако то и другое в действительности является лишь принадлежностью религиозного идеала буддизма. Но это совсем не есть идеал христианской религии, учащей, что мир и история есть богочеловеческий процесс, благой по своему замыслу, необходимый по своим результатам, требующий деятельного участия как индивидуального человека, так и собирательного человечества. Идеал царствия Божия осуществляется нс только внутри нас, где это осуществление может явиться делом личной совести и личных усилий, но и вне нас, как идеал нормально устроенного человеческого общества и вместе с тем результат культурного развития человечества. Отрицательная мораль, воздержание от зла, а вместе с ним и от деятельного участия в жизни, где добро мешается со злом, достаточна для буддизма, который требует монашеского отшельничества, связанного с отречением от мира, христианство же требует деятельного подвига и отрицает всякий квиэтизм. Ничто так не способно обосновать идею абсолютных обязанностей, лежащих на каждой отдельной личности, как христианское учение о божественном достоинстве и сущности человеческой души. То, идея чего есть от века у Бога, чего не презирает Бог, и само но должно себя презирать, и человек, сознавая себя носителем абсолютного достоинства, тем самым принимает на себя и абсолютные обязанности. Индивидуальные силы и способности различны, но каждая личность, как бы она ни казалась мала и ничтожна, незаменима уже потому, что она индивидуальна, т. е. имеет абсолютную оригинальность и неповторяемость. Мы можем не понимать своей роли в мире, она представляется нам как задача, ко-
260
торую нужно отыскать, но она есть. Ведь если удалить из мира даже песчинку, то разрушится все мироздание, представляющее собою механически связанное целое. Существует известный афоризм, что будь нос Клеопатры немного короче, мировая история была бы иною, но это же можно сказать и о носе Квазимодо, хотя значение его во всемирной история нам не так ясно, как носа Клеопатры.
Итак, христианство учит нас, что дело истории есть дело важное, благостное, необходимое, и обязательность нашего участия в нем определяется не отрицательною заповедью воздержания, а положительным требованием активного участия. Но история и развитие культуры есть одно и то же, культуру отрицает только тот, кто отрицает и историю и единственную область царствия Божия видит только в нас, но не вне нас. А если это так, то упрощенное руководство для деятельности, состоящее в одних отрицательных заповедях, недостаточно, нужна и положительная цель деятельности. Хотя эта цель, конечно, должна в основе своей определяться заповедями религии, но относительно возможных средств достижения ее нас может просветить только разум, избирающий и оценивающий различные средства. При этом вполне возможно, что единственным при данных обстоятельствах средством окажется такое, которое, само по себе, вне отношения к цели, представляется предосудительным и даже запрещаемым тою же религией. Конечно, от таких средств откажется сторонник отрицательной морали, но он зато и будет обречен на роль зрителя, к добру и злу постыдно равнодушного; в результате выйдет то, что в Евангелии названо оцеживанием комара и поглощением верблюда.
В замечательной статье, озаглавленной «Идолы и идеалы», Соловьев выступил в защиту культуры против проповеди опрощения, как простейшего разрешения проблемы общественных обязанностей. Вместо «стремления слить всю нацию в бесформенную массу», он утверждает здесь «нравственно-органическую солидарность между простым народом и образованным классом, обязанность для этого последнего культурно служить народу, проводя в его жизнь не собственные измышления и своекорыстные затеи, а единственно твердые и единственно плодотворные начала общечеловеческого просвещения и вселенской правды». Вместе со всеми представителями нашей интеллигенции Соловьев скорбел о некультурности нашего народа и поднятие этой культуры считал делом христианским, а не языческим.
261
Открытое нападение на учение о непротивлении злу с богословско-метафизической и общеэтической точки зрения Соловьев совершил только в последнем своем диалогическом произведении «Три разговора», и аргументы, приведенные им здесь против этого учения кажутся мне неопровержимыми и остаются до сих пор ни в какой мере непоколебленными.
Таким образом, в общем и целом, вся практическая философия Соловьева была только приложением основ его теоретической философии, а основное начало этой философии есть жизненное начало христианства. Целостное и последовательно развитое христианское миросозерцание, — вот что дает современному сознанию философия Соловьева. И в этом миросозерцании одни потребности духа не подавляются во имя других, здесь царит полная духовная свобода, в нем находят свое место и современная философия, и наука, и запросы практической жизни, и все это освещается одним общим светом. Философия Соловьева, следовательно, отвечает самым глубоким и высоким запросами человеческого духа — стремлению к цельному миросозерцанию, которое было бы не только теоретическим, но и практическим.
Соловьева многие называли и в насмешку, и серьезно пророком, и за его внешность, и за его учение. Его служение было, действительно, пророческим и, непонимаемый и осмеиваемый современниками, он начинает все более оцениваться на наших глазах. Человечество пережило многовековое господство отвлеченного клерикализма, враждебное свободной мысли и научному исследованию; мы переживаем теперь век отвлеченного рационализма, отвергнувшего сначала религию, а затем и философию во имя точного знания и свободного исследования. Но есть основания думать, что и этот период приходит к концу и уже исчерпывает свои положительные потенции. На очереди новый высший синтез, в котором испытующий дух возвращается к себе, к исконным своим запросам и, обогащенный всеми приобретениями векового развития знания и мысли, освобождается от господства того или иного отвлеченного начала, во все их гармонически соединяет. Искание этого синтеза было делом жизни Соловьева. В сумерках бытия мы принимаем за источник еле брезжащего света то те, то другие предметы, только сильнее других ого отражающие. С ясновидением пророка Соловьев прозревал истинный его источник, свет немеркнущий, невечерний. Он сам всю жизнь шел навстречу этому свету и звал к нему. Пойдем за ним!
262
Страница сгенерирована за 0.17 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
