13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Федотов Георгий Петрович
Федотов Г.П. О Вергилии
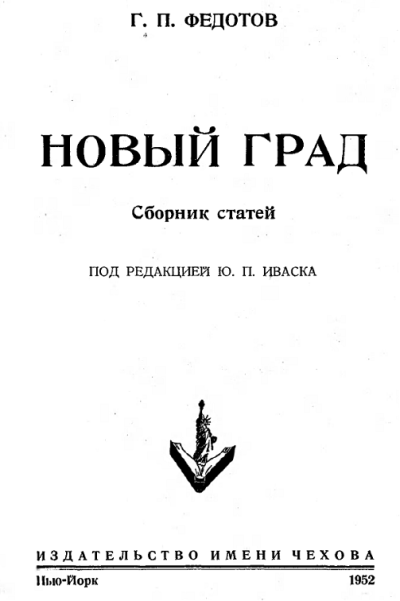
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ ФЕДОТОВ
О ВЕРГИЛИИ
к двухтысячелетию со дня его рождения
(«Числа», кн. 2-3, Париж, 1930 г.)
Столетие французского романтизма, совпавшее с 2000-летием Вергилия, позволяет не то что увидеть, но ощупать сравнительный вес таких явлений, как классицизм и романтизм. Романтизм уже сейчас спорен, старомоден, наивен, хотя и не изжит до конца. Будет ли кто-нибудь праздновать тысячелетие Гюго? Романтизм — эпизод, вкус — может быть, болезнь юности. Классицизм — уже не школа, не традиция, но кровь. Это конституционный признак культуры. Западная культура — культура, взошедшая на закваске Вергилия. Точнее было бы сказать: на Библии и Вергилии. Но сегодня речь о Вергилии.
Отрок Августин на заданную в школе тему декламировал монолог покинутой Дидоны, и страдания Дидоны волновали его до слез. Зрелый Данте, суровый эмигрант и мистический влюбленный, избирает Вергилия путеводителем по аду, учителем этики, предтечей Благодати: «Tu duce, tu maestro». Практический политик Питт, оправдывая в Палате Общин свое бессилие спасти жизнь и трон Людовика XVI, не мог найти более красноречивого, более понятного для всех языка, как сетование Дидоны о царстве Приама:
«Me si fata meis» (IV. 340).
Не беда, если Питт собьется в своей цитате, весь зал докончит за него.
В средние века, когда Вергилия знали наизусть,
215
было в обычае слагать целые поэмы (центоны) из стихов и полустиший Энеиды. Тысячи английских юношей в Оксфорде и Кембридже могли бы заниматься этими упражнениями в наши дни. Мы, русские, как-то недостаточно внимательны к этому, самому постоянному факту западной культуры, и всегда удивляемся, когда читаем, что Спенсер, например, писал латинские стихи. Что общего между Спенсером и стихами? Но Вергилий — это именно общий язык Запада, — то, что соединяет бл. Августина, Данте, Питта и Спенсера. Библия забывается, Вергилий остается.
Оттого так мерна — каданс гекзаметра — так доблестна — битвы Энея — история Запада.
Но нам-то что до Гекубы? Мы, скифы, званы ли сегодня на праздник? Кажется, Вергилий всегда был чужд русской душе. Из миллионов русских мальчиков, которые прошли через Вергилия, многие ли сумели полюбить его? Брюсов, может быть, единственный в России поэт, плененный Вергилием, сумевший конгениально переводить его. Слабая Энеида Фета свидетельствует о чуждости Вергилиеву духу и этого воспитанного на античности поэта. Однако, не будем торопиться с выводами. Несомненное психологическое несродство, далекость не исключает любви. Дух ищет чуждого для собственного преодоления. Все живое нуждается в преодолении. Если русская культура была не узконациональной, а вселенской, если она развивалась в противоречиях необычайного размаха, то в ней должно найтись место и Вергилию.
И оно в ней, действительно, нашлось.
Тень Вергилия — может быть, незримо — стояла над Русской Империей. В классическую эпоху ее мощи латинский гений проявляется уже зримо. В холодных и пышных залах Эрмитажа, в помпейских фресках на стенах Николаевских дворцов, в мерной тяжести Истории Государства Российского — звучит Вергилиева медь.
216
«Tu regere imperio populos, Romane, memento».
Классичен был самый замысел Империи. Дело Петра-Николая I повторяет дело Августа: соединить сонм народов под водительством народа-венценосца, просвещенного чужой культурой — «excudent alii», — но верного своим религиозным святыням: пенатам мистической Трои. Удивительно ли, что зенит Империи совпадает с веком классицизма в России: Батюшкова, Дельвига, Пушкина? Стих Пушкина понятен только на фоне латинского стиха. Парни, Вольтер и Байрон его не объясняют. Как Овидий звучит в строфах Евгения Онегина, так Вергилий в Пушкинских одах, в том высоком ладе его, который был подхвачен Брюсовым. Сам Пушкин, конечно, более обязан Овидию и Катуллу, нежели Вергилию. Весь юный круг Александровского классицизма был в плену у Августовской эротики и сквозь нее томился тоской по Греции, — тоской, которую насытил до конца лишь в наши дни Вячеслав Иванов. Но голос Вергилия начинал звучать всякий раз, когда сентиментальный или романтический поэт подходил к теме Империи.
Странно сказать, но еще ранее русской музы пошла в школу Вергилия русская церковь. В долгий век Киевского «засилия» латинская школа — от Вергилия до Фомы — воспитывала русское духовенство. Лишь в 1820-е годы русский язык заменил в семинарии латынь. Сейчас русская церковь вспоминает об этих днях, как о латинском пленении. Но мыслим ли без Вергилия чеканный гром Филаретова слова? Еще до средины прошлого века каждая страница русской духовной литературы свидетельствует о благородстве этой латинской школы. С середины века вырождение языка идет неудержимо. Гибель латинской духовной школы почти совпадает с угасанием дворянского галлицизма, тоже взошедшего на старых латинских дрожжах. В итоге — то одичание, та варваризация русской речи, которую застал символизм в начале XX века.
217
Согласимся, что для православия школа Вергилия была, действительно, одеянием странным и неуместным, — не то, что для Русской Империи, которой она почти адекватна. Иное дело — католицизм. «Благочестивый Эней», живущий откровениями богов, и торжествующая воля человека, в трудах, борьбе и подвиге власти, — исчерпывают смысл римской идеи.
С гибелью Русской Империи сохранился ли для нас какой-либо смысл Вергилия?
Попробуйте перечитать его, и вы увидите, насколько ближе, благодатнее для нас стала его, казавшаяся холодной, муза. Сейчас, в неизбывной тоске о потерянной отчизне, мы впервые слышим тоску Энея. Мы понимаем, что Энеида, как всякий великий эпос, — песнь о гибели, вместе с обетованием спасения. «Потерянная и возвращенная родина». Можно ли теперь без глубокого волнения читать вторую песнь — о пожаре Трои, о последней, безнадежной борьбе Энея? Vidi Hecubam centumque nurus Priamumque per aras. Sanguine foedantem quos ipse sacraverat ignes.
Да, мы видели Приама, убитого на крови собственного сына. Да, мы бежали с пожарища со старцем Анхизом и святынями Пергама. Это мы дрались с гарпиями за скудные остатки пищи. Это мы съели наши «столы». Мы миновали счастливо циклопов и Сциллу, но скольких старцев мы схоронили, скольких товарищей не досчитались, унесенных волнами. Palinurus in nudis!
Quae regio un terris nostri non plena laboris?
Это мы у ног Дидоны повторяем легендарную уже повесть о гибели Трои, и ни на какие чары чужеземной красоты не променяем образ воскресшей родины.
Наша скорбь острее, потому что мы не можем, подобно Энею, оторваться от родной земли. Не можем на одних «пенатах» строить Пергам. Наша Гесперия на Востоке. Мы обречены, как тени, возвращаться к
218
дымящимся развалинам, и ужасы последней ночи не изглаживаются из памяти. Но если бы мы отважились хоть раз в наших странствованиях с Вергилием перешагнуть через почти непереходимый порог VII песни, мы, быть может, нашли бы источник мужества в трудах и борьбе героя, поднимающегося над страданием. Образы будущего уже вытесняют прошлое: чаемый Рим — дымящуюся Трою.
Тысячелетнее вино Вергилия подобно колдовству Ауербахова погреба: каждый пьет в нем напиток себе по вкусу, — но не рискует обжечься. Таков по природе классицизм: Вергилий, Пушкин, или белый солнечный луч.
У нас редко кто читает Буколики, Георгин — почти никто. Это понятно: Энеида не заменима Гомером, но мы предпочитаем Гезиода и Феокрита их латинскому ученику. Однако, кто не читал Буколик, тот не может представить себе, сколько нежности и лиризма таила юношеская муза Вергилия, прежде чем заковать себя в броню долга и труда. Любовные жалобы пастухов помогают нам лучше расслышать приглушенные стоны Энея и Дидоны. Они дают ключ к загадочной судьбе Вергилия.
Загадочность ее — не во внешней ткани событий — его жизнь необычайно бедна событиями, — а в трудности усмотреть личные родники этой объективной, национальной поэзии. Вергилий неотделим от Рима, и поэтический труд его — от политического дела Августа. Слишком легко отмахнуться от этой загадки модным словом: «социальный заказ». По заказу Поллиона поэт воспевает аркадскую любовь, по заказу Мецената — италийское земледелие; по заказу Августа — благочестие и подвиг Энея. Земледелие, благочестие и подвиги легионов были равно необходимы для воздвигаемого здания Империи. Но неужели Вергилий только искусный работник, только римский Брюсов, как вола погоняющий мечту?
219
Есть болезненная двойственность в самой его личной судьбе, которая, может быть, объясняет судьбу его музы.
Крестьянский сын из окрестностей Мантуи, неуклюжий, робкий провинциал, он навсегда сохранил любовь к земле, и Меценат не ошибся, поручая ему воспевать труды и дни земледельца. С итальянской землей, с италийскими богами навеки связано величие Рима. На крестьянском патриотизме Август-реставратор строит духовный идеал своей Империи.
Но странно: этот плебей не выносит воздуха северной Италии. Слабый здоровьем, он стремится на юг — «Calasbri rapuere» — в Кампанию, Сицилию, священную землю Великой Греции. Едва ли одно насилие Августовских ветеранов согнало его с берегов Минчио. Его тянула на юг тоска по Греции Феокрита, по блаженной, небывалой стране любви и песен. Томление по Греции было романтической раной в груди у ломбардского мужика. Ей он приносит последнюю жертву — своей жизнью, когда, больной, едет в заветную страну, чтобы сгореть под палящим солнцем Мегары. — Ей и Трое, ибо путешествие на Троянские берега было его последней целью. Но что для него руины Трои, как не романтический призрак Востока, встающий — и для него, и для нас — за тенью Эллады? Так романтик Вергилий открывается в победоносном классике.
И, однако, его вечная жизнь связана именно с этой победой классика. Вергилий принес свои мечты на алтарь национальных богов. Он убил в себе жалость к грекам — врагам Энея. Он прощает Августу захват отцовской земли, как прощает ему Италия похищение свободы. Вместе со своим народом, он видит в Цезаре и Августе богов, даровавших, после стольких бедствий гражданской войны, мир и славу. Гений Рима оживает в его душе, и он посвящает свою жизнь, без остатка, служе-
220
нию римской идее. То, что не удалось его взысканным музами современникам, Овидию, Горацию: преодоление эпикурейства, беспечной эротики, безответственного скептицизма, то совершил в себе крестьянский поэт, по иному, чем Гораций, связанный с родной землей. Вот почему он мог стать воспитателем не только последних сыновей Рима, но и нового Израиля, поделившего Римскую землю.
Не хочется быть назойливым, но как не сказать, что судьба Вергилия полна вещего значения для судеб русской культуры и именно ее сегодняшнего дня?
Но несомненно: если бы за щитом и латами классицизма не билось мистическое сердце, чуткое к голосам и предчувствиям, разве мог бы Вергилий стать Сивиллой, пророчествующей о Христе? Смущающая тайна четвертой эклоги, в буколическом ее окружении, может быть разгадана лишь в непреодоленном романтическом томлении, открытом для вещих снов.
Jam redit et Virgo, redeunt Saturnia regna.
Политические идеалы, ожидание Августовской Pax Romana причудливо сочетаются с эсхатологической мечтой о Золотом Веке, примиряющем природу и человека, уничтожающем следы старого греха, sceleris vestigia nostri. Не произвольно и не искусственно патристические и средневековые теологи связали пророчество Вергилия с Вифлеемским Младенцем. Вергилий выразил всю тоску древнего мира об Искупителе, все смутные ожидания, сгустившиеся в век Августа в напряженный мистический зов. Уставно-обрядовое благочестие Энея, в конце концов, лишь рабочая трансформация белого угля четвертой эклоги.
Воскреснет ли когда-нибудь Вергилий для России? Боюсь, что нет. Наш путь иной — широкий, столбовой путь истории, с которого мы так непокорно свернули — еще в Московские времена. Наш путь ведет не через Трою-Рим, но через Грецию, которая дала нам слово, дала молитву и — в самый последний час нашей
221
истории — открыла таинственную глубину своей вещей и вечно возрождающейся красоты.
Пусть поэт, который воскресил для нас мистическую Грецию, сам изменил ей ныне для Рима. Он только показал нам, что отречение от Греции есть отречение от России. Вергилий не заменит нам Гомера, сладостные строфы которого, в русском гекзаметре, с детства баюкают наш слух.
Но в час сурового подвига, когда от нас потребуется отречение от кровного и родного, от самой красоты, мы можем почерпать вдохновение в трудах героя, по всем морям и землям скитающегося в поисках погибшей родины.
O patria, o divum domus Ilium et incluta bello Moenia Dardanidum!
222
Страница сгенерирована за 0.14 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
