13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Аничков Е. В., профессор
Аничков Е. В., проф. На грани
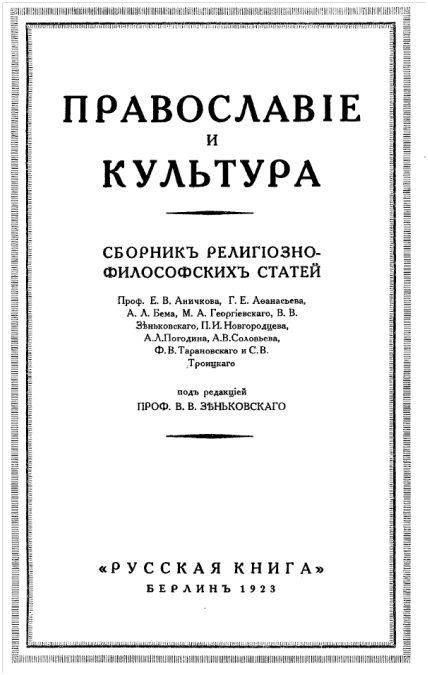
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
проф. Е. В. Аничков
НА ГРАНИ.
Сколько недоумений, споров, ожесточенных нападок вызвали последние строки «Двенадцати» Александра Блока.
И как будто признался поэт. Правда, прельщен был его ум, и сердце соблазнилось. Покаянный стон слышится в стихотворном письме к Leo Ly. Может быть оттого, что просто «не сразу все понял и не сразу все постиг»; на самом деле перебегал соратник Дмитрия Донского через Непрядву в стан врагов «с раскосыми и жадными глазами». Но именно от тех последних строк своих «Двенадцати» он не отрекся. Напротив. Настаивал на своем прозрении: да, это Христос виднеется вдали, за Христом идет Русь — через снежные сугробы большевизма, через голод и братоубийственную брань, через горчайшую сладость искупления:
Грядет — уже грядет — не лгу Христос.
— И в древнем храме будем мы
молить с тобой коленосклонно,
чтоб Дева Мать из тяжкой тьмы
взяла нас в сад свой благовонный ...
На грани мы. Никогда не металась так душа в трепете между неверием и верою отцов.
I.
Урок Собора в Карловцах.
Значение Собора затуманено нашумевшим политическим его постановлением. Но только не в нем вовсе дело, а при свете его еще яснее выступает суть. Она только церковная.
Ну да, сжилось высшее русское духовенство с «петровским официром», властным прокурором Святейшего Синода. Церковь сама стала ощущать себя одним из бюрократических ведомств. Владык прельстило сановничество. Они поддались искушению. И вот, в наши бурные годы, беженцами из своих епархий, за границей, по застарелой привычке, жмутся к другим таким же как они бывшим ведомственным сановникам
131
и ковсему бежавшему чиновничеству. Не хватило ни мужества, ни глубины понимания, чтобы прозреть. Отсюда и дело Собора невольно, по застарелой уже привычке, не решились повести иначе, как в сопряженности с «ведомственными» людьми. Пригласили их сверх выбранных от только что возникших около посольских церквей приходов. Через эту то приоткрытую дверь и проникли на Собор руководители Рейхенгалльского монархического съезда. Не все, конечно. Многие явились и представителями приходов. Но и там ведь дело обстояло также. Церкви эти недавно только что сами были целиком ведомственными, естественно, что там ведомственные люди оказались ближе, желаннее, более свои. И вклинился еще и оттуда в Собор Рейхенгалль. Прошло предложенное Марковым II монархическое постановление.
Оно обсуждалось однако лишь в самые последние дни Собора, когда главное и основное, то, что действительно составляет важное событие, уже завершилось: Собор целиком признал начала Московского Собора 1917 года. Выработано было устройство местных церквей на новых выборных началах.
Как же могли одни и те же люди совершить одновременно и в том же составе такие два взаимно исключающие дела? Ведь не будь революции и останься в силе прежняя монархия, не было бы Собора, и нельзя бы было даже и думать серьезно о Соборе в Москве ни тем более о возвращении русской церкви к патриаршеству. Надо ли настаивать на этом несомненном положении? А если это так, что значит монархическое постановление? Ведь оно в противоречии, совершенно зияющем и не подлежащем никакому сомнению, противоречии с подчинением себя началам Московского Собора 1917 г.
Несколько подробностей осветят создавшееся положение.
Когда предлагал Марков II свою широковещательную, ничего и не говорившую по существу резолюцию с неопределенным обращением к дому Романовых, — значительное число, по преимуществу священнослужители, воздержались от голосования. Их было 32 из 85 присутствовавших. Цифра интересная, если принять в соображение, что владыками было приглашено лично на съезд около 30 разных бывших сановников, разумеется, членов Рейхенгалля. Они и дали большинство. А от имени меньшинства, т. е. воздержавшихся, говорил не кто иной, как владыка Вениамин, епископ армии генерала Врангеля. При этом в его воодушевленном слове несколько раз прозвучало: «Воля
132
народа», «Бог и народ». Чувствовался совсем иной и новый пафос, именно такой, который совпадал бы с духом начал Московского Собора.
Меньшинство только воздержалось, и воздержавшиеся оказались все-таки сравнительно немногочисленны, даже и исключив сановников. Но мог ли Собор не быть правым по настроению, весь целиком и помимо приглашенных людей ведомств? Воздержавшиеся батюшки, конечно, тоже правые. Какие же еще? Неужели можно на одну секунду предположить, что они могли бы быть республиканцами? И вот политически правый по основному составу, а с искусственным введением целой трети членов Собора властью владык, еще и самый, что ни на есть крайний правый, тем не менее, несмотря на неминуемое тяготение своих участников к прежнему бюрократическому укладу и жизни, и церкви, этот-то нарочито подобранный, в нарочитой среде и обстановке возникший Собор в Карловцах подчинился началам Московского Собора, и значительная часть его участников, священнослужителей, ясно сознавала всю несовместимость, все непреодолимое противоречие, какие немедленно должны возникнуть, если только вмешается в дело политическая реакция.
Часто приходится слышат о каких-то «приобретениях революции». 0, если и тут не боятся внутреннего противоречия, тогда конечно; отрицательных приобретений сколько угодно, разрушено до основания все: монархия, Дума, Учредительное Собрание, промышленность, народное хозяйство, правосознание, сословия, единство государства, все, все, включая сюда и социализм; даже самый большевизм, признавший себя открыто разлагающимся трупом, должен быть причислен к этой парадоксальной категории отрицательных приобретений революции! А что взамен? Ведь и те 25 проц. частновладельческой земля, которые революция должна была непосредственно передать крестьянам, остались в каком-то неопределенном положении, в пусте и туне, и ждут, чтобы их судьбу определили какие-нибудь аграрные реформы. Но их нет. Даже проектов нет, потому что разрушены той же революцией и все до единой некогда существовавшие социально-политические партии. Разве, если решиться называть вещи их именами, не должны старые революционеры прежней России счесть себя революционерами старого режима, а отсюда совершенно такими же бывшими людьми, как и бывшие губернаторы?
Одна церковь православная не только устояла, но — что я считаю в высшей степени знаменательным — обновилась, воссияла
133
в мученичестве и творчестве, как в сознании русского народа и его интеллигентных сил, так и в своем собственном отвлеченном и положительном бытии.
Таков наглядный урок Собора в Карловцах. Он новое подтверждение и яркий показатель жизненности религиозного творчества, проявленного Московским Собором 1917. Нет единой России, но с возникновением русской митрополии за границей русская православная церковь — едина и обновлена в своем единстве.
Вот, в самом деле, доподлинное приобретение революции.
По затверженной, отравившей ум привычке рассуждать, не одни марксисты, но и их самые непримиримые противники, точно и они уверовали в экономический материализм, как решающий социологический фактор, причины и последствия великой войны рассматривают исключительно с точки зрения государственного хозяйства. Тот начавшийся со средних веков процесс образования национальных государств, который эта война закончила, упорно замалчивается, хотя он так ясен и так несомненен. Тоже самое относительно вышедшей из войны революции. В ней не хотят видеть ничего кроме политики и социального брожения. Но революция эта — по крайней мере в России — великое религиозное явление. Мы поистине подошли к новой эре, новым судьбам православия, к его возрождению, к благовестительству его еще не вполне выявившегося лика святого, перевернулась страница церковной нашей истории, может быть даже земного бытия всего христианского мира.
II.
После ста лет религиозных исканий.
Как только стал выходить в Лондоне «Колокол», немедленно посыпались к Герцену из России письма: «зачем вы хотите заставить русский народ дать миру социализм?» А Апполон Григорьев, вдумываясь в новые, взволновавшие русские умы передовые теории, назвал их все вообще, какие только несет народу русская интеллигенция, «идолом неумолимо жадным». Было ли это предчувствием? Вернее просто правильной оценкой. Тогда в 50-ых годах как было предвидеть, какою кровавой мертвящей действительностью окажутся когда-нибудь взваленные
134
на плечи русскому народу мучительные усилия в угоду вот этому «идолу неумолимо жадному» — теориям. Даже неудержимое, растревоженное, больное воображение Достоевского, когда он возненавидел передовые идеи и в особенности те «математические головы», из которых они выходят, придумал для них преступления, кажущиеся теперь ребячеством; ведь, что такое убийство ростовщицы или Шатова или даже старика Карамазова своим незаконным сыном перед окровавленным трупом искалеченной России? Может быть, один Гоголь, потому что мучилась его душа, перемалываясь в мучицу между жерновами человеческих и божеских начал, предвидел, усмехнувшись сквозь слезы, куда занесет, громыхая бубенцами расскакавшаяся русская тройка, и сознательно вторил ему перед смертью, уже проделав весь опыт своей души, Достоевский, когда завещал нам свое страшное: «на меньшем мы не остановимся»...
Ровно сто лет тому назад в 1822 году вышел: «Plan des travaux nécésaires pour réorganiser la société» Огюста Конта, где заключалась эта скала восхождения человечества от оказавшейся ей более ненужной, отброшенной ею религии, через блуждание метафизики к положительному знанию. И поползла, разрасталась, клубилась, как ком перекати поля, эта теория все дальше на восток и север, туда в это чудовищное вместилище всех западных идей — Россию. Безостановочно перебирался ком, то застревая, то торопясь по глади через «молодую Германию», через естествоиспытательский материализм, через Спенсера и Милля, через социализм Маркса и Энгельса, через детерминизм явлений и всякие возвраты к Канту и гегельянству, пока наконец, вспыхнув, не разгорелся пожарищем. Ведь все самые мрачные преступления и самые светлые чаяния всего человечества искупает теперь Россия я когда еще искупит.
И не в социализме тут дело, а именно в опьяняющем, зачаровавшем надеждами и забвением яде, контовского и после контовского позитивизма с его требованием безбожия.
Что социализм? Только пугаются противники социализма его неразрывной связью с отрицанием Бога, отечества, семьи, морали. . . а если они — русские, ищут при этом заступничества у Достоевского, заставившего именно вот так, как на безбожие, смотреть на социализм своего Алешу Карамазова. Правда, Маркс и Энгельс настойчиво требовали от своих последователей атеизма и измены родине; прочь отечество, прочь веру от-
135
цов! — кричал сгоряча Коммунистический Манифест 1847 г.; но ведь уже давным-давно больше четверти века, как немецкий социализм отказался от споров с религией. Об этом достаточно красноречиво свидетельствует знаменитый 6-ой пункт «эрфуртовской программы», который Бебель решительно брал подсвое покровительство, каждый раз как какая-нибудь горячая голова старалась вернуть социалистов к юношеской нетерпимости Маркса и Энгельса. И тоже самое и относительно измены отечеству. И это оказалось вовсе не нужным и даже совершенно лишним немецким социалистам, даже настолько, что лозунг: у пролетариев нет отечества, выродился в некий задорный парадокс, а министр, социалист, у власти во время мировой войны, поступал строго патриотически. Но еще яснее обстоит дело, если обратиться к социалистам той страны, где социализм всего старше, к Англии. Там требование атеизма ни разу и не прозвучало, а что и говорить о том, чтобы английский социалист вздумал отказаться от чести принадлежать к Соединенному Королевству. Больше. Без малейшего уклона в сторону так наз. христианского социализма, члены обновившейся «оксфордским движением», вернувшим к обрядам «Высокой Церкви», организующиеся в Оксфорде вокруг Дома Пьюзи, заведомо в интересах церкви, как они ее понимают, т. е. традиционной Англиканской Церкви, порвавшей с Римом, но считающей себя католической, т. е. отнюдь не диссиденты, уже много лет стремятся в области социальной политики воспользоваться наставлениями социализма в своей муниципальной деятельности.
Не социализм страшное в западном перекати-поле, зажегшем в России безумно-разбушевавшийся пожар, а именно: последовательное проведение контовского или хуже после-контовского безбожия, это сумасшедшее отодвигание веры в Бога куда-то назад в дикое варварство, якобы уже ненужное человечеству, такое, что люди будто с пользой для себя его перебороли и отвергли. Социализм лишь втянулся сюда, его лишь катило, прихватив за собой нечестивое перекати-поле.
Теория Огюста, Конта о трех периодах: религиозном, метафизическом и, наконец, новом и главном научном, — первая вспышка охватившего передовое общество увлечения научным знанием, подзадоренного возрождением рационализма века просвещения и усталостью от головоломных построений немецкого идеализма. Биология, химия, первые технические открытия, молодая еще экономическая наука, социология, опытное знание, лаборатории
136
и кабинеты естествоиспытателей, — голова шла кругом, и возник какой-то пафос надежд на всемогущество человека; вот, вот наступит это «конечное» или «высшее» состояние человеческого общества, сильное приобретенными знаниями, — оно все устроит и все наладит. А при первых раскатах еще раз в 40-х годах поднимавшейся революционной волны, что мудреного, если экономист — Карл Маркс стал предчувствовать наступление социалистического рая земного. Фейербах уже перестроил гегельянство на новый, вплотную подошедший к позитивизму Огюста Конта лад. Такой же грядущей и ближущейся представилась ему тогда и «последняя стадия истории человечества», мерещившаяся Гегелю, как окончательное осуществление его мудрых предначертаний. Тут в этой кутерьме революционных чаяний, научных вдохновений, младенческого преувеличения знаний и родилась религия без религии, с раем здесь на земле и уже, конечно, без Бога.
Гордо и с уверенностью заявил тогда Карл Маркс, что приближается «царство свободы».
Какой свободы, отчего свободы? Термин восходит еще к Конту и значение его моральное; свобода ведь означает здесь отвергаемую детерминизмом свободу воли. Царство свободы такое, которое осуществится без принуждения и этих мешающих ей вне ее постановленных детерминизмом, основанных на необходимости, законов бытия. Законы бытия станут послушны; в их осуществлении не будет уже тайны; между управлением бытием и его предвидением ставится знак равенства, и отсюда не только незачем отказываться от заманчивого понятия о свободной воле, заимствованного из старинной моральной философии, но и определить ее сущность удастся в полном согласии с охватившим научным и революционным оптимизмом. «Свобода воли — учит Энгельс — не что иное, как способность разрешить задачи данными знаниями» или — «свобода состоит в вытекающей из познания естественной необходимости нашей власти как над нами самими, так и над всей внешней природой».
Кто же будет Моисеем человечества, чьим жезлом рассечется море бедствий, чтобы дать доступ в обетованное царство свободы? Огюст Конт в своем юношеском оптимизме представлял себе, что «избранная часть человечества уже приближается к соответствующему его природе общественному строю». Мысль аристократическая. И это понятно, раз вся надежда
137
на систематизацию науки, неминуемо творческая роль должна выпасть на долю и стать обязанностью избранных, малой кучки ученых, т. е. умственных аристократов.
Иначе у Маркса. Вот тут вцепляется в западное перекати-поле марксизм, принявший вид стройной теории, но если приглядеться,—как Арлекин, весь из обносков: гегельянство, позитивизм, Фейербах и французские социалисты. Но вцепился крепко, не оторвать. Главное вовсе не своими принципами классовой борьбы, железного закона заработной плати, трудовой ценности, потребностей производства и т. д., т. е. не своей научной основой, а именно философской арлекинадой. Пестрота же системы требовала невозможного. Надо было сочетать рабочее движение, т. е. пролетариат, с представлением о свободной воле. Как это сделать? Оторвать пролетариат от детерминизма явлений, вообразить его свободным от законов необходимости, вообразить себе не реальный пролетариат, уже организовывавшийся в трэд-юнионы и требовавший себе права голоса в народоправстве, т. е. английский, немецкий, французский пролетариат, а такой, о котором, назвав его «сознательным», можно было заявить, что у него нет отечества, нет и не нужно ему государства, нет ѵ него, превзойдена им религия. Для этого надо было еще выделить его теоретически и обосновав по возможности научно из того третьего сословия, к которому он принадлежал вместе с буржуазией; у пролетария не должно быть собственности, а значит он и не буржуазия. Так получилась чистая абстракция, человек вне государства, вне собственности, вне отечества, вне класса или что тоже особый высший класс или над-класс, уже и не человек, а нечто особое: «человек, как родовое понятие» — человек — бог. Он, легкий, как перышко, выхваченный из детерминизма, явлений, из всех давящих на человека социологических законов, традиций, переживаний, чувств и понятий, этот «человек, как родовое понятие» совершит вожделенный подвиг создания рая земного, подвиг, который Маркс и Энгельс назвал неуклюжим и немного комическим выражением «прыжок в царство свободы» — рай земной.
Положительная наука упорно повторяла, что интересуется лишь вопросом: «почему». Всякий запрос о «целесообразности» она отвергала, как пережиток религиозных или метафизических понятий. Марксизм напротив — и тут новое, что он внес, — заявил, что экономический фактор в судьбах человечества не только преобладает над всеми остальными, но он
138
то и есть основной двигатель и главная причина всех мировых совершений. Прочь плюрализм причинности. Он происходит именно от нагромождения различных: «потому что» и «так как», не достигая, т. е. как бы не дерзая достигнуть представления о «цели», поставить смело на очередь вопрос: «для чего». Когда марксисты говорят, что не идеи правят миром, а потребности, они этим самым ясно и отчетливо выдвигают «целесообразность» в ходе развития общества. Эволюция его — не только закономерна, но и целесообразна, она не фатум, смысл коего далек от человеческого понимания, нет, цель ее — человек, ого потребности, его благо, удовлетворение его воли, т. е. свобода. Эволюция человечества целесообразна, а значит, — и я сознательно употребляю это слово — она предопределена. Кем? волей «человека, как родовое понятие», отождествленным с пролетарием.
Этим-то уже далеко заходящим за пределы экономики, хотя и иррелитиозным, но в то же время и иррациональным, а, стало быть, носящим в себе все признаки религиозного искания, представлением о вне — или — над классовом, вне — или — над — государственном, вне — или — над национальном «человеке, как родовом понятии» — человеке или человеке-боге или вернее целом классе людей-богов, — чем стать так легко, стоит признать апостольство Маркса и Энгельса, — этим, а не чем другим, впился так цепко марксизм в мчавшееся с запада на восток сумасшедшее перекати-поле.
Но пока спорили и ссорились между собою последователи и противники Маркса и Энгельса, в накуренном зале старого кафе Бауэра в уголку тихо сидел незаметный домашний учитель Макс Штирнер и задумывал свою книгу «Одинокий и его собственность» *).
Разногласие Штирнера с учениками Маркса вовсе не в том, что он индивидуалист, а они коллективисты. Совсем нет разногласия. Уэльсу во время пребывания в России смертельно захотелось побрит Карла Маркса. Не надо. Штирнер — побритое лидо обоих Маркса и Энгельса. Оно оборотная сторона медали, которую тщательно скрывают последователи. Оттого не к чему становиться учеником Штирнера. И без вся-
*) Русское заглавие не точно: Der Einzige значит не единственный, а одинокий, что ясно из контекста.
139
кого учения или ученичества, во всех складках платья самого пламенного марксиста, поскольку он, ведь, разумеется, не чистая отвлеченность, притаился и дразнится Штирнер, ибо если на самом-то деле отнять от человека и государство, и родину, и религию, то получится именно вот такой одинокий и не спасет его от одиночества никакая принадлежность к партии. А собственность? Боже мой! Да разве существует в мире хоть один марксист, у которого не было бы, как у Штирнера, собственной связки книг и тощего чемодана с парой белья и воскресным платьем?!
Так про себя или громко, втихомолку или во всеуслышание кричат или шептать и без всякого Штирнера, — он только имел еще смелость отнести в типографии листки, на которых написал об этом — кричат и шептать свое: «а я!» Страшный, зловещий крик или шепот, когда он вырывается из живой груди человека без государства и без отечества, и еще не только без религии, но, признав в безумии своем себя человеком-богом, родовым понятием обоготворяемого человека. Знаем мы, давно знаем этот крик и шепот, этот зверский крик освободившегося на свою собственную волю, совершающего свое свободное хотение человека, провозгласившего: я, только я сам себе закон, себе самому мораль или правило поведения. Знаем из «Бездны» Леонида Андреева, когда бросились в предместья Москвы выкинутые из всех пут человеческого строительства люди, бросились на девушку, чтобы изнасиловать ее тело и душу, на девушку, мечтавшую в разговоре со студентом о славном лучшем будущем человечества, Человечества, — я ведь «Человек это звучит гордо», — бросились с неистовым скрежетом: А я! а я! бросились один, другой, скопом и тио одиночке...
И вот теперь, да теперь, открылась правда, ставшая явью, о марксизме, как религии Человека; брошюры и речи, научные выкладки на бумаге и на показ, а на самом деле — жадное, безбожное, дикое, первобытное, грозное и тупое, ринувшееся с криком: А я! белокурое, или какой там еще масти, животное-человек, звериный бог. Откуда это озверение? Оттого что вырваны из сердца, не стало их ·— ни родины, ни государства, ни собственности, кроме потяжелевших, некогда тощих чемоданов...
Предел. Сгинула душа ...
140
III.
Баш-Челик.
Мечется сказочный герой по поднебесью.
Нет его сильнее и никто не может ему противостоять, ни в ратоборстве, ни в такой распре, когда целые полчища сбирает самый мудрый и властный царь, чтобы одолеть его своеволие. Весь мир для него не правило, не необходимость, не труд или какое либо иное установленное принуждение, а только одна беззаветная свобода.
Сказочный, это — пернатый, всесильный, неукротимый герой, Баш-Челик.
И если устрашенные обессиленные перед ним люди, бросятся к его ногам, умоляя владеть ими, царем провозглашают, с презрением отпихивает он корону и скипетр и бармы, так что мячиком по пыли покатится от него самый гордый из всех царских знаков: держава, изображающая земной шар — центр вселенной. Самую власть над людьми презирает герой, считая ее цепями, обуздывающими его независимость.
Помнит. Да. В снах тяжелых возвращается перед нимпережитое.
Заковывали. В той третьей горлице пригвожденный долго томился в неволе, и мучила жажда. Как древний Самсон, был цепями опутан и стоял не двигаясь у колонны. Но дождался. Вошел избавитель; полил ему на голову живительной влагой, и спали все цепи, встрепенулся, взметнул, мигом умчался на простор, унеся себе в жены красавицу — царскую дочь. Не посмотрел на то, что она жена его спасителя. Потому что так захотел. Не будет больше никаких оков. Свобода.
Однако среди радостей нежных, приластилась жена и спросила тихонько с трепетом любовным, восторгаясь им, откуда, почему, каким образом он обладает такой силой и как это вообще возможно вот такое, как его, беспрепятственное богатырство?
Сознался. Не в нем самом сила. И вовсе не исчезли цепи. Они только распутались и тоненькой, тоненькой невидимой ниточкой тянутся туда, на то чудесное плоскогорье, где летала птица певучая, скрывающая в себе залог его свободы. К этой птичке-певунье подкралась, схватила ее лапами и как была она проглотила хитрая лиса, и теперь птичка в неволе дро-
141
жит под сердцем, но все же держит ниточка невидимая, держит его, и нельзя ему ее отрезать — тогда конец, смерть.
Только забыть можно про ниточку, — самой тоненькой, точно и нет ее вовсе, себе представит. И чем чаще до беспамятства забывает о ниточке Баш-Челик, тем большим становится героем, и тем независимей его полет крылатый.
Любит хвастаться своей красавице-жене, когда она глядит на него, не наглядится влюбленными глазками, что, мол, вырвался из пут, а все человечество этакой же самой ниткой переплетено и перевязано вдоль, и на крест. Даже кривится на лице улыбка презрительная, жива ли еще птичка-певунья и не все ли ему равно перепархивает, щебеча, с ветки на ветку или под сердцем бьется; ловко лиса ее подхватила!
Ровно сто лет тому назад в 1822 г. распутался герой и просиял для него мир возможностью полной что ни на есть свободы, и не стало никаких законов для него кроме закона его воли.
Ровно сто, лет тому назад вышел в свет, в 1822 году «Plan des travaux scientifiques nécéssaires pour réorganiser la société» Огюста Конта.
Ha высшую ступень поднялся мир.
Далеко внизу, во мраке столетий коснеют страхи, чудища, ужасы, природа неуловимая; давила на мозг и застилала взоры тогда религия и богословие, мифы и кощуны, смирение перед таинственной какой-то силой Всемогущества Божия. Встряхнулся мир только тогда, когда сила ума установила принципы и охватила, хотя еще отвлеченно, самую сущность; но все еще метался ум в неустойчивости; и так и эдак, главное ни конца, ни начала; ничего осязательного, положительного, одна еще мечтательность: метафизика. Однако, совершилось. Вскоре наступило таки восхождение на вершину не то треугольника, не то скалы вселенской и все ясно стало, засветилось; как на ладони. Ведь, если природа, эта мрачная и неподатливая, будет наконец понята вовсе не как создание или жилище какого-то Бога или богов, пугающих и щемящих мысль, а усвоенные принципы, наконец, приложатся, озарят, войдут в соприкосновение с природой — тут выход из отвлеченности: наука. Постепенно, методически от числа к материи, элемент за элементом разыщутся и распутаются концы и начала.
Завершает все наука и от нее впереди беззаконие, праздник свободы, своеволие.
142
И мечется Баш-Челик по поднебесью.
Потянулись тогда к нему и другие герои, возмутившиеся против Правителя, когда управлял миром еще Зевс.
— Не мы ли Титаны? — воскликнули герои. — Долой правителей! Всем, всем, всем — долой!
И вот:
— Долой, долой! — широко отдалось по земле.
— Ага, за нас народ! Водили против нас прежде целые полчища, навоевались! Довольно! Не сказано ли, что именно народ — Титан, опрокидывающий?
Что тут после этого произошло уж трудно понять. Но только по совершенно невыясненной причине, да еще и самая возможность чего-либо подобного, — есть-ли, нет-ли, по-видимому вовсе не про одного только пернатого Баш-Челика, а о самых обыкновеннейших людях, это уже черное по белому написано — произошел — и опять-таки это надо крепко припомнить — не какой-нибудь такой: по одиночке, а всенародный — «прыжок в царство свободы».
Сказка—сказкой и быль—былью, ученые книги само по себе, а качнешь воображать — это опять дело другое, но во всяком случае «прыжка в царство свободы» отрицать совершенно не мыслимо, потому что тут уже и летописи, и документы и данные, и самые что ни на есть точнейшие источники на лицо, так что, исходя из самого критического, недоверчивого и сомневающегося изложения событий, все равно приходится прийти к такому заключению, что прыжок в царство свободы — действительнейший, и на самом деле факт.
И еще надо принять во внимание: хитрость одного враждовавшего в это время с соседями государства, во время крикнувшего клич о «прыжке в царство свободы», с целью лишить противника войска, потому что, разумеется, солдаты из за этого побросали ружья; и еще не все. Герои ли, или не герои Баш-Челики или как их там зовут или звали, только видели как один из них примерял себе на голову перед зеркалом подобранную с полу царскую корону, надев ее зубцами книзу, а другой стал великим полководцем, так что и Наполеон тут оказался причастным, и вообще с книжной точкизрения такая путаница, что многие, усидчивые и терпеливые, весьма знающие ученые спросили себя: да не отбросить ли все это прочь
143
и не пора ли и о себе подумать. Но опять таки нельзя и из самого критического, недоверчивого и сомневающегося изложения событий не прийти еще и к такому заключению, что по совершении «прыжка в царство свободы» участники этого прыжка всенародного оказались в страшной пустыне, и кругом куда ни погляди — ничего, скалы песочные, зыбучий, неплодородный песок и больше ничего. Значит неминуемый холод.
Но всего замечательнее, что на этих зыбучих песках, в пустыне уцелел храм красоты такой неоглядной, что никак нельзя описать, древний, византийский храм, и под куполом, высоко, высоко чирикают птички-певуньи. Весь храм этим щебетом напевно звенит, радостью сердце чарует, навстречу душа всей святостью им в ответ поет, ни наслушаться, ни излиться не может. Как устоял на зыбучих песках в пустыне храм твердыней непоколебимою? Как это заселили светлый купол птички-певуньи?
Стоит храм красуется заусенью зазывной. Полон храм народа всякого; голодные, холодные, обнищалые, — ведь все что запасли, все имение, кто, как захватил, все во время прыжка в прорву пропасти вверглось — голодные, холодные, обнищалые, больные, несчастные сошлись в храм люди молиться. Падают ниц, руки тянутся туда к куполу; возносятся плач и воздыхания; горячими молитвами птичкам-певуньям вторят:
— Вознесите слезы наши, птички Божии, к престолу Творца; вознесите весть о скорби нашей в этом царстве последнего лишения. Рай земной обрести думали, о Боге Вседержителе позабыли. Увы, увы нам, помилуй Господь и ниспошли Благодать! Нету, нету, веруем теперь всем сердцем и всем помышлением, нету рая кроме рая небесного ныне и присно у престола Божья. В Его воле и Его уставе, неземном, но небесном, рай, уготованный праведникам!
Взошел Баш-Челик во храм, устоявший на зыбучих песках, и слышит щебет птичек-певуний под куполом и стенания людей, возносимые к Престолу Божию, и видит нищих и голодных и холодных, больных и страждущих; вселенных в рай земной, названный царством свободы. И еще видит как от каждой птички-певуньи протянулись паутиной серебряной ниточки-невидимки и стали видимы и узорчатостью переплетаются, серебрятся на солнце, красуются сетью по заусени забывчивой.
144
Ровно сто лет тому назад в 1822 году вышел «Plan des travaux scientifiques nécéssaires pour réorganiser la société» Огюста Конта.
Ровно сто лет привиделся мир будущей свободы и глотнула хитрая лиса птичку-певунью.
Ровно сто лет строилась система воссияния беззакония, признанного единственным законом.
Ровно сто лет как вместо рая небесного поверили люди в рай земной и в безумии совершили этот — уж и как сказать-то, неужели так и продолжать надо говорить, хоть ясна облыжная пошлость, — «прыжок в царство свободы», ставшее царством голода, холода, брани междоусобной, пыток и мучений.
Вышел из храма на паперть Баш-Челик.
Тут на паперти нищие и калеки, слепые и зрячие, безногие и безумные тянутся иссохшими руками просят милостыню.
И слышится песня-старина разноголосая о богатырях разных Самсоне и Святогоре-богатыре, и Вольге, я Анике-воине, и многих других героях.
Слышится песня напевно-медлительная о том, как увидел богатырь во время поездочки сумку с землей, с пустой горстью земли, но захотел приподнять и увяз по колено и смерть даже иной принял от натуги. А про сумку с землей разно говорят. Толкуют, что она знак власти над государством и плугом царственным опаханы его границы незыблемые, и оттого нет силы богатырской, что может поднять даже и горсть опаханной земли, но грозит безумцу за дерзость его лютая смерть. Толкуют и так, что и герой, богатырь силы великой — ничто перед смертью, ибо земля есть и в землю отыдет. А однако же легко в сумке переметной носит эту тягу земельную пахарь-селянин, не замечая тяжести, и далеко, — не нагнать на быстром коне — бороздит его соха, переворачивая землю.
Слушает Баш-Челик.
Понял ли? Можно ли понять? Может ли тогда не наступить конец его своеволию?
И крепко задумался Баш-Челик о медлительности необходимого зиждительства государственного для облегчения трудов пахаря. А еще задумался и о том, как охотник святой Гумберт застрелит лису и вспорхнет птичка-певунья; а без нее на свои пернатые плечи и он не смеет взденуть тягу земли.
145
IV.
Книга-спутница.
То, что написано о нечестивом западном перекати-поле, в которое цепко впился марксизм, продумано за чтением книги П. И. Новгородцева «Об общественном идеале». Эта замечательная книга, законченная в 1917 году, уже через год, т. е. после большевистского переворота, в 1918 г., вышла вторым изданием, а недавно в 1921 г., третьим, и поистине может быть названа книгой-спутницей. Следом идет она за русской трагедией; повествует она, правда о том, что произошло в Германии и Франции, но все-таки косвенно, удивительно ярко освещает и наше. Редко какой писатель может сказать еще, что выводы, к каким он пришел, выпуская свою книгу, через четыре года «получают характер заключений, нашедших полное подтверждение в действительности» (стр. 297-8); как он и предвидел, настал момент, когда «в Германии, классической стране марксизма, нет более единой и объединяющей всех марксистской партии». (стр. 307). Иначе говоря завершился кризис марксизма.
Со жгучим интересом читается подробный рассказ о долгой эволюции социализма, начиная с «Коммунистического Манифеста». Постепенно все определеннее отпадали лоскутья, навязанные ему Марксом и Энгельсом, и вместо отвлеченного пролетария, этого воображаемого нормального человека, или играющего в него интеллигента, без религии, без государства, без родины и без собственности, все яснее вставал настоящий, реальный пролетарий, вовсе не «человек, как родовое понятие» и не Человек, т. е. человек-бог, а гражданин и патриот, сотканный из веры отцов, традиций и обыденных житейских потребностей, включая сюда и собственность. Этим, — прибавляю от себя, — естественно расторгся нечестивый спай обеих иррелигий Марксовой и Штирнеровской. Оттого в Германии во время опомнились. Оттого во Франции тоже во время, т. е. в начале войны, и еще определеннее при заключении мира, увлеченное вспенившимся революционным синдикализмом рабочее движимые как бы вошло в естественные берега, эти твердые, искусственно и с искусством укрепленные берега государства, отечества и спокойной деловитой производительности благ земных, в которых протекает французская жизнь в эпоху третей республики. Только там, на востоке, — невольно думается при чтении книги П. И. Новгородцева, — бурлит еще пожарище. Вовсе не
146
опомнились. И все сгорело, рухнул храм всех верований и всех устоев, личных, общественных, государственных. Царит марксизм на развалинах. Но доносятся слухи, что русские люди, оглянувшись в пустыне, неожиданно узрели, как из пожарища вознесся новый храм веры, новый храм старой, родной и родимой, но очищенной пламенем веры.
То, что случилось на западе, принято называть «кризисом марксизма». Но скорее именно у нас острый не предупрежденный заранее принятыми мерами, страшный кризис, и если, правда, а сомневаться нельзя, что полны под советским режимом церкви молящимися более, чем еще при старом строе, как понят этот кризис? Опять не ясно ли, что не в социализме, как экономическом учении тут дело, а в другом приставшем к социализму; кризис глубже, существеннее, и нет другого термина, чтобы его назвать, как слово: вера. Изверились во всем том, что нанес всемирный ураган, и вот в самом деле «смирились гордые люди». Сейчас так ясны эти слова Достоевского, что кажется будто и не могло быть никогда ни одной минуты ни малейшего сомнения о их истинном значении. «Целуют землю», землю отцов, землю святой Руси. Совершится покаяние и восстанут в здоровье укрепленные, ожившие, очищенные пламенем посещения Господня.
И дальше, дальше нанизываются мысли при чтении книги П. II. Новгородцева.
Отчего такая правильная постепенность, точно, действительно, по некому социологическому закону, который можно формулировать, кризис прошел спокойнее всего во Франции, на родине социализма, бурнее, но не дойдя до разрушения, в Германии, а на самом востоке Европы, в России — пожарище, голод, развал и распад? Не яснее ли станет положение вещей, если, как я старался это и представит, на западе скорее эволюция марксизма, чем кризис. Свободно развиваясь, он утрачивал остроту. В открытом, общественном столкновении он уступал. Противодействовали его задору эти три устоя во Франции: католицизм, гугенотство и масонство. Открытые, а не подпольные съезды и конгрессы социалистов, рабочее законодательство, а не нелегальное рабочее движение сделали тоже в Германии. У нас же искусственно, словно по дьявольскому навождению на самом деле были создан этот тип человека вне родины, вне государства, отторгнутый от церкви, чужой всему укладу жизни, в эмиграции, в ссылке, в тюрьмах, на каторге ...
147
Кризис марксизма — у нас, и кризис этот в силу болезненности своей, глубины и тревоги — кризис религиозный.
Книга — спутница, по крайней мере, в первом вышедшем тремя изданиями выпуске, смотрит иначе. Она возвращает нас к временам «Проблем идеализма». Отсюда противополагаемый автором утилитарной целесообразности марксизма и идеалистический «принцип свободного универсализма», требующий «всечеловеческой солидарности» на почве правового строительства государства. В этом видит автор разрешение кризиса. Отвечая в третьем издании критику «находящему, что в его изложении — явный перевес личному началу» перед коллективным, П. Новгородцев пишет: «говоря о первенстве личного начала, я имею ввиду личность не самодовлеющую». Так по его мнению понимают личность ницшеанцы, эти крайние противники вообще всех социалистических учений, и столь же сурово отвергает. Ему видится личность, «связанная с объективным законом добра, подчиненная абсолютному идеалу». «Правильное сочетание личности и общества, — говорит П. И. Новгородцев, а тут то заключается основной принцип, выводящий из кризиса, — может быть достигнуто только через сведение их к понятию абсолютного идеала, как высшего и предельного этического начала (следует выписка из Владимира, Соловьева). Стремление искать примирения или размежевания личности и общества вне того третьего высшего начала, к которому они тяготеют, удерживает мысль в кругу безвыходных недоразумений и противоречий» (стр. 70 прим.)·
Итак исходная точка, о которой будто позабыл марксизм — личность, связанная с объективным законом добра. Только личность «бесконечность возможностей» (стр. 78). «Безусловное значение человека предполагает свободу, как естественное и необходимое выражение его нравственного существа» (стр. 71). Вот предел анализа, какому подвергает ученый юрист запутанный марксизмом вопрос о взаимных отношениях личности и общества.
Но, если «личность это бесконечность возможностей», разве не вытекает это из той же религии Человека, приведшей к нечестивому учению о «земном рае»? Нет, не личность человека. как бы ни изображали ее заманчиво, разукрасив всеми великолепиями немецкого идеализма! Недоговаривал немецкий идеализм. Недоговаривает и Π. И. Новгородцев, но интеллигенция Руси, исстрадавшаяся и прозревшая, наполняя храмы, договори-
148
лась, вернулась к тому единственному началу, изкоторого почерпнуло современное человечество представление о «безусловном значении человека», «предполагающем свободу», вернулась к понятию личности, как носительницы дара Божьего, бессмертной души. Как бы мы ни понимали бессмертие души, оно единственный источник духовной свободы, противополагаемой законам телесной необходимости или проще законам природы. Через эту духовную свободу, связывающую человека с Творцом, становится человек не подчиненным природе, а над нею. Только этим личность священный сосуд, заключающий в себе святое начало. Только отсюда ее безусловное значение. И только отсюда вытекает, что «входя в общение с себе подобными, личность не может отрицать их прав иначе, как отрицая свою собственную сущность и свои права» (стр. 71). Душу живую, сосуд божественный не может отрицать личность; подобие Божие, а вовсе не себе подобие оценивает человек в ближнем своем. Себе же подобие ни к чему не обязывает.
Да, изверились измученные люди в «рае земном» и узрели все кощунство этого безумия, но неужели может после всего пережитого дать утешение и волю к жизни такое нигилистическое положение: «общественный идеал только в бесконечном развитии» (стр. 21). Если прельстил марксизм сердца, так именно принципом целесообразности, стремлением эволюции к некой цели, вместо бессмысленного вращения, какое проповедовали и позитивисты и идеалисты. П. И. Новгородцев как будто не замечает, что сулит измученному человечеству то же самое, что Ницше с его«страной детей в далеком море». Но Ницше все-таки выставил некую цель, он все-таки вырвался из пут самого последовательного из идеалистов Шопенгауэра. Он проповедовал хотя бы достижение в самом человеке, радость борьбы, жестокую, но заманчивую для сильных душ, сопряженность страдания и радости этих по его красочному слову «близнецов-противников, рожденных вместе.» А если «общественный идеал только в бесконечном развитии» не возвращаемся ли мы на самом то деле именно к Шопенгауэру, любимому философу всех сытых и холенных тех позабытых восьмидесятых годов, сравнительно благополучных относительно «красного призрака» после разгрома Коммуны 1870 года; умно и спокойно размышляли тогда сытые и холенные, за чашкой кофе и сигарой после хорошего обеда о глубокомыслии пессимизма. Нет, нет, не от одного нечестия к другому, не к пессимизму от «рая земного», и к этому
149
своеобразному суррогату религии, немецкому идеализму с его метафизикой Духа или Идеи, нисколько не более правдоподобной и вразумительной, нисколько не более мудрой даже, если ограничить себя лишь человеческим, «слишком человеческим» разумом, чем Божественное откровение о промысле Божием!
V.
Позитивизм — Религия — Православие.
Русская интеллигенция пришла к церкви.
Она пришла к церкви не вследствие революции, а благодаря ей, ибо посетил Господь. Оттого тут не новое что-то и отнюдь не обращение неверующих, как скажут одни, или как оскалятся косноязычные, все и всегда называющие лишь одними и теми же немногими словами, какие знают, — не реакция и не контрреволюция. Долго готовились и сложно паломничество из лабораторий, редакций, от кружковщины и митингов, из тюрем и эмиграций до папертей храмов православных.
Холодное, научное знание, этот позитивизм, отказавшийся от вопроса: «зачем», никогда ведь не привился в России. Даже проповедовавший его Писарев, запутываясь в своих мыслях, бичевал «науку для науки», похожую на «искусство для искусства». Бесцельность бытия лишь чуть промелькнула в «стихотворениях в прозе» Тургенева. Пессимизм изгонялся, как ересь. Русскому интеллигенту искони нужны были «цель», «целесообразность», стремление к благу, прогресс, пламенная вера в общественное совершенствование, в великое и славное будущее. За это и был воспринят марксизм так восторженно либо целиком, либо с оговорками, одними по своему, а другими напротив ученически, за то и назвали себя, возгордясь этим наименованием, марксистами, в отличие от социалистов-революционеров. Эта приближающая к ней, если не подымавшая до религии, струя марксизма подошла к свойствам русского ума. Оттого, когда Мережковский старался как-то связать с язычеством русское западничество, из которого вышло интеллигентское русское миросозерцание, тоже запутался, как и Писарев, тоже не получилось у него стройности и закончил свое суждение о русской интеллигенции, найдя это риторическое противоположение: русская интеллигенция не во Христе, а со Христом.
150
Штирнеровщина, затаившаяся в западном перекати-поле, клубясь катившемся на Русь, уже совсем не стала яве. Только гораздо позднее, в начале этого века, когда по неграмотному, по горьковскому прочитали у нас Ницше и по дурному и безвкусному стали повторят бальмонтовское: «будем—как солнце», тут разлился яд, и прозвучали одновременно: «человек — это звучит гордо» и гораздо хуже, страшное, животное, отвратительное: а я! Но это уже ведь, собственно-то говоря, вовсе и не интеллигенция, а личина ее, карикатура, бес подражающий.
Ведь не надо же забывать, что, если целесообразность мира бытия понималась только человечески, то все-таки вовсе не «человека, как родовое понятие» обоготворила русская интеллигенция, а совсем другое — народ, мужика, во образе страдальца, даже не реального городского пролетария. Хотя сначала совсем в стороне, долго непонятое прозвучало шатовское приказание через мужицкий труд достать Бога, ведь самый то этот мужицкий труд представлялся священным, из-за святой, не переставая жившей, в сердцах — пусть не принято было на это ссылаться, — укоренившейся памяти о том, как по слову Тютчева, обходит Русь сам Христос, благословляя народ. Не кумир нечестивый ставили на святом месте и молились ему, а только священный предмет, правда, не Бога, но благословенное от Бога, или хоть думали — и разумеется грубой ошибки тут не было — что есть на предмете знак благословения Господня. Народ, крестьянство! И каялись. Отрекались от благ земных, принимали схиму, самые преступления свои понимали, как восхождение на лобное место, дабы сподобиться мученичеству. Сектанты были, подвижники, молельники ...
А в восьмидесятых годах услышали будто стон прошел глухой по земле русской. Целые четьи-минеи новые записывались о страданиях за веру, там, в дали недосягаемой, хотя и близко: стоит свернуть с железнодорожной станции по проселку в любое село, как это часто делал Глеб Успенский; там среди этого самого народа, молитвенное отношение к которому стало обязательно людям всех партий, шла тревога за веру; не книжная, а живая еще в народе, показалась, вера; горит светочами множества праведников. Какая вера? Нет, не православная. Впервые узнала русская интеллигенция о разноверии русского народа: штунда, духоборы, молокане, свободные христиане, анабаптисты, малевановщина. И другим тогда предстал народ перед народниками: не только труд его священен, не только лишения его
151
святы, а еще и мудрость его. В мудрость эту, до той поры неведомую, в мудрость религиозную народа уверовал Лев Толстой и долгие годы старался ее выразить и определить, облечь в учение об истинном Боге. Грешил и подымался до откровений, мучился душой и мучил мысли других, не давая закоснеть в нечестии. И не будет никаким преувеличением, если я скажу, что именно Лев Толстой, прямо и косвенно, своими писаниями, начиная от 80-го года неукоснительно вел русскую интеллигенцию через религию к церкви православной.
Еще робко, нехотя, спотыкаясь, шли неверными шагами. И долго, долго шли к религии, а еще не к церкви.
Мне кажется, что лучше всего можно представить два главных этапа этого паломничества о вере русской интеллигенции, если взять стихи Мережковского «Сакия-Муни» за первый исходный этап, а «Серебряный Голубь» Андрея Белого за второй. Предельный этап, это всероссийское моление о Льве Толстом, когда он умер. Памятно мне такое моление в Петрограде в Религиозно-Философском Обществе. Им руководил архимандрит Михаил, уже в простой поддевке старообрядческого начетчика. Весь литературный мир Петрограда тут присутствовал. Смешивались с огромной толпой, едва вместившейся в просторный зал, и Вячеслав Иванов, Федор Сологуб, и Александр Блок, и Мережковский, и Зинаида Гиппиус, и другие литераторы, более далекие от того, что насмешливо звали в те годы «богоискательством». Хор студентов-технологов пропел несколько стихов свободных христиан. Так вознеслось моление трех различных вер, и тут, может в первый раз после долгих лет, русская интеллигенция приобщилась не только к острому осознанию веры, но и к опыту религиозному. Весь долгий, путанный, сбивавшийся путь был в сущности уже пройден тогда.
И вот самый первый этап этого пути. — то еще социально-общественное, выраженное иносказанием, представление о божестве, эта сцена жертвы божеством драгоценного камня в пользу обездоленных, заканчивающая поэму Мережковского «Сакия Муни». Церковь понята еще лишь благотворящей, земной, основанной на плотскую пользу людей. Божество — любовь, но любовь опять мирская, этическая, если только можно так выразиться. Нет еще даже и порыва к высшей мистической любви, награде за долгое религиозное созерцание. Уже иначе понимает «богоискательство», в юных летах прошедший через ученичество на писаниях Ме-
152
режковского, Андрей Белый. Прежде всего тут шатовское: Бога можно найти только через мужицкий труд — углубилось. Труд,— духовный. Народ не обожествлен; он только богоносец; не служение народу, а служение Богу вместе с народом, и у него научась. И схима, не презрение к земным благам, выпадающим на долю богатых, живущих на счет народа, не презрение к роскоши, радостям, соблазнам, прелести мирской, нет, невеста, которую оставляет герой романа ради простой бабы, это — изощренный, образованный и изысканный европеизм, научность, знания и высшие дары цивилизации, все то, что уважаем мы в человечестве, чего оно веками достигло и чем в праве гордиться скромно, но уверенно. Роковой здесь разрыв с религией Человека. От одухотворенного человека, этого прославленного мирской цивилизацией homo sapiens, к низшему, полудикому, первобытному. Зачем? Потому что там, среди по-своему верующего народа, и не надо никаких выспренних в превосходной степени человеческих достижений; нет их; зато искание там, уже не религии, не веры в Бога, а самого Бога живого. Отсюда неминуемое и кажущееся грубым варварством презрение к Человеку — homo sapiens, и ко всей его цивилизации. Да, Русь мужицкая, древняя, пахнущая дегтем и ладаном, еще живая с исконной верой и сама исконная, отсталая, вовсе не поспевающая за западом, враждебная несущемуся оттуда перекати-полю — Святая Русь. Но все-таки еще не православие.
Мой беглый очерк паломничества о вере русской интеллигенции пришел к концу. Это паломничество ведет в светлую храмину. Уже просияло. Выход видится из дебрей. И исполать младшему поколению, приставшему по пути и не помнящему хлопот о сборах в дорогу. Но светлая храмина — еще только религия, а не православие. Заусень ее — заусень религии, а не иррелигии, знание Бога и учение о Боге, а не о неком Человеке-боге, которому изготован «рай земной», но все еще не пришли к церкви.
Нет, приходили, проникали в храм. Только обдало там нежилым холодом. Молчание!
Когда на Религиозно-Философских Собраниях и в Государственной Думе произошло сближение интеллигенции и священства, Синод ответил на него гонениями. Надо ли подробно говорить об расстрижениях священников и изгнаниях профессоров из Духовных Академий. Памятно всем, кто сознательно пере-
153
жил последние годы до-военного времени. Скажу только, что нашедшие приют в университетах ученые церковники, выгнанные Синодом, способствовали религиозному воодушевлению интеллигенции, наполнившей пустовавшие раньше лекции по богословию.
VI.
Три притчи.
В большой и светлой квартире знаменитого профессора стало совсем тихо.
Там за стенами тарахтят и торопятся переполненные трамваи, и гремит, не может успокоится до поздней ночи Петроград этих мучительных лет войны. Так недавно квартира профессора, члена Государственного Совета, отзывалась на все тревоги известий; все запутанные мысли и чувства, надежды, страхи, слухи приходили сюда за ответом. Теперь разве позвонят по телефону спросить о здоровье, и заходят друзья с озабоченными и неестественными выражениями лиц.
Долгие годы разлагалось большое, тучное, невоздержанное тело. Привык лечится, зависеть от своего тела. Что делать? Бывало, говорил, смеясь: надо же отложить подальше это неприятное событие: смерть. И вот — последняя болезнь. Сам заставил сознаться докторов: дело нескольких дней. Спокойно ждать. Приучит себя к мысли о смерти. И все совершенно ясно. Да, приучить себя к этому. Только это. Твердо знать, что это совершенно неизбежно. Оттого, если скользнет взор по книжным шкафам или туда, в ненужный более рабочий кабинет, налево от передней — зачем? Только — это. Сначала читал газеты. Лежат рядом и на них очки. Вовсе не исчез интерес или думается исключительно о себе. Совсем другое. Переставился интерес. Именно переставился: что прежде было важно, отошло, стало временным, даже война и мировая политика. Все долгие века культурного развития Европы превратились в миги мимолетные. А что-то совершенно другое напротив выросло. Память о матери? Раз маленьким мальчиком в Висбадене вырвался из ее рук и убежал, хотя заметил, что она плакала. Может быть, в этом вечное? И еще в том, что никогда не делал зла?
Вчера сказал друзьям, что хочет исповедаться и приобщиться. Утром был священник и все прошло совсем просто,
154
отвечал священнику своим грудным басом: грешен. Именно просто, потому что и позитивизм, и вообще все обычные мысли о религии тоже сделались чужими и какими то прежними.
Широкой полосой света заблистал паркет. Из дальней комнаты слышно, как подруга жизни, — иностранка, отдает какое-то распоряженье крикливым капризным голосом. Опят вспыхнула жизнь, грешная, беспокойная, занятая. Все интересное за последние двадцать, тридцать лет на всем земном шаре прошло при его участии. Нет, нет. И Ницца, и заседания, и встречисо всеми значительными людьми Европы и Америки — все, все стало чужое и прежнее. Последняя нужна твердость. И теперь легче ... Только — это ...
Долго обсуждали и в разговорах и в газетных статьях, как это хорошо всем известный своим прямолинейным позитивизмом профессор кончил жизнь православным.
— Я не понимаю, — говорил один из его близких, — ведь сколько раз я заводил с ним речь о религии — даже сердился! Прожить всю жизнь свою атеистом и вдруг!... И аргумент странный; хочу быть с матерью! Если подумать, заметьте, ведь очень интересный аргумент!
— Да ведь, милый мой, у него начинался склероз мозга, — ответил долго пользовавший его врач.
Прошли времена времен и исполнились сроки. Тогда предстал раб божий, Максим, перед Вечным Судией. И озарил его Вечный Судия тихой и радостной улыбкой и, просветленный, отошел раб божий, Максим, в сонм православных. Открылась ему Тайна вечная и всеблагая, перед которой не жизнь человека, целые столетия исканий и заблуждений человеческих миги мимолетные.
А вторая притча о безумии Пигмаллиона.
Настежь распахнуты двери мастерской. Уже прошел по городу слух об изваянной Пигмаллионом богине, превосходящей своей красотой все, что создало искусство за эти последние века.
Наполнилась мастерская и знатоками, и просто прохожими, и все они не могли оторвать глаз от совершенных линий прекрасной статуи. А Пигмаллион, взволнованный, с горящими очами, в венке из белых роз на кудрявой голове, переходил от одной кучки посетителей к другой и говорил с тревогой в голосе:
155
— Она ведь живая! Разве вы не видите, что она живая? Вот послушайте, послушайте, какую удивительную она сейчас споет песню!
И сел Пигмаллион у подножья статуи. взял лютню и наигрывал на ней, улыбаясь и торжествуя, восторженно вперив взор в свое творение.
— Вы слышите, слышите? — шептали его улыбающиеся горячие губы.
Но бывшие в мастерской с недоумением переглядывались и кивали на Пигмаллиона, а постепенно послышался даже смех потому что никакой песни никто из них не слышал, и совершенно было непонятно, чему подыгрывает на своей лютне этот по-видимому безумный художник. В самом деле, разве может мрамор запеть?
Особенно же вознегодовали христиане той общины, к которой принадлежал уже довольно долго Пигмаллион. Он скрыл от братий, что опят взялся за свое прежнее ремесло, а они как раз подыскали ему гораздо более подходящее христианину занятие по вырезке из дикого камня надгробных плит для агап, входивших тогда в употребление среди новообращенных.
И пошел шумный ропот по мастерской. Смех и злые речи становились все громче. Посетители выходили на улицу, пожимая плечами, споря и негодуя. А знатоки стали теперь наперерыв критиковать создание Пигмаллиона.
Они говорили, что вовсе не безумец он, а хитрец, скрывающий недостаток дарования этой нелепой выдумкой. Музыка и ваяние что может быть общего? Совершенно бессмысленное нарушение основных законов красоты. Гармония пространства и размеров — одно, а ритм, относящийся к расчету времени, управляется другими законами. И самые линии этой богини, напоминающей обыкновенную женщину, вымучены и некрасивы.
Когда настал вечер, один из проповедников христианской общины стал даже подбивать пойти и разбить это чудище эллинское. Он, единственный из всех, не только не отрицал, что богиня пела под аккомпанемент лютни, но уверял, будто ясно слышал пение, и хотя не запомнил слов, но сразу понял козни бесовские. Бес вселился в Пигмаллиона, и богиня это адово исчадие, откуда великий соблазн и опасность для верующих. Разбить ее вдребезги, уничтожить дьявольское наваждение, сбросит со скалы в пучину морскую! Самого же Пигмаллиона следует схватить и силой свести к святому отшельнику,
156
живущему в пещере вблизи города, чтобы он изгнал вселившегося в Пигмаллиона беса, а сам он искупил грех долгим постом и молитвой.
И устремились верующие в мастерскую Пигмаллиона. Взломали двери, которые оказались запертыми на засов, ворвались, но зажегши факелы, остановились в изумлении. Статуи не было. Цоколь ее был пуст. Сам же Пигмаллион лежал на постели, мертвый. А сбежавшиеся на шум соседи рассказали, что видели, как недавно вышла из мастерской Пигмаллиона женщина, закрытая плащом. И действительно на песчаном полу у цоколя можно было разглядеть следы босых женских ног. Женщина, по-видимому, прошла к дверям, по рассыпанным цветам из венка Пигмаллиона, потому что розы были нарочно разбросаны до самых дверей и раздавлены чьей то поступью.
Увидели пришедшие близ Пигмаллиона и его разбитую лютню, рядом же с нею дощечки, на которых были записаны слова некой кантаты.
— Вот завещание великого непонятого художника, Пигмаллиона, — сказал пришедший вместе с другими его друг и к удивлению присутствующих, потому что его знали за человека верующего и благочестивого, он перекрестился.
Через некоторое-же время стали, сначала шепотом, а потом и во всеуслышание говорить, что сама Мария-Магдалина, песнями, услышанными ею от ангелов Божиих, склонившая к истинной вере развратную Марсилию, снизошла на цоколь Пигмаллиона и, оживив собою изваянную им мраморную глыбу, спела святую кантату. Только язычники и маловеры не слышали ее...
________
Блажен, кто без содрогания в сердце слышит возглас: изыдите оглашенные! ибо не страждет душа его в одиночестве.
Радуется и веселится сердце художника — и спорится труд — поутру приходили заказчики и улыбались его работе. — Наконец, наконец он создает — что давно — — в грезах ночных — в самых сияйноцветливых грезах мерещилось! —
Счастлив народный трибун — не успел еще выйти на, форум — в улице узкой — где виллам прохладно под
157
тенью смоковниц — ждут уж друзья — испросить его мудрых советов — поступью твердой на кафедру нынче взойдет он — и так уверенно — плавно польются периоды речи.
Но вот к селу родному путник — усталый бредет — остановился — в чужих краях он видел много, много — уже не такой как был — когда покинул родину — горит любовь и не покидает надежда — но что, если, правда, — один, непонятый, склонивши голову — у самой двери дома отчего сидеть он будет — и скажут близкие — «Побудь еще подольше с нами и станешь — как мы — забудешь заблужденья заморских стран!»
Господи, Господи! Блажен, кто без содроганья в сердце слышит возглас: изыдите, оглашенные! ибо не страждет душа сго в одиночестве!
Нет, нет, помог Господь — сильна любовь и издали — напрасны были все страхи путника: в таких же — как он уж новых мыслях — нашел родных, и выбрали его пророком — и слушать стали, и священник родимой древней церкви его благословил.
VII.
Родина и православие.
Русская интеллигенция пришла теперь к церкви православной. Усталым путником эти последние годы стояла она на паперти, а теперь в самом храме возносит моления о ниспослании благодати.
О чем молитва всего горячее, о чем плач благочестивый? О родине.
Возврат к православию национальное событие.
Я оттого и настаивал на выражении: эволюция, а не кризис марксизма, что в отказе марксизма от чистого интернационализма с отрицанием отечества и государственности сказался процесс, проходящий красной нитью через события, идеи, стремления всей истории Европы после распада Римской Империи. Эволюция марксизма лишь совсем малая подробность этого тысяче-
158
летнего процесса; тысячу лет человечество кует новые национальности, и вместе с этим вырастает национальное самосознание. Национальное начало — то огромное маховое колесо, под жужжанье которого творятся все совершения, чаяния и достижения человечества нашей эры.
Разве не видим мы на протяжении всех средних веков, как образуются национальные государства, из которых всего характернее Франция? И раз начавшись, процесс этот безостановочно продолжится до XX века, пока единственное разноплеменное, сохранившее традиции Римской Империи, государство, Австрия, не распадется, чтобы дать место новым государственным образованиям, в границах приблизительно, насколько удалось достигнут, соответствующих этнографическим. А провозглашены знаменитые 14 пунктов — Вильсоном, представителем последней возникшей, всего сто лет тому назад, новой национальности: Америки. Не сосредоточившись на этом исторически самом важном достижении войны, нельзя понять ее смысла. Экономисты запутывают его и запутываются сами, стремясь исключить не дающуюся им национальную проблему. Ее замалчивают и извращают, считают фикцией.
И вот рядом с этим лишь не так ясно, ибо не легкой оказалась тут борьба с папством, носителем вселенского, т. е. имперски — интернационального начала, национальное начало пробивается в христианстве. Только буддизм и магометанство все еще остаются международными. Естественно запаздывает и католицизм.
Провозглашенный Марксом Интернационал был идейно ретрограден; он должен был в случае удачи лишь повторить дело прежних интернационалов: папства, буддизма, магометанства. В этом же смысле еще более ретрограден III Интернационал по сравнении со II, признавшим национальное начало. Нужды нет, что первая попытка национализации христианства: галликанство, не привело вовсе ни к чему. И протестантизм влил в себя вселенское начало. Оно как будто и торжествует. Однако в Англии возникла национальная церковь и на ее примере видно, что и папство оказалось бессильным удержать мировой процесс. Национальные церкви стали потребностью, кажется даже и быть не может иначе; они укоренились в сознании человечества без всяких определяющих их точно установленных догматов, как проникающий повсюду во всех подробностях жизни сказывающийся и деятельный принцип.
159
О самых первых шагов Интернационала можно было предвидеть, что процесс национализации всех явлений жизни скажется и в нем. Немедленно как только начались международные конгрессы социалистов, по молчаливому соглашению, в силу бессознательно, но твердо уже усвоенной привычки думать и жить — а ничто так глубоко не залегает на дне души, как все то, чего не сможет коснуться разъедающее рассуждение — работы Конгрессов потребовали группировки его членов по национальностям. И именно национальностям, а не государствам, потому что от австрийцев не требовали, чтобы они не посмели разделяться на поляков, мадьяр и т. д. Международные конгрессы социалистов, провозглашая отсталый принцип отрицания национального начала, проводили его в жизнь, и можно ли теперь написать историю социализма, не различив между социализмами английским, французским, итальянским, русским, американским? Процесс закончился. Наши коммунисты проглядели его. Они отстали и тут их приговор. По естественной иронии судьбы им волею неволею пришлось даже выступать на Генуэзской Конференции от имени нации, при чем социализм их совершенно отходит на задний план. Понял ли это Чичерин, когда посетил могилу великого патриота Мадзини?
Своим отсталым, устарелым, даже не утопически дол-кихотским, а вернее санхо-панховским интернационализмом, от которого они смутно сами стараются избавиться, наиболее ненавистны русским людям кремлевские марксисты—большевики.
Русская православная церковь национализировалась, и именно к национальной, своей православной церкви пришла русская интеллигенция. Всякая же национальная церковь неминуемо должна воспринять один весьма существенный принцип, принцип, особенно дорогой и ценный интеллигенции: веротерпимость. Тут — надежда.
Всякий интернационал: буддийский, магометанский, имперски — либо — папски-римский, протестантски-университетский или социалистический, всякий строится на основании самого строгого и нетерпимого: како веруеши? Другого основания ведь нет, не может быть, не откуда его взять. Совсем другое дело, когда интернационализм вытесняется национализмом. Тут нечего искать основания, спая, того, что воссоединит во едино. Все это на лицо, ясно, все это в сердце каждого. И тогда вопрос: како веруеши, начинает утрачивать суровость; исключительность, злоба, мнится мне, сменяется полюбовной мягкостью. Хочется ве-
160
рить в согласие; ширятся объятия; неужели не вместе? ведь одна любовь: родное; и заблуждения родные. Заблуждения о вере, ведь как их понять? Разве нечестие вспомнить эти теплые, исполненные верою в руководство Божие словеса древней мудрости и так ли это ужасно, что прозвучали они в Индии далекой, откуда пришло нам сказание о Варлааме и Иосафе, вошедшее в Четьи-Минеи? Словеса эти говорят: «В какой бы форме ни восхвалял с молитвою верующий Божество свое, в этой форме Я дарую вере его прилежание. Укрепленный такою верою, он приобщается к Божеству в такой форме и получает от него полезные воздаяния, хотя на самом деле исходят они от Меня». (Бгагаваджита).
На началах веротерпимости, установившей пределы, за которыми уже начинается иноверие, после долгих веков борьбы, заблуждений и благочестивых усилий, зиждется первая возникшая е Европе национальная церковь: английская.
Нам предстоит схожий путь прохождения; нас ждет, и в самом ближайшем будущем, работа по установлению тех же пределов, отделяющих иноверие от единой русской национальной церкви. И ждет снисхождения, любви и расширения объятий столпившаяся на паперти церковной интеллигенция. Того ради сжимаются сердца при возгласе: оглашенные изыдите. Давно уже сказалась ясно и настойчиво необходимость воссоединения православных с приемлющими священство старообрядцами, снявшими с нас проклятия уже больше четверти века тому назад. Их по отчету Святейшего Синода, составленному при Победоносцеве, было в 80-ых годах двадцать два миллиона русских людей, и никто из нас не носит в душе своей печать русского с таким благоговением и так запечатленно. Вместе со староверами должны войти в церковь и сотни тысяч русских интеллигентов — этих нововеров русских, и войти во всей искренности, смело и радостно, не сокрыв от церкви сомнения и привычки мысли, знания, чаяния, чувства нескладные, заблуждения и порывы, но всем существом и со всеми помыслами.
Толпится на папертях, наполняет притворы и порывисто входит в храмы русская интеллигенция. В самозабвении ли?
Куда деваться с верой в знания, в научные дисциплины, в историзм, с верой в теорию прогресса, сулящего благо? Неужели забыть, замолчать, хуже — лгать?
А, что грех таить? — ведь часто лгут живущие церковной жизнью, но всеми своими помыслами преданные светской, часто
162
безбожной мудрости научной, позитивистической и идеалистической, нео-кантиансту, естествоиспытательству, декадентству! Новые, схожие этим с древними, двоеверцы.
Им, как тот профессор, жить без веры и лишь умирать с верою? И простится блудному сыну, воспримет-любовь всеблагая? Или безумным Пигмаллионам творить себе вымыслы и образы, изваять, воссоздать, веря в безумии своем и совращая других, что претворится греза в реальность, в ens reale? Совершится ли снисхождение святое? Или еще благословения сподобится пророчество? В древней церкви пророков допускали рядом с собою и священники, и апостолы. Пророк — вовсе не святой. Проникновенна мысль бл. Августина, что нелепо утверждать, будто никогда не ошибаются пророки. Мятется ум и тревога в душе. Надежда, плод страстного душевного вожделения, не может и не хочет успокоиться.
Мы на грани, и совсем ново то, чего ждем. Когда то христианство, там на западе, во время совершенно чуждой нам, и в ту пору, как и до сих пор, неведомой католической схоластики, стараниями долгих тринадцати веков сочетало языческую античную мудрость со своею правдой. Не отвергло Платона и Аристотеля, а связало с собою. Связь распалась, и чаемый лад стал разладом, но отсюда вышла современная цивилизация. Мы стоим на грани. Православной церкви предстоит сказать свое слово об этой цивилизации. Ссудит, отвергнет или прольет оно, обновленное, Господню благодать на эту страду, на эти боль и корчи человеческих порывов к истине?
Евгений Аничков.
162
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
