13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Тиллих Пауль
Тиллих П. Мужество быть
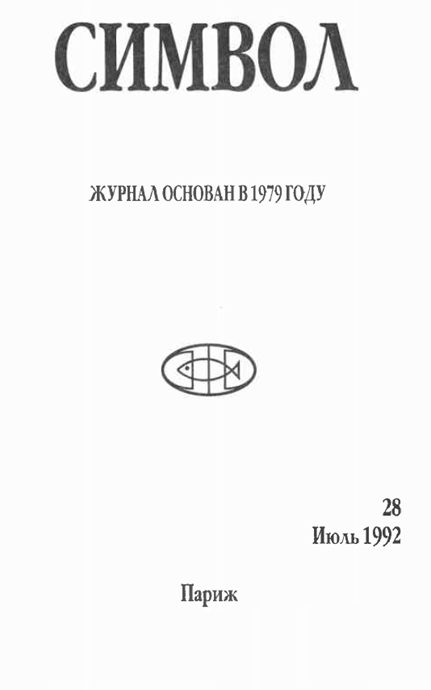
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Пауль Тиллих
Мужество быть
ForRené [Marié]
Перевод с английского О. Седаковой
(Под редакцией «Символа»)*
ГЛАВА 1
БЫТИЕ И МУЖЕСТВО БЫТЬ
Поскольку по условиям фонда Терри лекции должны касаться «Религии в свете науки и философии», я избрал своей темой точку, в которой сходятся все в целом теологические, социологические и философские проблемы: понятие «мужества». Есть очень немного понятий, которые так же продуктивны для анализа человеческой ситуации. Несомненно, мужество — этическая реальность, но корни его уходят в глубину человеческого существования как целого и, в конечном счете, в структуру самого бытия (Being-it-self)**. Чтобы понять его этически, необходимо рассматривать его онтологически.
Это обнаружилось уже в одной из первых попыток философского определения мужества — в платоновском диалоге «Лахет». По ходу диалога выдвигаются пробные определения — и одно за другим оказываются опровергнуты. Наконец слою берет Никий, знаменитый стратег. Он пытается дать еще одно определение. Уж он-то, военачальник, должен знать, что такое мужество, и наверняка сумеет его определить. Но и его определение, как все прочие, терпит неудачу. Если мужество, как утверждает Никий, есть знание о том, «чего следует страшиться, а на
* Перевод сделан по изданию: Tillich Paul. The Courage to Be Yale University Press New Haven & London, 1965, © 1952, by Yale University' Press, © Русский перевод. «Символ». 1992
** Автор предупредил, что выражение being-itself соответствует греческому ὄν ἤ ὄν и латинскому esse-ipsum и обозначает бытие как таковое, бытие как бытие. (Данное примечание принадлежит Ф. ШапеСм.: Tillich Paul. Le Courage d'être, Traduction de l'anglais et Avant-Propos de Fernand Chapey, Casterman, 1967 — Прим. ред.)
8
что решаться», то вопрос становится всеобщим, ибо для ответа на него требуется «знать обо всем, что хорошо и что дурно во всех обстоятельствах» (199с). Но это противоречит исходной посылке о том, что мужество — только составная часть добродетели. «Итак, — заключает Сократ, — нам не удалось выяснить, что такое мужество» (199е). Эта неудача достаточно серьезна в системе сократовской мысли. По Сократу, добродетель есть знание: следовательно, незнание о том, что такое мужество, делает невозможным всякое действие, отвечающее его истиной природе. Но эта сократовская неудача важнее многих по видимости успешных определений мужества (в том числе принадлежащих самому Платону и Аристотелю). Ведь неудача в попытке найти определение мужеству как добродетели в ряду других добродетелей открывает самую глубокую проблему человеческого существования. Она показывает, что понимание мужества предполагает понимание всего человека и его мира, со всеми его структурами и ценностями. Только тот обладает знанием, кто знает то, что он утверждает и отвергает. Итак, этическая проблема природы мужества неизбежно приводит к онтологической проблеме природы бытия. И эта процедура обратима. Онтологическая проблема природы бытия может быть поставлена как этическая проблема природы мужества. Мужество может открыть нам, что такое бытие, и бытие может открыть нам, что такое мужество. Поэтому первая глава этой книги называется «Бытие и мужество быть». И хотя меня вряд ли ждет успех там, где потерпел неудачу Сократ, само мужество пойти на риск почти неизбежного провала может принести свою пользу: оно поддерживает тревожную остроту сократовской проблемы.
МУЖЕСТВО И СТОЙКОСТЬ:
ОТ ПЛАТОНА ДО ФОМЫ АКВИНСКОГО
Название этой книги, «Мужество быть», объединяет оба значения «мужества» — этическое и онтологическое. Мужество как человеческий акт, как предмет оценки — этическое понятие. Мужество как универсальное и сущностное самоутверждение какого-либо бытия — понятие онтологическое. Мужество быть — это этический акт, в котором человек утверждает собственное бытие вопреки тем элементам своего существования, которые препятствуют его сущностному самоутверждению.
Обозревая историю западной мысли, мы почти всюду встретим — в явном или неявном виде — два значения «мужества». Поскольку нам придется иметь дело с идеями стоиков и неостоиков в дальнейшем, в отдельных главах, здесь я ограничусь интерпретацией мужества в той линии, которая идет от Платона к Фоме Аквинскому.
9
В «Государстве» Платона мужество связывается с элементом души, именуемым θυμός (т. е. пылкий, храбрый); то и другое соотнесено с общественным сословием Стражей, Φύλακες. θυμός располагается где-то между интеллектуальным и чувственным началами человека; θυμός — бессознательное стремление к благородному. Поэтому-то, занимая центральное положение в структуре души, он связывает разум и волю (желание). По крайней мере, он в силах это сделать. Ибо в действительности основное направление платоновской мысли и традиция его школы развивали дуализм, акцентируя конфликт разумного и чувственного. Так что установленная связь оставалась неиспользованной. И вплоть до Декарта и Канта это исключение «сердцевины» человеческого существования (θυμοειδής’a) имело этические и онтологические последствия. Это оно ответственно за кантовский моральный ригоризм и за Декартово рассечение бытия на «мысль» и «протяженность». Социальный контекст этого развития хорошо известен. Платоновское φύλακες военная аристократия, представители всего того, что благородно и изящно. Из их среды выходят носители мудрости, и в их лице мудрость соединяется с мужеством. Но аристократия и ее ценности распались. Поздняя античность утратила их, как и современная буржуазия, и на смену им пришли носители просвещенного разума и технически организованные и управляемые массы. И все-таки замечательно, что сам Платон видел в θυμοειδής’ε сущностную функцию человеческого бытия, этическую ценность и социологическую категорию.
Аристократический элемент учения о мужестве был сохранен и ограничен у Аристотеля. По Аристотелю, следует мужественно встречать боль и смерть потому, что так поступать — благородно, а поступать иначе — низко (Никомахова этика. 3, 9). Мужественный человек действует «ради того, что благородно», ибо «в этом цель добродетели». (Здесь и далее «благородный» и «низкий» передают греческие καλός и αἰσχρός, которые обычно переводятся как «прекрасный» и «безобразный».)
Прекрасный или благородный поступок — это поступок, достойный хвалы. Мужество избирает то, что похвально, и отвергает то, что презренно. Достойно же хвалы то, в чем бытие осуществляет свои потенции или раскрывает свое совершенство. Итак, мужество — это утверждение сущностной природы человека, его внутренней цели или «энтелехии». Действительно, это утверждение несет в себе некое «несмотря на», «вопреки». Однако при этом оно включает в себя возможную (а в некоторых случаях и неизбежную) жертву какими-то другими моментами существования, которые также присущи человеку, но которые, если ими не пожертвовать, могут помешать его истинному осуществлению. Жертвой может стать удовольствие, счастье, даже сама жизнь. В любом
10
случае такая жертва достойна хвалы, поскольку в акте мужества самая сущностная часть нашего бытия одерживает верх над менее сущностным. Красота и благо мужества и состоят в том, что они дают осуществиться прекрасному и благому. Поэтому оно благородно.
Совершенство, полагает Аристотель (как и Платон), реализуется на разных уровнях: природном, личном и общественном; и мужество как утверждение сущностного бытия человека действует на разных уровнях с разной силой. Поскольку величайшее испытание мужества — это готовность принести самую большую жертву, жертву собственной жизни, и поскольку воин по самому своему ремеслу обязан быть постоянно готовым к такой жертве — воинское мужество всегда было (и в какой-то степени остается) лучшим образом мужества вообще. Греческое слово ἀνδρεία (мужественность) и латинское fortitudo (стойкость, сила), указывают на воинские коннотации мужества. Пока аристократия была вооруженным сословием, аристократические и воинские коннотации мужества совпадали. Когда же аристократическая традиция распалась и мужество стало пониматься как универсальное умение различать добро и зло — мужество совпало с мудростью и «истинное мужество» стали отделять от мужества воинского. Мужество умирающего Сократа было рационально-демократическим, а не героико-аристократическим.
Однако аристократическая линия возродилась в раннем Средневековье. Мужество вновь стало атрибутом благородных сословий. Рыцарь — это тот, кто воплощает собой мужество как воин и как аристократ. Он обладает тем, что называлось hohe Mut — высоким, благородным, мужественным духом. Немецкий язык знает два слова для обозначения «мужественного человека» — tapfer и mutig. Tapfer исходно значит «твердый», «весомый», «важный», указывая на силу, которую сообщает принадлежность к высшим слоям феодального общества. Mutig происходит от mut — движение души, передаваемое английским mood (расположение духа). Поэтому говорят о Schwermut, Hochmut, Kleinmut (настроение мрачное, горделивое, малодушное). Mut принадлежит «сердцу» — центру личности. Таким образом, mutig может значить beherzt (так же, как французское и английское courage восходит к coeur, от латинского соr — сердце). И если Mut сохранило этот более широкий смысл, Tapferkeit развивает значение «храбрости» как собственно воинского достоинства, причем воин со временем перестает отождествляться с рыцарем и аристократом. Понятно, что Mut, мужество, прямо вводит онтологическую проблему, тогда как Tapferkeit, сила духа, в его нынешнем смысле лишена такой коннотации. Мои лекции не могли бы быть названы «Смелостью быть» (DieTapferkeitzusein); их название следует читать как «Мужество быть» (Die Mut zu sein). Эти лингвистические замечания уточняют
11
средневековое разумение понятия мужества; вместе с тем они раскрывают напряжение между двумя концепциями: героико-аристократической этикой раннего Средневековья, с одной стороны, и рационально-демократической этикой, унаследованной от христианско-гуманистической традиции, вновь возродившейся к концу Средних веков, с другой стороны.
Эта ситуация нашла свое классическое выражение в учении о мужестве Фомы Аквинского. Фома знает и исследует двойственность понятия мужества. Мужество есть сила духа, способная преодолеть все, что угрожает достижению высшего блага. Мужество объединяется с мудростью в единстве четырех основных добродетелей (еще две — умеренность и справедливость). Углубленный анализ показывает, что добродетели эти иерархически неравноценны. Мужество, соединенное с мудростью, включает в себя и умеренность (в отношении к себе) и справедливость (в отношении к себе и другим). Остается выяснить, какая из двух добродетелей существеннее, мудрость или мужество. Ответ на этот вопрос зависит от исхода знаменитого спора: чему принадлежит первенство в сущности бытия, и, следовательно, в человеческой личности — интеллекту или воле? Поскольку Фома недвусмысленно высказывается в пользу интеллекта, он, как и следует ожидать, подчиняет мужество мудрости. Альтернативное решение — в пользу первенства воли — предполагает большую (хотя и не полную) независимость мужества от мудрости. Различие этих двух направлений мысли определяет оценку «рискующего мужества» («риска веры», в религиозных терминах). Если доминирует мудрость, то мужество становится по сути «силой души», которая обеспечивает повиновение предписаниям разума или откровения, тогда как «рискующее мужество» соучаствует в самом создании мудрости.
Бесспорно, явная опасность, заключенная в первой точке зрения, — тот нетворческий застой, которых обнаруживают многие католические и некоторые рационалистические мыслители. Явная опасность второй точки зрения — тот лишенный веры волюнтаризм, который мы встречаем у некоторых протестантских мыслителей и у многих экзистенциалистов.
Но Фома защищает и другое менее универсальное понятие «мужества», добродетель, которая пребывает среди других добродетелей, по-прежнему называя его fortitudo. Обыкновенно он ссылается при этом н? воинскую доблесть — истинный образец мужества в этом ограниченном смысле. Это отвечает общей тенденции Фомы соединить аристократическую структуру средневекового общества с универсалистскими элементами христианства и гуманизма.
Совершенное мужество, по Фоме, есть дар Святого Духа. В Духе естественная сила души возвышается до сверхъестественного совершенства.
12
Это предполагает, что они соединяются с собственно христианскими добродетелями — верой, надеждой и любовью. Таким образом совершается развитие, в котором онтологическую сторону мужества вбирает в себя вера, которая включает и надежду, а этическую — любовь, или начало нравственности. Включение мужества в веру (в особенности, поскольку она предполагает надежду) происходит довольно рано, например в учении о мужестве св. Амвросия. Амвросий следует античной традиции, когда называет fortitudo — силу духа — «более возвышенной добродетелью, чем все остальные», хотя она никогда не является в одиночку. Мужество послушно разуму, оно исполняет намерения духа. Это — сила души, побеждающая в крайней опасности, сила мучеников Ветхого Завета, перечисленных в апостольском послании (Евр. 11, 35-37). Мужество дает утешение, терпение, опыт и становится неотличимо от веры и надежды.
В свете такого развития мы видим, что любая попытка определить мужество сталкивается с двумя возможностями: или считать «мужество» добродетелью среди других добродетелей, в широком смысле объединяя ее с верой и надеждой, или сохранить его широкое значение и истолковывать веру через анализ мужества.
В этой книге избран второй путь, отчасти потому, что, по моему убеждению, вера нуждается в таком истолковании больше, чем любой другой религиозный термин.
МУЖЕСТВО И МУДРОСТЬ: СТОИКИ
Идея мужества в широком смысле, включающем этический и онтологический элементы, приобретает особую действенность в конце древнего и в начале нового мира — у стоиков и неостоиков. Стоицизм и неостоицизм — школы среди других философских школ, но в то же время они больше, чем только философские школы. Они — тот путь, на котором благороднейшие люди поздней античности и их последователи в Новое время нашли ответ на вопрос существования и победили тревогу судьбы и смерти. Стоицизм в этом смысле — глубоко религиозная в своей основе позиция, проявляется ли он в теистической, атеистической или транстеистической формах.
Именно поэтому стоицизм представляет собой единственную альтернативу христианству в западном мире. Это удивительно, если помнить, что в религиозно-философской области христианству пришлось бороться с гностицизмом и неоплатонизмом, а в религиозно-политической — с Римской империей. Казалось, что стоики, высокообразованные индивидуалисты, не только не опасны для христианства — они как будто были близки к тому, чтобы принять элементы христианского теизма,
13
Но это только на первый взгляд. У христианства была общая почва с религиозным синкретизмом древнего мира; идея пришествия Божественного Существа, которое спасет мир. В сотериологически центрированных религиозных движениях тревога судьбы и смерти снималась благодаря причастию человека к этому Божественному Существу, которое принимает судьбу и смерть на себя. Христианство, придерживаясь внешне сходного верования, превосходило синкретизм в силу индивидуального характера Спасителя и в силу своей конкретно-исторической укорененности в Ветхом Завете. Поэтому христианство могло вобрать в себя многие элементы религиозно-философского синкретизма позднеантичного мира, не утрачивая при этом своего исторического основания, однако ассимилировать чисто стоическую позицию оно не могло. Это особенно замечательно, если помнить о том мощном воздействии, которое учение стоиков о Логосе и естественном нравственном законе имело на догматику и этику христианства. Но и такое широкое восприятие стоических идей не смогло заполнить пропасти между отречением стоиков от мира и христианской верой в спасение мира. Победа христианской Церкви оттеснила стоицизм в тень, из которой он вновь вышел только в начале Нового времени. Не могла быть соперницей христианства и Римская империя. И знаменательно, что среди императоров самую серьезную опасность для христиан представляли не дикие тираны, вроде Нерона, и не фанатичные ретрограды, вроде Юлиана, а такие стоики-праведники, как Марк Аврелий. Это не случайно: стоик обладает общественным и личным мужеством, в котором заключена реальная альтернатива христианскому мужеству.
Стоическое мужество — ре изобретение философов-стоиков. Они дали ему классическое выражение в рациональных терминах, но корни его уходят в мифы, героический эпос, в древнюю мудрость, поэзию и трагедию, в столетия философии, предшествовавшей стоицизму. Одно особое событие сообщило мужеству стоиков непреходящую силу — смерть Сократа. Эта смерть для всего древнего мира оставалась и подвигом, и символом. Она открыла человеческую ситуацию перед лицом судьбы и смерти. Она показала мужество, которое может утверждать жизнь — потому, что оно может утверждать смерть. И она внесла глубокие изменения в традиционную идею мужества. В личности Сократа героическое мужество прошлого стало рациональным и универсальным. Так родилось демократическое понимание мужества, которое в известном смысле противопоставило себя аристократическому его пониманию. Воинская храбрость померкла перед мужеством мудрости. В такой форме оно и давало «философское утешение» множеству людей в разных частях древнего мира в эпоху катастроф и великих сдвигов.
Описание стоического мужества у такого автора, как Сенека, выявляет взаимную зависимость между страхом смерти и страхом жизни и
14
такую же связь между мужеством умирать и мужеством жить. Сенека указывает на тех, кто «не хотят жить и не знают, как умереть». Он говорит о libido moriendi, — точном латинском эквиваленте фрейдовского «инстинкта смерти». Он говорит о людях, которым жизнь кажется бессмысленной и ненужной и которые, как в книге Экклезиаста, говорят: не могу ни совершить, ни увидеть ничего нового! Согласно Сенеке, это — результат следования принципу удовольствия, или, как он его называет, предвосхищая современное американское выражение «goodtime» — «хорошее времяпрепровождение», — позиция, по его наблюдению, особенно свойственная младшему поколению. И как у Фрейда инстинкт смерти есть оборотная сторона вечно неудовлетворенных стремлений либидо, так и у Сенеки принятие принципа удовольствия неизбежно ведет к отчаянию и отвращению к жизни. Но Сенека (как и Фрейд) знал, что неспособность принять жизнь еще не означает способность принять смерть. Тревога судьбы и смерти пронизывает существование даже тех, кто потерял волю к жизни. Из этого ясно, что рекомендуемое стоиками самоубийство — это совет не тем, кто побежден жизнью, а тем, кто победил жизнь, кто равно может и жить, и умереть, и способен свободно выбрать между жизнью и смертью. Самоубийство как побег, продиктованный страхом, противостоит мужеству быть стоиков.
Стоическое мужество есть мужество быть в онтологическом и в этическом смысле·, его основа — главенствующее (владычественное) положение разума в человеческом существе. Но разум у старых и новых стоиков означает нечто иное, чем в современной терминологии. Разум в стоическом понимании — не способность «рассуждать» с помощью орудий логики (обычной или математической) и на основе опыта. Разум для стоиков — это Логос, смыслоносная структура реальности как целого, и, в частности, человеческого ума. «Если разум, — говорит Сенека, — есть единственный атрибут, принадлежащий человеку как человеку, тогда разум — его единственное достояние, более ценное, нежели все прочее вместе взятое». Это значит, что разум есть истинная и сущностная природа человека, в сравнение с которой все остальное случайно. Мужество быть — это мужество утверждать превосходство нашей собственной разумной природы вопреки всему случайному в нас. Совершенно ясно, что разум, понимаемый таким образом, относится к самому центру личности и включает в себя все духовные функции. Рассудок, будучи ограниченной познавательной функцией, оторванной от личностного центра, неспособен породить мужество. Тревогу нельзя отодвинуть, рассудив ее со всех сторон. Это не новейшее открытие психоанализа; стоики, прославляя разум, уже прекрасно знали об этом. Они знали, что тревогу можно преодолеть лишь силой вселенского разума, который в мудром человеке господствует над желаниями и страхами.
15
Мужество стоиков предполагает подчинение личностного центра Логосу бытия; это участие в божественной силе разума, запредельной миру страстей и тревог. Мужество быть — это мужество утверждать собственную разумную природу вопреки тому, что в нас противодействует ее соединению с разумной природой бытия как такового.
Итак, мужеству мудрости противоборствуют желания и страхи. Стоики развили глубокое учение о тревоге, которое очень напоминает новейшие теории. Они открыли, что объект страха составляет сам страх. «Нет ничего, — говорит Сенека, — пугающего в вещах, кроме самого страха». И Эпиктет: «Ибо не смерть и не страдание страшат нас, а страх смерти и страдания». Наша тревога надевает пугающие маски на всех людей и на вещи. Если мы сорвем с них эти маски, явится их настоящее лицо и страх, ими вызванный, исчезнет. Это истинно даже по отношению к смерти. Поскольку каждый день уносит у нас малую частицу нашей жизни — ведь мы умираем с каждым днем — и последний наш час, конец нашего существования, не приносит смерти сам по себе, он только довершает процесс умирания. Ужас, связанный со смертью, — плод воображения. Он исчезает, как только с образа смерти сорвана маска.
Наши неконтролируемые желания — вот что создает маски и прячет под ними лица людей и вещей. Сенека предвосхитил фрейдовскую идею либидо, причем в более широком контексте. Он различает естественные желания, которые ограничены, и желания, возникающие вследствие ложных мнений, которым нет границ. Желание как таковое не безгранично. В неиспорченной природе оно ограничено объективными потребностями и поэтому его можно удовлетворить. Но извращенное воображение человека преступает пределы объективной необходимости («когда сбился с пути, блуждаешь бесконечно») и вместе с ними — возможность удовлетворения; именно это, а не желание как таковое, производит «безрассудное (inconsulta) стремление к смерти».
Утверждение своего сущностного бытия вопреки желаниям и страхам рождает радость. Сенека призывает Луцилла «научиться чувствовать радость». Он имеет в виду не радость от исполнения желаний; ибо истинная радость — «трудное дело», она — счастье души, «поднявшейся над всеми обстоятельствами». Радость сопровождает самоутверждение нашего Я в сущностном бытии наперекор сопротивлению всего случайного в нас. Радость — это эмоциональное выражение мужественного «да» собственному истинному бытию. Такое соединение мужества и радости яснее всего раскрывает онтологический характер мужества. Если мужество понимается исключительно в этических терминах, его связь с радостью самоосуществления остается скрытой. Именно в онтологическом акте, посредством которого человек утверждает самого себя в собственной сущности, мужество и радость совпадают.
16
Стоическое мужество нельзя назвать ни атеистическом, ни теистическим в техническом смысле этих слов. Вопрос о том, каким образом мужество связано с идеей Бога, известен стоикам: они ставят его и дают на него ответ. Но отвечают они так, что самый ответ порождает еще больше вопросов, — и этот факт показывает экзистенциальную серьезность стоической доктрины мужества. Сенека предлагает три разных образа отношения мужества мудрости к религии. Прежде всего он провозглашает: «Невозмущаемые страхами и неиспорченные удовольствиями, мы не устрашимся ни смерти, ни богов». В этой фразе «боги» означают судьбу. «Боги» — силы, которые определяют судьбу и воплощают собой ее угрозу. Мужество, побеждающее страх перед судьбой, побеждает и страх перед богами. Итак, мудрый человек, утверждая свою причастность к вселенскому разуму, выходит из области действия богов. Мужество быть превосходит политеистическую силу судьбы. Второе утверждение говорит, что душа мудрого человека подобна Богу. В данном случае «Бог» это — божественный Логос, в единении с которым мужество мудрости побеждает судьбу и выходит из круга действия богов. Это — «бог-над-богами». Третье утверждение в теистических терминах иллюстрирует все различие между идеей отречения от мира и идеей спасения мира. Сенека говорит, что если Бог запределен страданию, то истинный стоик — выше страдания, пребывает над ним. Тем самым страдание противоречит природе Бога. Бог не может страдать: Он — по ту сторону страдания. Стоик же, будучи человеком, способен страдать. Однако совершенно не обязательно, что он позволит страданию завладеть центром своего разумного бытия. Он может подняться над ним, так как страдание не есть следствие его сущностного бытия, но лишь того, что в нем случайно. Такое различие между «вне» и «над» несет в себе оценочное суждение. Мудрый человек, мужественно побеждающий желания, страдание и страх, «превосходит самого Бога», он возвышается над Богом, который по своему природному совершенству и блаженству пребывает вне всего этого. Обладая столь высоким ценностным уровнем, мужество мудрости и отречения могло бы уступить место мужеству веры в спасение, т. е. веры в Бога, Который парадоксальным образом участвует в человеческом страдании. Однако сам по себе стоицизм не способен совершить этот последний шаг.
Стоицизм обнаруживает свою ограниченность всякий раз, когда ставится вопрос: каким образом возможно мужество мудрости? Хотя стоики и подчеркивали, что все люди равны в своей причастности всеобщему Логосу, они не могли отрицать того факта, что мудрость — достояние бесконечно малой элиты. Массы людей — признавали они — «глупцы» в цепях желаний и страхов. Соучаствуя в божественном Логосе своей сущностной или разумной природой, большая часть людей
17
находится в состоянии реального конфликта с собственным разумным началом и потому мужественно утвердить свое сущностное бытие они просто неспособны.
Стоики не знали, как объяснить эту ситуацию, реальности которой отрицать не могли. И не только преобладание «глупцов» среди человечества было необъяснимым. Нечто и в самом мудреце ставило их перед труднейшей проблемой. Сенека говорит, что нет мужества более великого, чем мужество, рожденное крайним отчаянием. Но, позволительно спросить, как может стоик, оставаясь стоиком, достичь состояния «крайнего отчаяния»? Можно ли достичь его в рамках стоической философии? Или же чего-то недостает в его отчаянии, и, следовательно, в его мужестве?
Стоик, оставаясь стоиком, не знает опыта отчаяния личной вины. Эпиктет приводит слова Сократа (из Ксенофонта): «Я сохранил все, что было мне доверено» и «я не совершил ничего несправедливого ни в моей частной, ни в общественной жизни». Сам Эпиктет утверждает, что научился не заботиться ни о чем, что лежит вне круга его моральных установок. Но еще более, чем такие утверждения, показателен самый тон превосходства и самодовольства, которым отмечены стоические диатрибы — моральные наставления и публичные обличения. Стоик не способен сказать, как Гамлет, что всех нас «сознание» превращает в трусов. Кажется, что всеобщее падение от сущностной разумности к глупости не ставит перед ним проблему личной ответственности и проблему вины. Для него мужество быть — это мужество утверждать себя вопреки судьбе и смерти, а не вопреки греху и вине. Иначе и быть не могло: ибо мужество поглядеть в лицо собственной вине ведет к вопрошанию, формулированному в терминах спасения, а не отречения.
МУЖЕСТВО И САМОУТВЕРЖДЕНИЕ: СПИНОЗА
Стоицизм отступил на задний план, когда вера в спасение мира сменила мужество отречения от мира. Но он вернулся, когда средневековая система, доминирующей идеей которой была идея Спасения, начала распадаться. Он вновь приобрел власть над интеллектуальной «элитой», отвергавшей путь Спасения, хотя и не заменившей его стоическим путем отречения. Благодаря встрече христианства и Западного мира, возрождение античных философских школ в начале Новой истории оказалось не простым возрождением, но преобразованием. Это справедливо по отношению к обновлению платонизма, скептицизма и стоицизма, это справедливо и по отношению к обновлению искусств и литературы, политических теорий и философии религии. Во
18
всех этих случаях негативизм позднеантичного восприятия жизни преобразовался позитивностью христианских идей Творения и Воплощения — даже если эти идеи игнорировались и отрицались. Духовная основа возрожденческого гуманизма была христианской, так же как духовная основа античного гуманизма была языческой, несмотря на то, что греческий гуманизм подвергал критике языческие верования, а новый гуманизм — христианство.
Решающее различие между двумя типами гуманизма заключено в ответе на вопрос: хорошо или плохо бытие само по себе? Символ Творения обусловил классическое христианское учение о том, что «бытие, как бытие, благо» (esse qua esse bonum est). Учение же греческой философии «о косной материи» выражает языческое ощущение неизбежной двусмысленности бытия, поскольку оно равно проявляется и в творящей форме, и в сопротивляющейся материи. Такой контраст основных онтологических посылок имеет решающие последствия. Если в поздней античности различные формы метафизического и религиозного дуализма связаны с аскетическим идеалом — отрицанием материи — то возрождение античности в Новое время на место аскетизма ставит активное преобразование материи в форму. И если в древнем мире трагическое ощущение существования господствовало в мысли и жизни (особенно в восприятии истории), то Возрождение дало начало движению, обращенному к будущему, к творческому и новому в нем. Надежда победила чувство трагедии, а вера в прогресс — смирение перед вечно повторяющимся движением по кругу. Третье следствие основного онтологического различия: античный гуманизм и гуманизм новый расходятся в оценке индивида. Если древний мир ценил индивида не как индивида, а как представителя чего-то универсального, например добродетели, то Возрождение (античности) увидело в индивиде как таковом единственное в своем роде выражение универсума, не сравнимое ни с чем, незаменимое и бесконечно значащее.
Совершенно очевидно, что эти различия вызвали решительное изменение в понимании мужества. Здесь я имею в виду не контраст отречения и Спасения. Новый гуманизм остается гуманизмом, он отвергает идею Спасения. Но он отвергает и отречение. Он заменяет их самоутверждением, которое далеко превосходит стоическое, поскольку включает в себя материальное, историческое и индивидуальное существование. Тем не менее этот новый гуманизм в столь многих точках совпадает с древним стоицизмом, что его можно назвать неостоицизмом. Представитель его — Спиноза. Им больше, чем кем-либо другим, разработана онтология мужества. Давая своему основному онтологическому труду название «Этика», он тем самым указывает на свои намерения открыть онтологические основы этического существования человека (включая мужество быть) Но для Спинозы, как и для стоиков, мужество
19
быть — не вещь в ряду других. Оно есть выражение сущностного акта всего, что участвует в бытии, т. е. самоутверждения. Учение о самоутверждении — центральный момент мысли Спинозы. Его решающий характер ясно виден в таком, например, тезисе: «усилие, посредством которого каждый предмет старается утвердить собственное бытие, есть не что иное, как актуальная сущность рассматриваемого предмета». (Эт. III, 7). Латинский термин для слова «усилие» — conatus — усиливаться достигать чего-либо. Это усилие — не есть какой-то случайный аспект предмета и не есть один из элементов в его бытии наряду с другими, это его — essentia actualis. Conatus делает вещь тем, что она есть, и если исчезнет conatus, исчезнет и сама вещь. (II, def, 2) Усилие сохранить или утвердить самого себя делает предмет таким, каков он есть. Такое усилие, представляющее собой сущность предмета, Спиноза называет также силой. Он говорит об уме, который утверждает или полагает (основой) (affirmai sive ponit) собственную силу действия Cipsius agendi potentiam) (III, prop; 54). Таким образом, актуальная сущность, сила бытия и самоутверждение полностью отождествляются. И это не конец идентификаций. Сила бытия совпадает с добродетелью, и, следовательно, добродетель — с сущностной природой. Добродетель есть сила действовать исключительно в соответствии с собственной истинной природой. Степень (или величина) добродетели соответствует степени устремленности человека к утверждению собственного бытия и силе, с какой он способен делать это. Ни одну добродетель нельзя понимать как первичную в отношении к стремлению сохранить собственное бытие (IV. 22). Самоутверждение — это, так сказать, добродетель вообще. Но самоутверждение есть утверждение сущностного бытия, а знание о сущностном бытии дается через посредство разума — силы составлять истинные представления, присущей душе. Поэтому совершать поступок, непосредственно исходя из добродетели, означает то же, что поступать под руководством разума, или же утверждать свое сущностное бытие или истинную природу (IV, prop; 24).
На этой основе объясняется связь мужества и самоутверждения. Спиноза использует два термина: fortitudo и animositas. Fortitudo (как и в схоластической терминологии) — это твердость души, ее сила быть тем, чем она является в своей сущности. Animositas (от anima — душа) — это мужество в смысле общего поведения человека. Его определение таково: «под мужеством я понимаю желание (cupiditas), с которым каждый человек стремиться сохранить собственное бытие, руководствуясь исключительно указаниями разума» (III, 59). Такое определение приводит к еще одной идентификации: к отождествлению мужества с добродетелью вообще. Но Спиноза различает animositas и generositas — желание соединиться с другими людьми в дружбе и 2·
20
взаимной поддержке. Такая двойственность иногда всеобъемлющего, а иногда ограниченного представлений мужества отвечает всему развитию идеи мужества, о котором мы уже говорили. В столь систематичной, строгой и стройной философии, какой является философия Спинозы, факт этой двойственности поражает: он демонстрирует два познавательных мотива, которые всегда определяли учение о мужестве, — универсально-онтологический и конкретно-нравственный. Это имеет весьма важное значение для решения одной из труднейших этических проблем — соотношение между самоутверждением и любовью к другим. Для Спинозы второе следует из первого. Поскольку добродетель и сила самоутверждения совпадают и поскольку щедрость есть акт выхода к другим в порыве благожелательности, ни о каком конфликте самоутверждения и любви не приходится думать. Здесь, естественно, предполагается, что самоутверждение не просто отлично от эгоизма, но прямо противоположно ему как негативному нравственному качеству. Самоутверждение — онтологический антипод «подавлению (редукции) бытия») под воздействием страстей, противоречащих сущностной природе человека. Эрих Фромм глубоко выразил мысль о том, что истинное себялюбие и истинная любовь к другим взаимозависимы и столь же взаимозависимы эгоизм и пренебрежение к другим. Учение Спинозы о самоутверждении включает в себя истинное себялюбие (хотя он этого термина не использует, да и сам я употребляю его не без колебаний) и истинную любовь к другим.
Самоутверждение, согласно Спинозе, есть причастность к божественному самоутверждению. «Сила, с которой всякий отдельный предмет, а значит и человек, сохраняет свое бытие, есть сила Бога» (IV, 4). Причастность души к божественной силе описывается в терминах «знания» и «любви». Если душа познает себя «sub aetemitatis specie» (с точки зрения вечности) (V, prop. 30), то она познает свое бытие в Боге. И это знание Бога и своего бытия в Боге есть причина совершенного блаженства и, следовательно, совершенной любви к Причине этого блаженства. Любовь эта духовная (intellectualis), ибо она вечна; это особая любовь, свободная от страстей, порожденных телесным существованием (V, 34). Это — участие в бесконечной духовной любви, посредством которой созерцает и любит Себя Бог, и, любя Себя, любит все, что принадлежит Ему, т. е. человека. Эти утверждения разрешают, наконец, два вопроса о природе мужества, которые до сих пор оставались без ответа. Они объясняют, почему самоутверждение составляет сущностную природу всякого бытия и тем самым его высшее благо. Совершенное самоутверждение — не изолированный акт, коренящийся в индивидуальном бытии, но соучастие в универсальном или божественном акте самоутверждения, который есть сила, порождающая всякий индивидуальный акт. В этой мысли онтология мужества
21
достигла своего глубочайшего выражения. Кроме того, был найден ответ и на второй вопрос: о силе, которая дает возможность победить желание и страх. Стоики не знали ответа на этот вопрос. Спиноза, наследник еврейского мистицизма, отвечает на него идеей соучастия. Он знает, что страсть можно победить лишь другой страстью; он знает также, что единственная страсть, которая может одержать верх над чувственными страстями, — это страсть ума, духовная или интеллектуальная любовь души к своей вечной основе. Эта страсть — выражение соучастия души в Божественной любви к Себе. Мужество быть возможно потому, что оно есть соучастие в самоутверждении бытия как такового.
Один вопрос, тем не менее, остается без ответа у Спинозы, как и у стоиков. Это вопрос, который сам Спиноза формулирует в конце «Этики». Почему, спрашивает он, этим путем спасения (salus), описанным им, почти все пренебрегают? Потому что он труден, а значит, встречается редко, как все возвышенное, — меланхолически отвечает Спиноза в последней фразе своей книги. Таков же был ответ стоиков, но то был ответ не спасения, а отречения.
МУЖЕСТВО И ЖИЗНЬ: НИЦШЕ
Спинозовская идея «самосохранения» (как и понятие «самоутверждения») в онтологической перспективе вызывает важный вопрос: что означает «самоутверждение» там, где Я отсутствует, — например, в неживой природе или в бесконечной субстанции, в бытии как таковом? Не является ли аргументом против онтологического характера мужества тот факт, что о мужестве невозможно говорить применительно к широчайшим областям реальности и, следовательно, к самой сути этой реальности в ее целом? Не является ли мужество чисто человеческим качеством, которое даже к высшим животным может быть отнесено разве что по аналогии, а не в собственном смысле? И не служит ли это решающим доводом в пользу этического, а не онтологического понимания мужества? Подобный аргумент напоминает аналогичные возражения против многих, более метафизических, понятий в истории человеческой мысли: «мировая душа», «микрокосм», «инстинкт», «воля к власти» и т. п. Они вызывают возражения на том основании, что вносят субъективное начало в объективный мир вещей. Однако обвинения эти ложны. Они свидетельствуют о том, что те, кто их выдвигает, не схватывают смысла онтологических понятий. Задача онтологических понятий — не в том, чтобы описать онтологическую природу реальности в терминах субъективного или объективного аспекта нашего обыденного опыта. Функция всякого онтологического
22
понятия состоит в следующем: оно должно использовать некоторую область этого опыта для обозначения свойств бытия как такового, которое располагается выше раздвоения на субъективное и объективное и поэтому не может быть выражено буквально в терминах, заимствованных из объективной или субъективной области. Онтология говорит переносными смыслами, по аналогии. Бытие как таковое превосходит субъективность и объективность. Но, чтобы посредством познания приблизиться к нему, мы вынуждены использовать и то, и другое. И мы должны поступать подобным образом, ибо каждая из этих сфер укоренена в том, что их превосходит, т. е. в бытии как таковом, запредельном полярности субъективного и объективного. В свете этих соображений и следует рассматривать указанные онтологические понятия. Их следует понимать не буквально, а по аналогии. Это не означает, что их можно создавать произвольно и с легкостью заменять другими. Их выбор — дело опыта и мысли; он подсуден некоторым критериям, определяющим адекватность или неадекватность каждого из них. Все это верно и по отношению к таким понятиям, как самосохранение или самоутверждение, взятым в онтологическом смысле. Это верно относительно любого раздела онтологии мужества.
И самоутверждение, и самосохранение логически предполагают преодоление чего-то такого, что (по крайней мере потенциально) угрожает Я или отрицает его. Ни стоицизм, ни неостоицизм не находят объяснения для этого «нечто», хотя оба они признают его присутствие. В случае Спинозы такой негативный элемент кажется вообще необъяснимым в рамках его системы. Если все с необходимостью следует из природы вечной субстанции, то никакое существо не должно иметь силы угрожать самосохранению другого существа. Все вещи будут тем, что они есть, а утверждение себя станет лишь неким крайним способом выражения для обозначения простого тождества предмета самому себе, Но, конечно, Спиноза думает совершенно иначе. Он говорит о реальной угрозе, больше того, о том, что, по его опыту, изза нее погибает множество людей. Он говорит об «усилии ради» (conatus) и «силе» (potentia) самореализации. Хотя эти слова не следует принимать буквально, их нельзя отбросить как вовсе бессмысленные. Понимать их нужно аналогически. Начиная с Платона и Аристотеля, понятие силы играет важную роль в онтологической мысли. Такие термины, как δύναμις, potentia (Лейбниц) в качестве характеристики истинной природы бытия, готовили путь ницшеанской «воле к власти». То же относится и к термину «воля», относимому к первичной реальности начиная с Августина и Дунса Скота до Беме, Шеллинга и I Шопенгауэра. Ницшеанская «Воля к власти» объединяет оба термина, которые следует понимать в свете их онтологического значения. Неким парадоксальным образом можно утверждать, что «воля к власти»
23
Ницше — не есть воля и не есть власть, т. е, не «воля» в психологическом смысле и не «власть» в социологическом смысле. «Воля к власти» обозначает самоутверждение жизни как жизни, включающее самосохранение и рост. Таким образом, воля не стремится ни к чему такому, чего в ней нет, к какому-либо внешнему объекту, Она хочет самой себя — в двойном смысле: она хочет сохранить и превзойти себя. Это и есть ее власть, среди прочего — и ее власть над собой. Воля к власти есть самоутверждение воли как высшей реальности,
Ницше — наиболее яркий и сильный представитель того, что можно было бы назвать «философией жизни». «Жизнь» в этой терминологии означает процесс, посредством которою осуществляет себя сила бытия. Но, осуществляясь, она побеждает нечто такое, что, хотя и принадлежит ей, в ней самой есть отрицание жизни. Можно назвать это нечто «волей, сопротивляющейся воле к власти». В своем «Заратустре», в главе «О проповедниках смерти» Ницше называет разные способы, с помощью которых жизнь подвергается искушению признать собственное отрицание: «они встречают калеку, или старика, или труп — и говорят: жизнь опровергнута! Но опровергнуты они сами и их глаза, видящие только одну сторону существования». У жизни много сторон, она двусмысленна, Ярче всего Нищие изобразил ее переменчивую многозначность в последнем фрагменте книги «Воля к власти». Мужество есть сила жизни утверждать себя вопреки собственной двусмысленности, тогда как отрицание жизни на основании ее отрицательности есть выражение трусости. Исходя из этого Ницше создал свою пророческую проповедь и философию мужества — противоборствуя надвигающейся посредственности и упадку жизни в грядущей эпохе, которую он предчувствовал.
Как и древние философы, Ницше «Заратустры» считает воина (которого он отличает от простого солдата) лучшим образцом мужества, «Что есть благо, спросите вы? Быть смелым — вот что благо; не искать долгой жизни, не желать себе пощады — и все это единственно из любви к жизни. Смерть воина и зрелого мужа не должна быть укором земле. Самоутверждение есть утверждение жизни — но и смерти, которая этой жизни принадлежит» (гл. «О войне и воинах»).
Итак, добродетель для Ницше — как и для Спинозы — есть самоутверждение. В главе «О Добродетельных» Ницше пишет: «Ваше любимейшее Я — вот ваша добродетель. Есть в вас жажда кольца: догнать себя стремится кольцо — и смыкается с собой». Эта аналогия лучше всякого определения описывает значение самоутверждения и философии жизни. «Я» обладает собой, но в то же время стремится достичь себя. Здесь conatus Спинозы становится столь динамичным, что, говоря обобщенно, можно было бы утверждать, что Ницше есть как бы воспроизведение Спинозы в динамических терминах. «Жизнь»
24
Ницше замещает «субстанцию» Спинозы. Это можно сказать не только о Ницше, но и о большинстве «философов жизни». Истина добродетели заключается в том, что она несет в себе наше собственное Я, а не какой-то «внешний объект». «Да пребудет ваше истинное Я в вашем действии, как мать в своем ребенке, — пусть это будет вашим словом о добродетели!» (там же). Мужество есть добродетель в той мере, в какой оно есть утверждение Я.
Я, самоутверждение которого суть добродетель и мужество, есть Я, превзошедшее себя: «Тайну эту сама жизнь поведала мне. Смотри, сказала она, я — то, что должно непрестанно превосходить себя» (II, 34). Выделяя курсивом последние слова, Ницше указывает, что он здесь намерен дать определение самой сущности жизни. «...Так воистину жизнь жертвует собой — ради власти!» — продолжает он; по его мысли, самоутверждение включает самоотрицание — но не ради отрицания, а ради предельного утверждения, ради того, что он называет «властью». Жизнь создает и жизнь любит то, что она создала, но неизбежно обернется против всего этого: «Так хочет моя [т. е. Жизни] воля». Поэтому неверно говорить о «юле к существованию» или даже о «воле к жизни» — нужно говорить о «юле к власти», т. е. к большей жизни.
Жизнь, желающая превзойти себя саму, — правильная жизнь, а правильная жизнь есть смелая жизнь. Это жизнь «сильной души» и «ликующего тела», чье упоение собой есть добродетель (III, 54). Такая душа гонит «все трусливое, она говорит: дурно то, что трусливо». Но, чтобы достичь такого благородства, необходимо уметь подчиняться и повелевать, и, повелевая, подчиняться. Послушание, включенное в повелевание, противоположно покорности. Покорность есть трусость, которая не смеет рисковать. Покорное Я противоположно самоутверждаемому Я — даже если покорно оно Богу. Покорное Я хочет избежать муки причинять страдание и принимать страдание. Послушное же Я, напротив, — это Я, которое повелевает собой и «потому собой рискует» (II, 34). Повелевая собой, оно становится по отношению к самой себе и судьей, и подсудимым. Оно властвует собой по закону жизни — закону, повелевающему превзойти себя. Воля, повелевающая собой, есть творческая юля. Она создает целое из осколков и загадок жизни. Она не оглядывается, она отстраняется от нечистой совести, она отвергает «дух мести» — глубочайшую внутреннюю сущность самообвинения и сознания вины, она выходит в мир, запредельный примирению, ибо она есть юля к власти (II, 42). Поступая таким образом мужественное Я соединяется с самой жизнью и ее тайной (II, 34)·
Наш обзор ницшеанской онтологии можно завершить следующей цитатой: «Есть ли у вас мужество, братья?,. Не мужество при свидетелях, но мужество отшельника и орла, которых не видит уже и Бог?.. Тот имеет сердце в груди своей, кто знает страх, но побеждает его,
25
кто смотрит орлиными очами в бездну, кто орлиными когтями схватывает бездну, — тот имеет в себе мужество» (IV, 73, 4).
Эти слова раскрывают другую сторону Ницше, ту, где он предстает экзистенциалистом: мужество смотреть в бездну небытия в полном одиночестве человека, уже услышавшего весть: «Бог умер». К этой стороне ницшеанской мысли мы вернемся в последующих главах. Здесь же мы завершим наш исторический очерк, который, впрочем, не был задуман как история идеи мужества. Он преследовал двоякую цель: прежде всего показать, что в истории западной мысли, от платоновского «Лахета» до ницшеанского «Заратустры», онтологическая проблема мужества стимулирует философское творчество — отчасти потому, что нравственная природа мужества остается не проясняемой без его онтологической природы; и потому, что опыт мужества оказался прекрасным ключом для онтологического рассмотрения реальности. Кроме того, исторический очерк должен в конечном счете представить тот концептуальный материал, который необходим для систематического изучения проблемы мужества — главным образом концепции онтологического самоутверждения в его глубинном значении и разных вариантов этой концепции.
26
ГЛАВА 2
БЫТИЕ, НЕБЫТИЕ И ТРЕВОГА
ОНТОЛОГИЯ ТРЕВОГИ
СМЫСЛ НЕБЫТИЯ
Мужество есть самоутверждение «несмотря на», т. е. вопреки тому, что стремится не дать Я утвердить себя. В отличие от стоических и неостоических учений о мужестве, различные «философии жизни» серьезно и утвердительно обратились к тому, чему противостоит мужество. Ибо если бытие понимается в терминах «жизни» или «процесса становления», то онтологически небытие —; такая же первичная реальность, как и бытие. Признание этого факта еще не влечет за собой решения о приоритете небытия над бытием, — но он требует введения небытия в самое основание онтологического рассмотрения. Говоря о мужестве как ключе к пониманию бытия как такового, можно сказать, что этот ключ, открывая дверь в бытие, обнаруживает одновременно и бытие, и отрицание бытия, и их единство.
Небытие — одно из самых трудных и спорных понятий. Парменид пытался устранить его вообще. Но для этого ему пришлось принести в жертву и «жизнь». Демокрит восстановил «небытие» и отождествил его с пустым пространством — с тем, чтобы сделать мыслимым движение. Платон использовал понятие небытия, поскольку без него контраст «существования» и «чистых сущностей» совершенно необъясним. Его предполагает и аристотелевское различение материи и формы. Плотину оно дало возможность описать утрату человеческой душой самосознания, и Августину — онтологически толковать грех. У Псевдо-Дионисия Ареопагита небытие стало основой мистического учения о Боге. Якову Беме, протестантскому' мистику и «философу жизни», принадлежит классическое высказывание о том, что все вещи уходят корнями в ДА и НЕТ. В учении Лейбница о конечности и зле, как и в кантовском анализе конечных категорий, небытие подразумевается, Диалектика Гегеля сделала отрицание движущей силой природы и истории, а «философы жизни», начиная с Шеллинга и Шопенгауэра, делают «волю» основной онтологической категорией, поскольку она обладает силой отрицать себя, не утрачивая себя при этом. Понятия «процесса» и «становления» у таких философов, как Бергсон и Уайтхэд, имплицируют небытие наравне с бытием. Современные экзистенциалисты, особенно Хайдеггер и Сартр, поместили небытие (das Nichts, le néant) в самый центр своей онтологической мысли, а Бердяев — последователь и Дионисия, и Беме, — развил онтологию небытия, учитывающую небытийную (mé-ontique) свободу в
27
Боге и в человеке. Эти философские способы обращения с идеей небытия можно увидеть на фоне религиозного переживания преходящести всего тварного и силы «демонического» начала в человеческой душе и в истории. В библейской религии этим отрицательным началам принадлежит решающее место, несмотря на учение о Творении. И демонический, антибожественный принцип, который каким-то образом участвует в силе Божества, проявляется в самых драматических эпизодах библейского повествования.
Ввиду всего этого не так уж важно, что некоторые логики не признают за небытием понятийного характера и пытаются убрать его с философской сцены, оставив за ним лишь форму отрицательных суждений. Ибо вопрос стоит так: о чем же свидетельствует факт отрицательного суждения о характере бытия? Что составляет онтологическую основу отрицательного суждения? Что представляет собой область, в которой возможны отрицательные суждения? Несомненно, небытие — не такое понятие, как все прочие. Оно есть отрицание всякого понятия, но в качестве такового оно с неизбежностью становится достоянием мысли и, как показала история, наиболее существенным, после бытия как такового, понятием.
Если поставить вопрос об отношениях бытия и небытия, то ответить можно только метафорически: бытие «объемлет» и себя, и небытие. Бытие имеет небытие «внутри» себя как нечто такое, что вечно присутствует и вечно преодолевается в процессе Божественной жизни. Основа всего сущего предстает, таким образом, не как мертвое тождество, не знающее движения и становления, — это живая созидательность. Она творчески утверждает себя, вечно побеждая собственное небытие. И в этом она являет образец самоутверждения для всякого конечного бытия и источник мужества быть.
Мужество обыкновенно описывают как силу духа преодолевать страх. Смысл страха кажется настолько очевидным, что не требует изучения. Но в последние десятилетия психология подсознательного в сотрудничестве с экзистенциальной философией пришла к разграничению страха и тревоги и более отчетливому определению каждого из этих понятий. Новейший социологический анализ показал важное значение тревоги как группового феномена. Литература и искусство сделали тревогу главной темой своих творений — ив области содержания, и в области стиля. Результатом всего этого стало (по крайней мере у образованных слоев) начало сознавания собственной тревоги; идеи и символы тревоги наполнили сознание эпохи. Сегодня стало почти тривиальным называть наше время «веком тревоги». И это в равной мере относится и к Америке, и к Европе.
Тем не менее онтология мужества должна включать в себя онтологию тревоги, поскольку они взаимосвязаны. И вероятно, именно в свете
28
онтологии мужества могут проясниться некоторые фундаментальные аспекты тревоги. Первое утверждение о природе тревоги таково: тревога есть такое состояние, в котором существо сознает возможность собственного небытия. Или, передавая тот же смысл короче, тревога есть экзистенциальное осознание небытия. «Экзистенциальное» — здесь означает: тревогу вызывает не абстрактное знание о небытии, а сознавание того, что небытие входит в наше собственное бытие. Не просто понимание бренности всего сущего, ни даже опыт переживания чужой смерти, но воздействие, которое эти события оказывают на вечно таящееся внутри нас знание о неизбежности нашей собственной смерти, — вот что рождает тревогу. Тревога — это конечность, пережитая как собственная конечность. Эта тревога присуща человеку по самой его природе, а некоторым образом — и всякому живому существу. Это тревога небытия, сознавание собственной конечности как конечности.
ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ СТРАХА И ТРЕВОГИ
Тревога и страх имеют общий онтологический корень, но в реальности они — разные вещи. Эту общеизвестную мысль так утрируют, что возникает обратная реакция, которая может уничтожить не только преувеличение, но и саму истину такого различения. Страх, в противоположность тревоге, имеет определенный объект (в чем сходится большинство авторов), который можно открыто увидеть, анализировать, атаковать, терпеть. Против него можно предпринимать какие-то действия и тем самым как-то участвовать в нем — хотя бы в форме борьбы. Таким образом, его можно включить в самоутверждение. Мужество может противостоять любому объекту страха, ибо это объект — и значит, участие возможно. Мужество может включать страх, вызванный определенным объектом, потому что этот объект, как бы ужасен он ни был, какой-то стороной участвует в нас, а мы в нем. Можно сказать так: поскольку у страха есть объект, постольку и любовь, в смысле участия, может победить страх.
Но с тревогой дело обстоит иначе, потому что у тревоги нет объекта, или, говоря парадоксально, ее объект составляет отрицание всякого объекта. Поэтому участие, борьба и любовь в отношении ее невозможны. Охваченный тревогой остается с ней — если это чистая тревога — один на один, без всякой помощи. Эта беспомощность в состоянии тревоги наблюдается и у животных, и у человека. Она выражается в потере ориентации, в неправильных реакциях, в отсутствии интенциональности — «преднамеренности» (интенциональность предполагает существование, соотнесенное со смысловым содержанием знания или воли).
29
Причина этого порой поразительного поведения — отсутствие объекта, на котором охваченный тревогой субъект может сконцентрироваться. Единственным объектом остается сама угроза, ибо источник этой угрозы — «ничто».
Можно спросить: не представляет ли собой это угрожающее «ничто» просто неизвестную, неопределенную возможность действительной опасности? Не исчезнет ли тревога в тот самый момент, когда какой-то объект страха появится? В таком случае тревога была бы страхом неизвестного. Однако такое объяснение тревоги не удовлетворяет. Ведь существуют бесчисленные области неизвестного, различные для каждого субъекта, встреча с которыми не вызывает никакой тревоги. Тревогу рождает встреча с неизвестным совершенно особого рода. Это неизвестное, которое по самой своей сути не может стать известно, ибо оно есть небытие.
Страх и тревога различны, но не разделимы. Они имманентны друг другу: самое жало страха есть тревога и тревога стремится разрешиться в страх. Испытывать страх — означает бояться чего-то: бояться боли, бояться быть отвергнутым (человеком или группой людей), потерять что-то или кого-то, бояться момента смерти. Но в предчувствии угрозы, порожденной всем этим, пугает не то отрицательное, что они принесут субъекту; тревога относится к возможным последствиям этого отрицательного. Лучший пример этому (впрочем, более чем пример) — страх смерти. Поскольку это страх, он имеет свой объект: ожидаемое событие смерти (быть убитым, умереть от болезни или от несчастного случая), т. е. это страх мучительной агонии и полной утраты всего. Но, поскольку это тревога, ее объектом является абсолютно неизвестное «после смерти»; небытие, которое остается небытием, даже если его заполняют образы наших нынешних переживаний. Сны из гамлетовского монолога «Быть иль не быть» (что с нами будет после смерти и что всех нас делает трусами) — ужасают не своим явным содержанием, а той силой, с которой в них символизируется угроза небытия, «вечная смерть» на языке религии. Символы Дантова «Ада» вызывают тревогу не самой своей образностью, но тем, что они выражают «небытие», сила которого переживается в тревоге вины. Каждую из ситуаций, описанных в «Inferno», можно было бы мужественно встретить опираясь на участие и любовь. Но суть как раз в том, что это невозможно. Другими словами, это не реальные ситуации, а символы «беспредметности», небытия.
Страх смерти определяет присутствие тревоги в любом страхе. Тревога, не искаженная страхом какого-то объекта, тревога в своем неприкрытом виде всегда есть тревога последнего, окончательного небытия. На первый взгляд, тревога есть болезненное чувство неспособности справиться с угрозой какой-то особой ситуации. Но более внимательный
30
анализ показывает, что в тревоге по поводу любой конкретной ситуации неизменно заключена тревога по поводу человеческой ситуации как таковой. Именно тревога, сознание своей неспособности сохранить собственное бытие, лежит в глубине всякого страха и составляет в нем тот элемент, который, собственно, и внушает страх. Поэтому в моменты, когда неприкрытая тревога охватывает ум, прежние объекты страха перестают быть определенными объектами, теряют свою объективность. Они являют то, чем отчасти сами были всегда: симптомы глубинной человеческой тревоги. И в качестве таковых они оказываются за пределами досягаемости даже для самого мужественного сопротивления.
Эта ситуация вынуждает того, кто испытывает тревогу, искать и устанавливать объект страха. Тревога стремится стать страхом, ибо страх можно встретить мужественно. Конечное существо не может устоять перед неприкрытой тревогой больше, чем на мгновение. Все, кто пережил такие мгновения, — как, например, некоторые мистики, созерцавшие «ночь души», или Лютер, впавший в отчаяние от нападок дьявола, или Ницше-Заратустра, испытавший «величайшее отвращение», — сообщают об их невообразимом ужасе. Обычно от этого ужаса бегут, преобразуя тревогу в страх — страх чего-нибудь, неважно чего. Человеческий ум — не только вечная кузница идолов, как сказал Кальвин, но и вечная кузница страхов·, он кует их для того, чтобы, во-первых, избежать Бога и, во-вторых, чтобы избежать тревоги, — причем два эти рода страхов связаны. Ибо воочию увидеть Бога (истинного Бога) означает воочию увидеть абсолютную угрозу небытия. «Неприкрытый абсолют» (используя выражение Лютера) производит неприкрытую тревогу, ибо Он есть исчезновение всякого конечного самоутверждения, а не просто возможный объект страха и мужества (см. выше, гл. 5 и 6). Однако в конечном счете попытки преобразовать тревогу в страх тщетны. Глубинную тревогу, тревогу конечного существа в связи с угрозой небытия, нельзя уничтожить. Она принадлежит самому существованию.
ТИПЫ ТРЕВОГИ
ТРИ ТИПА ТРЕВОГИ И ПРИРОДА ЧЕЛОВЕКА
Небытие зависит от бытия, которое оно отрицает. «Зависит» значит здесь две вещи. Во-первых, это значит, что онтологически бытие предшествует небытию. В самом термине «небытие» есть указание на его вторичность. И логически это необходимо. Отрицание невозможно, если ему не предшествовало какое-то утверждение, которое подлежит отрицанию. Несомненно, можно описать бытие в терминах небытия и
31
обосновать такое описание указав на удивительный «дорациональный» факт: есть нечто, а не ничто. Можно было бы сказать: бытие есть отрицание исконной ночи «ничто». Но, утверждая так, необходимо отдавать себе отчет в том, что такое первобытное «ничто» не было бы ни «ничто», ни «нечто»; что «ничем» оно становится только по контрасту с «чем-то». Другими словами, онтологический статус небытия как такового зависит от бытия. Во-вторых, небытие зависит и от частных свойств бытия. В самом себе небытие не содержит никакого качества и никакого различия качества. Оно приобретает их в своем отношении к бытию. Характер отрицания бытия определяется тем, что в бытии отрицается. Это и позволяет говорить о «свойствах» небытия и, следовательно, о типах тревоги.
До сих пор мы использовали термин «небытие» недифференцировано. Но при рассмотрении мужества речь заходила о разных формах самоутверждения. Эти формы соответствуют разным формам тревоги и могут быть поняты лишь в связи с ними. Я предлагаю различать три типа тревоги — в соответствии с тремя направлениями, по которым небытие угрожает бытию.
Небытие угрожает онтологическому самоутверждению человека: относительно — как судьба, абсолютно — как смерть. Оно угрожает духовному самоутверждению человека: относительно — как пустота, абсолютно — как бессмысленность. Оно угрожает моральному самоутверждению человека: относительно — как вина, абсолютно — как осуждение (проклятие). Осознание этой тройственной угрозы и есть тревога, проявляющаяся в трех формах: тревога судьбы и смерти, тревога пустоты и бессмысленности, тревога вины и осуждения. Во всех трех формах тревога экзистенциальна в том смысле, что она принадлежит существованию как таковому, а не патологическому состоянию сознания, как при невротической (и психотической) тревоге. Природу невротической тревоги и ее связь с экзистенциальной тревогой мы рассмотрим в следующей главе. Здесь нашим предметом будут три формы экзистенциальной тревоги: прежде всего их реальность в жизни отдельного человека и затем — их социальные манифестации в разные эпохи западной истории. Все же нужно отметить, что разграничение этих трех типов тревоги не означает, что они взаимно исключают друг друга. В первой главе мы видели, например, что мужество древних стоиков побеждает не только страх смерти, но и угрозу бессмысленности. У Ницше, несмотря на преобладание угрозы бессмысленности, мы найдем страстный вызов тревоге смерти и осуждения. Все представители классического христианства видят в смерти и грехе объединенных врагов, с которыми должно сражаться мужество веры. Все три формы тревоги (и, следовательно, мужества) внутренне соприсущи друг другу, но обычно одна из них преобладает.
32
ТРЕВОГА СУДЬБЫ И СМЕРТИ
Судьба и смерть — это то, чём небытие угрожает нашему оптическому самоутверждению. «Онтическое» Сот греческого — ὤν — сущий) означает здесь основополагающие самоутверждение бытия в его простом существовании (онто-логия — философский анализ природы бытия). Тревога судьбы и смерти — самая фундаментальная, самая всеобщая и неизбежная. Все попытки победить ее с помощью аргументации бесполезны. Даже если бы так называемые «аргументы» в пользу «бессмертия души» имели доказательную силу (которой они на самом деле не имеют), они не убеждали бы экзистенциально. Ибо экзистенциально каждый сознает, что биологическая смерть предполагает полную утрату Я. Неискушенное сознание инстинктивно знает то, что формулирует изощренная онтология: фундаментальная структура реальности заключена во взаимной связи Я и мира: и с исчезновением одной стороны — мира — исчезает и другая сторона — Я; а то, что остается, так это их общее основание, а не структурная связь. Было замечено, что тревога смерти растет с ростом индивидуализации и что в коллективистских культурах люди меньше открыты для этого типа тревоги. Это наблюдение верно, но его объяснение — в коллективистских культурах нет фундаментального страха смерти — ошибочно. Отличие их от более индивидуализированных цивилизаций заключается в другом: в особом типе мужества, который характерен для коллективизма (см. выше, гл. 4) и способен, покуда он не поколеблем, ослабить тревогу смерти. Но самый факт, что это мужество создается целенаправленно, путем обширной и разнообразной активности, внутренней и внешней, психологической и ритуальной, при помощи разного рода символик, — говорит о том, что глубинную тревогу приходится преодолевать даже в коллективизме. Без хотя бы потенциального ее присутствия в этих обществах были бы необъяснимы ни войны, ни Уголовный кодекс. Не будь страха смерти, угроза со стороны закона или более сильного врага оставалась бы без последствий — чего, как известно, не происходит. Человек, поскольку он человек, в любой цивилизации обладает тревожным сознанием угрозы небытия и нуждается в мужестве, чтобы утверждать себя вопреки ей.
Тревога смерти — это тот постоянный горизонт, на фоне которого работает тревога судьбы. Ибо угроза бытийному самоутверждению человека — это не только абсолютная угроза смерти, но и относительная угроза судьбы. Безусловно, тревога смерти затмевает все конкретные тревоги и сообщает им крайнюю серьезность. Тем не менее они обладают определенной независимостью и, как правило, оказывают более непосредственное воздействие, чем тревога смерти. Термин «судьба», охватывающий целую группу тревог, подчеркивает один общий для
33
них элемент: случайность, непредсказуемость, невозможность определить смысл и цель. Можно описать это в категориальных структурах нашего опыта. Можно показать случайность нашего временного бытия: случайность того, что мы живем именно в этот, а не в какой-то иной отрезок времени, начавшийся в случайный момент, заканчивающийся в случайный момент, заполненный переживаниями, которые сами по себе случайны — ив своем качестве, и в количестве. Можно показать случайность нашего пространственного бытия (случайность того, что мы находимся именно в этом, а не в другом месте, и то, что место это нам чуждо, несмотря на все наше знакомство с ним), случайный характер нас самих и той точки, с которой мы видим наш мир; случайный характер той реальности, которую мы созерцаем. Все это могло быть иным; в этом его случайность и в этом причина нашей тревоги о собственном пространственном существовании. Можно показать и случайность причинной зависимости, в которую мы включены в отношении к прошлому и настоящему; случайность превратностей, приходящих из нашего мира, случайность сил, скрытых в глубине нашего Я. «Случайный» не означает здесь «произвольный», «причинно необусловленный»; этот термин означает, что причины, обуславливающие наше существование, не обладают абсолютной необходимостью. Они заданы — и поэтому не могут быть выведены логически. Случайно мы помещены во всю эту сеть причинных отношений; случайным образом они определяют каждый наш момент и так же случайно в наш последний момент отбрасывают нас.
Судьба — это закон случайностей, и тревога судьбы основана на том, что конечное бытие сознает собственную случайность во всех отношениях и отсутствие абсолютной необходимости в себе. Судьба обычно отождествляется с необходимостью — в смысле неизбежной причинной предопределенности. Однако не причинная необходимость делает судьбу предметом тревоги, но отсутствие абсолютной необходимости, иррациональность, непроницаемая тьма судьбы.
Угроза небытия бытийному самоутверждению человека абсолютна в угрозе смерти и относительна в угрозе судьбы. Но относительная угроза — угроза лишь постольку, поскольку за ней стоит угроза абсолютная. Судьба не рождала бы безысходной тревоги, если бы за нею не стояла смерть. И смерть стоит за судьбой и ее превратностями, и не только в последний момент, когда человек отбрасывается из существования, но в каждый момент существования. Небытие вездесуще: оно рождает угрозу и там, где непосредственной угрозы смерти нет. Оно стоит за всем нашим опытом, который гонит нас — со всем прочим — из прошлого в будущее, и нет момента, который не исчезал бы мгновенно и бесследно. Оно стоит за неуверенностью и бездомностью нашей социальной и личной жизни, оно стоит за всем, что подрывает
34
жизненную силу, телесную и душевную, — за слабостью, за болезнью, за несчастными случаями. Судьба осуществляет себя во всех этих формах — и через них завладевает нами тревога небытия. Мы пытаемся преобразовать тревогу в страх, чтобы мужественно встретить объекты, в которых может воплотиться угроза. Отчасти это нам удается, но все же мы каким-то образом сознаем, что вовсе не эти объекты, с которыми мы боремся, рождают тревогу, а само положение человека. И возникает вопрос: мужество быть — не есть ли оно мужество утверждать самого себя вопреки угрозе, которая нависла над оптическим самоутверждением человека?
ТРЕВОГА ПУСТОТЫ И БЕССМЫСЛЕННОСТИ
Небытие угрожает человеку в его цельности; потому оно угрожает и онтическому и духовному его самоутверждению. Духовное самоутверждение осуществляется в каждый момент, когда человек живет творчески в различных областях смысла. «Творчество» в этом контексте означает не то самобытное творчество — удел гения, но живую непосредственность поступков и реакций человека, причастного к содержанию культурной жизни. Чтобы осуществлять духовное творчество, не требуется способностей художника, ученого, государственного деятеля, но необходима способность осмысленно участвовать в их творчестве. Участие — творческая активность постольку, поскольку оно (хотя бы в самой малой мере) изменяет то, в чём участвует. Творческое преобразование языка во взаимосвязанной работе творца (поэта или прозаика) и того множества людей, на которых он прямо или косвенно влияет и которые непосредственно отвечают ему, — лучший пример такого творчества. Каждый, кто творчески живет в смыслах, утверждает себя как участника этих смыслов. Он утверждает себя в творческом восприятии и преобразовании реальности. Он любит себя как участника духовной жизни и как того, кто любит ее смыслы Он любит их потому, что в них его собственное осуществление, — и потому, что они реализуются через него. Ученый любит истину, которую открывает, и любит себя — открывающего ее. Его захватывает содержание собственного открытия. Вот что можно назвать «духовным самоутверждением». И если даже человек не совершил открытия, а только участвовал в нем — это тоже духовное самоутверждение.
Такое переживание предполагает, что за духовной жизнью признается самый серьезный статус, что она есть дело крайней важности, а это, в свою очередь, предполагает, что в ней и через нее открывается некоторая высшая (ultimate) реальность. Духовной жизни, в которой нет этого переживания, угрожает небытие в тех его двух формах, в
35
которых оно сопротивляется духовному самоутверждению — в формах пустоты и бессмысленности.
Термином «бессмысленность» мы обозначаем абсолютную угрозу небытия духовному самоутверждению, а термином «пустота» — угрозу относительную. Они соотносятся между собой иначе, чем смерть и судьба. Однако в глубине пустоты лежит бессмысленность, как смерть лежит в глубине превратностей судьбы.
Тревога бессмысленности — это тревога по поводу утраты высшего значения, такого смысла, который сообщает смысл всем смыслам. Эта тревога возникает при утрате духовного центра какого-то ответа (хотя бы символического и косвенного) на вопрос о смысле существования.
Тревога пустоты возникает вследствие угрозы небытия особому содержанию духовной жизни. Вера рушится под действием внешних событий или внутренних процессов: человек отсечен от творческого участия в культуре; он разочарован в том, что сам когда-то страстно утверждал; какая-то сила гонит его от увлеченности одним предметом к увлеченности другим дальше и дальше, ибо смысл покинул их и творческий Эрос превратился в безразличие или отвращение. Он стремится испробовать все, и ничто его не удовлетворяет. Содержание традиции, какой бы прекрасной, какой бы чтимой, какой бы любимой она некогда ни была, утрачивает силу удовлетворить нас сегодня. А современная культура и вовсе не способна дать такое удовлетворение. В тревоге мы отворачиваемся от всех конкретных содержаний и ищем единственного, предельного смысла — только затем, чтобы открыть: именно утрата духовного центра и обессмыслила все виды содержания духовной жизни. Но духовный центр нельзя создать преднамеренно, и сама такая попытка только усугубляет тревогу. Тревога пустоты ведет нас к бездне бессмысленности.
Пустота и утрата смысла суть выражения угрозы небытия духовной жизни. Эта угроза заключена в конечности человеческого существа, и реализуется она в отчуждении человека. Эту угрозу можно описать как сомнение, оказывающее творческое и разрушительное воздействие на духовную жизнь человека. Человек способен вопрошать, ибо он отделен от того, о чем вопрошает и в чем принимает участие. В каждом вопросе заключен элемент сомнения: сознание «необладания чем-то». При систематической постановке вопросов эффективно систематическое (типа картезианского) сомнение. Такой элемент сомнения — условие всякой духовной жизни. Угрозу для нее представляет не сомнение как метод или элемент, но тотальное сомнение. Когда сознание отсутствия поглощает сознание наличия, сомнение перестает быть методологическим приемом и становится экзистенциальным отчаянием. На пути к этой ситуации духовная жизнь пытается поддержать себя как можно дольше, цепляясь за все то, что пока еще не рухнуло, будь то
36
традиции, собственные убеждения или эмоциональные пристрастия. И если устранить сомнение невозможно, мы мужественно принимаем его, не отказываясь от своих убеждений. Мы берем на себя риск заблуждения и тревогу этого риска. Так мы избегаем крайней ситуации, пока она не становится неизбежной, и отчаяние в истине не достигает своей полноты.
Тогда человек ищет другого пути. Сомнение основано на отделении человека от целого, на отсутствии в нем причастности к всеобщему, на изоляции его индивидуального Я. И вот он пытается вырваться из этой ситуации, отождествить себя с чем-то сверхличностным, что трансцендентно отделенному состоянию индивида и его отношению к самому себе. Он отрекается от своей свободы спрашивать и отвечать самому — ради такой ситуации, где спрашивать вовсе не положено, а ответы на прежние вопросы ему предлагаются авторитарно. Чтобы избежать риска вопрошания и сомнения, он отказывается от права спрашивать и сомневаться. Он отказывается от себя самого, чтобы спасти свою духовную жизнь. Он «бежит от своей свободы» (Фромм), чтобы избавиться от тревоги бессмысленности. Отныне он не одинок ни в экзистенциальном сомнении, ни в отчаянии. Он «участвует в» — и участием утверждает содержание своей духовной жизни. Смысл спасен, но в жертву принесено Я. И, поскольку победа над сомнением была достигнута ценой жертвы, жертвы свободой Я, она оставляет след на вновь обретенной уверенности — фанатическую самоуверенность. Фанатизм — коррелят духовной капитуляции. Тревога, которую он, как ему представляется, победил, проявляется в той несоразмерной ярости, с какой он атакует несогласных; ведь в своем несогласии они обнаруживают те самые элементы духовной жизни фанатика, которые он вынужден в себе подавлять. Но поскольку он подавляет их в себе, он будет подавлять их в других. Собственная тревога вынуждает его преследовать инакомыслящих. Слабость фанатика в том, что тот, с кем он борется, имеет тайную власть над ним: по причине этой слабости он и его соратники в конце концов терпят поражение.
Не всегда именно личное сомнение подрывает и опустошает системы идей и ценностей. Это может произойти оттого, что сами они перестают быть понятными в своей первоначальной силе — способности выразить человеческую ситуацию и ответить на экзистенциальное человеческое вопрошание (в значительной степени это относится к вероучительным символам христианства). Или же они утрачивают свое значение из-за того, что актуальные условия нового периода настолько отличаются от современных созданию этого духовного содержания, что требуется новое творческое усилие. (Так, в целом, произошло с системой художественной выразительности накануне промышленной революции.)
37
Бытийное (онтическое) и духовное самоутверждение следует различать, но разделить их нельзя. Бытие человека включает в себя его отношение к смыслам. Он человек лишь постольку, поскольку понимает и формирует реальность Севой мир и самого себя) в соответствии со своими смыслами и ценностями. Бытие человека духовно даже в самых примитивных проявлениях самых примитивных из человеческих существ. В первой же осмысленной фразе потенциально присутствуют все богатства человеческой духовной жизни. Поэтому угроза духовному бытию человека есть угроза всему его бытию. Самое откровенное выражение этого факта — готовность человека скорее отказаться от собственного бытийного (онтического) существования, нежели пребывать в отчаянии пустоты и бессмысленности. Инстинкт смерти — не онтический, а духовный феномен, Фрейд отождествил эту реакцию на бессмысленность вечно действующего и вечно неудовлетворенного либидо с самой сущностью человеческой природы. Но это лишь выражение экзистенциального самоотчуждения и распада духовной жизни до состояния бессмысленности. Если, с другой стороны, бытийное (онтическое) самоутверждение ослаблено небытием, следствием этого может стать духовное безразличие и пустота, порождающие круг онтической и духовной негативности. Небытие угрожает с обеих сторон — с онтической и духовной; угрожая с одной стороны, оно угрожает и с другой.
ТРЕВОГА ВИНЫ И ОСУЖДЕНИЯ
Небытие угрожает и с третьей стороны: оно угрожает моральному самоутверждению человека. Бытие человека, онтическое и духовное, не только дано ему, оно с него спрашивается. Человек несет ответственность за собственное бытие; он призван отвечать на вопрос: что он сделал с собой. Тот, кто спрашивает, т. е. его судья, — он сам, и он же стоит перед своим судьей. Эта ситуация рождает тревогу, которая в относительном выражении есть тревога вины, а в абсолютном — тревога отвержения самого себя или осуждения. Человек по своей сущности является «конечной свободой», свободой не в смысле недетерминированности, а в смысле способности определить себя путем решений, принятых из центра своего бытия. Человек, как конечная свобода, свободен в пределах случайных обстоятельств своей конечности. Но в этих границах от него требуется, чтобы он преобразил себя в то, чём он призван стать, т. е. исполнить свое предназначение. Каждым актом морального самоутверждения человек содействует осуществлению своего предназначения, реализации того, чем он потенциально является. Задача этики — описать природу такой реализации на
38
языке философии и теологии. Но, как бы ни была сформулирована норма, человек наделен силой сопротивляться ей, противоречить собственному сущностному бытию, утратить свое предназначение. В условиях отчуждения человека от самого себя это и происходит. Даже к тому, что человек считает лучшими своими деяниями, примешано небытие; оно не позволяет им стать окончательно совершенными. Глубинная неопределенность добра и зла пронизывает все, что он делает, потому что она пронизывает само его личное бытие. Небытие смешивается с бытием в его моральном самоутверждении так же, как духовном и оптическом. Осознание этой неопределенности и есть чувство вины. Судья, стоящий перед нами (а это мы сами), — тот, кто вместе-знает, с-вест (совесть) все, что мы есть и что творим, — выносит обвинительный приговор, который мы и переживаем как вину. Тревога вины так же сложна, как тревога оптического или духовного небытия. Она присутствует в каждом моменте морального самосознания и может привести к полному отвержению себя, к чувству осужденности (не в смысле внешнего наказания), к отчаянию из-за утраты собственного предназначения,
Чтобы избежать этой крайней ситуации, человек пытается преобразовать тревогу вины в нравственное действие — независимо от его несовершенства и неопределенности. Он мужественно принимает небытие в свое моральное самоутверждение. Это может произойти двумя путями — в связи с двойственностью трагического и личного в человеческой ситуации (трагическое связано с иррациональностью судьбы, личное — с ответственностью свободы). Первый путь состоит в простом игнорировании обвинительного приговора и тех моральных требований, на которых он основан. Второй путь ведет к моральному ригоризму и вытекающему из него самодовольству. В глубине и того, и другого (обычно их называют принципом аномизма [беззаконности] и принципом легализма [законности]) лежит тревога вины, которая время от времени прорывается наружу, провоцируя ситуацию крайнего морального отчаяния.
Моральное небытие различается от оптического и духовного, хотя и неотделимо от них. Тревога одного типа со-присуща другим. Знаменитые слова апостола Павла — «грех — жало смерти» — открывают имманентность тревоги вины страху смерти. А угроза судьбы и смерти всегда пробуждает и усиливает сознание вины. Угроза морального небытия переживается в угрозе небытия оптического, и через него. Превратности судьбы получают моральное толкование: судьба приводит в исполнение обвинительный моральный приговор — поражая и даже разрушая бытийные (оптические) основания морально отвергнутой личности. Обе формы тревоги вызывают и усиливают друг друга. Но таким же образом взаимосвязаны духовное и моральное небытия. Повиновение нравственным нормам, т. е. своему сущностному бытию, исключает
39
пустоту и бессмысленность в их крайних формах. Если духовное содержание утратило силу, тогда нравственное самоутверждение оказывается тем путем, на котором можно вернуть себе смысл. От пустоты может спасти простое напоминание о долге, тогда как распад морального сознания почти непоправимо разоружает человека перед вторжением духовного небытия. С другой стороны, экзистенциальное сомнение способно подорвать моральное самоутверждение сталкивая в бездну скептицизма не только все моральные принципы, но и самый смысл морального самоутверждения. В этом случае сомнение переживается как вина, а саму вину в то же время подрывает сомнение.
ЗНАЧЕНИЕ ОТЧАЯНИЯ
Три типа тревоги переплетены таким образом, что одна из них определяет основную окраску состояния тревоги, но все они привносят в нее свой тон. Все они (и их глубинное единство) экзистенциальны, т. е. заключены в самой ситуации человека, в его конечности и в его отчуждении. Их полной реализацией является состояние отчаяния, в которое все они вносят свою долю. Отчаяние есть крайнее или «пограничное» состояние. Выйти из него невозможно. Его природа видна уже в этимологии слова — отчаяние, конец надежды. Нет выхода к будущему. Кажется, что Небытие одержало полную победу, Но у победы его есть предел: кажется, что оно победило, — значит, есть то, чему кажется, т. е. бытие. Осталось еще бытия — достаточно, чтобы почувствовать неодолимую силу небытия. И это отчаяние в отчаянии. Мука отчаяния в том, что бытие сознает неспособность утвердить себя перед могуществом небытия. Поэтому оно хочет отказаться от этого сознания и от его источника, от бытия, которое сознает. Оно хочет избавиться от себя — и не может. Отчаяние удваивается и раскрывается как отчаянная попытка избежать отчаяния. Если бы тревога была только тревогой судьбы и смерти, добровольная смерть стала бы выходом из отчаяния. Тогда потребовалось бы такое мужество, которое есть мужество не быть. И последней формой бытийного самоутверждения был бы акт бытийного самоотрицания.
Но отчаяние — это еще и отчаяние вины и осуждения. И потому нет средства избежать его — даже в бытийном отрицании себя. Самоубийство может освободить от тревоги судьбы и смерти — как это знали стоики. Но оно не может освободить от тревоги вины и осуждения — как это знают христиане. Это утверждение в высшей мере парадоксально, как вообще парадоксальна связь моральной сферы с бытийной. Но оно верно, оно удостоверено теми, кто в полной мере испытал отчаяние осуждения. Невозможно выразить безысходный характер осуждения на
40
языке онтологии, т. е. прибегая для этого к представлению о «бессмертии души». Ибо всякое оптическое утверждение должно включаться в категории конечности, и тогда «бессмертие души» будет бесконечным продолжением конечности и отчаяния осуждения (самопротиворечивое суждение, ибо конечность не может длиться бесконечно). Поэтому переживание того, что самоубийство не спасает от вины, нужно понимать в смысле качественного характера моральных требований и качественного характера их отвержения.
Вина и осуждение — качественно, а не количественно бесконечны. Их вес бесконечен, и они не могут быть сняты конечным актом онтического самоотрицания. Это и делает отчаяние отчаянным. Из него нет выхода — это Huis clos Сартра. Тревога пустоты и бессмысленности участвует как в оптическом, так и моральном планах отчаяния. Будучи выражением конечности, оно может быть снято оптическим самоотрицанием — это приводит радикальный скептицизм к самоубийству. Будучи же следствием морального распада, оно порождает тот же парадокс, что и сам моральный элемент в отчаянии: из него нет онтического выхода. Это и разрушает самоубийственную тягу пустоты и бессмысленности. Человек сознает ее тщетность.
Ввиду такого характера отчаяния становится ясно, что человеческая жизнь может быть понятна как постоянное усилие избежать отчаяния. И по большей части это усилие достигает своей цели. Крайние ситуации переживаются нечасто: некоторыми людьми, возможно, и вообще никогда. Но цель анализа этой ситуации не в том, чтобы регистрировать обычные человеческие переживания, а в том, чтобы открыть некоторые крайние возможности, в свете которых следует понимать и обычные состояния. Мы не всегда сознаем неизбежность собственной смерти, но в свете одного такого опыта вся наша жизнь переживается иначе. Точно так же не постоянно с нами и тревога отчаяния, но те редкие минуты, когда она является, определяют все понимание существования в целом.
Различение трех типов тревоги подтверждается всей историей западной цивилизации. Так, мы обнаружим, что к концу античной цивилизации преобладала бытийная (онтическая) тревога; к концу Средних веков — моральная, и к концу Нового времени — духовная. Но в преобладании одной тревоги соприсутствуют и действуют и две другие.
О тревоге судьбы и смерти в конце античного периода мы уже имели возможность говорить в связи с анализом стоического мужества. Социальный фон эпохи общеизвестен: столкновение огромных держав, завоевание Востока Александром, междоусобица его наследников, завоевание
41
Запада и Востока республиканским Римом, превращение его в Римскую империю при Цезаре и Августе, тирания послеавгустовских императоров, падение полиса и национальных государств, вытеснение прежних носителей аристократическо-демократической структуры общества; личность, ощущающая себя игрушкой в руках каких-то сил, природных и политических, полностью ему не подконтрольных и не предсказуемых, — все это рождало чудовищную тревогу и потребность в таком мужестве, которое способно встретить угрозу судьбы и смерти, Но в то же время тревога пустоты и бессмысленности лишала многих (и в особенности образованные слои) самой возможности отыскать основу для такого мужества, Античный скептицизм, с самого своего начала, со времени софистов, соединил в себе ученые (школьные) и экзистенциальные элементы. Скептицизм в своей позднеантичной версии был формой отчаяния в том, что возможно правильное мышление и праведные поступки. Это гнало людей в пустыню, где необходимость принимать решения — как теоретические, так и практические — сужалась до минимума. Но большинство из тех, кто испытал тревогу пустоты и отчаяние бессмысленности, пытались ответить на них циничным презрением духовного самоутверждения. И все же они не могли скрыть своей тревоги под скептическим высокомерием. Тревога вины и осуждения действовала в группах, объединенных вокруг мистериальных культов с их обрядами искупления и очищения. В социальном отношении эти группы посвященных были достаточно пестрыми. Во многие из них допускались даже рабы. Однако и в этих сектах, как и во всем неиудейском древнем мире, переживалась в большей мере трагическая, а не личная вина, т. е. вина, понятая как осквернение души материальным миром или демоническими силами. Поэтому тревога вины оставалась вторичным элементом, подобно тревоге пустоты, — и преобладала тревога судьбы и смерти.
Только воздействие иудео-христианского наследия изменило эту ситуацию, причем так радикально, что к концу Средних веков тревога вины и осуждения стала решающей.
Если какой-то период заслуживает названия «века тревоги» — так это эпоха предреформации и сама Реформация. Тревога осуждения, символизируемая «гневом Божьим» и усиленная образами ада и чистилища, побуждала людей позднего Средневековья испробовать множество средств для успокоения своей тревоги: паломничества к святым местам (по возможности Рим), аскетические упражнения (порою самого крайнего характера), поклонение мощам (зачастую собранным в грандиозные коллекции), принятие церковных епитимий, приобретение индульгенций, экзальтированное рвение в мессах и таинстве покаяния, умножение молитв и раздача милостыни... Люди беспрерывно спрашивали себя: «Чем я могу смягчить гнев Божий? Как привлечь
42
милость Божью, оставление грехов?» Эта преобладающая форма тревоги поглотила две другие. Персонифицированная Смерть изображалась в живописи, поэзии, гомилетике. Но это была смерть и вина в одном лице. Смерть и дьявол соединились в тревожном воображении эпохи. С возрождением поздней античности вернулась тревога судьбы «Фортуна» стала излюбленным символом искусства Возрождения, и даже реформаторы не были свободны от астрологических поверий и страхов. Тревогу судьбы умножал и страх перед демоническими силами, которые, действуя прямо или через посредство других людей, насылали недуги, смерть и разрушения всех видов. В то же время сфера судьбы распространилась за границу смерти, в предпоследнюю ситуацию чистилища и в предельные ситуации ада и рая. Тьма окончательной судьбы оказалась неустранима; даже реформаторы не могли отвести ее, как показывает учение о предопределении. Но во всех своих выражениях тревога судьбы входила, как составная часть, в общую всеохватывающую тревогу вины, в постоянное сознание угрозы осуждения.
Позднее Средневековье не было эпохой сомнения. Тревога пустоты и утраты смысла дала о себе знать лишь дважды; правда, оба эти случая были замечательны сами по себе и весьма существенны для будущего. Первый случай — Возрождение, когда вновь явился теоретический скептицизм и вопрос о смысле стал занимать наиболее чуткие умы. В микеланджеловских Пророках и Сивиллах, в шекспировском Гамлете можно заметить потенциальную тревогу бессмысленности. Другой случай — атаки дьявола, которые пережил Лютер и которые не были ни искушениями морального характера, ни моментами отчаяния из-за угрозы проклятья; это были мгновения, когда вера в собственный труд, в свое учение покидала его и всякий смысл исчезал. Подобные переживания «пустыни» или «ночи» души часты у мистиков. Все же нужно заметить, что во всех этих случаях преобладало все-таки чувство вины; только после победы Гуманизма и Просвещения, которые составили новую религиозную основу западного общества, тревога духовного небытия смогла стать преобладающей.
Социальные причины тревоги вины и осуждения, которая развилась к концу Средних веков, установить нетрудно. Самая общая из них — разрушение защитного единства религиозно направляемой средневековой культуры. Более конкретно нужно подчеркнуть то значение, которое имел подъем образованного среднего класса в больших городах, людей, которые стремились сделать делом собственного опыта то, что до этих пор было просто объективной, иерархически контролируемой системой учений и таинств. Это стремление вело их, однако, к открытому или явному конфликту с Церковью, авторитет которой они все еще признавали. Нужно указать и на концентрацию политической власти в руках князей и их военно-бюрократического аппарата, которая
43
лишала эти слои независимости в рамках феодальной системы. Нужно указать и на государственный абсолютизм, превративший городские и сельские массы в «подданных», единственным долгом которых было трудиться и повиноваться без всякой возможности сопротивляться произволу абсолютных властителей. Также нужно указать на экономические катастрофы, связанные с ранним капитализмом, такие, как ввоз золота из Нового Света, разорение крестьян и т. д. При всех этих хорошо известных изменениях разворачивается центральный конфликт между растущей тенденцией к независимости во всех слоях общества — с одной стороны, и усилением абсолютистской концентрации власти — с другой. На этом конфликте лежит основная ответственность за преобладание тревоги вины. Образ иррационального, властного, абсолютного Бога номиналистов и Реформации отчасти создан социальным, политическим и духовным абсолютизмом эпохи, и тревога, рожденная этим образом, в свою очередь выражает тревогу, вызванную основным социальным конфликтом распадающегося Средневековья.
Падение абсолютизма, развитие либерализма и демократии, рост технической цивилизации, ее победа над всеми своими противниками и начало ее распада — вот социальные предпосылки третьего и основного периода тревоги. В нем преобладает тревога пустоты и бессмысленности. Мы стоим перед угрозой духовного небытия. Угрозы морального и онтического небытия, несомненно, не исчезают, но не им принадлежит независимая и определяющая роль. Актуальная ситуация настолько существенна для поднятого в нашей книге вопроса, что ей должен быть посвящен более глубокий и внимательный анализ, чем двум предыдущим периодам; причем этот анализ должен соотноситься с какими-то конструктивными решениями (см. выше, гл. 5, 6).
Примечательно, что три главных периода тревоги завершают целые эпохи и являются в их конце. Тревога, которая в различных своих формах потенциально присутствует в каждом человеке, становится всеобщей, если распадаются привычные структуры смысла, власти, веры и порядка. Эти структуры, пока они сильны и устойчивы, сдерживают тревогу в рамках защитной системы мужества — через участие. Человек, участвующий в институтах и жизненных формах данной системы, не свободен от своих личных тревог, но он знает, как справиться с ними: он вооружен хорошо известными средствами для этого. Однако в эпохи больших перемен эти методы уже не работают. Конфликты между старым, которое пытается удержаться, и часто с помощью новых средств, — и новым, отбирающим у старого его внутреннюю силу, рождает разнонаправленную тревогу. У небытия в такой ситуации два лика, соответствующие двум родам кошмара (в которых, быть может, и были угаданы эти два лика). Один — тревога уничтожающе замкнутого пространства, невозможности вырваться, ужас капкана или
44
западни. Другой кошмар — тревога уничтожающе открытого, беспредельного, бесформенного пространства, где человек бесконечно падает — и не имеет куда упасть. Социальные ситуации, подобные описанным выше, подобны одновременно и безвыходной западне, и пустой, темной, неведомой пустоте. Оба лика одной реальности вызывают внутреннюю тревогу у всякого, кто на них смотрит. И сегодня большинство из нас как бы заворожены ими.
45
ГЛАВА 3
ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА,
ВИТАЛЬНОСТЬ (ЖИЗНЕННОСТЬ) И МУЖЕСТВО
ПРИРОДА ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ТРЕВОГИ
Мы рассмотрели три формы экзистенциальной тревоги — т. е. той тревоги, которая дается человеку вместе с самим существованием. Не-экзистенциальная тревога, порожденная какими-то частными обстоятельствами жизни, пока упоминалась лишь мимоходом. Пора рассмотреть ее систематически. Онтология тревоги и мужества, как она разрабатывается в этой книге, естественно, не может претендовать на то, чтобы дать психотерапевтическую теорию невротической тревоги. Таких теорий в настоящее время немало, а некоторые ведущие психотерапевты (и, заметим, сам Фрейд) предложили сразу несколько интерпретаций. Однако все эти теории имеют общий знаменатель; в их перспективе тревога есть сознание некоторых неразрешенных конфликтов между структурными элементами личности; это, например, конфликты между бессознательными стремлениями — и репрессивными нормами сознания, или между стремлениями разного рода, которые пытаются овладеть центром личности; или между воображаемыми мирами — и переживанием реального мира, или между жаждой величия и совершенства — и сознанием собственного ничтожества и несовершенства-, между желанием быть принятым другими (людьми, обществом, миром) — и переживанием своей отверженности; между волей быть — и тем, по всей видимости, невыносимым бременем бытия, которое провоцирует явное или скрытое желание не быть. Все эти конфликты, бессознательные, подсознательные или сознательные, дозволенные или недозволенные, проявляются во внезапных или длительных состояниях тревоги.
Обычно одно из таких объяснений тревоги принимается за принципиальное. Психоаналитики (практики и теоретики) искали первичную тревогу не в культурном, а в психологическом аспекте личности. Однако никаким критерием для установления первичности или производности психологического явления они, по всей видимости, не руководились. Каждое из таких объяснений различает фактические симптомы и фундаментальные структуры. Но в силу разнообразия наблюдаемого материала возведение какого-то его фрагмента в ранг центрального обыкновенно неубедительно. Есть еще одна причина тому, что психотерапевтическая теория тревоги, несмотря на свою блестящую проницательность, остается в запутанном состоянии. Это отсутствие четкого различия между экзистенциальной и патологической тревогой и между
46
основными формами экзистенциальной тревоги. Этого и не может сделать чисто психологический анализ, ибо это предмет онтологии. Лишь в свете онтологического понимания человеческой природы вся масса материала, добытого психологией и социологией, может быть оформлена в связную и осмысленную теорию тревоги.
Патологическая тревога есть состояние экзистенциальной тревоги при каких-то особых условиях. Общий характер этих условий определяется отношением тревоги к самоутверждению и мужеству. Мы видели, что тревога стремится стать страхом, чтобы получить объект, с которым мужество может иметь дело. Мужество не устраняет тревоги. Поскольку тревога экзистенциальна, устранить ее нельзя. Но мужество принимает тревогу небытия в себя. Мужество — это самоутверждение «вопреки», «несмотря на», а именно — несмотря на небытие, вопреки небытию. Тот, кто действует мужественно, в своем самоутверждении принимает на себя тревогу небытия. Оба предлога, «в» и «на», метафоричны: они определяют тревогу как элемент внутри целостной структуры самоутверждения — элемент, который придает самоутверждению качество «несмотря на» и преобразует его в мужество. Тревога толкает нас к мужеству, потому что альтернативный выход один — отчаяние. Мужество противостоит отчаянию, принимая тревогу в себя.
Такой анализ дает ключ к пониманию патологической тревоги. Тот, кто не смог мужественно принять собственную тревогу на себя, может уберечься от крайней ситуации отчаяния путем побега в невроз. Он по-прежнему утверждает себя, но в ограниченной мере. Невроз — это способ избежать небытия путем побега от бытия. В невротическом состоянии самоутверждение не исчезает, оно может быть очень сильным и даже преувеличенным. Что уменьшается — так это утверждаемое Я. Некоторые (или многие) из его потенциальных возможностей не допускаются к реализации — потому, что реализация бытия предполагает допущение небытия и его тревоги. Кто не способен к мощному самоутверждению вопреки тревоге небытия, тот оказывается принужден к слабому, усеченному самоутверждению. Он утверждает нечто меньшее собственного сущностного или потенциального бытия. Он отказывается от части своих возможностей с тем, чтобы спасти остальное. Такая структура объясняет амбивалентность невротического характера. Невротик более чувствителен к угрозе небытия, чем обычный человек. И, поскольку небытие открывает тайну бытия (см. выше, гл. 6), он может оказаться более творческой натурой, чем средний («нормальный») человек. Ограниченная экстенсивность самоутверждения может компенсироваться его большей интенсивностью, но интенсивностью, которая сужена до точки и сопровождается искаженным отношением к реальности как целому. Творческие моменты возможны даже в тех случаях, когда патологическая тревога имеет
47
психотические черты. В биографиях творческих личностей достаточно тому примеров. И, как показывает пример бесноватых из Нового Завета, люди много «ниже среднего» могут иметь такие вспышки прозрения, каких не имели не только толпы, но и сами ученики Иисуса. Глубокая тревога, вызванная присутствием Иисуса, в первые же моменты Его явления открывает им Его мессианскую природу. История человеческой культуры доказывает, что невротическая тревога вновь и вновь прорывается сквозь стены заурядного, «нормального» самоутверждения и открывает такие уровни реальности, которые обычно скрыты от нас.
Все это естественно подводит к вопросу: не представляет ли собой нормальное самоутверждение среднего человека нечто еще более ограниченное, чем патологическое самоутверждение невротика, и, следовательно, не является ли состояние невротической тревоги и самоутверждения нормальным состоянием человека? Давно отмечено, что невротические черты присутствуют в каждом человеке и что разница между больной и здоровой психикой часто количественная. Такую точку зрения можно поддержать ссылкой на психосоматический характер большинства заболеваний и на присутствие элементов болезни в самом здоровом теле. Если психосоматическая параллель верна, то это значит, что и в здоровом сознании могут присутствовать болезненные элементы. Но существует ли тогда вообще граница между невротическим и нормальным сознанием, отчетливая в своей идее, в принципе, даже если реальность дает множество переходных форм?
Различие между невротической и здоровой (хотя бы и потенциально невротической) личностями можно описать так: из-за своей большей чувствительности к небытию и, следовательно, более глубокой тревоги невротик оказывается вынужден к жесткому, хотя ограниченному и нереалистическому самоутверждению. Это, так сказать, его крепость, в которой он заперся и которую защищает всеми средствами психологического сопротивления от нападений извне (со стороны реальности или со стороны психоаналитика). И этому сопротивлению нельзя отказать в какой-то инстинктивной осмотрительности. Невротик сознает опасность ситуации, в которой его нереалистическое самоутверждение рухнет — и никакое реалистическое самоутверждение не придет на это место. Опасность заключается в том, что он или перейдет к другому, еще более защищенному неврозу, или (в случае полного крушения его ограниченного самоутверждения) впадет в бесконечное отчаяние.
С нормальным самоутверждением «нормального» человека дело обстоит иначе. Его самоутверждение тоже фрагментарно. «Нормальный» человек избегает крайних состояний и мужественно противостоит конкретным объектам страха. Обычно он не осознает небытия и тревоги в
48
глубине своей личности. Но его фрагментарное самоутверждение не фиксировано и не защищено со всей жесткостью от угрозы тревоги. По сравнению с невротиком он приспособлен к реальности по гораздо большему числу направлений. Он превосходит невротика в экстенсивности, но ему не достает той интенсивности, которая может сделать невротика творческой натурой. Тревога не понуждает его создавать воображаемые миры. Он утверждает себя в единстве с той реальностью, с которой ему приходится сталкиваться, и круг этих реальных ситуаций не предопределен раз навсегда. Это и делает его здоровым в сравнении с невротиком. Невротик болен и нуждается в лечении потому, что он в конфликте с реальностью и конфликт этот мучителен для него. Реальность причиняет ему страдания постоянно проникая в крепость его самозащиты и в созданный им воображаемый мир. Ограниченное и фиксированное самоутверждение невротика одновременно и оберегает его от невыносимого вмешательства тревоги, и разрушает его: во-первых, тем, что обращает его против реальности, а реальность против него, и, во-вторых, тем, что провоцирует новый невыносимый приступ тревоги. Патологическая тревога, несмотря на свои потенциальные творческие выходы, есть болезнь и опасность. Она требует лечения. Освобождением от болезни должно стать включение тревоги в мужество быть, экстенсивное и интенсивное одновременно.
Есть, однако, моменты, когда самоутверждение «нормального» человека становится невротическим. Это происходит, когда перемены в привычном порядке вещей угрожают фрагментарному мужеству, помогавшему ему справляться с привычными объектами страха. Если такое случается (а это часто случается в критические периоды истории), самоутверждение становится патологическим. Опасности, которые несут в себе перемены, непредсказуемость дальнейших событий, тьма будущего — все это делает «нормального» человека фанатичным защитником установленного порядка. Он защищает его так же судорожно, как невротик — крепость своего воображаемого мира. Он утрачивает свою относительную открытость реальному миру, он испытывает неизвестную прежде глубину тревоги. И если ему не удастся принять эту тревогу в свое самоутверждение, тревога превращается в невроз. Таково объяснение массовых неврозов в конце каждой исторической эпохи (см. предыдущую главу). В эти периоды экзистенциальная тревога смешана с невротической до такой степени, что историк и аналитик не могут их с уверенностью разграничить. Когда, например, тревога осуждения, вдохновляющая аскетизм, становится патологической? Всегда ли страх перед демоническими силами можно считать невротическим или даже психотическим? И наконец, современные описания кризиса человека у экзистенциалистов — в какой степени они являются плодами невротической тревоги?
49
ТРЕВОГА, РЕЛИГИЯ И МЕДИЦИНА
Такие вопросы наводят на размышление о методе лечения — и здесь начинается соперничество теологии и медицины. Медицина (прежде всего психотерапия и психоанализ) часто утверждает, что лечение тревоги — ее дело, поскольку всякая тревога патологична. Лечение состоит в полном снятии тревоги, ибо тревога есть болезнь, чаще в соматическом и только иногда — в психологическом смысле. Все формы тревоги поддаются лечению; поскольку у тревоги нет онтологических корней, экзистенциальной тревоги вообще не существует. И вывод: диагноз врача и медицинская помощь — это единственный путь к приобретению мужества быть. На медицинскую профессию возложена миссия излечивать. Хотя эту крайнюю точку зрения разделяет все меньшее число врачей и психотерапевтов, она важна в теоретическом плане. Она содержит в себе некоторую общую идею о природе человека, которую стоит попытаться эксплицировать, при всем ее позитивистском сопротивлении онтологии. Психиатр, утверждающий, что тревога всегда патологична, не может отрицать потенциального присутствия этой болезни в самой природе человека. И ему придется объяснить факты ощущения собственной конечности, сомнения и вины, присутствующих в каждом человеке: ему придется, исходя из собственных предпосылок, объяснить универсальность тревоги. Он не может избежать вопроса о природе человека, ибо по роду своей деятельности он не может избежать различения здоровья и болезни, экзистенциальной и невротической тревог. Именно поэтому все большее число представителей медицины вообще, и психотерапии в частности, ищут сотрудничества с философами и теологами. И поэтому в таком сотрудничестве развилась практика «консультаций» — как всякая попытка синтеза, вещь опасная и чреватая будущими последствиями. Чтобы исполнить свою теоретическую задачу, медицина нуждается в общем учении о человеке; и она не сможет создать такого учения без постоянного сотрудничества с теми областями знания, объект которых составляет человек. Медицина как область знания имеет своей целью помочь человеку в некоторых из его экзистенциальных проблем — в тех, которые обычно называют заболеваниями. Но она не может помочь человеку без постоянного сотрудничества с теми областями знания, цель которых — помогать человеку как таковому. И учение о человеке, и учение о необходимой ему помощи по многим причинам должны складываться в сотрудничестве. Только так возможно понять и реализовать человеческую потенцию бытия, его сущностное самоутверждение, его мужество быть.
Теология и практическое священническое служение сталкиваются с той же проблемой. И доктрина, и практика предполагают некоторое
50
учение о человеке, а с ним и онтологию. Потому теология почти во все времена обращалась за помощью к философии — несмотря на многочисленные протесты и со стороны теологов, и со стороны верующих масс (подобным образом практическая медицина сопротивляется философии медицины). Вероятно, теология добилась бы больших успехов, если бы освободилась от философии. Однако применительно к учению о человеке такое освобождение обернулось бы полным провалом. Поэтому теология и медицина, интерпретируя человеческое существование, волей-неволей приходили к философии, сознавая это или не сознавая. А приходя к философии — они приходили и друг к другу, даже при том, что их понимание человека развивалось в противоположных направлениях. Сегодня теология, и медицина сознают и это положение, и его теоретические и практические последствия. Теологи и священники настойчиво ищут-диалога с врачами; из этого уже родились многие формы эпизодического или институализированного сотрудничества. Однако отсутствие онтологического анализа и отчетливого различения тревоги экзистенциальной и патологической многим — и теологам, и священникам, и врачам, и психотерапевтам — препятствует заключить такой союз. До тех пор пока теологи и священники, не увидят этого различия, они не смогут отнестись к невротической тревоге так, как они относятся ко всякой болезни, т. е. как к объекту медицинской помощи. Но ведь если мы станем проповедовать высшее мужество человеку, патологически фиксированному на жестком ограниченном самоутверждении, наши увещания или встретят судорожный отпор, или — что еще хуже — будут введены в крепость самозащиты в качестве еще одного аргумента в пользу побега от встреч с реальностью. Так, с точки зрения реалистического самоутверждения, следует с некоторым подозрением относиться к чрезмерно восторженной реакции на религиозный призыв. Великое мужество быть, которое создала религия, выражает всего лишь желание человека ограничить собственное бытие — и укрепить это ограничение силой религии. И даже если религия не приводит к патологическому самоограничению — авторедукции — или прямо его не поддерживает, она может сузить открытость человека реальности, прежде всего — реальности себя самого.
И тогда религия может покрывать и питать потенциально невротическое состояние. Священники должны сознавать такую опасность и бороться с ней в союзе с врачами и психотерапевтами.
Из нашего онтологического анализа можно вывести некоторые принципы сотрудничества теологии и медицины в изучении тревоги. Основной принцип заключается в том, что экзистенциальная тревога в своих трех главных формах не является делом врача как врача, хотя он и должен быть вполне осведомлен о ней; равным образом невротическая тревога во всех ее формах не является делом священника как священника, хотя он тоже должен хорошо ее знать. Священник занят
51
всем тем, что связано с мужеством быть, которое принимает в себя экзистенциальную тревогу. Врач занимается вопросами, связанными с невротической тревогой. Но невротическая тревога, как показал наш анализ, есть неспособность принять на себя экзистенциальную тревогу. Поэтому функция священника включает в себя и функцию врача. Ни одна из этих функций не связана абсолютно жестко с ее профессиональными исполнителями. Врач (особенно психотерапевт) может исподволь сообщать пациенту мужество быть и силу принять на себя экзистенциальную тревогу. При этом он не становится священником, да и не должен пытаться заменить его, но он может стать его помощником в сущностном самоутверждении, тем самым выполняя функции священника. Также и священник (или лицо, его заменяющее) может оказать врачебную помощь. Он не становится врачом, и как священник не должен стремиться заменить врача, — но он может излучать целительную для ума и тела силу и этим помогать снять невротическую тревогу.
Применив этот основополагающий принцип к трем главным формам экзистенциальной тревоги, можно вывести и остальные принципы. Тревога судьбы и смерти вызывает непатологическое стремление к безопасности. Многие институты человеческой цивилизации и созданы для того, чтобы снабдить человека защитой от угрозы судьбы и смерти. Человек понимает, что абсолютная и окончательная безопасность невозможна. Он понимает и то, что жизнь снова и снова требует мужества пожертвовать некоторой или даже всей безопасностью ради полного самоутверждения. Тем не менее он пытается, насколько это возможно, уменьшить власть судьбы и угрозу смерти. Патологическая же тревога судьбы и смерти гонит человека к такой безопасности, которую можно сравнить с безопасностью тюрьмы. Тот, кто живет в этой тюрьме, не способен покинуть зону безопасности, обеспеченную какими-то определенными ограничениями, которые он сам на себя наложил. Но эти ограничения не основаны на полном осознании действительного положения вещей. Поэтому безопасность невротика иллюзорна. Он боится того, чего бояться не стоит, и чувствует себя в безопасности там, где безопасности нет. Тревога, которую он не в состоянии принять на себя, порождает образы, не имеющие основания в реальности, но она исчезает перед лицом действительной угрозы. Иначе говоря, человек избегает некоторых частных опасностей, хотя они почти нереальны, и подавляет в себе сознания неизбежности смерти, т. е., самую общую и постоянную реальность тревоги. Смещенный страх — вот следствие тревоги судьбы и смерти — тревоги в ее патологической форме.
Ту же структуру можно наблюдать в патологических формах тревоги вины и осуждения. Нормальная, экзистенциальная, тревога вынуждает человека избегать тревоги вины (которую называют обычно «нечистой совестью») — избегая самой вины. Нравственная самодисциплина и
52
упорядоченность ведут к известному нравственному совершенствованию, хотя человек по-прежнему сознает, что устранить несовершенство полностью он и не в силах, поскольку оно заключено в самой экзистенциальной ситуации, в его отчуждении от собственного истинного бытия. Невротическая тревога делает то же самое, но ограниченным, жестким и нереалистическим путем. Тревога оказаться виноватым, ужас перед осуждением настолько сильны, что делают почти невозможным любое ответственное решение, — и любой вид нравственного поступка становится почти невозможным. Поскольку же решений и действий избежать нельзя, они сокращаются до минимума, но этот минимум мыслится безупречным, и всякая попытка выйти за пределы круга «разрешенных» решений и действий пресекается. И здесь отчуждение от реальности приводит к тому, что сознание вины смещается. Моралистическая самозащита невротика заставляет его видеть вину там, где ее нет, или там, где человек виноват только самым косвенным образом. Вместе с тем сознание реальной вины и самоосуждения, идентичного экзистенциальному отчуждению человека от себя самого, подавляется, ибо отсутствует мужество, которое могло бы принять их.
Подобный характер обнаруживают и патологические формы тревоги пустоты и бессмысленности. Экзистенциальная тревога сомнения приводит человека к созданию «зоны уверенности» в виде смысловых систем, которые поддерживаются традицией и авторитетом. И несмотря на элемент сомнения, заложенный уже в самой конечной духовности человека, несмотря на угрозу бессмысленности, заключенной в отчуждении человека, тревога — благодаря таким выстроенным и охраняемым «зонам уверенности» — все же сокращается.
Невротическая же тревога создает чрезвычайно узкую крепость уверенности, такую, чтобы ее легче было защищать, — и защищается она с ожесточенным упорством. Право человека ставить себе вопросы внутри этой сферы абсолютно подавлено и реализоваться не может; если же эта опасность является в виде вопроса извне, то ответом будет фанатичный отпор, отрицание самого вопроса. Крепость такой неприступной уверенности построена, однако, на нетвердой почве, не на камне реальности. Неспособность невротика смело и полно встретиться с реальностью делает его сомнения — как и его уверенность — нереалистическими. И то и другое у него смещено со своих истинных мест. Он сомневается в том, что практически вне всяких сомнений, и уверен там, где уместно сомнение. Прежде всего, он не допускает вопроса о смысле в его всеобщей и радикальной постановке. В нем самом, конечно, есть этот вопрос, как и в любом человеке в условиях экзистенциального отчуждения. Но он не может его допустить, ибо у него нет мужества принять на себя тревогу пустоты (или сомнения) и бессмысленности.
53
Итак, анализ патологической тревоги в ее отношении к экзистенциальной позволяет сформулировать следующие положения:
1. Экзистенциальная тревога имеет онтологический характер и не может быть снята; она должна быть принята в мужество быть.
2. Патологическая тревога есть следствие неспособности Я принять эту тревогу на себя.
3. Патологическая тревога ведет к самоутверждению на ограниченной, жесткой и нереалистической основе — и к вынужденной защите этой основы.
4. Патологическая тревога судьбы и смерти порождает нереалистическое чувство безопасности; патологическая тревога вины и осуждения — нереалистическое чувство безупречности·, патологическая тревога сомнения и бессмысленности — нереалистическую уверенность.
5. Патологическая тревога, когда она установлена, является объектом медицинской помощи (врача); экзистенциальная тревога — духовной помощи (священника). Ни одна из этих двух функций не является строго профессиональной, священник может быть целителем, а психотерапевт — духовником, и каждый человек может быть и тем, и другим для своего ближнего. Но две эти функции не должны смешиваться, а их исполнители — пытаться заменить друг друга. У них одна цель: помочь человеку достичь полного самоутверждения, обрести мужество быть.
ВИТАЛЬНОСТЬ (ЖИЗНЕННОСТЬ) И МУЖЕСТВО
Тревога и мужество имеют психосоматический характер. Они не только психологичны, но и биологичны. С биологической точки зрения можно сказать, что страх и тревога — это стража, сигнализирующая живому существу об угрозе небытия и мобилизующая его к действиям защиты и сопротивления этой угрозе. В страхе и тревоге следует видеть воплощение того, что можно назвать «самоутверждением на страже себя». Без извещающего страха и мобилизующей тревоги ни одно конечное существо не могло бы существовать. Мужество в этой перспективе — это готовность взять на себя то негативное, о чем извещает страх, ради еще большей полноты позитивного. Биологическое самоутверждение предполагает принятие нужды, труда, боли, опасности, возможной гибели. Без такого самоутверждения жизнь не может ни сохраниться, ни усилиться. Чем больше у существа жизненной силы, тем больше оно способно утвердить себя, несмотря на опасности, о которых оповещает страх и тревога. Но если бы мужество игнорировало эти предупреждения, то это противоречило бы их биологической функции, и подсказанные им действия оказались бы прямо деструктивными. Есть истина в аристотелевском учении о мужестве
54
как золотой середине между трусостью и дерзостью (или безрассудством). Самоутверждение в биологическом плане нуждается в равновесии между мужеством и страхом. Таким равновесием обладают все живые существа, способные сохранять и усиливать собственное бытие, если предостережения страха становятся недейственными или же динамика мужества утрачивает свою силу — жизнь исчезает. Стремление к безопасности, совершенству, уверенности, о котором мы говорили, биологически необходимо. Но оно становится биологически разрушительным, когда исключает риск смерти, опасности, несовершенства и неуверенности. И наоборот: риск, имеющий реалистическое основание в нашем Я и в нашем мире, биологически необходим, тогда как без такого основания он разрушителен. Жизнь, следовательно, включает в себя и страх, и мужество как элементы жизненного процесса в изменчивом, но по своей сути устойчивом равновесии. Пока жизнь способна сохранять такое равновесие, она способна сопротивляться небытию. Неуравновешенный страх и неуравновешенное мужество разрушают жизнь; в сохранении и усилении жизни и состоит функция равновесия страха и мужества.
Жизненный процесс, обнаруживающий такое равновесие (а с ним и силу бытия), обладает на языке биологии — витальностью (жизненностью), т. е. жизненной силой. Поэтому в истинном мужестве, как и в истинном страхе, нужно видеть выражения совершенной витальности. Мужество быть — производная функция жизненной силы. Ослабление витальности влечет за собой ослабление мужества. Укрепить жизненность значит укрепить мужество быть. Невротические личности и невротические эпохи страдают недостатком витальности. Их биологическая субстанция распалась. Они утратили силу полного самоутверждения, мужества быть. Произойдет это или нет — зависит от биологических процессов, это биологический фатум. Периоды упадка мужества быть — это периоды биологической слабости в человеке и в истории. Три главных периода неуравновешенной тревоги — периоды упадка витальности; каждый из них — конец эпохи, ее умирание; оно будет преодолено лишь подъемом жизненно мощных групп, которые вытеснят отжившие группы.
Итак, вплоть до этой фразы мы излагали биологическую аргументацию безо всякой критики. Теперь можно проверить справедливость ее посылок. Первый наш вопрос касается различения страха и тревоги (каким мы его сформулировали выше). Нет сомнения в том, что страх, оправленный на определенный объект, имеет биологическую функцию: оповестить об угрозе небытия и вызвать защитную реакцию. Но верно ли это по отношению к тревоге? Биологическая аргументация использует преимущественно понятие страха, понятие же тревоги — лишь в исключительных случаях. Это делается преднамеренно, ибо с биологической точки зрения тревога — скорее деструктивный, чем
55
защитный механизм. Если страх может побудить к принятию каких-то мер против объекта страха, то тревога этого сделать не может, поскольку у нее нет объекта. Самый факт, что жизнь, как об этом речь шла выше, стремится преобразовать тревогу в страх, говорит о том, что тревога биологически бесполезна и не имеет объяснения в терминах защиты жизни. Она вызывает саморазрушительные формы поведения. Поэтому тревога по самой своей природе неуместна в рамках биологической аргументации.
Следующие замечания касаются самой идеи витальности или жизненной силы. Смысл этого понятия приобрел особую проблематичность с тех пор, как фашизм и нацизм перенесли это теоретически заостренное представление в область политики — и именем жизненной силы пытались уничтожить почти все основные ценности западного мира. В платоновском «Лахете» отношения между мужеством и жизненной силой обсуждаются в связи с вопросом: обладают ли мужеством животные? Многое говорит в пользу положительного ответа. Равновесие страха и мужества в животном мире весьма развито. Животные сохраняют свою жизнь слушаясь страха, однако в некоторых обстоятельствах они отбрасывают страх и идут на риск боли и уничтожения ради тех, кто входит, как часть, в их собственное самоутверждение, например, ради своего потомства или своей стаи, стада. Но, вопреки этим очевидным фактам, Платон отрицает существование «животного мужества». Это естественно, ибо если мужество есть знание о том, чего следует избегать и на что решаться, — то его нельзя отделить от человека как существа разумного.
Витальность, жизненная сила соотносится с определенным видом жизни, которому она дает силу, Сила человеческой жизни не может быть рассмотрена в отрыве от того, что средневековые философы называли интенциональностью, т. е. отношением к смыслам. Жизненная сила человека (витальность) велика настолько, насколько велика его интенциональность: они взаимосвязаны. Это и делает человека самым «витальным» среди живых существ. Он способен выйти за пределы любой конкретной ситуации (трансцендировать ее) в любом направлении, и эта способность заставляет его творить за пределами себя, над собой. Витальность — это сила творить, превосходя себя и не утрачивая себя при этом. Чем большей силой творчества в превосхождении себя обладает живое существо, тем больше его витальность. Мир технического творчества — самое очевидное выражение человеческой витальности и ее бесконечного превосходства над витальностью животной. Человек — единственное существо, обладающее полнотой жизненной силы, потому что он один обладает полнотой интенциональности.
Мы определили интенциональность как «направленность к осмысленному содержанию». Человек живет «в» смыслах, в том, что имеет
56
логическую, эстетическую, этическую, религиозную ценность. Его субъективность пропитана объективностью. В каждой его встрече с реальностью — структуры Я и мира открываются в своей взаимосвязи. Самое существенное выражение этого факта — язык, который дает человеку силу абстрагироваться от конкретной данности и, абстрагировавшись, вновь вернуться к ней, истолковать и преобразовать ее. Самым жизненно сильным можно назвать такое существо, которое обладает речью и благодаря «слову» освобождено от рабства у непосредственной данности. В каждой своей встрече с реальностью человек уже пребывает по ту сторону ее. Он знает о ней, он ее сопоставляет, он имеет опыт иных возможностей, он предвосхищает будущее и помнит прошлое. В этом его свобода, и в этой свободе заключена сила его жизни. Здесь источник его витальности.
Если взаимосвязь витальности и интенциональности вполне осознана, можно принять биологическую интерпретацию мужества в границах ее годности. Несомненно, мужество есть производная от жизненной силы, но сама жизненная сила есть нечто такое, что не может быть отделено от всей целостности человеческого бытия — от его языка, его творчества, его духовной жизни, его высшего устремления. Одним из печальных последствий интеллектуализации духовной жизни человека стала утрата слова «дух» и замена его «умом» или «интеллектом»: тот элемент «витальности», который заключен в «духе», отделился и стал рассматриваться как независимая биологическая сила. Человек оказался рассеченным на бескровный «интеллект» и бессмысленную «жизненность». То, что представляет своего рода компромисс между ними — духовная душа, в которой соединяются интенциональность и жизненная сила, — было отброшено. Когда это развитие завершилось, редукционистскому натурализму оказалось нетрудно вывести самоутверждение и мужество исключительно из биологической жизненной силы. Но в человеке нет ничего «чисто биологического», как нет ничего «чисто духовного». Каждая клетка тела участвует в его свободе и духовности, и каждый акт его духовного творчества питается его жизненной энергией.
Такое единство предполагало греческое ἀρετή. — Его можно перевести как «добродетель», если убрать из «добродетели» моралистический оттенок. Греческий термин соединяет силу и ценность, силу и исполненность смыслом. Ἁρετής [sic!], добродетельный, — носитель высоких ценностей, и решающее испытание его ἀρετή — готовность пожертвовать собой ради них. Его мужество есть выражение как его интенциональности, так и его жизненной силы. Духовно оформленная жизненная сила — вот что делает его ἀρετής. За этой терминологией стоит представление древних о благородстве мужества. Образец мужественного человека — не безрассудный варвар (не дорожащий собственной жиз-
57
нью и чья жизненная сила — не вполне человеческая), но образованный грек, который знает тревогу небытия, поскольку ему известна ценность бытия. Можно добавить, что латинское virtus (добродетель) и его производные, ренессансное итальянское virtu и ренессансно-английское virtue, имеют значение, близкое ἀρετή. Это качество тех, в ком мужская сила .(vir-tus) соединяется с моральным благородством. Витальность и интенциональность объединены в этом идеале человеческого совершенства, который равно далек и от варварства, и от морализма.
В свете изложенного можно заметить, что «биологистам» чрезвычайно далеко до того, что классическая античность называла «мужеством». Витализм, отделяя жизненное от интенционального, неизбежно возрождает варвара в качестве идеала мужества. И, сделанное в интересах науки, такое отделение выражает — обычно против воли самих «натуралистов» — до-гуманистическую позицию; в руках демагогов она служит практической реализации того варварского идеала, который воплотили фашисты и нацисты. «Чистая» жизненность в человеке никогда не бывает чистой, она всегда искажена, ибо чисто человеческая сила жизни — это его свобода и духовность, в которой соединены жизненность и интенциональность.
Есть, однако, еще один, третий, момент, в связи с которым мы должны оценить биологическую интерпретацию мужества. Он касается ответа, который биологизм дает на вопрос: откуда происходит мужество быть? Биологисты отвечают: из жизненной силы, которая сама по себе есть природный дар, дело биологического фатума. Это очень близко античному и средневековому решению, для которых сочетание «удачного» биологического и исторического фатума — условие аристократического происхождения —почиталось особенно благоприятным условием для развития мужества. В обоих случаях мужество — это не способность, которая зависит от силы юли или разума, но дар, предшествующий всякому действию. Трагическая точка зрения древних греков и детерминистская точка зрения современного натурализма в этом моменте сходятся: сила «самоутверждения вопреки», т. е. мужество быть, есть дело судьбы. Это не отменяет моральной ценности мужества, но отменяет его моралистическую оценку: нельзя приказать обрести мужество и нельзя стать мужественным по приказу. На языке религии — это дело благодати. Как уже не раз бывало в истории мысли, натурализм открыл путь новому пониманию благодати, тогда как «идеализм» лишь препятствовал пониманию. С этой точки зрения биологический аргумент очень важен и заслуживает серьезного внимания, особенно в сфере этики, при всех его искажениях в биологическом и политическом витализме. Истину виталистской интерпретации этики составляет благодать. Мужество как благодать — это и вывод, и вопрос.
58
ГЛАВА 4
МУЖЕСТВО И УЧАСТИЕ (МУЖЕСТВО БЫТЬ ЧАСТЬЮ)
БЫТИЕ. ИНДИВИДУАЛИЗМ И УЧАСТИЕ
Здесь у нас нет возможности развивать общее учение о глубинной онтологической структуре и составляющих ее элементах. Это отчасти проделано в моей «Систематической теологии» Ст. I, ч, II, гл. VII). В настоящем исследовании нам придется ссылаться на некоторые ее положения, не повторяя их аргументации. Онтологические принципы имеют полярный характер — в соответствии с полярной в своей сути структурой бытия, полярностью «Я» и «мира». Первые среди таких полярных пар — индивидуализация и партиципация (участие). Значение их в проблематике мужества очевидно, если мужество определяется как самоутверждение бытия вопреки небытию. На вопрос: что является субъектом этого самоутверждения? — следует ответить: индивидуальное Я, участвующее в мире, т. е. в структурном единстве бытия. Самоутверждение человека имеет две стороны — они различимы, но нераздельны: одна сторона — это утверждение себя как такового, т. е. отдельного, центрированного в себе, обособленного, единственного в своем роде, свободного, самоопределяющегося Я. Вот что утверждает человек в каждом акте самоутверждения. Вот что он защищает перед лицом небытия и что мужественно утверждает, принимая небытие на себя. Угроза утраты этого Я и есть сущность тревоги, а сознание конкретной угрозы ему — сущность страха. Онтологическое самоутверждение предшествует всем различениям метафизических, этических или религиозных определений Я. Онтологическое самоутверждение не является ни природным, ни духовным, ни благим, ни злым, ни имманентным, ни трансцендентным. Все эти различения возможны лишь в силу того, что в их основе лежит самоутверждение Я как такового. Точно так же понятия, характеризующие индивидуальное Я, лежат глубже оценочных различений: отделение не означает отчуждения, обладание внутренним центром не означает эгоизма, самоопределение не означает греховности. Это чисто структурные элементы, которыми обусловлены как любовь, так и ненависть, как осуждение, так и спасение. Пора покончить со скверной теологической привычкой подскакивать от возмущения при каждом появлении слов «Я», «само-», «себя» и их производных. Само это моральное возмущение не могло бы возникнуть без центрированного Я, без его онтологического самоутверждения.
Субъектом самоутверждения является центрированное Я. В силу своей центрированности оно есть и индивидуализированное Я. Его
59
можно уничтожить, но нельзя разбить на части: любая из его частиц несет на себе метку этого, а не иного Я. Его нельзя заменить: его самоутверждение направлено на себя как на это единственное, неповторимое, незаменимое, индивидуальное начало. Теологическое утверждение о бесконечной ценности каждой человеческой души естественно предполагает онтологическое само-утверждение неделимого и незаменимого Я. Его можно назвать мужеством быть самим собой.
Но Я есть Я лишь постольку, поскольку оно обладает миром, структурированной вселенной, к которой оно принадлежит и от которой в то же самое время отделено. Я и мир взаимосвязаны, и так же связаны индивидуализация и партиципация. Ибо именно это и означает участие: быть частью чего-то такого, от чего мы отделены, но с чем составляем единое целое. У-частвовать буквально значит «составлять часть» и может употребляться в трех смыслах: «быть пайщиком» (например, иметь часть в доме и т. д.); «иметь общее» (ср. платоновское μεθέξις — совладение, т. е. участие частного во всеобщем); и, наконец, «принимать участие», например в политическом движении.
Во всех этих случаях участие имеет в виду частичное отождествление и частичную нетождественность Часть целого не тождественна своему целому. Но и целое является целым лишь постольку, поскольку включает эту свою часть. Самый наглядный пример — тело и его члены. Я есть часть того мира, которым это Я обладает как собственным миром. И мир этот не был бы тем, что он есть, без этого индивидуального Я. Чтобы понять неизбежно диалектическую природу участия, необходимо мыслить в понятиях силы (энергии), а не в понятиях предметности. Говорят, что личность отождествляет себя с неким движением: это участие объединяет, хотя и не полностью, ее существо с существом движения. Частичное тождество четко разграниченных предметов совершенно немыслимо. Но люди могут разделять силу бытия. Силу государственного бытия могут разделять все его граждане, и в особенности — его правители. Сила государства частично есть их сила, хотя его сила выходит за пределы их силы — и наоборот. Тождество участия есть тождество в силе бытия. В этом смысле сила бытия индивидуального Я частично тождественна силе бытия его мира — и наоборот.
Относительно понятий самоутверждения и мужества это означает, что самоутверждение Я как индивидуального Я всегда включает в себя утверждение силы того бытия, в котором участвует это Я. Я утверждает себя как участника а силе какой-то группы, движения, в силе каких-то смыслов, в самой силе бытия как такового. Самоутверждение, если оно осуществляется вопреки угрозе небытия, есть мужество быть. Но отныне это уже не мужество быть самим собой, но мужество быть частью.
Понятие мужества быть частью представляет определенную трудность. Если для того, чтобы быть самим собой, несомненно требуется
60
мужество, то «быть частью» вроде бы выражает как раз недостаток мужества, т. е. желание жить под защитой какого-то большего целого. Может показаться, что как раз не мужество, а слабость побуждает нас к самоутверждению в качестве части чего-либо. Но «быть частью» указывает на тот факт, что самоутверждение с необходимостью предполагает утверждение себя как «участника» чего-то и что этой стороне нашего самоутверждения небытие угрожает не менее, чем другой его стороне (утверждению Я как индивидуального Я). Нам угрожает не только утрата нашего индивидуального Я, но и утрата участия в нашем мире. Поэтому утверждение себя как части требует того же мужества, что и утверждение себя как себя. Одно и то же мужество принимает в себя двойную угрозу небытия. Мужество быть всегда в сути своей есть и мужество быть частью и мужество быть самим собой в их взаимной зависимости. Мужество быть частью входит в мужество быть самим собой — и наоборот. Но в условиях конечности и отчуждения человека то, что в сути своей едино, раскалывается в своем существовании. Мужество быть частью откалывается от единства, которое оно составляло с мужеством быть самим собой — и наоборот; и обе части в своей изоляции разрушаются. Тревога, которую они приняли в себя, остается неразрешенной — и становится разрушительной. Обрисованная ситуация определяет ход нашего дальнейшего исследования: мы рассмотрим проявления мужества быть частью, затем — мужество быть самим собой, и, наконец, такое мужество, которое вновь соединяет оба эти полюса.
КОЛЛЕКТИВИСТСКИЕ И ПОЛУКОЛЛЕКТИВИСТСКИЕ
ПРОЯВЛЕНИЯ МУЖЕСТВА БЫТЬ ЧАСТЬЮ
Мужество быть частью есть мужество утверждать свое бытие путем соучастия. Человек участвует в мире, к которому принадлежит и от которого в то же время отделен. Но участие в мире становится реальным только через участие в тех его сегментах, которые непосредственно составляют нашу жизнь. Мир как целое — потенциален, а не актуален. Актуальны те его сегменты, с которыми человек частично отождествляет себя. Чем большей самоотнесенностью обладает какое-то бытие, тем выше его способность (и это отвечает полярной структуре реальности) участия. Человек как полностью центрированное бытие, т. е. как личность, может участвовать в чем угодно, но его участие осуществляется через тот сегмент мира, который делает его личностью. Только в постоянных встречах с другими личностями человек обретает и сохраняет собственную личность. Место, где происходят такие встречи, — общество. В природе человек участвует прямо (поскольку самим своим
61
телесным существованием он составляет часть природы) — и опосредовано, через общество (в той мере, в какой он трансцендирует природу — познавая и преобразуя ее). Без языка нет универсалий, а без универсалий нет трансцендирования природы; нет даже отношения к ней как к природе. Но язык в сути своей — реальность общественная, а не индивидуальная. Тот сегмент реальности, в котором человек участвует непосредственно — это община, к которой он принадлежит. Через общину, и только через нее, опосредуется участие человека в мире как целом и в каждой из его частей.
Поэтому тот, кто обладает мужеством «быть частью», утверждает себя как часть того общества, в котором он участвует. Его самоутверждение есть часть самоутверждения его социальной группы, социума, которому он принадлежит. Может показаться, что отсюда следует, будто существует коллективное, а не только индивидуальное самоутверждение, и что этому коллективному самоутверждению угрожает небытие, вызывающее коллективную тревогу, с которой борется коллективное мужество. Тогда можно было бы сказать, что субъект такой тревоги и такого мужества — некое МЫ-Я в противоположность ЭГО-Я, которое входит в него. Однако такое расширение значения Я недопустимо. По своему характеру Я есть само-центрированность, самоцентричность. Но в группе нет центра в том смысле, в каком он существует в личности. В группе может быть центральная власть: царь, президент, диктатор. Он может навязать группе свою волю. Но, когда он принимает решение, это не есть решение группы, не она принимает его, даже если исполняет. Поэтому было бы неверно говорить о МЫ-Я и неплодотворно прибегать к таким терминам, как «коллективная тревога» и «коллективное мужество». Описывая три периода тревоги, мы отмечали, что массы людей были захвачены каким-то общим типом тревоги потому, что многие из них пережили одну и ту же порождающую тревогу ситуацию, и потому, что вспышки тревоги вообще заразительны. Не существует никакой коллективной тревоги, кроме той, которая охватывает многих или всех членов группы и, усиливаясь или видоизменяясь, становится всеобщей. То же следует сказать и в отношении того, что ошибочно называют коллективным мужеством. Такого субъекта мужества, как МЫ-Я, нет. Есть лишь отдельные Я, участвующие в группе и отчасти детерминированные этим участием. Так называемое МЫ-Я — суммированное качество, общее для всех ЭГО-Я в данной группе. Но мужество быть частью, как и другие формы мужества, есть качество индивидуальных Я.
Коллективистское общество — это общество, в котором существование и образ жизни индивида определяется существованием и установлениями некоторой группы. В коллективистских обществах человеческое мужество есть мужество быть частью. Рассматривая так называемые
62
примитивные общества, можно найти типичные формы тревоги и типичные установления, касающиеся мужества. Отдельные члены группы испытывают сходные тревоги и страхи — и прибегают к одним и тем же методам воспитания мужества и стойкости, т. е. таким, которые им предписывают традиции и нормы. Таким мужеством должен обладать каждый член группы. Во многих племенах способность переносить боль — проверка на полноправное членство в группе, а способность принять смерть — постоянное испытание в течение всей жизни. Мужество того, кто выдерживает эти испытания, есть мужество быть частью. Он утверждает себя через группу, в которой участвует. Потенциальная тревога утраты себя в группе не реализуется, так как самоотождествление человека с группой здесь еще полное. Небытие в форме угрозы утратить Я еще не появилось.
Самоутверждение в рамках группы включает в себя и мужество принять вину и ее последствия как общую вину, независимо от того, ответственен за нее этот человек или кто-то другой. Искупление вины — долг всей группы, и совершается оно в интересах группы, поэтому формы наказания и возмездия, которых требует группа, принимаются каждым отдельным ее членом, Сознание индивидуальной вины появляется только в виде сознания своего отклонения от установок и правил коллектива. Истина и смысл воплощены в традициях и символах группы. Самостоятельный поиск и сомнение невозможны. Но даже в примитивном коллективе, как и во всяком человеческом обществе, есть выдающиеся члены, хранители традиций и предвестники будущего. Им должна быть предоставлена достаточная дистанция от общего для того, чтобы судить и вводить перемены. Они должны принимать на себя ответственность и ставить вопросы. При этом с неизбежностью возникает чувство индивидуального сомнения и личной вины. Тем не менее преобладающим типом в примитивных группах остается мужество быть частью.
В первой главе, занимаясь общим понятием мужества, я обращался к Средним векам с их аристократической концепцией мужества. Мужество Средневековья, как и всякого феодального общества, в основе своей — мужество быть частью. Так называемая «реалистическая» философия средних веков — это философия участия. В ней предполагается, что логические универсалии и коллективные реалии фактически обладают большей реальностью, чем все индивидуальное. Частичное (буквально — составляющее малую частичку) получает свою силу бытия через участие во всеобщем. Самоутверждение, выражаемое, например, в самоуважении индивида, — это утверждение себя как вассала какого-то сюзерена, члена какой-то гильдии, студента какой-то академической корпорации, наконец носителя какой-то особой функции (ремесла, навыка, профессии). Но Средневековье, несмотря на присущие
63
ему примитивные элементы, далеко не примитивно. В древнем мире произошли два важнейших события, которые резко отделили средневековый коллективизм от примитивного. Первым было открытие личной вины, которую пророки называли виной перед Богом. Это был решающий шаг к персонализации религии и культуры. Второе — начало независимого вопрошания (постановки вопросов) в греческой философии. Это был решающий шаг к проблематизации культуры и религии. Оба начала передала средневековым народам Церковь. С ними пришли тревога вины и осуждения, тревога сомнения и бессмысленности.
Это могло бы (как и в поздней античности) привести к такой ситуации, когда становится необходимо мужество быть самим собой. Но Церковь принесла и противоядие от угрозы тревоги и отчаяния — себя саму, свои традиции, свои таинства, свое воспитание, свой авторитет. Тревога вины была принята в мужество быть частью «сакраментальной общины». Тревога сомнения — в мужество быть частью общины, которая обладает единством откровения и разума. Тем самым средневековое мужество быть, несмотря на его отличие от примитивного коллективизма, оставалось мужеством быть частью. Напряженность, заключенная в этой ситуации, находила теоретический выход в борьбе номинализма со средневековым реализмом, в затяжном характере их конфликта. Номинализм, наделяющий индивидуальное высшей реальностью, мог бы намного раньше, чем ему это фактически удалось, привести к распаду средневековой системы соучастия (или причастности), если бы ему не помешала огромная власть Церкви, ее авторитет.
В области религиозной практики ту же напряженность выражали собой два установления церковной жизни; таинство причастия и таинство покаяния. Таинство причастия сообщало человеку объективную силу спасения, к которому может приобщиться каждый — присутствуя, по возможности, при его ежедневном совершении. Благодаря такому всеобщему соучастию, вина и прощение переживались уже не как исключительно личные, но как соборные события, Наказание грешника было настолько знаменательным, что вся община страдала вместе с ним. И прощение грешника на земле и в чистилище отчасти зависело от «замещающей» святости избранных и от любви тех, кто приносил пожертвования ради его прощения. Нет ничего более характерного для средневековой системы участия, чем такая взаимная замещаемость. Мужество быть частью и принять на себя тревогу небытия воплощено в средневековых институтах так же, как и в примитивных обществах. Но средневековый полуколлективизм подошел к своему концу, когда в центре духовной жизни оказался антиколлективистский полюс, таинство покаяния. Представление о том, что только покаяние, личное и полное принятие Суда и милости Божией, сообщает действенность «объективным» таинствам, вело к сужению и даже упразднению «объективного» начала замещения и
64
участия. В акте покаяния каждый предстоит Богу в одиночестве, и Церкви становилось все труднее увязать этот «субъективный» элемент с «объективным». Наконец, это оказалось невозможным, и вся система распалась. В тоже время номиналистическая традиция укрепилась и освободилась от церковной гетерономии. Средневековое мужество быть частью и его полуколлективистская система нашли свой конец в Реформации и Возрождении — и началось развитие, выдвинувшее на первый план мужество быть самим собой.
НЕОКОЛЛЕКТИВИСТСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ
МУЖЕСТВА БЫТЬ ЧАСТЬЮ
Как реакция на господство в новой западной истории одного типа мужества, мужества быть самим собой, возникли неоколлективистские движения: фашизм, нацизм и коммунизм. От полуколлективизма Средневековья их отличают три наиболее существенных момента. Во-первых, неоколлективиэму предшествовало освобождение автономного разума и создание технической цивилизации. И новый коллективизм использует научные и технические достижения Нового времени для собственных целей. Во-вторых, неоколлективизм возник в такой ситуации, где ему приходится сталкиваться со многими конкурирующими тенденциями, даже внутри неоколлективистского движения. Поэтому он менее стабилен и менее защищен, чем прежние формы коллективизма. Это ведет к третьему, самому разительному отличию: использование тоталитарных методов современного коллективизма — ив рамках национального государства, и в наднациональной империи. К тоталитаризму вынуждает потребность в централизованной технической организации общества, и еще больше — необходимость подавлять тенденции, которые могли бы разложить коллективистскую систему посредством альтернативных и индивидуальных решений. Но три эти отличительных свойства не мешают неоколлективизму обнаруживать многие черты примитивных форм коллективизма: прежде всего, это исключительный упор на самоутверждении через участие, на мужество быть частью.
Рецидив племенного коллективизма отчетливо виден в нацизме. Немецкая идея народного духа (Volkgeist) послужила хорошей основой, мифология «крови и почвы» укрепила ее, а мистическое обожествление фюрера довершило дело. В отличие от нацизма, коммунизм исходно был рациональной эсхатологией, движением критицизма и надежды, во многом напоминавшим пафос библейских пророков. Но после того, как в России утвердилось коммунистическое государство, элементы рационализма и эсхатологизма были отброшены и всеми сферами жизни овладел возрожденный племенной коллективизм. Русский национализм
65
с его политическими и мистическими амбициями сплавился с коммунистической идеологией. Ныне в коммунистических странах именем «космополитов» клеймят худших еретиков. Коммунисты, со всеми их профетическими истоками, с их поклонением разуму и технической производительности, уже почти достигли уровня племенного коллективизма.
Поэтому анализ неоколлективистского мужества быть частью можно проводить главным образом на его коммунистических формах. Всемирно-исторический смысл такого мужества открывает онтология самоутверждения и мужества. Если выводить свойства коммунистического коллективизма из таких предпосылок, как русский характер, история царизма, сталинский террор, динамика тоталитарной системы, мировая политическая ситуация, — можно упустить суть дела. Все это способствовало процессу, но его источником не было. Все это помогает сохранять и расширять систему, но не составляет ее сущности. Сущность же ее — в том мужестве быть частью, которое она предлагает массам людей, живущих в условиях нарастающей угрозы небытия и тревоги. Традиционные устои жизни, в которых человек черпал и старые формы мужества-быть-частью, и (начиная с XIX века) более новые формы мужества-быть-самим-собой, быстро исчезают в современном мире. Это произошло или происходит не только в Европе, но и в самых отдаленных краях Азии и Африки. Это общая линия мирового развития. И коммунизм предлагает тем, кто потерял или теряет свое прежнее коллективистское самоутверждение, новый коллективизм, а с ним — новое мужество быть частью. В убежденных сторонниках коммунизма мы видим готовность пожертвовать любым индивидуальным осуществлением ради самоутверждения группы и ради общей цели. Возможно, впрочем, что коммунист не согласится с таким описанием своих действий. Возможно, он (как и все фанатики всех идейных движений) и не думает, что приносит жертву. Возможно, он чувствует, что избрал единственно верный путь к достижению собственного осуществления. Если он утверждает себя утверждая коллектив, в котором участвует, то коллектив возвращает ему его самого наполненным и реализовавшимся в коллективе. Он отдает многое из того, что принадлежит его индивидуальному Я, может быть и собственное существование, отдельное, ограниченное в пространстве и времени, но получает он нечто большее: его истинное бытие включается в бытие группы. Жертвуя собой ради общего дела — он жертвует в себе тем, что не может войти в самоутверждение коллектива, а это он и не считает достойным утверждения. Так тревога индивидуального небытия преобразуется в тревогу о коллективе, и эта тревога, в свой черед, побеждается мужеством утверждать себя через участие в коллективе.
Можно показать, как это происходит в отношении трех основных типов тревоги. Как всякий человек, убежденный коммунист знает тревогу
66
судьбы и смерти. Никто не может принять собственное небытие без негативной реакции. Самый террор тоталитарного государства был бы бессмысленным, если бы не мог вселять ужаса в подданных. Но тревога судьбы и смерти включается в мужество быть частью того самого целого, со стороны которого человеку угрожает террор. Итак, своим участием человек утверждает то, что может стать для него разрушительной судьбой и даже причиной смерти. Более глубокий анализ обнаруживает следующую структуру: участие есть частичная тождественность и частичная нетождественность. Судьба и смерть могут повредить той части Я, которая нетождественна коллективу, могут разрушить ее. Но ведь есть и другая часть, соответствующая частичной тождественности, сопряженной с участием. И общество не может нанести ущерб этой части или ее разрушить своими требованиями и действиями. Она за пределами судьбы и смерти, Она вечна в том смысле, в каком вечным мыслится коллектив — сущностная манифестация всеобщего бытия. Все это не обязательно сознается членами коллектива. Но такова подоплека всех их эмоций и действий. Они бесконечно заинтересованы в осуществлении своей группы; в этой заботе они черпают свое мужество быть. Слово «вечный» не следует путать с «бессмертным». Ни в старом, ни в новом коллективизме нет идеи индивидуального бессмертия. Личное бессмертие здесь замещает коллектив, в котором индивид участвует. Но, с другой стороны, это и не покорность уничтожению — иначе мужество быть стало бы невозможно. Это нечто превосходящее и бессмертие, и уничтожение: это участие в чем-то таком, что превосходит смерть, а именно — в общественном деле, и через него — в бытии как таковом. Человек, стоящий на этой позиции, в момент самопожертвования ощущает, что он вливается в жизнь коллектива, а через него — в жизнь Вселенной — ее неотъемлемый элемент, пускай даже переставая при этом быть отдельным существом. Это напоминает стоическое мужество; стоицизм, в конце концов, и лежит в основе такой позиции. Как во времена поздней античности, и в наши дни стоическая позиция, даже в ее коллективистской форме, представляет собой единственную серьезную альтернативу христианству. Различие между истинным стоиком и неоколлективистом состоит в том, что последний прежде всего связывает себя с коллективом и уже затем — со Вселенной, тогда как стоик соотносил себя прежде всего с Логосом и лишь затем — с какими-то человеческими группами. Однако в обоих случаях тревога судьбы и смерти принимается в мужество быть частью.
Таким же образом неоколлективистское мужество принимает в себя и тревогу сомнения и бессмысленности. Сила коммунистического самоутверждения не позволяет сомнению реализоваться и не допускает вспышек тревоги бессмысленности. Смысл жизни — в смысле коллектива. Даже жертвы террора, оказавшиеся в самом низу социальной иерархии,
67
не сомневаются в справедливости общих принципов. То, что произошло с ними, — дело фатума, несчастный случай; здесь от них требуется мужество, чтобы противостоять тревоге судьбы и смерти, но не тревоге сомнения и бессмысленности. Благодаря такой уверенности коммунист с презрением смотрит на западное общество. Он видит, как велика в нем тревога сомнения, и считает ее симптомом болезни и близкого конца буржуазного общества. Здесь одна из причин того запрета, который неоколлективистские государства устанавливают на большинство современных форм художественной выразительности; вместе с тем именно эти страны внесли самый значительный вклад в развитие авангардной литературы и искусства накануне прихода коммунистов, да и сам коммунизм в своей воинствующей фазе использовал их антибуржуазность для собственной пропаганды. Однако, после того как был установлен коллективистский режим и придана исключительная важность «самоутверждению в качестве части», эти выражения мужества быть самим собой по необходимости были отброшены.
Неоколлективист способен принять в свое мужество быть частью тревогу вины и осуждения. Не личный его грех вызывает эту тревогу, но фактическое или возможное прегрешение против коллектива. Коллектив в этом отношении замещает для него Бога суда, раскаяния, наказания и помилования. Он исповедуется перед коллективом, и часто в формах, напоминающих раннехристианские или более поздние, сектантские. От коллектива он принимает суд и наказание. Коллективу он адресует свои просьбы о помиловании и обещания исправиться. Если коллектив вновь принимает его в себя, вина снимается и вновь становится возможным мужество быть. Было бы трудно понять весьма поразительные черты коммунистического образа жизни вне той основанной на мужестве быть частью системы, в которой коренятся их (этих черт) онтологические основания (корни) и экзистенциальная сила.
Необходимо заметить, что данное описание, как и описания ранних форм коллективизма, имеет типологический характер. Типологическое описание по своей природе предполагает, что описываемый тип в чистом виде реализуется весьма редко. Реально существуют разной степени приближения, смешения, переходы, отклонения. В мои намерения вовсе не входило дать общую картину русской жизни, включая роль греческой православной Церкви, или различных национальных движений, или отдельных инакомыслящих. Я хотел лишь дать описание неоколлективистской структуры и свойственного ей типа мужества, как они в основном представлены в современной России.
68
МУЖЕСТВО БЫТЬ ЧАСТЬЮ
В ДЕМОКРАТИЧЕСКОМ КОНФОРМИЗМЕ
Тот же методологический подход я применяю и к демократическому конформизму. Характернее всего он реализован в современной Америке, но корни его уходят в европейское прошлое. Как и неоколлективистский образ жизни, он не может быть понят лишь в свете таких факторов, как, например, географическое положение, полиэтническое население, которое необходимо сплавить воедино, длительная изоляция от активной мировой политики, влияние пуританства и т. д. Чтобы понять его верно, следует задать вопрос: какой тип мужества лежит в основе демократического конформизма, как справляется он с тревогами человеческого существования, каким образом он соотносится с неоколлективистским самоутверждением — с одной стороны, и с формами мужества быть самим собой — с другой. Необходимо еще одно предварительное замечание. Современная Америка с начала 30-х годов испытала влияния, идущие из Европы и Азии и несущие такие крайние формы мужества быть самим собой, как экзистенциализм (в литературе и искусстве), или попытки преодолеть тревогу нашего времени в различных формах трансцендентного мужества. Но эти влияния все еще ограничены кругом интеллигенции и тех, у кого под воздействием мировых потрясений открылись глаза на проблемы, поставленные современным экзистенциализмом. Они не проникли в широкие слои нации и не изменили основного направления чувств и мыслей, устоев и институтов. Наоборот, тенденция «быть частью» и утверждать свое бытие путем участия в данных структурах жизни стремительно усиливается. Конформизм растет, хотя еще и не превратился в коллективизм.
Неостоики эпохи Возрождения, преобразовав мужество пассивного приятия судьбы (как у античных стоиков) в активную борьбу с судьбой, уже открыли путь мужеству быть американского демократического конформизма. В символике ренессансного искусства судьбу иногда изображали в образе ветра, наполняющего паруса корабля; человек стоит у кормила и держит курс, насколько это возможно в сложившихся обстоятельствах. Человек стремится реализовать все свои возможности, а возможности эти неисчерпаемы. Ибо он — микрокосм, в котором потенциально присутствуют все космические силы и который включен во все сферы и ярусы Вселенной. В нем — продолжение творчества, когда-то создавшего его самого как центр и цель творения. Теперь человек должен формировать свой мир и себя в согласии с данными ему творческими силами. В нем природа достигает своей завершенности; он принимает ее в свое знание и в свою преобразующую техническую деятельность. Изобразительное искусство вводит природу в
69
человеческую сферу, а человека помещает в природу — при этом и человека, и природу дает в их предельно возможной красоте.
Носитель этого творчества — личность, единственное в своем роде зеркало Вселенной. Всего же ценнее личность творческая — гений, в котором, как позднее формулировал Кант, бессознательное творчество природы прорывается в сознание человека. Такие люди, как Пико делла Мирандола, Леонардо да Винчи, Джордано Бруно, Шефтсбери, Гете, Шеллинг, одушевлялись этой идеей участия в творческом процессе Вселенной. Они сплавили в себе энтузиазм и рациональность. Их мужество было одновременно и мужеством быть самим собой, и мужеством быть частью. Учение об индивиде как микрокосме — участнике творческого процесса макрокосма — открывало им возможность такого синтеза,
Человеческая продуктивность движется от возможности к действительности, от потенциального к актуальному таким образом, что все уже осуществленное несет в себе новые возможности дальнейших реализаций. В этом основополагающая структура прогресса. Вера в прогресс, хотя она и описывается в аристотелевской терминологии, совершенно отлична от понимания самого Аристотеля и вообще всей античности. У Аристотеля движение от возможности к действительности направлено по вертикали, от низших форм бытия к высшим. В современной теории прогресса движение от возможности к действительности — горизонтальное, временное, футуристическое. Именно такую основную форму приобрело самоутверждение западного гуманизма. И это было мужеством, ибо с ростом знаний о Вселенной и о нашем мире росла тревога, которую необходимо было принять в себя. Коперник и Галилей отбросили Землю из центра Вселенной. Она стала маленькой, и, несмотря на «героический порыв», в котором Джордано Бруно бросился в бесконечность Вселенной, чувство затерянности в океане космических тел, движущихся по нерушимым законам, проникло в сердца многих. Мужество Нового времени не было простым оптимизмом. Оно должно было принять в себя глубокую тревогу небытия во Вселенной, не имеющей ни пределов, ни доступного человеку смысла. Эту тревогу можно было принять в мужество быть, но устранить ее было нельзя; и она выходила на поверхность всякий раз, когда мужество ослабевало.
Таков источник мужества быть частью творческого процесса природы и истории, как оно развивалось в западной цивилизации и с поразительной интенсивностью — в Новом Свете. Но это мужество претерпело множество изменений, прежде чем превратилось в тот конформистский тип, который отличает современную американскую демократию. Космический энтузиазм Возрождения исчез под воздействием протестантизма и рационализма, и, возродившись в классико-романтических
70
движениях конца XVIII — начала XIX веков, реальным влиянием в индустриальном обществе он уже обладать не мог. Синтез индивидуализма и участия, основанный на космическом энтузиазме, распался. Установилась постоянная напряженность между мужеством быть самим собой, исходящим из ренессансного индивидуализма, и мужеством быть частью, исходящим из ренессансного универсализма. Крайним формам либерализма был брошен вызов: с одной стороны — попытками реакции возродить средневековый коллективизм, с другой — попытками утопистов создать новое «органичное» общество. Столкновение либерализма и демократии могло вылиться в две формы: или либерализм подрывает демократический контроль над обществом, или же демократия становится тиранической и переходит в тоталитарный коллективизм. Кроме этих динамичных и бурных движений могло иметь место и более статичное и неагрессивное развитие: так родился демократический конформизм, который сдерживает все крайние формы мужества быть самим собой, не разрушая при этом либеральных элементов. Они-то и отличают его от коллективизма. Таким по преимуществу был путь Великобритании. Напряжение между либерализмом и демократией объясняет и многие черты американского демократического конформизма. Но за всеми этими изменениями сохранилось одно: мужество быть частью производительного процесса истории. Это делает современное американское мужество одним из великих типов мужества быть частью. Самоутверждение, которое оно реализует, — это самоутверждение человека как участника творческого развития человечества.
В американском мужестве есть что-то поражающее наблюдателя из Европы, Представление об этом мужестве связывается прежде всего с пионерами, но и теперь оно присуще большинству американцев. Человек пережил трагедию, катастрофу, крушение веры, даже минуты полного отчаяния — и он не чувствует себя ни уничтоженным, ни утратившим смысл жизни, ни проклятым, ни безнадежным. Когда подобные катастрофы переживал римский стоик, он принимал их с мужеством резиньяции. Типичный же американец, утратив основу собственного существования, берется за строительство новой. Это справедливо и по отношению к отдельному человеку, и к нации в целом. Возможность экспериментировать остается: ведь неудача в эксперименте — не причина для разочарования. Творческий процесс, в котором участвует человек, естественно предполагает риск, возможность неудачи и краха, но это не подрывает мужества.
Таким образом, производительный акт сам по себе есть реализация силы и ценности бытия. Вот частичный ответ на вопрос, который часто задают иностранцы, особенно если они теологи: зачем? В чем цель всех этих замечательных средств, создаваемых производительной активностью американского общества? Может быть, средства поглотили
71
саму цель? И нет ли в безудержном производстве средств знака того, что целей вообще нет? Сегодня даже сами американцы часто готовы ответить на последний вопрос утвердительно. Но в производстве средств заключено нечто большее. Не орудия и машины составляют τέλος, внутреннюю цель производства; такая цель — само производство. Средства здесь — более чем средства: они воспринимаются как творения, как символы бесконечных возможностей, заложенных в человеческой производительности. Бытие как таковое в сути своей производительно. Религиозное по своему происхождению слово «творческий» без колебаний прилагается (и христианами, и нехристианами) к производительной деятельности человека; это свидетельствует о том, что творческий процесс истории переживается как нечто Божественное. И, как Божественный, он содержит в себе и мужество быть его частью. Я думаю, в этом контексте правильнее было бы говорить о производительном, а не о творческом процессе, поскольку в центре его — техническое производство.
Исходно демократическо-конформистский тип мужества отчетливо связан с идеей прогресса. Мужество быть частью в прогрессе той группы, к которой принадлежит человек, в прогрессе вашей * нации или всего человечества выражают все специфически американские философские направления: прагматизм, философия процесса, этика роста, прогрессивное образование, крестовый поход во имя демократии. Но этот тип мужества не обязательно рухнет, если поколеблется вера в прогресс (как это происходит сегодня). Прогресс может означать две вещи. В любом действии, при котором производится нечто сверх того, что уже имелось, налицо прогресс (pro-gress, «идти вперед»). В этом смысле деятельность и вера в прогресс неразделимы. Второе значение прогресса — всеобщий метафизический закон прогрессивной эволюции, где накопление создает все более и более высокие формы и ценности. Существование такого закона недоказуемо. В большинстве своем процессы обнаруживают скорее некоторый баланс приобретений и потерь. Тем не менее новые приобретения необходимы, ибо иначе будут потеряны прежние. Мужество участия в производительном процессе не зависит от метафизической идеи прогресса.
Мужество быть частью производительного процесса принимает в себя тревогу в трех ее основных формах. Как оно справляется с тревогой судьбы, мы уже описали. Это особенно важно для такого высоко конкурентного общества, где гарантии безопасности человека сведены почти к нулю. Мужество быть частью производительного процесса побеждает весьма значительную тревогу, ибо угроза исключения из этого процесса, вследствие безработицы или экономического краха, — это
* Автор обращается к американской аудитории. — Прим. ред.
72
как раз то, что в нашей современности значит «судьба». Только в свете такой ситуации можно понять и ужасающий удар, который нанес американской нации Великий кризис 30-х годов, и распространенную в то время утрату мужества быть. Тревога смерти преодолевается здесь двумя способами. Реальность смерти в высочайшей степени исключается из повседневной жизни. Мертвым не позволяют показывать, что они мертвы: их преображают, рядят в маски живых. Другой, и более важный способ противостоять смерти — это вера в продолжение жизни после смерти, то, что называют бессмертием души. Это учение не христианское и едва ли платоническое. Христианство говорит о воскресении и вечной жизни, платонизм — об участии души во вневременной сфере сущностей. Но современная идея бессмертия означает непрерывное участие в продуктивном процессе: «время и вселенная без конца». Не вечный покой личности в Боге, но ее безграничное участие в динамике Вселенной — вот что сообщает человеку мужество встретить смерть. При надежде такого рода нужда в Боге почти исчезает. Можно видеть в Нем гарантию бессмертия, но и без такой гарантии вера в бессмертие вовсе не обязательно поколеблется. Для мужества быть частью производительного процесса все дело решает бессмертие, а не Бог — если только не считать Богом (как это делают некоторые теологи) сам производительный процесс.
Тревога сомнения и бессмысленности здесь потенциально так же велика, как тревога судьбы и смерти. Она коренится в природе конечной производительности. Хотя, как мы видели, средство здесь важно не как средство, а как плод человеческой производительности, полностью подавить вопрос «зачем» не удается. Его замалчивают, но в любую минуту он может вырваться наружу. Сегодня все мы можем свидетельствовать о подъеме этой тревоги и об упадке мужества, которое способно принять ее в себя. Тревога вины и осуждения имеет глубокие корни в американском сознании: она развивалась вначале под влиянием пуританства, потом — евангелическо-пиетических движений. Она остается сильной, даже если ее религиозное основание подорвано. Но в своей встрече с великим мужеством быть частью производительного процесса она меняет свой характер. Чувство вины порождается явными недостатками во всем том, что касается привыкания человека к творческим процессам общества и в недостаточных достижениях в этой сфере. Именно общественная группа, в которой индивидуум продуктивно участвует, выносит суждения, прощает и восстанавливает после того, как привыкание достигнуто и достижения стали видимыми. В этом коренится причина экзистенциальной незначительности опыта оправдания или прощения грехов в сравнении со стремлением к освящению и преображению как бытия индивидуума, так и мира. Требуется новое начинание, которое индивидуум и пытается осуществить. Таким
73
образом, мужество быть частью производительного процесса как бы вбирает в себя тревогу вины.
Участие в производительном процессе требует конформизма и привыкания к методам общественного производства. Эта необходимость возрастает тем сильнее, чем однообразнее и обширнее становятся методы производства. В своем развитии техническое общество приобрело четкие формы. Конформизм по отношению к тем его аспектам, которые поддерживают бесперебойную работу великой машины производства и потребления, увеличивался соразмерно возрастанию влияния средств общественной коммуникации. Мировое политическое мышление и борьба против коллективизма усилили коллективистские черты во всех тех, кто боролся с ним. Этот процесс еще продолжается. И, быть может, он приведет к усилению конформистских элементов в той категории мужества быть частью, которая представлена в Америке. Конформизм может вылиться в подобие коллективизма — не только в отношении экономических аспектов и не столь сильно в отношении аспектов политических, сколько — ив значительной мере — в формах повседневной жизни и повседневного мышления. Произойдет это или нет, а если произойдет, то в какой мере, отчасти зависит от силы сопротивления тех, кто олицетворяет полюс, противоположный мужеству быть — мужеству быть самим собой. Так как их критика конформистских и коллективистских форм мужества быть частью является решающим элементом в их самовыражении, мы обратимся к ней в следующей главе. Тем не менее в одном все критики согласны: речь идет об угрозе, нависшей над индивидуумом и сопряженной с различными формами мужества быть частью. Эта угроза есть опасность утратить Я, которая вызывает ответную реакцию против этих форм мужества и порождает мужество быть самим собой — мужество, которое само находится под угрозой, сопряженной с гибелью мира.
74
ГЛАВА 5
МУЖЕСТВО И ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ
(МУЖЕСТВО БЫТЬ САМИМ СОБОЙ)
ПОДЪЕМ СОВРЕМЕННОГО ИНДИВИДУАЛИЗМА
И МУЖЕСТВА БЫТЬ САМИМ СОБОЙ
Индивидуализм есть самоутверждение индивидуального Я как такового, безотносительно к его участию в мире. Тем самым он полярен коллективизму, самоутверждению Я как части большего целого, безотносительно к индивидуальному характеру этого Я. Индивидуализм вышел из кабалы примитивного коллективизма и средневекового полуколлективизма. Он рос под защитным покровом демократического конформизма и открыто выступил — в умеренной или радикальной формах — в экзистенциализме.
Примитивный коллективизм был подорван опытом переживания личной вины и личного поиска (или сомнения). К концу древнего мира это привело к радикальному нонконформизму скептиков и циников, к умеренному нонконформизму стоиков, к попытке обрести трансцендентное основание для мужества в стоицизме, мистицизме и христианстве. Эти мотивы присутствовали в средневековом полуколлективизме, и, как ранний коллективизм, он оказался разрушен переживанием личной вины и аналитической силой радикального сомнения. Но движение к индивидуализму было долгим. Протестантизм, несмотря на свою сосредоточенность на индивидуальном сознании, сложился в строго авторитарную и конформистскую систему, наподобие своего противника, Римской католической церкви периода Контрреформации. Индивидуализма не было ни в одной из больших вероисповедальных групп. И за их пределами был разве что скрытый индивидуализм, поскольку индивидуалистические тенденции Возрождения они вобрали в себя и приспособили к своему церковному конформизму.
Такое положение сохранялось полтора века, не более. После периода конфессиональной ортодоксии индивидуальное начало вновь выступило вперед. Пиетизм и методизм усилили темы личной вины, личного опыта, личного совершенства. Они не предполагали отклониться от церковного конформизма, но с неизбежностью отклонились; субъективное благочестие стало мостом и к победоносному возвращению автономного разума. Пиетизм был мостом к Просвещению. Но даже Просвещение не считало себя индивидуалистичным. Верили уже не в тот конформизм, который основывался на библейском Откровении, а в тот, основание которому положит сила разума, действующая в каждом человеке. Принципы практического и теоретического разума почитались
75
универсальными; за ними признавалась способность создать — путем обучения и поиска — новый конформизм.
Вся эта эпоха верила в принцип «гармонии» — гармонии как закона Природы, в согласии с которым деятельность каждого, как бы индивидуалистично она ни была задумана и выполнена, ведет — «за спиной» отдельного действующего лица — к гармоничному целому: к истине, которую если не все, то по крайней мере большинство может принять; к благу, в котором все больше и больше людей сможет участвовать; к солидарности, основанной на свободной деятельности каждого индивида. Индивид может быть свободным, не разрушая при этом группы. Функционирование экономического либерализма, казалось, подтверждало такое представление: законы рынка создают, за спиной отдельных конкурентов, наибольшее количество товаров для всех. Функционирование либеральной демократии показало, что свобода индивида принимать политические решения не разрушает политической солидарности. Научный прогресс показал, что индивидуальные исследования и свобода научных убеждений не препятствует высокой степени научного согласия. Педагогика показала, что акцент на свободном развитии отдельного ребенка не уменьшает его шансов стать активным членом конформистского общества. А история протестантизма подтвердила веру реформаторов в то, что свободное общение каждого человека с Библией способно создать церковное согласие, несмотря на индивидуальные и даже конфессиональные различия. Поэтому ни в малейшей мере не был абсурдным сформулированный Лейбницем закон предустановленной гармонии, в связи с его учением о монадах, составляющих всякое тело: монады, не имея окон и дверей, открытых друг другу, тем не менее участвуют в одном и том же мире, который присутствует в каждой из них, явно или неявно. Проблема индивидуализации и участия казалась разрешенной — как в плане философском, так и в плане практическом.
Мужество быть самим собой, как его понимало Просвещение, есть мужество, в котором индивидуальное самоутверждение включает в себя участие во всеобщем рациональном самоутверждении. Таким образом, утверждается не индивидуальное Я само по себе, но индивидуальное Я как носитель разума. Мужество быть самим собой есть мужество следовать разуму и бросать вызов иррациональному авторитету. В данном отношении (и только в нем) — это неостоицизм. Ибо мужество быть эпохи Просвещения не есть мужество быть, осуществляемое в резиньяции. Оно не только смело встречает превратности судьбы и неизбежность смерти, но и утверждает себя как силу, способную преобразить — в соответствии с требованиями разума — реальность. Это борющееся, дерзкое мужество. Оно побеждает угрозу бессмысленности мужественным усилием. Оно побеждает угрозу вины принимая
76
ошибки, недостатки, проступки (и в личной, и в социальной жизни) как нечто неизбежное и в то же время через воспитание поддающееся исправлению. Мужество быть самим собой в атмосфере Просвещения — это мужество утверждать себя как мост от низшей к высшей степени разумности. Ясно, что такой тип мужества должен был стать конформистским в тот самый момент, когда завершится его революционное наступление на все, что противоречит разуму, а именно — в момент победы буржуазии.
РОМАНТИЧЕСКОЕ И НАТУРАЛИСТИЧЕСКОЕ
МУЖЕСТВО БЫТЬ САМИМ СОБОЙ
Романтическое движение создало представление об индивидуальности, равноотличное и от средневекового, и от просвещенческого и включающее в себя элементы обоих. Здесь особо важный смысл придается индивидуальному, поскольку оно несравненным, бесконечно значащим образом выражает субстанцию бытия. Не согласованность (конформизм), а различение (дифференциация) — замысел путей Господних. В самоутверждении человеческой единственности, в принятии требований собственной индивидуальной природы и состоит истинное мужество быть. Это не обязательно предполагает волюнтаризм и иррациональность, ибо уникальность личности заключена в ее творческих возможностях. Но опасность очевидна, Романтическая ирония подняла человека над всяким содержанием и сделала его пустым; он более не обязан участвовать в чем бы то ни было вполне серьезно. Такого человека, как Ф. Шлегель, мужество быть индивидуальным Я привело к полному пренебрежению общим. Но в то же время оно рождало — в качестве реакции на пустоту такого самоутверждения — желание вернуться к коллективу. Шлегель, а с ним многие другие крайние индивидуалисты прошлого столетия стали римскими католиками, Мужество быть самим собой рухнуло, и человек вернулся к традиционным институализированным формам мужества быть частью, Это превращение было подготовлено другой темой романтической мысли — увлечением коллективными и полуколлективными состояниями прошлого, идеалом «органичного общества». Организм, как часто случалось и прежде, стал символом равновесия индивидуализации и партиципации. Но в начале XIX века его исторической функцией было выражение непотребности в равновесии, а тяги к коллективистскому полюсу. К этому символу прибегали все реакционные группы того времени, которые (по духовным, или политическим, или каким-либо иным соображениям) стремились к созданию «нового средневековья». Таким образом, романтическое движение принесло и радикальную
77
форму мужества быть самим собой, и стремление (не осуществившееся) к радикальной форме мужества быть частью. Романтизм как позиция пережил конкретно-историческое романтическое движение. Так называемая «богема» стала продолжением романтического мужества быть самим собой. «Богема» продолжила романтическую атаку на упрочившуюся буржуазию и ее конформизм. И романтическое движение, и его продолжатели в «богеме» — решающим образом содействовали рождению современного экзистенциализма.
Но и «богема», и экзистенциализм восприняли элементы еще одного движения — натурализма, которое также провозгласило мужество быть самим собой. Слово «натурализм» употребляется в самых разных смыслах. Для нашей цели достаточно иметь в виду тот тип натурализма, для которого существенно индивидуалистское мужество быть самим собой. Ницше — выдающийся представитель такого натурализма. Он романтический натуралист и в то же время — один из важнейших, если не самый важный, предтеча экзистенциалистского мужества быть самим собой. Выражение «романтический натуралист» кажется противоречием в терминах. Между самотрансцендированием романтического воображения и натуралистическим самоограничением эмпирической данностью, как кажется, зияет пропасть. Однако натурализм означает только отождествление бытия с природой и вследствие этого — отказ от сверхъестественного. Вопрос же о природе природы остается открытым. Природа может быть описана механистически или — органологически. Ее можно описать в терминах необходимой прогрессивной интеграции или в терминах творческой эволюции. Ее можно списать как систему законов или как систему структур — или как сочетание того и другого. Натурализм может взять за основу абсолютно конкретное (индивидуальное Я, как мы находим его в человеке) или абсолютно абстрактное (математические уравнения, определяющие характер силовых полей). Все это, как и многое другое, может составлять натурализм.
Но все эти типы натурализма не выражают мужество быть самим собой. Лишь тогда, когда определяющим в структуре природного признается индивидуалистический полюс, натурализм становится романтическим и может соединиться с богемным движением и экзистенциализмом. Это случай волюнтаристских типов натурализма. Если природа (а для натуралиста она означает бытие) видится как творческое выражение бессознательной воли или как продукт élan vital (жизненного порыва), то центры воли, индивидуальные Я оказываются решающими в движении целого. В самоутверждении индивида утверждает или отрицает себя сама жизнь. Даже если все эти Я подчинены некоей высшей вселенской судьбе, они тем не менее определяют собственное бытие свободно. К этой группе принадлежит, по большей части, американский
78
прагматизм. Вопреки американскому конформизму и его мужеству быть частью, прагматизм разделил многие идеи того направления, которое в Европе известно как «философия жизни». Его этический принцип — рост, его воспитательный метод — самоутверждение индивидуального Я, его любимое понятие — творчество. Философы-прагматисты не всегда осознают тот факт, что мужество творить предполагает мужество заменять старое новым — новым, для которого нет норм и критериев, новым, которое содержит риск и которое — в измерениях старого — непредсказуемо. Их социальный конформизм скрыл от них то, что в Европе было понято и выражено открыто. Они не сознают, что прагматизм, если он не сдерживается христианским или гуманистическим конформизмом, логически последовательно приводит к тому мужеству быть самим собой, которое выдвинул радикальный экзистенциализм. Натурализм прагматического типа по характеру (но не по целям) есть наследник романтического индивидуализма и предтеча «императива независимости» экзистенциалистов. «Ненаправляемый рост» по своей природе не отличается от «воли к власти» и élan vital. Однако сами натуралисты различны. Европейские — последовательны и саморазрушительны. Американских же спасает их счастливая непоследовательность: они все еще разделяют конформистское мужество быть частью.
Мужество быть самим собой во всех этих течениях понято как самоутверждение индивидуального Я — вопреки угрожающим ему стихиям небытия. Тревога судьбы побеждается самоутверждением индивида — бесконечно значимого микрокосма. Он медиатор сконцентрированных в нем сил бытия. Он обладает ими в себе — сознавая их и преображая в действии. Индивид направляет ход своей жизни и может противостоять трагедии и смерти в «героическом порыве» и любви к миру, зеркалом которого он является. Даже одиночество его — не абсолютное одиночество, ибо в человеке заключено все содержание Вселенной. Если мы сравним этот вид мужества со стоическим, то обнаружим, что центральная точка различия — это акцент на уникальности индивидуального Я в той линии мысли, которая от Возрождения через романтизм идет к современности. Источник мужества для стоика — в мудрости мудреца, мудрости всеобщей и присущей каждому человеку. Для нашего современника такой источник составляет индивидуальность как таковая. За этим изменением стоит христианское открытие бесконечной ценности личности. Но не эта доктрина сама по себе, а представление об индивидууме как о зеркале Вселенной сообщает современному человеку мужество быть.
Восторг, порождаемый лицезрением мироздания, его познанием и созиданием, отвечает и на вопрос сомнения и бессмысленности. Сомнение — необходимый инструмент познания. И бессмысленность не угрожает до тех пор, пока восторг перед Вселенной и человеком — ее
79
средоточием — живет. Тревога вины устранена; символы смерти, Страшного суда и ада отброшены. Сделано все возможное, чтобы лишить их серьезности. Мужество самоутверждения не должно быть поколеблено тревогой вины и осуждения.
Поздний романтизм открыл новое измерение тревоги вины и ее упразднения. В человеческой глубине он засвидетельствовал разрушительные устремления. Второй период романтического движения (в философии и в поэзии) покончил с идеями гармонии, занимавшими центральное место начинал с Возрождения вплоть до классицизма и раннего романтизма. В эту эпоху, представителями которой в философии были Шеллинг и Шопенгауэр, а в литературе — Е. Т. А. Гофман, родился своего рода демонический реализм, оказавший огромное влияние на экзистенциализм и глубинную психологию (психоанализ). В этом случае мужество утверждать себя должно включать и мужество утверждать собственную демоническую глубину. Это самым серьезным образом противоречило моральному конформизму обычного протестанта и даже среднего гуманиста, но было жадно подхвачено «богемой» и романтическими натуралистами. Мужество принять в себя тревогу демонического, при всем его разрушительном и часто ведущем к отчаянию характере, послужило им формой, в которой преодолевается тревога вины. Но это стало возможным только в результате того, что предыдущее развитие традиции отказалось от идеи личного зла и заменило его космическим злом, т. е. некоторым структурным элементом существования, а не делом личной ответственности. Мужество принять в себя тревогу вины стало мужеством утверждать в себе демоническое. Это оказалось возможным и потому, что демоническое перестало мыслиться однозначно отрицательным началом: в нем увидели составную часть творческой силы бытия. Демоническое как амбивалентная основа творчества — открытие позднего романтизма; через «богему» и натурализм его воспринял экзистенциализм XX века. Психология подсознательного (психоанализ) научно подтвердила его.
В каком-то смысле все формы индивидуалистического мужества возвещают радикализм XX века, когда мужество быть самим собой нашло свое наиболее яркое выражение в движении экзистенциалистов. Из очерка индивидуализма, изложенного в этой главе, можно понять, что мужество быть самим собой не может полностью оторваться от противоположного полюса — от мужества быть частью. Более того, такая изоляция, противостоявшая опасности потерять в утверждении себя как индивида свой собственный мир, и тем побеждающая ее, открывает путь к чему-то такому, что превышает и мир, и Я. Идея микрокосма — зеркала всей Вселенной; идея монады, представляющей мир; идея индивидуальной воли к власти, выражающей собой волю к власти жизни в лоне самой жизни, — все идеи такого рода говорят о возможности какого-то решения, которое трансцендирует оба типа мужества быть.
80
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТСКИЕ ФОРМЫ МУЖЕСТВА
БЫТЬ САМИМ СОБОЙ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ
Поздний романтизм, «богема» и романтический натурализм подготовили путь современному экзистенциализму — наиболее радикальной форме мужества быть самим собой. Несмотря на обилие новейшей литературы об экзистенциализме, для целей нашего исследования необходимо рассмотреть его онтологический характер и отношение к мужеству быть.
Прежде всего, необходимо различать экзистенциальную позицию — и собственно экзистенциализм, философский или художественный. Экзистенциальная позиция есть позиция вовлеченности, участия, в противовес чисто теоретической или беспристрастной позиции. В этом смысле определение «экзистенциальная» указывает на «участие в ситуации» (особенно в ситуации познания) всем существованием данного человека. Это включает временные, пространственные, исторические, психологические, социологические и биологические параметры. Сюда же входит и конечная свобода, преобразующая их. Экзистенциальное знание есть такое знание, в котором участвуют все эти параметры, т, е. все в целом существование познающего. Может показаться, что это противоречит требованию обязательной объективности знания и требованию беспристрастности познавательного акта. Но ведь знание зависит от своего объекта. Есть такие сферы реальности (точнее, сферы абстракций реальности), в которых адекватный познавательный подход — возможно полная беспристрастность. К этой области относится все, что может быть выражено языком количественных измерений. Но такой подход совершенно неадекватен применительно к реальности в ее бесконечной конкретности.
Я, ставшее предметом вычислений и операций, перестает быть Я, Оно становится вещью. Чтобы знать, что есть Я, необходимо участвовать в Я. Участвуя же в нем — мы изменяем его. Во всяком экзистенциальном знании субъект и объект преобразуются самим актом познания. Экзистенциальное знание основано на встрече, в которой создается и узнается некоторое новое значение. Знание какого-то человека, знание истории, знание духовного творения, религиозное знание — все это носит экзистенциальный характер. Данное обстоятельство не исключает теоретической объективности основанной на беспристрастности, но ограничивает позицию остранения, делая ее одним из элементов внутри всеобъемлющего познавательного участия. Можно иметь точное и беспристрастное знание о другом человеке, его психологическом типе, его предсказуемых реакциях, но, зная все это, вы не знаете самого человека,
81
его центрированного Я, его знания себя. Только участвуя в его Я — совершая экзистенциальный прорыв в центр его бытия — вы узнаете его в ситуации вашего прорыва к нему. Таково первое значение «экзистенциального». Экзистенциальное означает позицию участия — участия собственным существованием в существовании другого.
Второе значение «экзистенциального» относится не к позиции, а к содержанию. Этим характеризуется особая форма философии — экзистенциализм. Его мы и рассмотрим, поскольку именно в нем, как уже отмечалось, мужество быть самим собой нашло свою наиболее радикальную форму. Но прежде покажем, почему и позиция, и содержание могут быть обозначены словами, которые коренятся в общем термине «экзистенция» (лат. existentia — существование). У экзистенциальной позиции и экзистенциалистского содержания есть нечто общее: это такое понимание человеческой ситуации, которое противостоит пониманию не-экзистенциальному. Эссенциализм предполагает, что человек способен в познании и в жизни преодолеть конечность, отчуждение и неопределенность человеческого существования. Классическое выражение эссенциализма дает система Гегеля. Когда Киркегор порвал с эссенциальной системой Гегеля, он поступил двояко: провозгласил некую экзистенциальную позицию и обосновал философию существования, экзистенциализм. Он понял, что знание того, что для нас бесконечно важно, возможно лишь в позиции бесконечной заинтересованности, в экзистенциальной позиции. Кроме того, он развил антропологическое учение, которое описывает отчуждение человека от собственной сущностной природы в терминах тревоги и отчаяния. Находясь в экзистенциальной ситуации конечности и отчуждения, человек может достичь истины лишь с экзистенциальной позиции. «Человек не сидит на престоле Бога», участвуя в Его сущностном знании всего сущего. Человек не обладает позицией чистой объективности по ту сторону собственной конечности и отчуждения. Его познавательная способность так же обусловлена его существованием, как и все его бытие. Здесь связь двух значений «экзистенциального».
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
Обращаясь теперь к экзистенциализму не как позиции, а как содержанию, мы можем различать три его значения: экзистенциализм как точка зрения, как протест, как способ выражения. Экзистенциальная точка зрения присутствует во многих теологических системах, во многих философских и художественных течениях. Но она остается точкой зрения, которая иногда даже не признается как таковая. После возникновения отдельных его предтеч экзистенциализм как протест
82
стал сознательным движением начиная со второй трети XIX века и в значительной степени определил судьбу XX века. Экзистенциализм как способ выражения характеризует философию, искусство и литературу периода двух мировых войн — повсеместное распространение тревоги сомнения и бессмысленности. Он остается способом выражения и нашей сегодняшней ситуации.
Приведем несколько примеров экзистенциалистской точки зрения. Наиболее характерен и в то же время наиболее важен для развития всех форм экзистенциализма Платон. Вслед за орфическим учением об условиях человеческого существования он учит об отделении человеческой души от своего «дома» в сфере чистых сущностей. Человек отчужден от того, чем он является по своему существу. Его существование в преходящем мире противоречит его сущностному участию в вечном мире идей. Все это выражено на языке мифа, поскольку существование сопротивляется умозрительному обобщению. Только сфера сущностей допускает структурный анализ. Всякий раз, когда Платон прибегает к мифу, он описывает переход от сущностного бытия к экзистенциальному отчуждению — и возвращение «домой». Платоновское различение сущностной и экзистенциальной сфер оказалось фундаментальным для всего будущего развития. Оно лежит и в основе современного экзистенциализма.
Другие примеры экзистенциалистской точки зрения — классические христианские учения о грехопадении и спасении. Их структура отчасти подобна платоновской. Как и у Платона, сущностная природа человека и мира блага. В христианской мысли она блага потому, что она творение Божие. Но сущностная или тварная благость утрачена человеком. Падение и грех извратили не только его этические, но и познавательные свойства. Он — пленник конфликтов собственного существования; не в силах вырваться из них и его разум. Но как у Платона над-историческая память не может быть до конца утрачена даже в самых отчужденных формах человеческого существования, так и в христианстве сущностная структура человека и его мира сохраняется: поддерживает и направляет ее творческая сила Бога, а это создает возможность не только некоторого блага, но и некоторой истины. Только благодаря этому и может человек сознавать конфликты собственного экзистенциального состояния и надеяться на восстановление своего сущностного бытия.
И платонизм, и классическая христианская теология обладают экзистенциальной точкой зрения. Она определяет их общее понимание человеческой ситуации. Но ни платонизм, ни христианство нельзя назвать экзистенциализмом в точном смысле этого слова. Экзистенциалистская точка зрения включена в рамки их эссенциалистской онтологии. Это справедливо не только в отношении Платона, но и в отношении Августина, несмотря на то, что его теология содержит самые
83
глубокие прозрения негативной глубины человеческого опыта, более чем чья-либо даже во времена раннего христианства, и несмотря на то, что ему пришлось защищать свое учение о человеке от эссенциалистского морализма Пелагия.
Продолжая августиновский анализ условий человеческого существования, заметам, что монашеское и мистическое «самоиспытание» открыло обширный материал психологии подсознательного, который вошел в теологические разделы о тварности, грехе и освящении человека. Опыт внутреннего самопознания выразился в средневековом понимании демонического; к нему прибегали исповедники, особенно в монастырях. Многие темы, которые теперь изучают психология подсознательного и новейший экзистенциализм, были хорошо знакомы религиозным «аналитикам» Средних веков. Их знали и реформаторы, в особенности Лютер, чьи диалектические описания неоднозначности блага, демонического отчаяния и нужды в Божественном прощении глубоко укоренены в средневековом исследовании человеческой души в ее отношении к Богу.
Величайшим поэтическим выражением экзистенциалистской точки зрения Средневековья стала «Божественная комедия» Данте. Как и монашеская психология подсознательного, она остается в рамках схоластической онтологии. Но в этих границах она достигает и предельных глубин человеческого саморазрушения и отчаяния, и предельных высот мужества и спасения, и в поэтических символах дает всеобъемлющее экзистенциальное учение о человеке. Некоторые ренессансные художники в своей графике и живописи предвосхитили современное экзистенциалистское искусство. Демонические сюжеты, привлекавшие Босха, Брейгеля, Грюневальда, испанцев и южных итальянцев, позднеготических мастеров массовых сцен и многих других, выражают экзистенциальное понимание человеческой ситуации (вспомним, например, «Вавилонскую башню» Брейгеля). Но никто из них окончательно не порвал со средневековой традицией. Это была все еще экзистенциалистская точка зрения, но не экзистенциализм.
В связи с рождением современного индивидуализма я уже упоминал о номиналистском расколе универсалий на индивидуальные предметы. В номинализме есть нечто, предвосхищающее мотивы современного экзистенциализма. Например, его иррационализм, возникший в результате атак Дунса Скотта и Оккама на философию сущностей. Акцент на случайности всего сущего делает и волю Бога, и бытие человека случайным. Это сообщает человеку ощущение явного отсутствия категорической необходимости не только в нем самом, но и в мире. И это внушает ему тревогу. Другой мотив современного экзистенциализма, предвосхищенный номинализмом, — побег в авторитет — результат распада универсалий и неспособности отдельного индивидуума проявить мужество быть самим собой. Поэтому номиналисты перекинули мост к церковному
84
авторитаризму, который в раннем и позднем Средневековье подчинил себе все и создал современный католический коллективизм. И при всем этом номинализм не был экзистенциализмом, но лишь одним из важнейших предшественников экзистенциалистского мужества быть самим собой. Номинализм не сделал решающего шага, поскольку даже у него не было намерения порвать со средневековой традицией.
Что же такое мужество быть в той ситуации, когда экзистенциалистская точка зрения еще не вышла из эссенциалистских рамок? Вообще говоря — это мужество быть частью. Но такой ответ не полон. Всюду, где есть экзистенциалистская точка зрения, есть и проблема человеческой ситуации, переживаемой отдельным человеком. В конце «Горгия» Платон ставит человека перед загробным судьей Радамантом, который определяет личную правоту или вину каждого. В классическом христианстве Вечному Суду предстоит каждый отдельный человек. У Августина всеобщность первородного греха не отменяет двойственности вечной судьбы для каждого. Монашеское и мистическое самоиспытание судит индивидуальное Я. Данте помещает каждого, в согласии с его характером, в разные сферы реальности. Художники «демонических сюжетов» создают ощущение человеческого одиночества в мире как таковом. Номинализм же преднамеренно изолирует индивидуальное. И тем не менее мужество быть во всех этих случаях не есть мужество быть самим собой. В любом случае существует некое всеобъемлющее целое, из которого это мужество выводится: небо, Царствие Божие, Божественная благодать, провиденциальная структура реальности, авторитет Церкви. Однако это не есть возвращение к монолитному мужеству быть частью. Это, скорее, движение — вперед или вверх — к источнику мужества, превосходящему и мужество быть частью, и мужество быть самим собой.
ОТКАЗ ОТ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Экзистенциалистский бунт XIX века был реакцией на утрату экзистенциалистской точки зрения, которая произошла в самом начале Нового времени. Если первый период Возрождения, представленный Николаем Кузанским, Флорентийской Академией и раннеренессансной живописью, еще направлялся авгусгиновской традицией, то позднее Возрождение порвало с ней и создало новый научный эссенциализм В Декарте эта антиэкзистенциальная тенденция очевиднее всего. Существование человека и его мира берется в «скобки», как назвал это Гуссерль, который вывел из философии Декарта свой феноменологический метод. Человек становится чистой сознательностью, голым эпистемологическим субъектом. Мир (включая и психосоматическое бытие
85
человека) становится объектом научного изучения и технического манипулирования. Человек в его экзистенциальных противоречиях исчезает. Как совершенно правильно показали современные философы экзистенциалисты, за декартовским cogito ergo sum (мыслю, следовательно, существую) стоит проблема природы этого sum (существую), которая гораздо значительнее, чем простая cogitatio (сознавание): это проблема существования во времени и пространстве, в условиях ограниченности (конечности) и отчуждения.
Протестантизм, в своем отказе от онтологии, казалось, вновь акцентирует внимание на экзистенциалистской точке зрения. И действительно, протестантская редукция догмы к конфронтации человеческого греха и Божественного прощения (со всеми предпосылками и следствиями этой конфронтации) близка экзистенциалистской точке зрения. Однако с существенным ограничением: богатство экзистенциального материала, открытого монашеством Средних веков в самоиспытании, было утрачено — не самими реформаторами, но их последователями, сосредоточившимися па доктринах оправдания и предопределения. Протестантские теологи подчеркивали ничем не обусловлен! пай характер Божьего суда и свободный характер Божьего прощения. Они с недоверием относились к анализу человеческого существования и не углублялись в элементы относительного и неоднозначного в человеческом состоянии. Напротив, они полагали, что подобные соображения могут ослабить те абсолютные НЕТ и ДА, которые определяют отношения Бога и человека. Но следствием такого не-экзистенциалистского учения протестантских теологов стало то, что доктринальные понятия Библейского Благовестил проповедовались в качестве объективной истины, без всякой попытки найти посредника между Благовестием и человеком в его психосоматическом и психосоциальном существовании. (Лишь под давлением социальных движений конца XIX века и в силу развития психологии в XX веке протестантизм стал более открытым для экзистенциальных проблем современной ситуации.) В кальвинизме и сектантстве человек все больше и больше превращался в абстрактный моральный субъект, подобно тому как у Декарта он был субъектом эпистемологическим. И когда в XVIII веке содержание протестантской этики приспособилось к запросам развивающегося промышленного общества, которое призывало человека к рациональному управлению самим собой и своим миром, — тогда антиэкзистенциалистская философия и антиэкзистенциалистская теология слились воедино. Рациональный субъект, нравственный и научный, вытеснил субъект экзистенциальный с его противоречиями и отчаянием.
Один из вождей этого движения, учитель автономной этики Эммануил Кант, сохранил в своей философии две возможности для экзистенциальной точки зрения: первая — это учение о дистанции между конечным человеком и высшей реальностью; вторая — учение об
86
извращенности человеческого разума радикальным злом. Но такими экзистенциалистскими допущениями Кант вызвал нападки многих из своих почитателей, включая и величайших среди них — Гете и Гегеля. Оба критика были решительными антиэкзистенциалистами. В попытке Гегеля представить всю действительность в виде системы сущностей, более или менее адекватным отражением которой является существующий мир, эссенциалистское направление в новой философии достигло своей кульминации. Существование было выведено из сущности: мир как таковой разумен. Существование есть необходимое выражение сущности. История есть проявление истинного бытия в условиях существования. Ее ход можно понять и оправдать. Мужество, побеждающее отрицательное в индивидуальной жизни, возможно для тех, кто участвует во всеобщем процессе, посредством которого абсолютный Разум реализует себя. Тревога судьбы, вины и сомнения преодолевается в восхождении через различные уровни понимания к высшему — философской интуиции самого универсального процесса. Гегель попытался соединить мужество быть частью (особенно нации) с мужеством быть самим собой (особенно мыслителя) в мужестве, которое трансцендентно обоим и обладает мистическим фоном.
Однако игнорировать экзистенциалистские элементы у Гегеля было бы заблуждением. Они гораздо сильнее, вопреки распространенному мнению. Во-первых, Гегель сознает онтологию не-бытия. Динамической силой его системы является отрицание, которое движет абсолютную Идею (область сущностей) к существованию и возвращает существование назад к абсолютной Идее (которая в процессе этого актуализирует себя как абсолютный Разум, или Дух). Гегелю ведомы тайна и тревога небытия. Однако он сводит их к самоутверждению бытия. Вторым экзистенциалистским элементом у Гегеля является его учение, согласно которому в существовании нельзя достичь ничего великого без страсти и интереса. Эта формула, приводимая им в Предисловии к Философии истории, показывает, что Гегель был знаком с прозорливыми воззрениями романтиков и философов жизни, касающиеся нерациональных пластов человеческой природы. Третьим элементом, который, подобно двум другим, глубоко повлиял на экзистенциалистских оппонентов Гегеля, представляет собой реалистическую оценку проблемы индивидуума в историческом процессе. История, говорит Гегель в своем Предисловии, не является тем местом, где индивидуум может обрести счастье. Из этого следует, что или индивидуум должен-подняться над всеобщим процессом и войти в положение интуитивно мыслящего философа, или экзистенциальная проблема индивидуума не поддается разрешению. На этом зиждился бунт экзистенциалистов против Гегеля и против мира, отраженного в его философии.
87
ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ КАК БУНТ
Бунт против эссенциалистской философии Гегеля был осуществлен при помощи экзистенциалистских элементов, которые присутствовали, хотя и в смягченной форме, в философии самого Гегеля Первым мыслителем, начавшим эту экзистенциалистскую атаку, был бывший друг Гегеля Шеллинг, от которого Гегель во многом зависел в прошлом. В старости Шеллинг создал так называемую Позитивную философию, большая часть концепций которой было использовано революционными экзистенциалистами XIX века.
Шеллинг называл эссенциализм «отрицательной философией», поскольку тот абстрагируется от реального существования; а «положительной философией» он называл работу сознания человека, переживающего, мыслящего, принимающего решения в своей исторической ситуации. Он первым использовал термин «экзистенция» (существование) в противовес философскому эссенциализму. И хотя его философия была отвергнута (ибо христианский миф он философски переизложил в экзистенциалистских терминах), он оказал влияние на многих мыслителей — и прежде всего на Киркегора.
Шопенгауэр использовал волюнтаристскую традицию для своего анти-эссенциалистского образа мысли. Он вновь открыл те свойства человеческой души и те экзистенциальные затруднения человека, которые были скрыты для эссенциалистской тенденции современной ему мысли. В то же самое время, Фейербах подчеркнул роль материальных условий человеческого существования и вывел религиозную веру из стремления человека превзойти конечность в трансцендентном мире. Макс Штирнер написал книгу, где мужество быть самим собой выразилось в форме практического солипсизма, который разрушал всякую возможность общения между людьми. К экзистенциальному бунту примыкал и Маркс — в той мере, в какой он противопоставил реальное существование человека в условиях раннего капитализма гегелевской эссенциалистской концепции примирения человека с самим собой в данном мире. Важнейшим среди всех экзистенциалистов был Ницше, чье описание европейского нигилизма показало мир, в котором человеческое существование дошло до крайней бессмысленности. Философы жизни и прагматисты пытались вывести раздвоение на субъект и объект из чего-то такого, что предшествовало бы им обоим, — т. е. из «жизни», и объяснить объективированный мир как самоотрицание творческой жизни (Дильтей, Бергсон, Зиммель, Джеймс). Один из крупнейших ученых XIX века Макс Вебер описал трагическое саморазрушение жизни, происходящее сразу же после того, как она попадает под контроль технического разума. В конце века все это было еще протестом. Сама ситуация заметно не изменилась
88
Начиная с последнего десятилетия XIX века бунт против опредмеченного мира определил характер искусства и литературы. Если великие французские импрессионисты, несмотря на свою подчеркнутую субъективность, еще не преодолели раскола между субъективным и объективным, но трактовали сам субъект как научный объект, то начиная с Сезанна. Ван Гога и Мунка положение изменилось. С этого времени проблема существования явилась в тревожащих формах художественного экспрессионизма. Экзистенциалистский бунт на всех своих фазах открывал огромный психологический материал. Революционеры-экзистенциалисты, как, например, Бодлер и Рембо в поэзии, Флобер и Достоевский в романе. Ибсен и Стриндберг в драматургии, совершили бездну открытий, углубляясь в пустыни и джунгли человеческой души. Их прозрения подтвердила и методологически организовала психология подсознательного, возникшая в конце века. Когда 31 июля 1914 года окончился XIX век, экзистенциалистский бунт перестал быть бунтом, он стал зеркалом переживаемой действительности.
Угроза бесконечной потери — потери индивидуальной личности — толкала революционных экзистенциалистов ХIХ столетия в наступление. Они сознавали, что развивается процесс, превращающий людей в вещи, в куски реальности, которые чистая наука может расчислять, а техническая — контролировать. Идеалистическое крыло буржуазной мысли отождествило человека с простым сосудом, в котором универсалии занимают более или менее подобающее им место. Натуралистическое же крыло отождествило человека с пустым полем, на которое падают чувственные впечатления, причем то или другое из них одерживает верх в зависимости от его интенсивности. В обоих этих случаях индивидуальное Я оказалось пустым пространством, носителем чего-то такого, что не есть оно само, чего-то чуждого, такого, из-за чего Я отчуждается от самого себя. Идеализм и натурализм сходны в своем отношении к живой личности: оба исключают ее бесконечную значимость и превращают в пространство, сквозь которое проходит нечто другое. Обе философии описывают общество, задуманное для освобождения человека, но впавшее в рабство вещам, которые само и создало. Безопасность, гарантируемая хорошо налаженным механизмом технического контроля над природой, тонким психологическим контролем над личностью, стремительно растущим организационным контролем над обществом, — эта безопасность куплена дорогой ценой: человек, ради которого все это было изобретено, становится средством для обслуживания этих средств. Здесь причина борьбы Паскаля с математическим рационализмом XVII века, борьбы романтиков с моральным рационализмом конца XVIII, атак Киркегора на обезличивающую логику мышления Гегеля; здесь же исходная точка выступления Маркса против экономической дегуманизации, борьбы Ницше за творчество, борьбы Бергсона
89
с пространственным миром мертвых объектов. Именно здесь источник стремления многих философов жизни спасти жизнь от разрушительной силы, превращающей Я в предмет. Они боролись за сохранение личности, за самоутверждение Я в ситуации, где Я все более и более теряется в своем мире. Они пытались указать путь к мужеству быть самим собой в условиях, которые уничтожают Я и замещают его вещью.
СОВРЕМЕННЫЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ
И МУЖЕСТВО ОТЧАЯНИЯ
МУЖЕСТВО И ОТЧАЯНИЕ
Экзистенциализм, каким он явился в XX веке, продемонстрировал самое живое и угрожающее значение «экзистенциального». В нем общее развитие подходит к такой точке, которую перейти невозможно. Экзистенциализм стал реальностью во всех странах Запада. Он выразился во всех сферах духовного творчества человека, он пронизал все образованные слои общества. Экзистенциализм нашего века — не изобретение богемного философа или невротика-романиста, не сенсационное преувеличение ради денег и популярности, не унылая игра с отрицающим началом. Все это может присутствовать в нем, но сам по себе он нечто иное. Экзистенциализм есть выражение тревоги бессмысленности и попытка принять эту тревогу в мужество быть самим собой.
В этих двух перспективах и следует рассматривать современный экзистенциализм. Это не простой индивидуализм, рационалистического, романтического или натуралистического типа. В отличие от трех своих предтеч, он пережил опыт всеобщего крушения смысла. Человек XX века утерял осмысленный мир и Я, живущее смыслами, почерпнутыми в духовном центре. Созданный человеком мир объектов поглотил своего создателя, теряющего в нем собственную субъективность. Ради своих изделий человек пожертвовал самим собой. Но он еще осознает то, что он потерял — или то, что продолжает терять. Он еще достаточно человек, чтобы переживать свое обесчеловечение как отчаяние. Он не знает выхода, но пытается спасти свою человечность, обозначая создавшееся положение как «безвыходное». Он борется с мужеством отчаяния, мужеством принять в себя свое отчаяние и сопротивляться крайней угрозе небытия обращаясь к мужеству быть самим собой. Любой исследователь современной экзистенциалистской философии, искусства, литературы может очертить их амбивалентную структуру: бессмысленность, приводящая к отчаянию; страстное отречение от такого положения — и успешная или безуспешная попытка принять тревогу бессмысленности в мужество быть самим собой.
90
Неудивительно, что тех, кто остался непоколебленным в своем мужестве быть частью (в коллективистской или конформистской его формах), тревожат выражения экзистенциалистского мужества отчаяния. Они неспособны понять то, что происходит в наше время. Они не способны отличить в экзистенциализме истинную треногу от невротической. Они обличают как нездоровую тягу к отрицательному то, что на самом деле представляет собой мужественное приятие отрицательного. Они называют упадком то, что на самом деле является творческим выражением упадка. Они отвергают как бессмыслицу осмысленную попытку вскрыть бессмысленность нашей ситуации. Широкое сопротивление современному экзистенциализму вызвано не той трудностью понимания, которая обыкновенна в случае открытия новых путей мысли и художественной выразительности, но желанием защитить свое собственное ограниченное мужество быть частью. Человек каким-то образом ощущает, что эта его безопасность — не истинная: ему приходится подавлять в себе искушение принять экзистенциалистское видение. Он даже не без удовольствия наблюдает их (в театре и в романах), но ни за что не согласится принять это всерьез, — те как разоблачение его собственной экзистенциальной бессмысленности и скрытого отчаяния Бурная реакция против современного искусства в коллективистских (нацистских, коммунистических) и конформистских (американская демократия) обществах показывает, что они ощущают подлинную угрозу себе с его стороны. Но ведь нельзя ощущать духовной угрозы со стороны того, что не является частью нас самих. Поскольку сопротивление небытию путем редукции бытия есть симптом невротического характера, экзистенциалисты могли бы ответить на частые упреки в невротичности: а не вскрываются ли в сознании их оппонентов невротические защитные механизмы — механизмы антиэкзистенциалистского стремления к традиционной безопасности?
Нужно ли спрашивать о том, что делать в этой ситуации христианской теологии? Она должна решать в пользу Истины против Безопасности, даже если эта безопасность освящена и поддерживается Церквами. Конечно, с самого начала церковной истории существовал — и существует — христианский конформизм, существует и христианский коллективизм или, по меньшей мере, полуколлективизм. Но ни в каком случае это не должно приводить христианских теологов к отождествлению христианского мужества с мужеством быть частью. Они не должны забывать о том, что мужество быть самим собой есть необходимый корректив к мужеству быть частью, даже если они справедливо полагают, что ни одна из этих форм мужества не являет собой окончательного решения.
91
МУЖЕСТВО ОТЧАЯНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ И ЛИТЕРАТУРЕ
Мужество отчаяния, переживание бессмысленности и самоутверждение вопреки отчаянию и бессмысленности открыто выражают экзистенциалисты XX века. Бессмысленность — их общая проблема. Тревога сомнения и бессмысленности, как мы видим, есть тревога нашего времени. Несомненно, тревога судьбы и смерти, виновности и осуждения здесь в неявном виде присутствуют, однако они не играют решающей роли Когда Хайдеггер говорит о предчувствии нашей собственной смерти, его занимает вовсе не проблема бессмертия, а проблема смысла этого предчувствия смерти для человеческой ситуации. Когда Киркегор рассматривает проблему вины, им движет не теологическая проблема греха и прощения, но вопрос: каким образом человек может проводить существование, сознавая свою личную вину? Проблема смысла волнует современных экзистенциалистов даже тогда, когда они говорят о конечности и виновности.
В ХIХ веке произошло некое решающее событие, которое в XX сто летим легло в основу поисков смысла и отчаяния в нем, — утрата Бога Фейербах устранил Бога, объяснив его как объективацию бесконечного желания человеческого сердца, Маркс — как идеологическую» попытку подняться над данной реальностью. Ницше — как ослабление воли к жизни Результатом была декларация: «Бог умер». С ним умерла вся система ценностей и смыслов, в которых человек жил. Это пережиналось как потеря — К как освобождение. Это вело или к нигилизму, или к мужеству, которое принимает небытие в себя. Никто не повлиял на современный экзистенциализм сильнее, чем Ницше, к. по-видимому, никто другой столь полно, с последовательностью, доходящей до абсурда, не раскрыл волю быть самим собой. В нем ощущение бессмысленности претворилось в отчаяние и саморазрушение. На таких исходных посылках экзистенциализм, т с. большое искусство, литература и философия XX века, являет мужество видеть вещи такими, каковы они есть, и мужество выражать тревогу бессмысленности. Это творческое мужество, проявляющееся в художественном выражении отчаяния Сартр назвал одну из своих лучших пьес «Выхода нет». Безысходность — классически: формула для состояния отчаяния. Однако у самого писателя есть выход; он может сказать «выхода нет»: и тем самым принять состояние бессмысленности ил себя. Элиот назвал свою первую большую поэму «The Waste land*» («Пустая земля») В ней он описывает распад цивилизации, отсутствие убеждений н целей, нищету и истеричность современного сознания (по выражению одного критика) Но сама по себе эта «Пустая земля» — прекрасный ухоженный сад, великая поэма, описывающая бессмыслен носгз. опустошенной земли и выражающая мужество отчаяния
92
В романах Кафки «Замок» и «Процесс» недоступная удаленность источника Смысла и непостижимость источника Справедливости и Милости выражены на чистом и классическом языке. Мужество принять на себя одиночество такого творчества и ужас таких видений — это великий образец мужества быть самим собой. Человек отделен от источника мужества, но не полностью: он еще способен прямо увидеть и принять собственную отделенность. В «Веке тревоги» Одена мужество взять на себя тревогу в мире, потерявшем смысл, так же очевидно, как и глубокое переживание этой потери. Оба полюса, объединенные в мужестве отчаяния, равнозначны. В сартровском «Веке разума» герой поставлен в такую ситуацию, когда страстное стремление быть самим собой ведет его к отказу от всех человеческих обязательств. Он отказывается принять все то, что может ограничить его свободу. Ничто не имеет для него высшего значения, ни любовь, ни дружба, ни политика. Единственная твердая точка — неограниченная свобода изменяться, сохранять свободу без содержания. Этот герой представляет крайнюю форму мужества быть самим собой — свободу от всякой связи, свободу, за которую платят абсолютной пустотой. Создание подобного персонажа есть доказательство мужества отчаяния самого Сартра. Эту же проблему, но с противоположного конца, рассматривает в своем «Постороннем» Камю, стоящий на границе экзистенциализма, но видящий проблему бессмысленности так же остро, как экзистенциалисты. Его герой — человек без личности. В нем нет ничего такого, что выделяло бы его среди других. Он действует так, как на его месте действовал бы любой другой мелкий служащий. Он посторонний потому, что ни в чем не может установить экзистенциального отношения между собой и миром. Что бы ни случилось с ним — ничто не имеет для него реальности и смысла: любовь — не настоящая любовь, судебный процесс — не настоящий судебный процесс, приговор — не имеет оправдания в реальности. В нем нет ни вины, ни прощения, ни отчаяния, ни мужества. Он описан не как личность, а как психологический процесс, который полностью детерминирован — работает ли он, любит, убивает, ест или спит. Он предмет среди предметов, не имеющий смысла для себя самого и потому неспособный найти смысл в своем мире. Он представляет ту судьбу абсолютного опредмечивания, против которой борются все экзистенциалисты. Он представляет ее наиболее радикально, безо всякого смягчения. Мужество, позволившее создать такой образ, сравнимо с мужеством Кафки, создавшего Йозефа К. Взгляд на драматургию подтверждает эту картину. Театр, особенно в США, полон образами бессмысленности и отчаяния. В некоторых пьесах ничего другого и не изображается (как в «Смерти коммивояжера» Артура Миллера), в других отрицательное начало менее безусловно (как в «Трамвае желания» Тенесси Уильямса).
93
Но оно редко становится положительным: даже относительно положительные решения подрываются сомнением и осознанием двусмысленности всякого решения. Удивительно, что эти пьесы посещаются массами людей в стране, где преобладающим остается мужество быть частью в системе демократического конформизма. Что означает это явление для характеристики положения Америки, а с нею — и всего человечества? Можно легко отказать этому явлению в значительности. Можно напомнить тот факт, что огромные толпы театралов составляют ничтожный процент американского населения. Можно отмахнуться от широкого увлечения экзистенциалистским театром, назвав его импортной модой, обреченной на быстрое исчезновение. Это возможно, но совсем не обязательно. Не исключено, что эти немногие (немногие, даже если добавить к ним всех циников и отчаявшихся из наших высших учебных заведений) и есть авангард, предвещающий великие перемены в духовной и социально-психологической ситуации. Возможно, что ограниченность мужества быть частью стала видна куда большему числу людей, чем это можно решить по росту конформизма. Если в этом смысл притяжения, какое экзистенциализм оказывает на театральной сцене, следует внимательно изучить его — и приложить усилия к тому, чтобы он не стал предтечей коллективистских форм мужества быть частью, ибо история многократно доказала реальность такой угрозы.
Переживания бессмысленности в соединении с мужеством быть самим собой — ключ к развитию пластических искусств с переломного момента XX века. В экспрессионизме и сюрреализме поверхностные структуры действительности разорваны. Категории повседневного опыта утратили свою силу. Категории субстанции исчезли; твердые тела извиваются, как веревки; причинная связь предметов отсутствует, они появляются совершенно случайно, временная последовательность больше не имеет значения, неважно, произошло ли какое-то событие раньше или позже другого; пространственные измерения сжаты или растянуты до ужасающей бесконечности. Органические структуры жизни разорваны на куски, которые произвольно (с биологической, а не художественной точки зрения) переставлены: члены разбросаны, цвета отделены от своих естественных носителей. Психологический процесс (это больше относится к литературе) перевернут: персонаж живет из будущего в прошлое, причем вне ритма или какой бы то ни было формы осмысленной организации. Мир тревоги — это мир, в котором категории, структуры реальности потеряли свою силу. Любой сойдет с ума, если причинно-следственная связь вдруг окажется недействительной. В экзистенциалистском искусстве (как я его называю) причинность потеряла свою силу.
Современное искусство упрекают в том, что оно будто бы сыграло роль предвестника тоталитарных систем. Напоминание о том, что все
94
тоталитарные системы с самого начала обрушились на современное искусство, как возражение — неубедительно; можно ответить, что они воевали с ним как раз потому, что пытались противостоять той бессмысленности, которую выражает новое искусство. Настоящий ответ лежит глубже. Современное искусство — не пропаганда, но откровение. Оно показывает реальность нашего существования такой, какова она есть. Оно не прикрывает реальности, в которой мы живем. Вопрос, таким образом, ставится так: является ли обнажение какой-то ситуации ее пропагандой? Если бы дело обстояло так, то всему искусству пришлось бы стать бесчестным украшательством. Искусство же, пропагандируемое тоталитаризмом и демократическим конформизмом, и есть бессовестная лакировка. Предпочтение отдается идеализированному натурализму, т. к. он устраняет всякую опасность критического и революционного искусства. Творцы нового искусства сумели увидеть бессмысленность нашего существования: они участвовали в его отчаянии. В то же время они обладали мужеством увидеть его — и выразить. Они обладали мужеством быть самим собой.
МУЖЕСТВО ОТЧАЯНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Экзистенциальная философия дает теоретическую формулировку тому, что мы называем мужеством отчаяния в искусстве и литературе. Хайдеггер в своей книге «Sein und Zeit» («Бытие и время») (которой принадлежит важное место в философии, независимо от позднейшей критики и пересмотра самого Хайдеггера), описывает мужество отчаяния в философски точных терминах. Хайдеггер тщательно разрабатывает понятия небытия, конечности, тревоги, заботы, неизбежности смерти, вины, сознания, Я, участия и т. п. После этого он анализирует явление, названное им Entschlossenheit (решимость). Символический смысл этого слова — открытие — открытие того, что было наглухо закрыто тревогой, властью конформизма, самоизоляцией. Как только открытие произошло, человек обретает способность действовать, но не в согласии с нормами, установленными кем-то или чем-то. Никто не может указать «открывшему», «решившемуся» индивиду, как действовать — ни Бог, ни обычай, ни законы разума, ни нормы и принципы. Я должен быть самим собой, я должен решать, куда идти. Мое сознание есть призыв ко мне самому. Оно не говорит ничего конкретного, оно не голос Бога и не знание вечных принципов. Оно призывает нас к самим себе — из «нормального поведения нормального человека», из обыденной болтовни, поденной рутины, из той приспособленности, адаптации, которая составляет главный принцип конформистского мужества быть частью. Но если мы последуем этому призыву, то неизбежно окажемся
95
виновными — не вследствие нашей моральной слабости, но в силу самой нашей экзистенциальной ситуации. Обретая мужество быть самим собой мы становимся виновными — и мы призваны взять на себя эту экзистенциальную вину. Бессмысленности во всех ее аспектах может противостоять лишь тот, кто решительно принял на себя тревогу конечности и вины. Не существует норм, нет критериев для того, что истинно и что ложно. Решимость делает правым то, что должно быть правым. Одна из исторических заслуг Хайдеггера состояла в самом полном, сравнительно со всеми другими, экзистенциалистском анализе мужества быть самим собой и — говоря исторически — самом деструктивном.
Сартр выводит из раннего Хайдеггера такие следствия, каких поздний Хайдеггер не принимает. Но остается сомнительным, обладал ли Сартр, выводя эти следствия, исторической правотой. Ему было легче их вывести, чем Хайдеггеру, ибо в основе хайдеггеровской онтологии лежит мистическое представление бытия, которое для Сартра мало что значит. Сартр выводит последние следствия из экзистенциального анализа Хайдеггера, не имея мистических ограничений. Именно поэтому он и стал символом современного экзистенциализма, — позиция, заслуженная не столько оригинальностью его общих идей, сколько радикальностью, последовательностью и психологической точностью, с какими он их выдвигает, Я имею в виду прежде всего его тезис «сущность человека есть не что иное, как его существование». Эта фраза, подобно вспышке света, освещает всю экзистенциалистскую сцену. Ее можно назвать самой трагической и самой мужественной фразой экзистенциалистской литературы. Ее смысл заключается в следующем: истинной природы человека не существует, с той лишь оговоркой, что он способен сотворить из себя все, чего пожелает. Человек создает то, чём он является. Нет ничего такого, что определяло бы его творчество. Сущность своего бытия, «то, чём он должен быть», не есть нечто такое, что человек открывает: он сам ее создает. Человек есть то, что он сам из себя сделает. И мужество быть самим собой есть мужество сделать из себя то, чём тебе хочется быть.
Есть экзистенциалисты и менее радикальных взглядов. Карл Ясперс предлагает новый конформизм на основе всеобъемлющей «философской веры», другие говорят о philosophia perennis, а Габриэль Марсель движется от экзистенциалистского радикализма к позиции, основанной на средневековом полуколлективизме. Однако философский экзистенциализм определеннее всего представлен Хайдеггером и Сартром,
96
МУЖЕСТВО ОТЧАЯНИЯ
В НЕТВОРЧЕСКОЙ ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ
В предыдущих разделах речь шла о людях, которым творческое мужество позволяет выразить экзистенциальное отчаяние. Но творческих людей не так много. Существует и нетворческая экзистенциальная позиция, именуемая цинизмом. Нынешний циник — это вовсе не тот, кого так называли греки. Греческий «киник» был критиком современной ему культуры с позиции разума и естественного права, он был революционным рационалистом, последователем Сократа. Современные циники не следуют никому. Они не верят ни в разум, ни в критерии истины, ни в систему ценностей, ни в ответ на вопрос о смысле. Они стремятся дискредитировать любую предъявленную им норму. Их мужество выражает себя не в творчестве, а в образе жизни. Они мужественно отвергают любое решение, которое в дальнейшем лишило бы их свободы отвергать все, что им захочется отвергнуть. Циники одиноки, но им требуется общество, чтобы показать свое одиночество. Они пусты — как в отношении конечных (частных) смыслов, так и в отношении предельных (высших) смыслов, а потому легко уязвимы для невротической тревоги. Чересчур принудительное, силовое самоутверждение и чересчур фанатическое самоотречение — вот проявления нетворческого мужества быть самим собой.
ОГРАНИЧЕННОСТЬ МУЖЕСТВА БЫТЬ САМИМ СОБОЙ
Это приводит нас к вопросу о принципиальной ограниченности мужества быть самим собой — как в его творческой, так и в нетворческой форме. Мужество есть самоутверждение «вопреки», а мужество быть самим собой — это самоутверждение Я как Я. Резонно задать вопрос: что же представляет собой это утверждающее себя Я? Радикальный экзистенциализм отвечает: оно есть то, что оно делает из себя. И это все, что можно сказать, ибо все остальное ограничивает абсолютную свободу Я. Я, отрезанное от участия в своем мире, есть пустая раковина, чистая возможность. Поскольку Я живет, оно вынуждено действовать, но оно вынуждено переделывать, «брать назад» любое свое действие, ибо действие вовлекает всякого действующего в то, что он делает. Это сообщает какое-то содержание, а потому и ограничивает его свободу делать из себя все, что ему захочется. В классической теологии, и католической, и протестантской, это исключительная прерогатива Бога, Он обладает качеством a se (от себя, сам собой) или абсолютной свободой. В нем нет ничего, что было бы не от Него. Исходя из откровения: «Бог умер», экзистенциализм передает Божественное
97
качества a-se-йности (само-бытности) человеку. В человеке, стало быть, ничего не должно быть сверх того, что в нем есть от него самого. Но человек конечен, он дан себе таким, каков он есть. Он получил свое бытие, а с ним — структуру этого бытия, в которую включена и структура его конечной свободы. А конечная свобода исключает возможность в-себе-йности. Человек может утверждать себя только тогда, когда он утверждает не пустую раковину, чистую возможность, но структуру бытия, в которой он открывает себя прежде всякого своего действия или не-действия. Конечная свобода обладает определенной структурой, и если Я пытается преодолеть эту структуру, оно теряет себя. «Неучаствующий» герой в «Веке разума» Сартра попадается в сеть случайностей, исходящих отчасти из подсознательных слоев его собственного Я, отчасти — из внешней среды, из которой он не в силах вырваться. Я, которое предполагалось пустым, оказывается наполненным разными содержаниями, которые овладевают им именно потому, что оно не осознало и не приняло их в качестве таковых. Это самым непосредственным образом относится и к цинизму. Как выше говорилось, циник не может уйти от скрытых сил собственного Я, толкающих его к полной потере той самой свободы, которую он стремится сохранить.
Это диалектическое саморазрушение радикальных форм мужества быть самим собой приобрело всемирный масштаб; оно развернулось как тоталитарная реакция XX века на революционный экзистенциализм XIX века. Экзистенциалистский бунт против дегуманизации и объективирования человека вместе с его мужеством быть самим собой создал такие разработанные и репрессивные формы коллективизма, каких не знала история. Великой трагедией нашего времени стала судьба марксизма: марксизм, задуманный как движение к всеобщему освобождению, превратился в систему всеобщего порабощения, которая поработила и тех, кто порабощает других. Трудно вообразить размеры этой трагедии в ее психологически разрушительных последствиях, особенно для интеллигенции. Мужество огромного числа людей было подорвано, поскольку в основе своей это было то самое мужество быть, которое выработали революционные движения XIX века. С его крушением эти люди обратились к неоколлективиэму, вследствие их фанатической и невротической реакции на причину своего трагического разочарования; или впали в циническо-невротическое равнодушие к любой системе и любому содержанию.
Так же можно прокомментировать и историю превращения ницшеанского мужества быть самим собой в фашистско-нацистские формы коллективизма. Созданные ими тоталитарные машины воплотили в себе почти все, против чего восстает мужество быть самим собой. Они использовали все возможные средства, чтобы сделать такое мужество
98
невозможным. Хотя, в отличие от коммунизма, эта система рухнула, она оставила после себя замешательство, равнодушие и цинизм. А это как раз та почва, на которой произрастает тяга к сильной власти и к новому коллективизму.
Две предыдущие главы, посвященные мужеству быть частью и мужеству быть самим собой, показали нам, как первое — в своей последовательной и радикальной форме — ведет к потере Я (в нео-коллективизме), а второе — к потере мира (в экзистенциализме). Это подводит нас к теме нашей последней главы: существует ли такое мужество быть, которое объединяет две эти формы — превосходя их?
99
ГЛАВА 6
МУЖЕСТВО И ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ
Мужество есть самоутверждение бытия вопреки небытию. Это акт, в котором индивидуальное Я принимает в себя тревогу небытия, утверждая себя или как часть более широкого целого, или же — как индивидуальное самотождество. Мужество неизменно включает некоторый риск, ибо оно всегда под угрозой небытия — риск ли это потери самого себя и превращения в вещь в кругу вещей; или риск потери своего мира в пустоте самоотнесенности. Мужество нуждается в силе бытия, в силе, превосходящей небытие, которое переживается в тревоге судьбы и смерти, которое присутствует в тревоге пустоты и бессмысленности, которое действует в тревоге вины и осуждения. Мужество, принимающее в себя эту тройную тревогу, должно корениться в такой силе бытия, которая значительнее, чем сила Я и чем сила его мира. Ни самоутверждение в качестве части, ни самоутверждение в качестве индивидуального Я не поднимают нас окончательно над этой многосторонней угрозой небытия. Все, о ком речь шла выше как о представителях той или другой формы мужества, пытались превзойти себя, выйти за пределы и самих себя, и мира, в котором они участвуют, чтобы достичь силы бытия как такового и такого мужества быть, которое выше угрозы небытия. Из этого правила нет исключений, и это означает, что всякое мужество быть имеет явные или скрытые религиозные корни. Ибо религия есть состояние человеческого существа, охваченного мощью бытия как токового. В иных случаях религиозные корни старательно прячут, в иных — страстно отрицают, иногда они глубоко скрыты, иногда — близки к поверхности. Но невозможно, чтобы их не было вообще. Ибо все, что есть, участвует в бытии как таковом, и каждый человек каким-то образом сознает это участие, особенно в моменты, когда испытывает непосредственную угрозу небытия. Это подводит нас к заключительной теме, к двойному вопросу: каким образом мужество быть укоренено в бытии как таковом и как мы должны понимать бытие как таковое в свете мужества быть? Первый вопрос касается основы бытия как источника мужества быть, второй же — мужества быть как ключа к основе бытия.
100
СИЛА БЫТИЯ КАК ИСТОЧНИК МУЖЕСТВА БЫТЬ
МИСТИЧЕСКОЕ ПЕРЕЖИВАНИЕ И МУЖЕСТВО БЫТЬ
Поскольку отношение человека к основе его бытия может быть выражено лишь в символах, взятых из структуры бытия, полярность соучастия и индивидуализации определяет конкретный характер этого отношения, как и конкретный характер мужества быть. Если в этом отношении преобладает соучастие, то связь с бытием как таковым имеет мистический характер. Если преобладает индивидуализация, то связь с бытием как таковым имеет личный характер. Если же оба эти полюса соединяются и превосходятся, то связь с бытием как таковым имеет характер веры.
В мистицизме индивидуальное Я стремиться к такому соучастию в основе бытия, которое приближается к отождествлению. Вопрос не в том, достижима ли вообще такая цель для конечного существа, а в том, может ли — и каким образом может — мистицизм быть источником мужества быть. Мы уже отмечали мистическую основу системы Спинозы, его метод, согласно которому самоутверждение человека производно от самоутверждения Божественной субстанции, в которой он соучаствует. Подобным же образом все мистики черпают силу своего самоутверждения из опыта переживания силы бытия как такового, с которым они соединяются. Но возникает вопрос, можно ли вообще каким-либо образом соединить мужество с мистицизмом? В Индии, например, мужество почитается добродетелью кшатриев (воинов), которые находятся ниже уровня брахманов и святых-аскетов. Мистическое отождествление превосходит аристократическую добродетель мужественного самопожертвования. Это самоотречение в более высокой, более полной и более радикальной форме. Это самая совершенная форма самоутверждения. Но если это так, то это есть мужество, но только в еще более расширенном смысле. Аскетические и экстатические мистики утверждают собственное сущностное бытие вопреки стихиям небытия, присутствующим в конечном мире, в Царстве Майи. Мужество, необходимое для противостояния соблазнам иллюзорного, поистине потрясающе. Сила бытия, которая в нем проявляется, столь велика, что в страхе перед ней трепещут боги. Мистик стремится проникнуть в основу бытия, в вездесущую и всепроникающую силу Брахмана. Этим он утверждает свое сущностное Я, тождественное силе Брахмана, тогда как те, кто утверждают себя в оковах Майи, утверждают нечто такое, что не есть их истинное Я, — животные они, люди или боги. Так самоутверждение мистика поднимается над мужеством как особой добродетелью, присущей аристократам и воинам. Но оно не выше мужества в его сути. То, что с точки зрения конечного
101
мира представляется самоотрицанием, с точки зрения высшего бытия есть самое совершенное самоутверждение, самая радикальная форма мужества.
Силой этого мужества мистик побеждает тревогу судьбы и смерти. Поскольку бытие в пространстве и времени и в категориях конечности абсолютно нереально, то и все порождаемые им превратности судьбы, и само небытие, кладущее ему конец, в равной мере нереальны. В небытии нет угрозы, ибо конечное бытие по своей сути и есть небытие. Смерть — отрицание отрицательного и утверждение положительного. Точно так же мистическое мужество быть принимает в себя тревогу сомнения и бессмысленности. Сомнение направлено на все, что есть — и что, в силу своей мнимой природы, в действительности сомнительно. Сомнение срывает покров с Майи, оно отбирает оружие, которым обычные представления защищаются от абсолютной реальности. Сами же откровения реальности не подвергаются сомнению, ибо они предшествуют каждому акту сомнения. Без сознания самой истины сомнение в истине было бы невозможно. Тревога же бессмысленности побеждается тем, что высший смысл есть не что-то определенное, но бездна, содержащая все определенные смыслы. Мистик шаг за шагом переживает отсутствие смысла на разных уровнях реальности, в которые он входит, в которых действует — и которые покидает. По мере своего продвижения по этому пути он преодолевает и тревогу вины, и тревогу осуждения. И тем не менее они присутствуют. Чувство вины может охватить на любом уровне: или из-за неспособности исполнить внутренние предписания этого уровня, или из-за неспособности перейти на следующий, высший. Но, поскольку уверенность в окончательном свершении задана, тревога вины не становится тревогой осуждения. В азиатском мистицизме существует автоматическое наказание в соответствии с законом кармы, но в нем нет вечного осуждения.
Мистическое мужество длится столько, сколько продолжается мистическая ситуация. Предел его — то состояние пустоты, исчезновения бытия и смысла, с его ужасом и отчаянием, которое описали мистики. В такие моменты мужество быть сужается до принятия этого состояния как приуготовления: тьмой — к свету, пустотой — к полноте. Пока отсутствие силы бытия переживается как отчаяние, в этом отчаянии сама сила бытия дает пережить себя. Испытать это и выдержать — здесь мистическое мужество в состоянии опустошенности. Хотя мистицизм в его крайне положительных и крайне отрицательных аспектах — сравнительно редкая вещь, его основной принцип — тяга к соединению с высшей реальностью и соответственное мужество принять в себя небытие, заключенное в конечности, — входит в образ жизни, который был принят широкими слоями человечества и который сформировал их.
102
Но мистицизм это не только особая форма отношения к основе бытия, Это элемент любой формы такого отношения. Поскольку все сущее соучаствует в силе бытия, элемент отождествления, на котором основывается мистицизм, не может не присутствовать в любом религиозном опыте. Нет такого самоутверждения конечного бытия и такого мужества быть, в которых не действовала бы сама основа бытия и ее сила — сила победы над небытием. Переживание присутствия этой силы составляет мистический элемент даже в опыте личного общения человека с Богом.
ВСТРЕЧА ЧЕЛОВЕКА С БОГОМ И МУЖЕСТВО БЫТЬ
Полюс индивидуализации выражается в религиозном опыте личной встречи с Богом. И проистекающее из нее мужество есть мужество доверия, которое переживается в личной реальности и раскрывается в религиозном опыте. В противоположность мистическому единению это отношение можно назвать личным приобщением к источнику мужества. И хотя оба эти опыта находятся во взаимной оппозиции, они не исключают друг друга, ибо их объединяет полярная взаимозависимость индивидуализации и соучастия. Мужество доверия часто (особенно в протестантизме) отождествлялось с мужеством веры. Но это неточно, ибо доверие есть только элемент веры. Вера включает и мистическое соучастие, и личное доверие. В Библии религиозное борение описывается чаще всего строго персоналистическим языком. «Библизм», в частности протестантский, движется именно в этом направлении. Лютер повел свою атаку против объективных, количественных и безличных элементов в системе римского католичества. Он боролся за непосредственное, лицом к лицу отношение между Богом и человеком. В нем мужество доверия достигло своей высшей точки в истории христианской мысли. Каждый труд Лютера, особенно в ранние годы, исполнен мужеством. Вновь и вновь он прибегает к слову trotz (несмотря на, вопреки). Вопреки всему опыту собственных переживаний негативного, вопреки общей тревоге, преобладавшей в этот период, он черпал силу самоутверждения из своего неколебимого доверия к Богу, из личного общения с Ним. Соответственно способам выражения той эпохи, то отрицательное, которое он победил своим мужеством, символизировалось образами смерти и дьявола. Справедливо замечено, что гравюра Альбрехта Дюрера «Рыцарь, смерть и дьявол» даст классическое выражение духа лютеранской реформации — и, добавим от себя, лютеровского мужества доверия, его мужества быть. Рыцарь в полном вооружении скачет по долине; по одну сторону его сопровождает Смерть, а по другую — Дьявол. Он смотрит вперед
103
бесстрашно, сосредоточенно и доверительно. Он один, но он не одинок. В своем одиночестве он соучаствует в силе, которая сообщает ему мужество утверждать себя вопреки всем отрицательным началам существования. Несомненно, его мужество — не есть мужество быть частью, Реформация покончила с полуколлективизмом Средних веков. Лютеровское мужество доверия — это личное доверие, происходящее из встречи лицом к лицу с Богом. Ни Папы, ни Соборы не могли дать ему этого доверия. Он вынужден был отвергнуть их уже потому, что они полагались на доктрину, исключавшую мужество доверия. Они санкционировали систему, в которой тревога смерти и вины не могла быть окончательно побеждена. Было много уверений, но не было уверенности, было много поддержек для мужества доверия, но не было безусловной опоры. Коллектив предлагал человеку различные пути сопротивления тревоге, но одного пути он не предлагал — принять тревогу на себя. Человек никогда не был уверен, никогда не мог утверждать свое бытие с безусловным доверием. Ибо никогда он не мог встретить Безусловное прямо, всем свои бытием, в непосредственном личном отношении. Всюду, за исключением мистицизма, присутствовал посредник в лице Церкви, и это было косвенное и частичное общение души с Богом. Когда Реформация устранила такое посредничество и открыла прямой, полный и личный выход к Богу, стало возможным новое, не мистическое, мужество быть. Его выражают героические представители воюющего протестантизма, в Реформации кальвинистской и в Реформации лютеранской, а еще более ярче и отчетливее именно в Кальвинизме. Не героизм риска, мученичества или сопротивления властям, или преобразования структуры Церкви и общества, но мужество доверия — вот что делает этих людей героями, вот что составляет основу всех других проявлений их мужества. Можно сказать (и либеральный протестантизм часто говорил это), что мужество реформаторов положило начало индивидуалистическому мужеству быть самим собой. Но такое понимание смешивает вероятный исторический результат с существом дела. В мужестве реформаторов мужество быть самим собой и утверждалось, и превосходилось. В отличие от мистической формы мужественного самоутверждения, протестантское мужество доверия утверждает индивидуальное Я как таковое в его встрече с личным Богом. Это радикально отличает персонализм Реформации от всех позднейших форм индивидуализма и экзистенциализма. Мужество реформаторов — это не мужество быть самим собой, но и не мужество быть частью, оно превосходит и объединяет их. Ибо мужество доверия коренится не в доверии к себе самому. Реформация провозглашает противоположное: человек может обрести уверенность в собственном существовании только после того, как он перестал основывать свою уверенность на себе. И вместе с тем
104
мужество доверия никоим образом не основывается ни на чем конечном вне себя, даже не на Церкви. Оно основывается на Боге и единственно на Боге, который переживается в опыте единственной и личной встречи. Мужество Реформации выходит за пределы и мужества быть частью, и мужества быть самим собой. Ему не угрожает ни потеря себя, ни потеря своего мира.
ВИНА И МУЖЕСТВО ПРИНЯТЬ ПРИЯТИЕ
В центр протестантского мужества доверия поставлено мужество принять приятие вопреки сознанию своей вины. Лютер, а с ним в действительности вся его эпоха, переживала тревогу вины и осуждения как основную форму тревоги. Мужество утверждать себя несмотря на эту тревогу есть мужество, которое мы назвали мужеством доверия. Оно основывается на личной, полной и непосредственной уверенности в Божественном прощении. Вера в прощение присутствует во всех человеческих формах мужества быть, даже в неоколлективизме. Но нет другой интерпретации человеческого существования, в котором бы она преобладала более, нежели в истинном протестантизме. И нет в истории другого движения, в котором она была бы столь же глубока и столь же парадоксальна. В лютеровской формуле «неправедный праведен» в силу Божьего прощения или, в более современной формулировке, «принят неприемлемый» выражена победа над тревогой вины и осуждения. Можно сказать, что мужество быть есть мужество принять себя как принятого, несмотря на свою неприемлемость. Теологам излишне напоминать, что именно таков истинный смысл Павловой и Лютеровой доктрины «оправдания верой» (доктрины, которая в своей исходной формулировке стала недоступной даже для студентов-теологов). Однако стоит напомнить теологам и священникам, что в той борьбе с тревогой вины, которую ведет психотерапия, идея приятия привлекла такое внимание и приобрела такое значение, каким во времена Реформации наделяли выражения «отпущение грехов» или «оправдание верой». Принять приятие несмотря на свою неприемлемость — вот основа мужества доверия.
Самое существенное в таком самоутверждении — его независимость от любых моральных, интеллектуальных или религиозных предпосылок. Не добрый, не мудрый, не благочестивый удостаивается мужества принять приятие, а тот, кто лишен всех этих качеств и сознает свою неприемлемость. Это, однако, не значит, что тот, кто принимает приятие, принимает себя таким, каков он есть. Это и не оправдание случайного в индивидуализации человека. Это не экзистенциалистское мужество быть самим собой. Это парадоксальный акт, в котором человека
105
принимает то, что бесконечно превосходит его индивидуальное Я. Это — а опыте реформаторов — принятие неприемлемого грешника в творящее Суд и Преображение общение с Богом.
Мужество быть в этом смысле есть мужество принять прощение грехов не как абстрактную догму, но как глубинный опыт переживания встречи с Богом. Самоутверждение, несмотря на тревогу вины и осуждения, предполагает соучастие в чем-то таком, что выходит за пределы Я. В общении целения — например, в психоанализе — исцеляемый соучаствует в исцеляющей силе помощника, который принимает его несмотря на то, что тот чувствует себя неприемлемым. Целитель в таких отношениях представляет не себя самого как индивидуальность, но объективную силу принятия и самоутверждения. Эта объективная сила через целителя действует в исцеляемом. Конечно, она должна быть воплощена в человеке, который может осознать вину, может судить и может принять вопреки суду. Приятие со стороны того, что меньше личного, не может преодолеть личного самоотрицания. Стена, которой я исповедаюсь, меня не простит. Никакое принятие себя невозможно, если человека не принимает человек в отношениях лицом к лицу. Но даже если человек таким образом принят, требуется еще и выходящее за пределы Я мужество принять это принятие, требуется мужество доверия. Ибо то, что ты принят, не значит, что вина уничтожена. Целитель, который пытался бы убедить исцеляемого в том, что тот в действительности и не был виноват, сослужил бы ему очень плохую службу. Он помешал бы ему тем самым принять свою вину в собственное самоутверждение. Но его долг в том, чтобы помочь преобразовать смещенное, невротическое чувство вины в истинное, переместить вину, так сказать, в правильное место, а не в том, чтобы убеждать, будто вины вообще нет. Он принимает пациента в свое общение, ничего в нем не осуждая окончательно и ничего не покрывая.
В этом пункте, однако, религиозное принятие собственного приятия выходит за пределы врачебного целения. Религия обращается к высшему источнику силы, которая исцеляет принимая неприемлемое·, она обращается к Богу. Принятие Богом, Его помилование или оправдание — единственный и высший источник мужества быть, способности принять в себя тревогу вины и осуждения. Ибо высшей силой самоутверждения может быть лишь сила бытия как такового. Все, что меньше этого, наша собственная сила бытия или сила кого-то другого, не может преодолеть крайней, бесконечной угрозы небытия, переживаемой в отчаянии самоосуждения. Вот почему мужество доверия, как оно выражено в таком человеке, как Лютер, непрестанно настаивает на исключительной уверенности в Боге — и отвергает любое другое обоснование мужества быть не только как недостаточное, но и как ведущее к еще большей вине и к еще более глубокой тревоге. Великое
106
освобождение, которое людям XVI века принесли реформаторы, и созданное ими неукротимое мужество принять приятие стало возможно благодаря доктрине sola fide (единой верой): утверждение того, что мужество доверия обусловлено не чем-то конечным, а исключительно тем, что безусловно само по себе и что мы переживаем как безусловное во встрече с ним лицом к лицу.
СУДЬБА И МУЖЕСТВО ПРИНЯТЬ ПРИЯТИЕ
Как показывают символические фигуры Смерти и Дьявола, тревога этого периода не сводилась к тревоге вины. Она была и тревогой судьбы и смерти. Астрологические идеи поздней античности ожили во времена Возрождения и повлияли даже на гуманистов, которые примкнули к Реформации. Мы уже говорили о неостоическом мужестве, выраженном в некоторых возрожденческих картинах, где человек правит кораблем своей жизни, хотя его и гонят ветры судьбы. Лютер столкнулся с тревогой судьбы на другом уровне. Он пережил связь тревоги вины с тревогой судьбы. Нечистая совесть — вот что рождает бесчисленные иррациональные страхи повседневной жизни. Того, кого мучит вина, пугает и шорох сухого листа. Поэтому победить тревогу вины — значит победить и тревогу судьбы. Мужество доверия принимает в себя тревогу судьбы, как и тревогу вины. Оно глаголет «вопреки» им обоим. Вот истинный смысл учения о Провидении. Промысел — это не теория о какой-либо активности Бога, это религиозный символ мужества доверия в отношении судьбы и смерти. Ибо мужество доверия говорит свое «вопреки» даже смерти.
Как и апостол Павел, Лютер хорошо сознавал связь тревоги вины с тревогой смерти. В стоицизме и неостоицизме сущностному Я не угрожает смерть, поскольку оно принадлежит бытию как таковому и выходит за пределы небытия. Умирающий Сократ, силой своего сущностного Я победивший тревогу смерти, стал символом мужества принять смерть, Здесь истинный смысл платоновского учения о «бессмертии души». Рассматривая это учение, мы оставим в стороне его аргументацию, даже ту, что излагается в «Федоне», и сосредоточимся на образе умирающего Сократа. Все эти аргументы, к которым сам Платон относился скептически, — не более чем попытки истолковать мужество Сократа, мужество принять в свое самоутверждение собственную смерть. Сократ уверен в том, что Я, которое будет уничтожено казнью, — это не то Я, которое утверждает себя в его мужестве быть. Он мало что говорит об отношениях этих двух Я — да он и не может ничего сказать, ведь они два не нумерически; они лишь два аспекта чего-то единого. Но он ясно дает понять, что мужество умереть —
107
это проверка мужества быть. Самоутверждение, не включающее в себя утверждения смерти, пытается избежать этого испытания мужества, очной встречи с небытием в самой радикальной его форме.
Народная вера в бессмертие, которая на Западе, в сущности, подменила христианский символ Воскресения, — это какая-то смесь мужества и малодушия. Она пытается поддержать самоутверждение человека перед лицом неизбежности смерти. Но делает она это путем простого продления человеческой конечности (т. е. нашей обреченности на смерть) до бесконечной протяженности, так что настоящая смерть уже и не может наступить. Но это иллюзия и — с точки зрения логики — противоречие в терминах. Здесь бесконечным сделано то, что по определению должно прийти к концу. «Бессмертие души» — небогатый символ для мужества быть перед лицом собственной смертности.
Мужество Сократа (как его изображает Платон) опиралось не на учение о бессмертии души, но на утверждение себя в своем сущностном и неразрушимом бытии. Сократ знает, что он принадлежит двум порядкам реальности.
Но сократовское (стоическое и неостоическое) мужество принять смерть включает некую предпосылку, а именно: каждый человек обладает возможностью участвовать в обоих порядках, временном и вечном. Однако христианство не принимает такое предположение. По христианскому взгляду, мы отчуждены от нашего сущностного бытия. Мы не свободны осуществить собственное сущностное бытие, мы вынуждены ему противоречить. Поэтому и смерть может быть принята лишь 8 состоянии доверия, когда смерть перестает быть «воздаянием за грех». Это, однако, есть состояние приятия того, что тебя принимают, несмотря на твою неприемлемость. Здесь та точка, в которой христианство преобразовало древний мир, и здесь же коренилось мужество Лютера смотреть в глаза смерти. Бытие, принятое в общение с Богом, а не сомнительная гипотеза бессмертия — вот что лежит в основе этого мужества. Для Лютера встреча с Богом не только основа принятия на себя греха и осуждения, но и основа принятия на себя судьбы и смерти. Ибо встреча с Богом означает общение с трансцендентной защищенностью и трансцендентной вечностью. Тот, кто причастен к Богу, причастен и к вечности. Но, чтобы быть причастным к Нему, необходимо согласиться с тем, что мы приняты Им.
Лютер испытал переживание, которое он описал как приступы крайнего отчаяния (Anfechtung), жуткую угрозу полнейшей бессмысленности. Он видел в них происки Сатаны, угрожающие всему: его христианской вере, его уверенности в собственном деле, Реформации, прощению грехов. Все рушилось в эти мгновения крайнего отчаяния, и ничего не оставалось от мужества быть. Лютер, переживающий эти
108
моменты и описывающий их, предвосхищает свидетельства современных экзистенциалистов Но для него это не было последним словом Последним словом была первая заповедь, утверждение, что Бог есть Бог. Она напоминала ему об элементе абсолютного, безусловного в человеческом опыте, о котором можно знать даже находясь в бездне бессмысленности. И это знание его спасало.
Не нужно забывать, что великий противник Лютера — анабаптист и религиозный социалист Томас Мюнцер описывает сходные переживаний. Он говорит о крайнем состоянии, когда все конечное открывает свою конечность. Конечное приходит к своему концу, тревога сжимает сердце и все прошлые смыслы исчезают — и тогда, именно по этой причине, может дать ощутить себя Святой Дух, преобразующий всю ситуацию в мужество быть, которое реализуется в революционном действии. Если Лютер представляет экклезиальный (церковный) протестантизм, то Мюнцер — евангелический радикализм. Оба они мощно воздействовали на ход истории, причем в Америке взгляды Мюнцера оказались даже влиятельнее, чем лютеровские. Оба они испытали тревогу бессмысленности и описали ее на языке христианской мистики. Но, делая это, они вышли за пределы мужества доверия, опирающегося па личную встречу с Богом. Им пришлось принять элементы того мужества быть, которое основано на мистическом единении. Это приводит нас к последнему вопросу: возможно ли соединение двух типов мужества принять приятие — перед лицом всепроникающей тревоги сомнения и бессмысленности в наше время?
АБСОЛЮТНАЯ ВЕРА И МУЖЕСТВО БЫТЬ
Мы избегали понятия веры и когда обсуждали мужество быть, основанное на мистическом соединении с основой бытия, и когда обсуждали мужество быть, основанное на личной встрече с Богом. Отчасти потому, что понятие веры утратило свой подлинный смысл и стало приблизительно означать «допущение чего-то невероятного». Но это не единственная причина, заставляющая нас избирать другие термины, нежели вера. Главная причина в том, что, по моему убеждению, ни мистическое соединение, ни личная встреча не выражают идею веры исчерпывающе. Несомненно, вера присутствует в восхождении души от конечного к бесконечному: она и ведет ее к этому соединению с основой бытия. Но понятие веры заключает в себе нечто большее. Несомненна вера и в личной встрече с личным Богом. Но понятие веры заключает в себе нечто еще большее. Вера есть состояние человека, охваченного силой бытия как такового. Мужество быть есть выражение веры; и что, собственно, значит вера, мы должны понять через мужество быть. Мы
109
определили мужество как самоутверждение бытия вопреки небытию. Сила такого самоутверждения есть сила бытия, которая действует в каждом акте мужества. Вера есть опыт переживания этой силы
Но это переживание имеет парадоксальный характер: характер принятия приятия. Бытие как таковое бесконечно превосходит любое конечное бытие. Бог в богочеловеческой встрече абсолютно превосходит человека. Вера перекидывает мост через эту зияющую бездну, принимая тот факт, что, несмотря на эту бездну, сила бытия существует, а тот, кто отделен, — принят. Вера утверждает «несмотря на», и из «несмотря на» веры рождается «несмотря на» мужества. Вера не есть теоретическое утверждение чего-то неопределенного, она есть жизненное, экзистенциальное принятие того, что запредельно обыденному опыту Вера — не мнение, не убеждение, а состояние. Это состояние бытия, захваченного силой бытия как такового, которое превосходит все, что есть, и в котором все, что есть, соучаствует. Тот, кто захвачен этой силой, способен утверждать себя, ибо он знает, что утвержден силой самого бытия. В этой точке мистическое переживание и личное предстояние совпадают. И в том, и в другом основу мужества быть составляет вера.
Это понимание веры оказывается решающим в такую эпоху, как наша, когда господствует тревога сомнения и бессмысленности. Конечно, тревога судьбы и смерти в наше время тоже не исчезла. Тревога судьбы растет по мере того, как шизофренический раскол нашего мира уничтожает последние остатки былой безопасности. Не исчезла и тревога вины и осуждения. Поразительно, какая огромная тревога вины раскрывается в сеансах психоанализа и в личных исповедях. В выработке чувства вины столетия пуританского и буржуазного подавления природных инстинктов человека могут соперничать со средневековыми проповедями загробного воздаяния и адских мук
Но и с этими уточнениями мы можем утверждать, что тревога, определяющая наше время, — это тревога сомнения и бессмысленности. Человек боится, что он утратил (или утратит) смысл собственного существования. Выражением этой ситуации стал современный экзистенциализм.
Какое же мужество способно принять в себя небытие в форме сомнения и бессмысленности? Это самый важный и самый волнующий вопрос в теме мужества быть. Ибо тревога бессмысленности подрывает все, что еще остается непоколебленным в тревоге судьбы и смерти, вины и осуждения. Тревога вины и осуждения еще не подвергает сомнению высшей ответственности. Она открывает нам угрозу, но не окончательное разрушение. Когда же господствуют сомнение и бессмысленность, под человеком разверзается бездна, н которой исчезает и смысл жизни, и истина абсолютной ответственности.
110
Стоик, побеждающий тревогу судьбы сократовским мужеством мудрости, христианин, побеждающий тревогу вины протестующим мужеством доверия, — оба они находятся в совершенно разных ситуациях. Ведь и в отчаянии, порождаемом неизбежностью смерти, собственной смертностью, и в отчаянии самоосуждения не исчезает смысл и не разрушается уверенность. А в отчаянии сомнения и бессмысленности всякую уверенность и всякий смысл поглощает небытие.
Вопрос, стало быть, стоит так: существует ли мужество, которое может победить тревогу бессмысленности и сомнения? Другими словами, может ли вера, принимающая приятие, противостоять силе небытия в самой радикальной его форме? Может ли вера противостоять бессмысленности? Существует ли такой род веры, который мог бы существовать рядом с сомнением и бессмысленностью? Эти вопросы приводят к последнему аспекту проблемы, обсуждаемой в наших лекциях, к самому существенному для нашего времени. Каким образом возможно мужество, если все пути к созданию его перекрыты заведомым чувством их глубочайшей нереальности? Если жизнь так же бессмысленна, как смерть, если вина так же сомнительна, как совершенство, если бытие несет в себе не больше смысла, чем небытие, — то на чем же человек может строить свое мужество быть?
Среди экзистенциалистов заметна тенденция отвечать на эти вопросы скачком: от радикального сомнения — к догматической уверенности, от утверждения бессмысленности — к набору символов, выражающих смыслы какой-нибудь конкретной церковной или политической группы. Такой скачок можно интерпретировать по-разному. Он может быть вызван стремлением к безопасности; он может быть произвольным — как и всякое решение, по учению экзистенциализма; он может быть продиктован и чувством того, что христианское Благовестие отвечает на все вопросы, возникающие при анализе человеческого существования; он может быть истинным обращением, не зависящим от теоретической ситуации. В любом случае такой скачок не дает решения проблемы радикального сомнения. Он сообщает мужество быть тому, кто пережил обращение, но он не отвечает на вопрос, каким же образом возможно такое мужество само по себе. Ответ должен принять в себя, как свою предпосылку, состояние бессмысленности. Если ответ требует упразднения самого состояния — это не ответ, ибо как раз этого-то и невозможно сделать. Человек, в тисках сомнения и бессмысленности, не может вырвать себя из этих тисков: но он требует такого ответа, который имел бы силу внутри состояния его отчаяния, а не за его пределами. Он ищет некой абсолютной опоры для того, что мы назвали мужеством отчаяния. Здесь возможен единственный ответ (если только человек не пытается избежать вопроса): само по себе принятие отчаяния есть вера и, в конечном счете, мужество быть. В этой ситуации
111
смысл жизни сокращается до отчаяния в смысле жизни. Но, поскольку это отчаяние есть акт жизни, оно положительно в своей отрицательности. На языке циников можно было бы сказать, что истина заключается в том, что жизнь цинична по отношению к самой себе. На религиозном же языке можно сказать, что человек принимает себя как принятого, несмотря на отчаяние в самом смысле этого принятия Парадокс всякого радикального отрицания, пока оно остается активным отрицанием, заключается в том, что оно должно утверждать себя, дабы иметь возможность себя отрицать. Никакое реальное отрицание невозможно без неявно заключенного в нем утверждения. Тайное наслаждение, доставляемое отчаянием, свидетельствует о парадоксальном характере самоотрицания: отрицательное живет тем положительным, которое она отрицает.
Вера, делающая возможным мужество отчаяния, есть принятие силы бытия даже в тисках небытия. Даже в отчаянии относительно смысла бытие утверждает себя через нас. Сам по себе акт принятия бессмысленности в самом себе уже есть смысловой акт. Это акт веры. Мы видели, что тот, кто мужественно утверждает свое бытие вопреки судьбе и вине, этим их не уничтожает. Судьба и вина по-прежнему угрожают ему и ранят его. Но он соглашается быть принятым силой бытия как такового, в котором он соучаствует и которое дает ему мужество принять на себя тревогу вины и судьбы. То же самое относится и к сомнению и бессмысленности. Вера, которая создает мужество принять их в себя, не имеет никакого конкретного содержания. Это просто вера, ненаправленная, абсолютная, Она неопределима, ибо все, что определено, разрушается сомнением и бессмысленностью. Тем не менее даже абсолютная вера не есть взрыв субъективных эмоций или настроение без объективного основания.
Анализ природы абсолютной веры открывает в ней следующие элементы. Во-первых: переживание силы бытия, которая присутствует даже перед лицом самых радикальных проявлений небытия. Если кто-либо скажет, что в этом переживании жизненная сила сопротивляется отчаянию, то ему необходимо напомнить, что человеческая витальность пропорциональна интенциональности. Жизненная сила, способная противостоять бездне бессмысленности, сознает скрытый смысл внутри разрушения смысла. Второй элемент абсолютной веры — зависимость опыта небытия от опыта бытия и зависимость переживания бессмысленности от переживания смысла. Даже в состоянии отчаяния человек обладает бытием в достаточной мере, чтобы отчаяние оказалось возможным. Здесь третий элемент абсолютной веры, принятие приятия (согласие быть принятым). Конечно, в состоянии отчаяния нет никого и ничего, что принимает. Но то, что переживается при этом — это сама сила приятия. Бессмысленность, пока она переживается,
112
включает в себя переживание «силы приятия». Сознательное приятие этой «воли приятия» — есть религиозный ответ абсолютной веры, веры, которую сомнение лишило всякого конкретного содержания и которая тем не менее есть вера и источник наиболее парадоксального проявления мужества быть.
Эта вера выходит за пределы как мистического переживания, так и богочеловеческой встречи. Может показаться, что мистическое переживание ближе к абсолютной вере, но это не так. Абсолютная вера включает в себя элемент скептицизма, которого нет в мистическом переживании. Конечно, мистицизм тоже выходит за пределы всех конкретных содержаний, но не из-за того, что он сомневается в них или находит их бессмысленными; скорее, он усматривает в них нечто предваряющее. Мистицизм берет их конкретные содержания как ступени восхождения: используя эти ступени, он встает на каждое из них. Но переживание бессмысленности отрицает их (и все, что им сопутствует) и вообще обходится без них. Переживание бессмысленности более радикально, чем мистицизм. Поэтому оно выходит за пределы мистического переживания.
Абсолютная вера выходит и за пределы богочеловеческой встречи. В этой встрече остается действительной субъективно-объективная схема: некоторый субъект (человек) встречается с некоторым объектом (Бог). Можно обратить это высказывание — и сказать, что некоторый субъект (Бог) встречается с некоторым объектом (человек). Но в обоих случаях атака сомнения подрывает основу, субъективно-объективную структуру. Теологи, которые столь самоуверенно и строго рассуждают об общении человека с Богом, должны предполагать существование такой ситуации, где эта встреча абсолютно исключена радикальным сомнением и где не остается ничего, кроме абсолютной веры. Признание такой ситуации, как религиозно значимой, имеет, впрочем, своим следствием то, что любое конкретное содержание обычной веры должно быть подвергнуто критике и преобразованию. Мужество быть в своей радикальной форме есть ключ к идее Бога, который трансцендентен и по отношению к мистицизму, и по отношению к личному общению.
113
МУЖЕСТВО БЫТЬ — КЛЮЧ К БЫТИЮ КАК ТАКОВОМУ
НЕБЫТИЕ РАСКРЫВАЕТ БЫТИЕ
Мужество быть во всех своих формах имеет раскрывающий характер. Оно раскрывает природу бытия, оно показывает, что самоутверждение бытия есть утверждение, преодолевающее отрицание. Метафорически (а всякое утверждение о бытии как таковом или метафорично, или символично) можно сказать, что бытие включает в себя небытие, но небытие в нем не преобладает. «Включает в себя» — это пространственная метафора, указывающая на то, что бытие охватывает и само себя, и свою противоположность — небытие. Небытие принадлежит бытию и не может быть от него отделено. Мы не могли бы даже мыслить бытие без двойного отрицания: бытие должно мыслиться как отрицание отрицания бытия. Именно поэтому бытие лучше всего описывается метафорой «силы бытия». Сила — это возможность, которую бытие должно реализовывать наперекор сопротивлению всего другого. Говоря о силе бытия как такового, мы указываем, что бытие утверждает себя наперекор небытию. Занимаясь темой мужества и жизни, мы упомянули о динамическом понимании реальности у философов жизни. Такое понимание возможно лишь в случае, если принимается допущение, что небытие принадлежит бытию, что без небытия бытие не может быть основой жизни. Самоутверждение бытия без небытия было бы даже не самоутверждением, а неподвижной самотождественностью. Никакой предмет не сможет проявиться, выразиться, раскрыться. Небытие гонит бытие из его замкнутости, оно вынуждает его динамично утверждать себя.
Философия имела дело с динамическим самоутверждением бытия как такового всякий раз, когда она говорила на языке диалектики (особенно в неоплатонизме, у Гегеля, у «философов жизни» и «эволюции»). Теология делала то же самое всякий раз, когда она принимала идею Живого Бога всерьез; всего очевидней — в Троичной символике внутренней жизни Бога. Спиноза, несмотря на свое статическое определение субстанции (так он назвал высшую силу бытия), объединяет философские и мистические тенденции, когда говорит о любви и знании, в которых Бог любит и познает Себя через любовь и знание конечных существ. Небытие (то в Боге, что делает Его самоутверждение динамичным) размыкает Божественную самозаключенность и открывает Его как Силу и Любовь. Небытие делает Бога Живым Богом. Без того «Нет», которое Он должен превзойти в Себе и в Своих тварях, Божественное «Да» Самому Себе было бы безжизненным. Не было бы раскрытия основы бытия, не было бы жизни.
Но где небытие — там конечность и тревога. Если мы говорим, что небытие принадлежит бытию как таковому, мы говорим, что конечность
114
и тревога принадлежат бытию как таковому. Всякий раз, когда теологи и философы говорили о блаженстве Бога, они в не явном (а иногда и в явном) виде говорили о тревоге конечности, которая навеки принята в блаженство Божественной бесконечности. Бесконечное включает в себя и себя самое, и конечное. «Да» включает в себя и себя самое, и «нет». Блаженство включает в себя и себя самое, и тревогу, которую оно побеждает. Все это имеют в виду, когда гопорят, что бытие включает в себя небытие и через небытие раскрывает себя. В этом моменте приходится прибегать к глубоко символическому языку. Но символичность не уменьшает его истинности·, наоборот, она — условие истинности. Говорить о бытии как таковом не символически — неистинно.
Божественное самоутверждение есть сила, которая делает возможным самоутверждение конечного бытия, мужество быть, Мужество возможно лишь потому, что бытие как таковое имеет характер самоутверждения вопреки небытию. Мужество участвует в самоутверждении бытия как такового, оно участвует в силе бытия, преобладающей над небытием Тот, кто получает эту силу в акте мистической, персональной или абсолютной веры, тот знает об источнике своего мужества быть.
Человек не всегда знает об этом источнике. В состоянии цинизма или безразличия он о нем не ведает. Но источник этот действует в нем до тех пор, пока человек сохраняет мужество принять свою тревогу в себя. В каждом акте мужества быть в нас действует сила бытия — осознаем мы это или нет. Каждый акт мужества есть обнаружение основы бытия, каким бы сомнительным ни было содержание этого акта, Содержание акта может скрывать или искажать истинное бытие, по мужество, которое сопряжено с ним, открывает истинное бытие. Не аргументы, но мужество быть открывает истинную природу бытия как такового. Утверждением нашего бытия мы соучаствуем в самоутверждении бытия как такового. Не существует убедительных доказательств «существования» Бога, но существуют акты мужества, которыми мы утверждаем силу бытия, осознавая или не осознавая его, это бытие. Если мы его осознаем — мы сознательно соглашаемся с тем фактом, что мы — приняты. Если же его не осознаем — то и в этом случае мы его принимаем и соучаствуем в нем. И в нашем принятии того, чего мы не знаем, для нас проявляется сила бытия. Мужество имеет открывающую силу; мужество быть — это ключ к бытию как таковому,
115
ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТЕИЗМА
Мужество принять в себя бессмысленность предполагает такое отношение к основе бытия, которое мы назвали «абсолютной верой». В ней пет конкретного содержания, но она не бессодержательна. Содержание абсолютной веры — «Бог-над-Богом». Абсолютная вера и рожденное ею мужество — мужество, которое принимает в себя радикальное сомнение, сомнение в самом Боге, — превосходят теистическую идею Бога.
Теизм может означать неуточненное утверждение Бога. Теизм, з этом смысле, не говорит, что он имеет виду, когда употребляет имя Бога. В силу традиционных и психологических коннотаций слова «Бог» такой «пустой» теизм, говоря о Боге, может внушать слушателю некое смутное благоговение. Политики, диктаторы и вообще все, кто с помощью риторики надеются произвести впечатление на свою аудиторию, любят употреблять слово «Бог» именно в таком смысле. У слушателей это создает впечатление серьезности и моральной благонадежности оратора. Особенного успеха они достигают, если им удается уличить своих противников в атеизме. Па более высоком уровне люди, не имеющие определенных религиозных убеждений, любят называть себя теистами не с какой-то особой целью, а просто потому, что не могут вынести мира без Бога, кем или чем бы Он ни был. Им нужны некоторые понятийные оттенки слова «Бог», им страшно то, что называют атеизмом. На самом высоком уровне теизма этого рода имя Бога используется как поэтический или прагматический символ, выражающий глубокое эмоциональное состояние или высочайшую нравственную идею. Такой теизм стоит на самой грани, отделяющей второй тип теизма от того, что мы называем «за пределами теизма». Но и он все еще слишком неопределенен для того, чтобы перейти эту грань. Атеистическое отрицание всего этого типа теизма так же смутно, как он сам. Такой атеизм может провоцировать непочтительность и гневить тех, кто серьезно относится к своим теистическим взглядам. Он может быть даже по-своему правдивым, когда с ним выступают против риторико-политического злоупотребления именем Бога. Но в конце концов он так же несущественен, как тот теизм, который он отрицает. Он так же не способен привести к отчаянию, как теизм, с которым он борется, — к вере.
Теизм может иметь и другое значение, совершенно противоположное первому, он может указывать на то, что мы называем богочеловеческим общением. В этом случае он указывает на те элементы иудео-христианской традиции, которые подчеркивают личную связь человека с Богом.
Теизм этого рода акцентирует персоналистические моменты в Библии и в протестантских учениях, для него важен личностный образ
116
Бога, слово как орудие творчества и откровения, нравственный и общественный характер Царства Божия, личное начало в человеческой вере и Божественном прощении, исторический взгляд на Вселенную, идея Божественного Промысла, бесконечное расстояние между Творцом и тварью, абсолютное разделение Бога и мира, противостояние Святого Бога и грешного человека, личный характер молитвы и практического благочестия. Теизм в этом смысле есть немистическая сторона библейской религии и исторического христианства. Атеизм с точки зрения такого теизма есть человеческая попытка избежать общения с Богом. Это не теологическая, а экзистенциальная проблема,
Теизм имеет и третье значение, строго теологическое Теизм в этом смысле, как всякая теология, зависит от религиозной субстанции, которую он концептуализирует. Он зависит от теизма в первом смысле, поскольку тот пытается доказать каким-то образом необходимость утверждать Бога; обычно он развивает так называемые «доказательства бытия Божия». Но в еще большей степени он зависит от теизма во втором смысле, поскольку тот пытается построить такое учение о Боге, которое из личного общения человека с Богом выводит доктрину о двух лицах, которые могут встретиться или не встретиться, но обладают, каждое, собственной реальностью, самостоятельной и не зависящей друг от друга.
Так вот, теизм первого типа должен быть превзойден по причине того, что он несущественен, теизм второго типа — из-за того, что односторонен. Но теизм в третьем смысле необходимо преодолеть по причине того, что он ложен. Это плохая теология. Внимательный анализ может это показать. Бог теологического теизма есть бытие наряду с другими бытиями, и, как таковое, Он лишь часть всеобщей реальности: несомненно, самая важная, но все же — часть, и тем самым Он подчинен общей структуре целого. Предполагается, что Он внеположен всем онтологическим элементам и категориям, составляющим реальность. Но любое утверждение подчиняет Его им. В Нем видят Я, обладающее своим миром; Я, соотносимое с Ты; причину, отделенную от своего следствия; пространственную определенность и временную бесконечность. Он — бытие, но не бытие как таковое, и потому Он подчинен субъект объектной структуре реальности; Он объект для нас как субъектов. В то же время мы являемся объектами для Него как субъекта. И здесь решающий довод в пользу того, что теологический теизм должен быть превзойден. Ибо Бог как субъект превращает меня в объект, и только в объект. Он лишает меня моей субъективности, ибо Он всемогущ и всеведущ Я восстаю и пытаюсь превратить Его в объект, но мятеж кончается неудачей и отчаянием. Бог оказывается непобедимым тираном, таким бытием, в сравнении с которым все другие лишены свободы и субъективности. Он уподобляется современным
117
тиранам, которые с помощью террора хотят превратить всех и каждого в чистый объект, в вещь среди вещей, в «винтик» контролируемой ими машины. Он становится образцом всего того, против чего бунтует экзистенциализм. Про этого Бога Ницше сказал, что Его следует убить, ибо никто не потерпит, чтобы его превратили в простой объект абсолютного знания и абсолютного контроля. Здесь глубочайший корень атеизма. И этот атеизм оправдан как реакция на теологический теизм и его вызывающие беспокойство выводы. Здесь глубочайшие корни экзистенциалистского отчаяния и тревоги бессмысленности, господствующей в наше время.
Теизм всех типов превосходится в том опыте переживания, который мы назвали абсолютной верой. Она есть согласие быть принятым, при всем том, что того (существа или вещи), кто принимает, нет. Сила бытия как такового — вот что принимает и сообщает мужество быть. Это высшая точка, к которой привел наш анализ. И описать это, наподобие того как описывается Бог любой формы теизма, невозможно. Невозможно это описать и на языке мистики. Это опыт, трансцендентный и мистическому единению, и личной богочеловеческой встрече, и мужеству быть частью, и мужеству быть самим собой.
БОГ-НАД-БОГОМ И МУЖЕСТВО БЫТЬ
Последний (и первый) источник мужества быть — Бог-над-Богом. К этому приводит наше требование выйти за пределы теизма. Тревога сомнения и бессмысленности может быть принята в мужество быть только в том случае, если Бог теизма превзойден. Бог-над-Богом — цель всякого мистического устремления. Но и мистицизм должен быть превзойден, чтобы достичь Его. Мистицизм не уделяет особого внимания конкретному — а значит, и сомнению относительно конкретного. Он вторгается непосредственно в основу бытия и смысла и оставляет конкретное, мир конечных ценностей и смыслов, позади (или внизу). Поэтому он не решает проблемы бессмысленности. На языке современной религиозной ситуации это значит, что восточный мистицизм не может быть решением проблемы западного экзистенциализма, хотя многие люди ищут именно в этом направлении. Бог-над-Богом (теизма) не есть обесценивание смыслов, которые сомнение бросило в бездну бессмысленности: Он — их потенциальное восстановление. Тем не менее абсолютная вера сходится с мистической в том, что обе они выходят за пределы теизма, который опредмечивает Бога — превращая Его в бытие. Для мистицизма такой Бог не более реален, чем любое конечное бытие, для мужества быть — такой Бог исчезает в бездне бессмысленности, вместе со всеми прочими ценностями и смыслами.
118
Бог-над-Богом-теизма присутствует, хотя и скрыто, в каждой встрече Бога с человеком. Библейская религия, как и протестантская теология, знает парадоксальный характер такого общения. Они знают, что если Бог встречает человека, то это не объект и не субъект; и что благодаря этому Он выше схемы, в которую вгоняет Его теизм. Они знают, что персонализм в отношении к Богу должен уравновешиваться сверхличным присутствием Божественного. Они знают, что прощение может быть принято только в том случае, если в человеке подлинно действует сила — согласие принять его — на языке Библии, если в человеке действует сила благодати. Они знают о парадоксальном характере всякой молитвы, всякого обращения к Тому, с Кем говорить невозможно, ибо Он — не «кто-то»; о парадоксальности всякой просьбы, обращенной к Тому, у Кого нечего просить, ибо Он дает или не дает прежде любой просьбы; о парадоксе всякого обращения на «ты» к Тому, Кто ближе моему Я, чем это Я — самому себе. Каждый из этих парадоксов влечет религиозное сознание к Богу-над-Богом-теизма.
Мужество быть, которое коренится в опыте переживания Бога-над-Богом-теизма, соединяет в себе мужество быть частью и мужество быть самим собой — и превосходит их. Это мужество не согласно ни на утрату своего Я в соучастии, ни на утрату своего мира вследствие индивидуализации (и соучастия). Принятие Бога-над-Богом-теизма делает нас частью того, что не есть часть, но есть основа всего. Поэтому наше Я не теряется во всеобъемлющем целом, которое не растворяет его в себе (в противоположность тому, что происходит в жизни ограниченной группы). Если Я соучаствует в силе бытия как такового, оно вновь обретает себя. Ибо сила бытия действует через силу индивидуального Я. Она не поглощает эти Я, как это делает всякое ограниченное целое, любой коллективизм и любой конформизм. Вот почему Церковь, олицетворяющая силу бытия как такового — или даже Бога, превосходящего Бога конкретных религий, претендует на то, чтобы посредничать в мужестве быть. Церковь, основанная на авторитете Бога-теизма, претендовать на это не может. Она сама неизбежно превращается в коллективистскую или полуколлективистскую систему.
Но Церковь, которая в своем слове и служении поднимается к Богунад-Богом-теизма, не отрекаясь при этом от своих конкретных символов, может служить посредником мужества, принимающего в себя сомнения и бессмысленность. Церковь, стоящая у Креста, лишь она одна может сделать это: Церковь, проповедующая Распятого. Того, Кто воззвал к Богу, оставшемуся Его Богом после того, как «Бог доверия» покинул Его в темноте сомнения и бессмысленности. Быть частью этой Церкви — значит обрести такое мужество быть, в котором человек уже не может потерять свое Я и в котором он обретает свой мир.
119
Абсолютная вера или состояние бытия, охваченного Богом-над-Богом, не есть состояние в ряду других душевных состояний! Оно никогда не выделено и не определено, оно — не событие, которое можно изолировать и описать. Оно всегда есть движение: внутри, совместно, с — или под другими состояниями ума. Это состояние на грани человеческих возможностей. Оно и есть эта грань. Поэтому в нем — и мужество отчаяния, и мужество всякого мужества, и возвышение над ними. Это не место, где человек может жить; его не охраняют слова и понятия, у него нет имени, церкви, культа, теологии. Но оно — движение в глубине всего этого. Оно — сила бытия, в которой все они соучаствуют и частичными выражениями которой являются.
И человек может познать его в тревоге судьбы и смерти —тогда, когда традиционные символы, дававшие ему возможность выдержать превратности судьбы и ужас перед смертью, потеряли свою силу. Если «Божий промысел» стал суеверием, а «бессмертие» — некой фантазией, тем не менее то, что когда-то составляло силу этих символов, может по-прежнему присутствовать, уже без них, и рождать новое мужество быть, вопреки опыту переживания хаотичного мира и конечного существования. Возвращается стоическое мужество, но уже не как вера во вселенский разум. Оно возвращается как абсолютная вера, которая говорит «да» бытию, не видя ничего конкретного, что могло бы победить небытие судьбы и смерти.
И человек может познать Бога-над-Богом-теизма в тревоге вины и осуждения, когда традиционные символы, дающие ему возможность выдержать превратности судьбы и ужас перед смертью, потеряли свою силу. Если «Божий суд» отождествляется с «психологическим комплексом», а прощение с «образом отца» (из «эдипова комплекса») — то, что когда-то было силой этих символов, может по-прежнему присутствовать и создавать мужество быть вопреки опыту переживания бесконечной пропасти между тем, что мы есть, и чём мы должны быть.
Возвращается лютеровское мужество быть — но в его основе уже не лежит вера в судящего и прощающего Бога. Оно возвращается как абсолютная вера, говорящая «да», даже если нет этой силы, побеждающей вину. Мужество принять на себя тревогу бессмысленности — вот та пограничная линия, до которой может дойти мужество быть. За ней остается лишь небытие. Внутри же нее все формы мужества быть восстанавливаются — силою Бога-над-Богом-теизма.
Мужество быть коренится в том Боге, Который является тогда, когда в тревоге сомнения исчезает Бог.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
