13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Степун Фёдор Августович
Степун Ф.А. Мысли о России
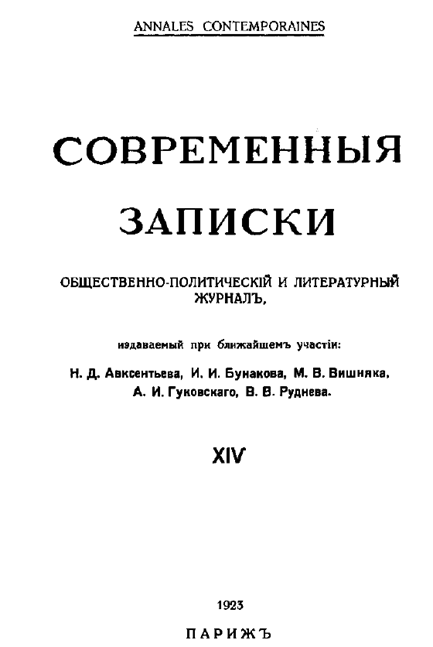
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Степун Ф.
МЫСЛИ О РОССИИ
О хозяине моей берлинской квартиры я не знаю ничего кроме того, что контуженный на войне, он находится, и вероятно до конца своих дней будет находиться в доме для душевнобольных и умалишенных.
В этом случайном эмпирическом обстоятельстве вполне бесплодно, конечно, искать какого-то существенного смысла. Я мог бы так же попасть в квартиру покойника или больного чахоткой; таких квартир сдается в Берлине, вероятно не одна... Все это так, и все же сидя поздно по вечерам за письменным столом безумного человека, который сидит за решеткой «в часе езды» от меня, и считая себя вполне нормальным, протестует перед своими близкими против моего пребывания в его квартире, — я чувствую себя иногда очень и очень странно. И действительно, почему- бы моему безумному хозяину не сидеть у себя дома за своим письменным столом? Кто знает в наши дни твердую норму разума? Я уверен — никто! И даже больше. Я уверен, что только в сотрудничестве с безумием может человеческий разум разгадать все, что сейчас происходит в душе и сознании человечества; только обезумевший разум сейчас подлинно разум, а разум разумный так — слепота, пустота, глупость. Быть может мой неведомый хозяин, принесший с войны привычку все разрушать и уничтожать вокруг себя, глубже выстрадал и постиг сущность войны, чем я, сохранивший возможность думать и писать и о ней, и о революции, и о разуме того безумия, о котором он не пишет, но от которого умирает. Если так, то мое оправдание перед ним может заключаться только в одном: — в утверждении для себя его безумия как нормы моего разума, из вечера в вечер работающего за его осиротевшим письменным столом.
391
392
Я хорошо знаю в себе чувство, роднящее меня с моим безумным хозяином. Я не сокрушаю, конечно, никаких попадающихся мне под руку вещей, так как никогда не ходил в рукопашную, не работал штыком и ручными гранатами, но зато часто погружаю весь окружающий меня мир в небытие, словно спускаю над ним артиллерийскую «дымовую завесу». Все это я, впрочем, конечно не столько делаю, сколько испытываю. Многое, что раньше было жизнью и реальностью, душа больше не принимает ни за реальность, ни за жизнь.
Скоро три месяца, как я в Берлине, но дымовая завеса не рассеивается. Улицы и дома, гудки автомобилей и звонки трамваев, огни в сырой вечерней мгле и толпы куда-то спешащих людей, все — вплоть до многих старых знакомых, со звуками их голосов и смыслами их слов и взоров — все это, здешнее, не принимается душою как настоящая жизнь, как полновесное бытие. Почему? — Для меня понятен только один ответ. — Потому что вся здешняя «европейская» жизнь, при всей своей потрясенности, все еще держится нормою разума. Душа же, за пять последних лет русской жизни, окончательно срастила в себе ощущение бытия и безумия в одно неразрывное целое, окончательно превратила измерение безумия в измерение глубины; определила разум как двумерность, разумную жизнь, как жизнь на плоскости, как плоскость и пошлость, — безумие же как трехмерность, — как качественность, сущность и субстанцию как разума, так и бытия.
_______
Все годы большевистского господства я прожил в деревне. Зима 19—20 года была совершенно фантастична. Мы голодали в самом недвусмысленном смысле этого слова. К обеду каждому из нашей «трудовой» семьи в десять человек полагалось по тарелке «брандахлысту» (суп из свекольной ботвы), по пяти картошек без соли и по три овсяных лепешечки пополам с крапивой. Улучшалось питание только тогда, когда в хозяйстве случалось несчастие. Так однажды мы съели сдохнувшую свинью, оптимистически предположив, что она сдохла с голода, и нашу удавившуюся на аркане лошадь. О настоящем черном хлебе не было конечно и речи. Отощавшие коровы всю зиму не доили. И на душе у всех нас стояло предчувствие пасхального звона: «на шестой, на страстной, Бог даст, отелятся!»
393
Серая, крестьянская Россия умирала с голоду, но красная, пролетарская воевала. Старики и девки, болея и пропадая без вести раза по два в месяц ездили за хлебом на юг. Их сыновья и братья встречали поезда в штыки и отбирали последнюю корку у умирающих с голоду.
Как военспец, я был призван на военную службу; как тяжело раненый в царскую войну, назначен на тыловую должность; как писатель и бывший фронтовик, ничего не понимающий в административно-хозяйственных делах, любезно переуступлен Троцким Луначарскому на предмет производства пролетарской культуры.
Производить эту пролетарскую культуру, т. е. участвовать в Государственном показательном театре, в постановках Шекспира, Метерлинка, Гольдони, Андреева и во всех своих выступлениях в театре и студиях открыто и успешно отстаивать идею национальной революции в противовес идее пролетарского интернационала, я и ездил время от времени из своей глуши в Москву, таща с собою картошку, овсянку, капусту, дрова, и, наконец салазки, чтобы доставить все это с вокзала домой.
Двадцать верст до станции на голодной старой лошади, единственной, оставшейся после реквизиции, и поминутно заваливающейся в сугробы, едешь четыре, пять часов. Поезд отходить в шесть утра. Станция никак не освещается; получаемый керосин станционное начальство естественно меняет на хлеб. В этом все счастье. — Я везу с собою огарок, предоставляю его беспомощной в темноте кассирше и за это требую внеочередные билеты, а то не достанешь.
Медленно подходящего одноглазого поезда мы с женой ждем со страхом и сердцебиением; в скотский вагон без лесенок вскарабкиваемся и втискиваемся каждый раз почти с мордобитием. На Окружной, за семь верст до Москвы, вылезаем, и, озираясь как воры, быстро двигаемся в обход, чтобы милиционеры не отобрали картошку и дрова, эту минимальную базу всякой духовной деятельности.
Московская квартира, — когда-то исполненная молодой, талантливой, разнообразной жизни — холодная, сырая, вонючая, полна каких то непонятных и чуждых друг другу людей.
В бывшей столовой проживает хромая армянка-ведьма, систематически крадущая у всех провиант и все время кричащая, что ее обкрадывают. В задней комнате, в одно, упирающееся в стену соседнего дома окно, грязное, забрызганное, словно заплеванное туберкулезной мокротой, — прозябает
394
какая-то одинокая старуха-немка. В комнате жены веселится восемнадцатилетняя дочь нашей бывшей горничной, узломордая, крепкокостная, напудренная «совбарка», — и среди всего этого мира, в единственной все еще четко прибранной комнате, ютится запуганная, но не сдающаяся представительница «прежней жизни», красивая, строгая, педантичная тетушка, которая «ничего не понимает и ничего не принимает».
Я целыми днями пропадаю в театре. Жена ухаживает за заболевшей немкой. Немка заражает ее; она, в свою очередь, заражает свою тетку. Сама больная, она ухаживает за обеими больными; зовет доктора: — у обеих испанка, осложненная воспалением легких. Температура 40о, нужна камфара. Камфары нет. Знакомые через Каменева достают ее для нас в Кремлевской аптеке. Но еще нужно тепло, нужны дрова. Дров у нас также нет, как камфары. Мы с женой ночью взламываем чужой сарай и выкрадываем из него дрова, чтобы спасти умирающих.
На утро я опять в театре, в который все: — актеры, режиссеры и рабочие пришли не только от такой-же, но зачастую и худшей жизни, чем моя, — однако в нем все же звучат прекрасные Шекспировские слова, горят бенгальские, актерские темпераменты, дрожат от холода бритые челюсти, по старым навыкам штампуются романы и невероятно патетически обсуждаются мероприятия против упорного запоздания и без того грошового жалования.
Выбирается делегация к Луначарскому. В десять часов вечера я вместе с еще тремя «делегатами» впервые вхожу в большевистский Кремль.
В Боровицких воротах проверка пропусков. Звонок к Луначарскому. Его ответный звонок в комендатуру. За воротами совершенно иной мир.
Яркий электрический свет, чистый девственный снег, здоровые солдатские лица, четко пригнанные шинели, — чистота и благообразие.
Пузатые колонны Потешного дворца. Отлогая, тихая лестница. Старорежимный седой лакей в галунах с очаровательно-подобострастной спиной. Большая передняя. Грандиозная, жарко топящаяся голландская печь. Дальше — зал, устланный ковром и прекрасные звуки струнного оркестра.
Выясняется что произошла ошибка. Мы должны были собраться на квартире Луначарского лишь на следующий день к десяти часам утра.
Когда я прихожу домой, жена встречает известием, что безродная немка скончалась.
395
Ближайшие дни проходят в хлопотах о погребении. Оказывается, что быть похороненным в Советской России гораздо труднее, чем быть расстрелянным.
Удостоверение домового комитета, право и очередь на покупку гроба, разрешение на рытье могилы, «преступная» добыча пяти фунтов хлеба на оплату могильщика — все это требует не только времени, но и какой-то новой, «советской» изворотливости.
Мы хлопочем об умершей с величайшим напряжением, но упорнее нас хлопочут над трупом совершенно ошалевшие от голода крысы. Когда в наших руках оказываются наконец все пропуска и разрешения, у злосчастной немки оказываются сожранными щеки и ступни.
Через несколько дней назначается открытая генеральная репетиция «Меры за Меру». Гениальная пьеса идет в общем совсем хорошо. Главные сцены Анжело с Изабеллой звучат сильно и умно; и все же, невероятно чуткая ко всему современному, ибо наполовину своего состава молодая, солдатская и пролетарская аудитория наиболее дружно откликается на бессмертные сцены шута с палачом.
Я сижу и чувствую, что решительно ничего не понимаю, что Россия входит в какой-то свой особенный час, быть может — в разум своего безумия.
После буйного помешательства коммунистической Москвы — снова тихое безумие деревенской жизни. В валенках выше колен, в шлеме и напульсниках я сижу и целыми днями пишу роман: письма из Флоренции и Гейдельберга. Просидишь час, просидишь два, потом невольно встанешь и подойдешь к наполовину замерзшему окну. За окном ни времени, ни жизни, ни дороги — ничего... Один только снег; вечный, русский, такой-же, больше, — тог-же самый, что лежал здесь и двести лет тому назад, когда смотрел на него из моего окна бывший владелец «бывшего» нашего имения, старый генерал Козловский ...
_________
Все годы прожитые в большевистской России я чувствовал себя очень сложно. Всем существом отрицая большевиков и их кровавое дело, не будучи в силах указать где-же и в чем-же их достижения, я все-же непосредственно чувствовал небывалый размах большевизма. Постоянно возражая себе самому, что небывалое — еще не бытие, невероятное, — еще не достойное веры, разрушение — еще не творчество и
396
количество — не качество, я все-же продолжал ощущать октябрьскую революцию как характернейшую национальную тему.
Но одновременно с этим, из совсем других каких- то источников, все время вскипала в душе страшная тоска по отошедшей России. Все кругом наводило на мысли о ней. Куда ни двинься — всюду умученные имения: зря срубленные леса, никого не радующие парки и пруды, ни для чего не пригодные громадные разваливающиеся дома, заклеенные декретами колонны, охаянные, ославленные церкви, покосившиеся амбары, растасканные службы, — а кругом равнодушная крестьянская толпа, которой еще годы и десятки лет не понять, что все это не только вражье барское богатство, но и подлинная народная культура, и, пока что, в сущности единственная, что была рождена и взлелеяна на Руси.
Вместе с печалью по России часто вставала над душой — и тоска по далекой Европе. Международный вагон представлялся мистерией. Временами в бесконечных просторах памяти всплывали облачные воспоминания запахов: Гейдельбергской весны — цветущих каштанов и лип; Ривьеры — моря, эвкалиптов и роз; больших библиотек — кожи, пыли и вечности. Все это было почти невыносимо по силе чувства и по чувству боли. И хотелось, страстно хотелось бросить все, забыт все и ... оказаться в Европе.
________
Человеческое сознание многомерно и не каждый человек хочет того, что ему хочется. Мне часто хотелось оказаться в Европе. Но всею своею волей и всем своим сознанием борясь в себе против этого своего «хочется», я все годы большевистского режима определенно «хотел» оставаться в России и в отношении себя, во всяком случае, не одобрял идей эмиграции.
Бежать от страдающей России в благополучие Европы. Войти в тихую жизнь маленького немецкого городка и отдаться вечным философским вопросам представлялось прямым нравственным дезертирством. Да и возникали сомнения: — возможна-ли вечная философия на путях обывательского бегства от тяготы и страданий «исторической» жизни; время-ли заниматься беспредпосылочною философией, когда смерть всюду обнаруживается страшною предпосылкой жизни и смысла.
Бежать же в Европу не в целях своего личного спасения, но в целях спасения России от большевизма, бежать в добровольческий стан под белые знамена царских генера-
397
лов, этого душа никак не принимала. С самого начала было до безнадёжности ясно, что внешнему объединению беспредметной, офицерской доблести, политической безыдейности «бывших людей» и союзнической корысти никогда не избавить России от большевизма. Не избавить потому, что большевизм совсем не большевики, но нечто гораздо более сложное и прежде всего гораздо более свое, чем они. Было ясно, что большевизм — это географическая бескрайность и психологическая безмерность России. Это русские «мозги набекрень» и «исповедь горячего сердца вверх пятами»; это исконное русское «ничего не хочу и ничего не желаю», это дикое «улюлюканье» наших борзятников, но и культурнический нигилизм Толстого во имя последней правды и смрадное богоискание героев Достоевского. Было ясно, что большевизм — одна из глубочайших стихий русской души: не только ее болезнь и ее преступление. Большевики же совсем другое: всего только расчётливые эксплуататоры и потакатели большевизма. Вооруженная борьба против них всегда казалась бессмысленной — и бесцельной, ибо дело было все время не в них, но в той стихии русского безудержа, которую они оседлать, — оседлали, которую шпорит, — шпорили, но которой никогда не управляли. Имитаторы русской правды, узурпаторы всех святых лозунгов, начиная с величайшего: «долой кровопролитие и войну», обезьяны в жокейских фуражках, они никогда не держали в своих руках поводий событий, а всегда только сами кое-как держались за пылающую гриву несущейся под ними стихии. Историческая задача России в изжитые нами годы, в годы 1918—1921, заключалась не в борьбе с большевиками, но в борьбе с большевизмом: с разнузданностью нашего безудержа. Эту борьбу нельзя было вести никакими пулеметами, ее можно было вести только внутренними силами духовной сосредоточенности и нравственной выдержки. Так, по крайней мере, казалось мне с первых же дней победы большевиков. Что же оставалось делать? — Оставаться в России, оставаться с Россией и не будучи в силах как-либо внешне помочь ей, нести вместе с ней и во имя ее все муки и все ужасы лихой полосы ее жизни. Люди практики, люди политики вероятно ответят мне, что это бессмыслица. Но во первых я не практик и не политик, а во вторых разве сыну надо быть обязательно врачом, чтобы не покидать постели своей умирающей матери?
_________
398
В августе прошлого года весь мир описанных мною мыслей и чувств был совершенно внезапно упрошен предписанием Г. П. У. покинут пределы России. В первую минуту получения этого известия оно прозвучало (если отвлечься от совсем личных чувств и обстоятельств) радостью и освобождением. Запретное «хочется» по отношению к Европе и всем соблазнам «культурной» жизни становилось вдруг не только не запретным, но фактически обязательным и нравственно оправданным; не ехать же в самом деле вместо Берлина — в Сибирь. Грубая сила (этот опыт я вынес еще с войны) лучшее лекарство против всех мук сложного многомерного сознания. Не иметь возможности выбирать, не располагать никакой свободой иногда величайшее счастье. Это счастье я определенно пережил, заполняя в Г. П. У. анкеты на предмет выезда заграницу.
Но вот все было улажено. Паспорта лежали в кармане. До отъезда оставалась неделя. Каждый день мы с женой ходили к кому-нибудь прощаться. Ходили по всей Москве со Смоленского рынка на Солянку, с Мясницкой к Савеловскому вокзалу, и странное, трудно передаваемое чувство с каждым днем все больше и больше укреплялось у нас в душе: чувство возвращения нам нашей Москвы, Москвы, которую мы уже долго не видели, как будто совсем потеряли и вдруг снова нашли. В этом новом чувстве нашей Москвы снова торжествовала свою победу вечная диалектика человеческого сердца, которое окончательна овладевает предметом своей любви всегда только тогда, когда его теряет.
День отъезда был ветреный, слякотный и мозглый. На темной платформе Виндавского вокзала перед неосвещенными окнами дипломатического вагона стояли родные, друзья и знакомьте, приехавшие проводить нас в дальний и совсем еще неизвестно куда ведущий путь.
Раздался свисток; поезд медленно тронулся; кончилась платформа, — потянулись вагоны; кончились вагоны, — побежали дома, улицы; затем поля, дачи, леса, и наконец деревни: одна за другой близкие, далёкие, черные, желтоглазые, но все сирые и убогие в безучастных, снежных полях.
Под окном мелькает шлагбаум. Куда-то вдаль под темную, лесную полосу отбегает, вращаемое движением поезда, черное по белому снегу шоссе. И в сердце вдруг — о страшное воспоминание 19-го года — зажигается непонятная мечта не стоять у окна несущегося в Европу поезда, а труском плестись в розвальнях по этому неизвестно куда бегущему, грязному шоссе.
399
Пока, стоя у окна, я мысленно еду по неизвестному мне шоссе почему-то к себе домой, в моей памяти одна за другой возникают картины прожитой жизни, картины в свое время как то недостаточно оцененные в их большом и положительном значении.
Вспоминается группа деревенской молодежи, с которой наше «трудовое хозяйство» все самые голодные годы занималось предметами, философией и театром, готовя их к поступлению на «Рабфак», читая лекции о Толстом и Соловьеве и ставя с ними Островского и Чехова. Вспоминается их изумительная энергия, непонятная работоспособность, совершенно чудовищная память, для которой пустяк в 3 — 4 дня среди тяжелой крестьянской работы выучить громадную роль и прочесть толстую, трудную книгу; — их горячий энтузиазм знания, их быстрый, духовный рост, их страстная жажда понять окружающую жизнь и все это в каком-то новом гордом чувстве призванных и законных хозяев жизни. При этом однако ни тени заносчивости, наоборот, — величайшая скромность и трогательнейшая благодарность. В самую горячую пору приходили они по праздникам «откосить» нам за преподанные им геометрию, алгебру и немецкий язык. Назвать эту молодежь большевистскою было бы конечно совершенно неверно, но все-же: — появилась-ли бы она в деревне и без большевистской бучи — еще очень и очень большой вопрос.
Вспоминается и другое. Низкая, темная жаркая чайная. На стенах обязательные портреты Ленина и Троцкого. Терпкий запах махорки и овчины. Все полно народу. Много седых, кудластых голов и бород. Молодой, развязный, но очевидно глупый уездный агитатор хлестко и задорно ведет антицерковную агитацию. «Никакого бессмертия души, товарищи, быть не может, акромя обмена круговращения. Сгниет человек, удобрит землю и вырастет на могиле к примеру сказать — куст сирени».
«Дурак», прерывает оратора сиплый голос старого кузнеца, «да скажи ты мне на милость, какая-же для твоей души может быть разница, быть ей навозом или быть кустом ... Кустом, да этакое бессмертие и сорока на хвосте унесет». Вся чайная громко хохочет и явно одобряет кузнеца. Но молодой оратор не смущается. Быстро меняя тему он так же развязно продолжает:
«Опять говорю я, церковь; какая такая может быть святая церковь, когда известно в государстве российском каждый третий поп пьяница».
400
«А хоть-бы и все», снова вступается кузнец, протискиваясь, очевидно для убедительности ближе к оратору. — «Ты вот во что вникни, — кто в попе пьет. Если человек выпьет, этот грех ему завсегда простится, мы же в батюшке не человека чтим, а сан. Что мне за дело ежели портки поповские напьются, была бы ряса трезва, так-то милый!»
Приезжий оратор окончательно убит. Чайная в полном восторге. Кузнец победоносно возвращается к своему столу и всюду слышны голоса: «ну, и дядя Иван, в лоск ... Ей Богу в лоск».
Спору нет, большевик в дураках, но большая и спорная тема: не в спорах ли с большевистскою жизнью окреп доморощенный ум кузнеца Ивана ...
Небольшая писательская квартира, чадит железная печка, холодно. Кто в драповом пальто, кто в фуфайке, многие в валенках. На чайном столе ржаной символ прежних пирогов и печений и изобретение революции, керосиновая свеча. В комнате почти вся философствующая и пишущая Москва. Иногда до 30—40 человек. Жизнь у всех ужасная, а настроение бодрое и в корне, по крайней мере, — творческое, во многих отношениях, быть может, более существенное и подлинное, чем было раньше в мирные, рыхлые, довоенные годы.
Весь вагон давно спит, лишь мы с женой стоим у окна. Я смотрю в черную ночь и страницу за страницей листаю свои воспоминанья за пять безумных лет. И странно, чем дальше я листаю их, тем дальше отодвигается от души приближающаяся ко мне разумная Европа, тем значительнее вырисовывается в памяти удаляющаяся от меня безумная Россия.
Ф. Степун.
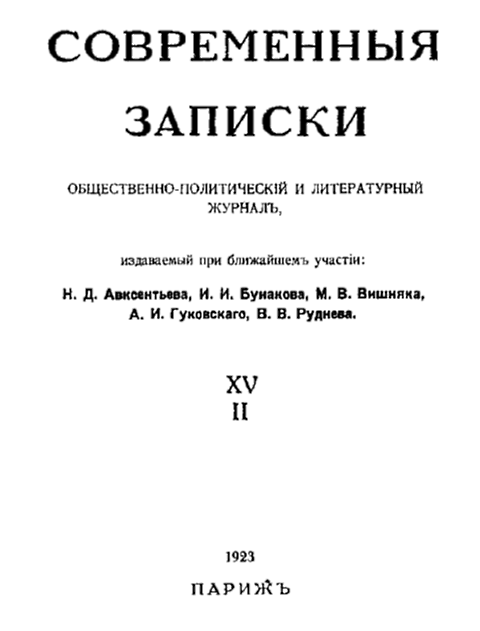
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Степун Ф.
МЫСЛИ О РОССИИ
II*)
Через три часа Рига. Подъезжаю к ней со страшным волнением и в очень сложных чувствах. За годы войны этот, всячески чужой, благоразумный город медленных, скрипучемозглых латышей, онемеченных еврейских купцов и офранцуженных немецких баронов как-то странно сросся с душой.
Наголову разбитые Макензеном, после десятимесячных, тягчайших карпатских боев, были мы летом пятнадцатого года направлены в Ригу на отдых и на пополнение. «Мир»: — обыденное, ежедневное, с детства знакомое — впервые предстал нам здесь как невероятное, небывалое, невозможное, как чудеса, чудо, мистерия. Чистые комнаты гостиниц, и громадные, белые, облачные постели, головокружительные, расслабляющие ванны, наментоленные пальцы парикмахеров, тревожные звуки струнных оркестров в ресторанах, роскошные, благоухающие цветы в садах и всюду, везде и над всем непостижимые, таинственные женские взоры — все это раскрывалось нам в Риге не как царство вещей, но как царство идей.
После шестинедельного отдыха мы были снова брошены в бой: мы защищали Ригу под Митавой (странный, жуткий, фантастический, мертвый городишка), защищали ее на реке «Эккау», упорно защищали у «Олая», отчаянно у треклятой «Корчмы Гаррозен». Под нею наша бригада отдала в плен свою шестую батарею, под нею-же наша, третья, потеряла двух доблестных офицеров, двух прекрасных, незабвенных людей. Всю долгую осень пятнадцатого года мы стояли
*) «Соврем. Записки», кн. XIV (I).
281
282
в восемнадцати верстах перед Ригой, призрачно существуя на острой грани подземного, окопного бытия и городской, нарядной жизни, ночных атак и симфонических концертов, смертельных ранений и мимолетных романов, ежедневно проливаемой крови и ежедневно привозимого из Риги вина, упоения тайною жизни и содрогания перед тайною смерти.
«Пир во время чумы» я впервые понял под Ригой. Странно-ли, что, подъезжая к благоразумной латвийской столице и слыша, как сердце снова взволнованно выстукивает уже позабытые было пушкинские ритмы: «Есть упоение в бою и бездны мрачной на краю», я всем своим существом чувствовал, что Рига родной город и родная земля.
Но вот поезд тихо входит под крышу вокзала и, замедляя ход, останавливается. Мы с женой выходим на платформу: кругом латышская речь, всюду латышские и кое-где немецкие надписи. Носильщик, подхвативший вещи, расспрашивает о Москве, как о каком-нибудь Пекине. Человек в буфете лишь со второго слова говорит по-русски, хотя с первого же взгляда отлично видит, что мы из Москвы. В магазинах кое-где, словно в каком-нибудь Берлине, любезные надписи «Здесь говорят по-русски». Всюду в атмосфере, в манере обращения (в каких-то неуловимых черточках быта) демонстративно подчеркнутое ощущение своей новорожденной самостоятельности и желание самобытности.
В сущности все как будто в порядке вещей: «Культурное самоопределение национальных меньшинств», осуществление заветного тезиса всей русской демократии, как либеральной, так и социалистической, а меня все это «самоопределение» и оскорбляет и злит. Я понимаю, конечно, что причина этой моей злости и оскорбления в том, что «самоопределение Латвии» осуществлено как отпад Прибалтики от государства российского, — не как утверждение политической мощи России, а как результат ее немощи и падения. Но всматриваясь в себя, я понимаю также и то, что этим еще не все сказано. Понимаю, что разгром Российской Империи что-то существенно перестроил в моей душе, что я уже не тот, каким я в пятнадцатом году без малейшего угрызения совести отступал от Свидника к Равве Русской, чувствуя, что разгром царской армии не есть еще разгром России. Величайшая ошибка. В латвийской столице я с непререкаемою ясностью понял, что в деле разгрома России все русские люди связаны друг с другом круговою порукой вины и ответственности, и что в страшную судьбу России каждый
283
отдельный русский человек и каждый социальный слой внесли свою кровавую лепту, свою незамолимую вину. И как знать, чья вина тяжелее, чья легче? Во всяком случае вина демократии не мала. Десятилетиями вслушиваясь в музыку грядущей революции, она прослушала единственную музыку завещанных Пушкинских строк:
«Невы державное теченье,
«Береговой ее гранит.
Бродя с девяти утра до позднего вечера по отчужденным улицам Риги, я быть может впервые за годы войны и революции ощущал совсем новое для меня чувство острой, патриотической обиды, не за народ русский, не за идею и не за душу России, а за ее поруганную державную государственность.
В свете этих новых чувств как-то по новому вспомнились первые дни революции. Вспомнилось как, приехали к нам на фронт делегаты свободной России, члены Государственной Думы кадеты И. П. Д-в и П. П. Г-ий, как каждый день по нескольку раз вдохновенные и охрипшие рассказывали они и в окопах, и в офицерских собраниях как легко, как безболезненно накренилось и рухнуло здание монархической России, как никто на его защиту не встал, и никто о нем не пожалел! Правда, П. П. все время почему-то затягивал: «Чего-то нет, чего-то жаль, куда-то сердце мчится в даль».. Но это «чего-то нет, чего-то жаль», он затягивал вполголоса и как-бы npо себя, затягивал только так- потому что «из песни слова не выкинешь». Песнь-же, по единодушному в те дни настроению и общему мнению, вся заключалась во второй строке, которую все подхватывали за ним уже громко и весело:
«Куда-то сердце мчится в даль»..
Надеюсь, что я не буду неверно понять, если сознаюсь, что в Риге мне наше «фронтовое» исполнение двух строчек популярного романса вдруг показалось и очень характерным, но и очень стыдным.
Нет, не о павшей монархии затосковало мое сердце в Риге, и не от революции оно отрекалось, а просто вдруг поняло, что было в первые революционные дни в русских душах слишком много легко чувствия и в русских умах слишком много легкомыслия. Было у нас у всех без исключения вообще слишком легко на душе, а должно было быть прежде всего очень ответственно и очень страшно.
284
Временное правительство с невероятною легкостью принимало бразды правления, старые, седые генералы, за ними и истинно боевые офицеры с невероятною легкостью отрекались от монархии, вся армия с невероятною легкостью переходила к новым формам жизни, толпы сибирских мужиков и сотни кадровых офицеров с невероятною легкостью записывались в партию с.-p., большевики с невероятною легкостью проповедовали «братанье», делегаты Сов. раб., кр. и солд. депутатов с невероятною легкостью произносили против них самые горячие, патриотические речи, тылы — кухни, обозы, парки, санитарные отряды с невероятною легкостью клялись кровью защищать революцию, полки с невероятною легкостью оставляли позиции, лучшие, доблестные офицеры с невероятною легкостью гибли в добровольческих, ударных частях, а правительственные комиссары с невероятною легкостью разрешали им гибнуть, одним словом все с невероятною легкостью стремили свои сердца в неведомую даль, лишь шепотком подпевая;
«Чего - то нет, чего - то жаль» ...
Шепотком, про себя, а нужно было не так; нужно было всем, связанным с прошлым, от всего сердца и во всеуслышание, громко пожалеть о его гибели, помянут его добром, в своей любви к нему мужественно признаться.
Но таких настроений в те дни не было, и в том, что их не было, было отнюдь не только единодушное приятие бескровной революции, как многим тогда казалось, а было нечто совершенно иное; — ложный стыд, отсутствие гражданского мужества, собственной мысли и ужасная, наследственная стадность.
Все, как один, многоголосо суетились вокруг новорождённого младенца, готовясь к крестинам, наперерыв предлагали имена; социалистическая! — федеративная! демократическая! — и никто не помнил, что от родов умерла мать, и никто не чувствовал, что всякая смерть, как праведника, так и преступника, обязывает к тишине, ответственности и сосредоточенности... От штаба к штабу носились красно офлаженные автомобили, скакали красногривые тройки, всюду веяли красные знамена, всюду красно звенели оркестры, взвивались красноречивые тосты и раздавались магические слова: «за землю и волю», «без аннексий и контрибуций», «за самоопределение народов».
285
Помню как и я скакал, как и я говорил речи, как сам кричал солдатам «смертникам», шедшим занимать позиции «за землю и волю», «без аннексий и контрибуций» !,.. Все это я, как и все, делал с абсолютною искренностью, с пренебрежением всякой опасности и с готовностью на всякую жертву. Нам так важно казалось прокричать это «за свободную Россию», «за землю и волю», «за конец последней войны», что мы кричали об этом под огнем немецких винтовок с брустверов передовых окопов и в тылу с ораторских трибун, по которым постреливали большевики.
На все это мужества было с избытком, но вот на то, что бы взять да во всеуслышание и пропеть: «Чего-то нет, чего- то жаль», на это его не хватило. Не хватило мужества громко сказать себе и другим, что кощунственно звать умирать за социальную корысть земли и воли, когда человеку, чтобы быть похороненным, нужна только сажень земли, что безнравственно офицерской доблести сгибать спину перед солдатским шкурничеством и горлодерством, что не выстраданная, лишь словесная проповедь, в разгаре войны, — самоопределения народов и меньшинств вредна, так как понятие родины, ее мощи и славы вовсе не гуманно, но священно и строится потому не только правильными и справедливыми точками зрения, но праведными, хотя и несправедливыми страстями и пристрастиями.
Помню как все эти мысли неприкаянно маялись у меня в сердце, когда штабные автомобили носили меня, делегата Ц.И.К. от штаба к штабу, от одной позиции к другой, от митинга к митингу... Однако, кому из тех, кто был действительно с революцией, я ни высказывал их, никто, никак не понимал моих сомнений. Тем-же, кто начинал сразу-же сочувственно кивать головой, я с полуслова переставал их высказывать, получалось совсем, совсем не то... Ведь никогда-же не был я ни против земли, ни против воли, ни против самоопределения.
Один человек, впрочем, все понимал. В своей гениальной совести, в справедливом, многомерном своем сознании, он все годы войны и революции нес живой протест против односторонности всякой господствующей силы.
Будучи непримиримым и принципиальным противником войны, он в качестве нижнего чина добровольцем прибыл на фронт и дрался с примерною храбростью. Будучи демократом и республиканцем, он все годы царской войны
286
страстно мечтал о революции. Когда она вспыхнула, он весь восторженно отдался ей и с головой ушел в революционную работу, — работа шла с невероятным успехом, его влияние на солдат и офицерство росло со дня на день. Но чем глубже он входил в революционную жизнь, тем глубже душевно отвращался от неё. В штабе комиссарверха он уже ходил мрачнее ночи. Он чувствовал, что «все не то», что «все не те», что «ничего не изменилось». Его перетирали угрызения совести за всех и за все, — за солдатское шкурничество, за офицерское само предательство, за генеральский карьеризм. Он хотел уже какой-то новой революции в пользу всех несправедливо обездоленных этой революцией, — все его симпатии были на стороне не сдавшихся генералов, офицеров, продолжавших говорить солдатам «ты», и солдат, желавших во что-бы то ни стало добить немца.
После большевистского переворота он, конечно, пошел за Корниловым. Все нравственные качества слились для него в одно — в храбрость; все нравственные понятия — в понятие национальной чести. Из его внешности окончательно исчез русский интеллигент и московский студента». Это был офицер с головы до ног, который дрался уже не только доблестно, как против немцев, но люто и ожесточенно. Раненый, — он был взят в плен. Приговоренный к смертной казни, — он бежал: но не от смерти, но только от большевиков. Уйдя от их смерти, он пошел навстречу своей. Измученный поисками всей целостной человеческой правды, отчаявшись в возможности ее найти, он сам прекратил свою жизнь ...
Нет, не потому пришел он к своим последним, трагическим минутам, что шел неправильным путем, а только потому, что на путях своей правды шел все время безнадёжно одиноко. Рожденный революционер духа, он не перенес того психологического окостенения, которое с невероятною быстротой сковало нашу политическую революцию, не перенес лицемерного приятия ее со стороны ее вчерашних врагов, не перенес непреображенности ею внутреннего человека, не перенес того, что, подготовленная мучениками и героями, ожидаемая как чудо и нежданно явившаяся, она быстро приспособилась к злободневности, самодовольно украсилась кумачами и безответственно расплескалась тысячами митингов.
Конечно, революционеры духа не те люди, что призваны строить внешнюю жизнь, но если социальная и политическая
287
жизнь не может строиться ими, то она не может строиться и без них. Если-бы все, что так горячо принялись за построение новой России после февральских дней, принялись-бы за это дело не рабами революции, но революционерами до конца, т е. людьми, всегда готовыми и на революцию против революции (поскольку она несла с собой шаблоны и штампы), их постройка шла-бы бесконечно медленнее, но за то и бесконечно свободнее, правдивее и прочнее.
Я хочу сказать, если-бы наш генералитет не отрекся от вскормившей его монархии, с тою недостойной легкостью, с которой он от нее отрекся — он и правительство Керенского не предал-бы всего только через восемь месяцев так бездумно и так единодушно, как он его предал, и на защиту Советского коммунизма не выделил-бы из своей среды того количества людей, которое он, как никак, все-же выделил; если-бы также и все русское офицерство не приняло революции столь безоговорочно, как оно ее в действительности приняло, но как ее принимать у него в прошлом не было достаточного основания, оно-бы, быть может, спасло Россию и от страшного развала царской армии, и от образования добровольческой; если-бы депутаты Государственной Думы не радовались в свое время тому, что монархия пала «так совсем без борьбы», России, быть может, не нужно бы было уже сейчас снова готовиться к борьбе против черной монархии; если-бы мы все не подавляли в себе естественного патриотизма и не кричали-бы в те дни «без аннексий и контрибуций», «за самоопределение народов», то эти народы давно были бы подлинно свободны в недрах единой России; Россия была бы, быть может, давно уж повенчана с гением своей силы и славы, а не сидела бы сейчас той провинциальной невестой, которая, мечтая выйти замуж «за интеллигентного», решила во что-бы то ни стало заболеть «деликатною простудой — чахоткой».
Я понимаю, конечно, всю сомнительность и всю воздушность моих размышлений. Понимаю, что они при всей своей внутренней серьезности для меня чем-то очень напоминают известные размышления о том, что «если-бы, да кабы, да во рту росли бобы, тогда-бы бы не рот, а целый огород!». Но что-же мне делать, если такие непродуктивные соображения неустанно вертелись в голове, когда я ходил по улицам Риги, с нежностью вспоминая войну, которую так ненавидел, и со стыдом революцию, которую приветствовал...
288
А, впрочем, разве уж так бессмысленны размышления о прошлом в сослагательном наклонении, разве они ничем не связаны с размышлениями о будущем — в повелительном? Для меня в этой связи весь их смысл и вся их ценность. Многомерности своего сознания я в будущем ни в каких практических целях никогда и ни за что не погашу.
Что же касается прошлого, то не знаю, посмел-ли бы я еще пожелать, чтобы оно сложилось иначе, чем оно в действительности сложилось. Осуществись все «если-бы» моих запоздалых упреков, Россия никогда, конечно, не докатилась-бы до чудовищных социальных и политических бессмыслиц ее сегодняшнего существования, но зато она не прошла-бы и через то откровение безумия, через которое ее провела ее судьба…
* * *
В одиннадцать вечера мы вошли в поезд, отходящий на «Эйдкунен». При посадке царил дикий беспорядок. Вагон первого класса оказался отвратительным дачным вагончиком из тех, что в дни нашего господства циркулировали по взморью между Ригой и Туккумом. Против нас надутым индюком фыркал кокой-то отвратительно лимфатический белесый балтиец с бегающими глазками и мокрою экземою на шее. Он сладострастно обхаживал сухопарую заплаканную женщину в трауре, с которой возвращался в Германию очевидно с каких-то похорон. В обоих все было предельно раздражающим вплоть до того, что оба ехали с билетами второго класса в первом, считая почему-то, что это не старое русское жульничество, а послевоенная европейская мораль. Оба дышали острою ненавистью к России, совсем не считая необходимым ее хотя бы отчасти скрывать. Наш завязавшийся было разговор оборвался на циническом признании моего собеседника, что он, русский подданный, все время войны провел в Англии шпионом в пользу Германии, которую очень любит и в которую сейчас с радостью возвращается вместе с женою своего брата, схоронившею в Риге свою мать.
Ведь посадит же судьба этакую Андреевскую фабулу в одно купэ с тобою да еще после целого ряда горьких размышлений о принципе самоопределения национальных меньшинств.
О сне не было, конечно, никакой речи. Только что задремлешь под монотонный стук колес: беза ... ннексий, кон-
289
три ... буций... и в полусне засумбурятся жуткие воспоминания о том, как мы в Галиции вешали шпионов... как тебя уже будят какими-то особо назойливыми фонарями ультра мундирные представители правомочных республик, проверяя паспорта, багаж, и — фонарь к носу — сходство твоего лица с твоей фотографией. И ведь контроль за контролем и каждый в несколько вооруженных человек, меньше трех, четырех ни в Литве, ни в Латвии не ходят. Словно не мирные контролеры, а разведочные посты ... Только опят задремлешь, только опять запоют колеса: беса.... ннексий ... контри ... буций ... и в утомленном мозгу болтнутся лакированные штиблеты всхрапывающего на груди у своей дамы шпиона, как уже снова холод, фонари в нос, паспорта, багаж, наш суверенитет — ваше миросозерцание...
И так всю ночь, всю ночь, до скучного, бледного пасмурного рассвета…
Нет, не понравилась мне латвийская столица Рига!
До границы еще десять часов; не сидеть же целый день в шпионской компании и смотреть на их блудливую воркотню под крэпом. Встал я и пошел искать какого-нибудь другого пристанища. В соседнем же вагоне оказалось купе, занятое всего только одним человеком, показавшимся мне очень симпатичным. Большой, молодой, очень хорошо одетый, свежий, румяный, чистый, будто только-что всего нянюшка губкой вымыла, очень породистый и все-таки несколько простоватый, совсем не столичный хлыщ, а скорее премированный симментальский теленок...
Я к нему: — свободны ли места? Места свободны, но он имеет право на отдельное купе. Его фамилия ... Я не ошибся: фамилия оказалась действительно очень древней, очень громкой и очень феодальной.
Начинается разговор, и через пятнадцать минут мы с женой уже сидим в его купе и разговариваем о России. Это был первый разговор, который после многих лет войны и революции пришлось мне вести с немцем, да еще офицером одного из очень старинных германских полков».
Хотя я уже в Москве слышал о той перемене во взглядах на Россию, которая произошла в Германии, я был все-же очень поражен. В Германии всегда были философы и художники, внимательно и с любовью присматривавшиеся к непонятной России. Помню, как один известный профессор философии говорил мне, что, когда он в семинаре имеет дело с русскими студентами, он всегда чувствует себя не-
290
уверенным, так как заранее уверен, что рано или поздно начнется публичный допрос об абсолютном. Помню и изречение менее известного приват-доцента, что первое впечатление от русских людей — впечатление гениальности, второе — недоброкачественности, а последнее — непонятности.
Учась в Германии, я дружественным немцам много раз «исполнительно» читал русские вещи. Читал сцену в Мокром, читал многое из «Серебряного голубя», и всегда меня слушали с громадным напряжением и безусловным пониманием. Как-то раз я после лекции моего друга, типично русского дореволюционного студента, а впоследствии расстрелянного в Венгрии коммуниста Левине, читал от имени немецкого «общества нравственной культуры» в католическом Аугсбурге, в воскресенье, во время мессы в каком- то грандиозном «Вариетэ», в котором одновременно происходила дрессировка моржей, при цилиндре и белых перчатках «Дружки» Максима Горького. Кому все это могло быть нужным, я до сих пор не понимаю. Но очевидно и в Аугсбурге были какие-то коллекционеры русских впечатлений. Во всяком случае какие-то немцы сидели и слушали, а потом много меня расспрашивали: «von dem augenscheinlich ganz sonderbaren Land». Все это было, было, уже и до войны некоторое слабое знание Достоевского и Толстого, патетической симфонии Чайковского и Московского художественного театра. Но все это было в очень немногих кругах, деловая же и официальная Германия нас все-таки так же мало уважала, как мы ее мало любили. Офицерство-же, с которым я много сталкивался, после японской войны нас просто непросто презирало. Помню, как в 1907 г. ехал я с очень образованным офицером генерального штаба тоже по направлению к Берлину. Боже, с какою самоуверенностью рассуждал он о неизбежности столкновения с Россией и как предчувствовал победу германского, целого, организующего начала над мистической, бесформенной, женственной стихией России. Мой собеседник 23-го года был офицером совсем другой формации. Если-бы в его речах слышался только интерес к России, только высокая оценка ее своеобразия, это было-бы вполне понятным. Русские события последних лет навсегда конечно останутся одной из самых интересных глав истории 20-го века. Мудрено-ли, что этот интерес уже сейчас остро ощущается всеми теми, что смотрят на нее со стороны. Ведь если нам трудно ощущать значительность свершающихся событий, потому что они — наши бесконечные.
291
муки, то этого препятствия для иностранцев нет; они уже сейчас находятся в счастливом положении наших потомков, которые, конечно, много глубже нас переживут всю значительность наших дней, дней, которые для них не будут нашими тяжелыми буднями, а будут их праздничными, творческими часами, их гениальными книгами.
Но мой собеседник, не философ и не поэт, а офицер и начинающий дипломат, ощущал Россию совсем не только интересной и оригинальной народной душой, но большой фактической силой, великой державой, фактором европейской жизни, с которым всем остальным странам Европы если не сегодня, то завтра придется очень и очень считаться.
После мрачных рижских ощущений, после только-что пережитых чувств стыда и вины, я никак не мог понят настроения моего собеседника, которое отнюдь не звучало только, его личным и случайным мнением..,
Какая же мы в европейских глазах можем быт сила, когда мы проиграли войну и подписали позорнейший Брестский мир, когда в несколько лет промотали свою страну до последней нитки, когда терпим издевательства большевиков над всеми национальными святынями, когда все вразброд взываем об иностранной помощи и не умеем сами себе помочь?..
Однако, чем больше длился наш разговор, тем все яснее становилось в чем собственно дело.
Да, мы проиграли войну, но у нас были блестящие победы. «Если-бы вы имели нашу организацию, говорил мне мой собеседник, вы были-бы много сильнее нас». Наших солдат немцы «стадами» брали в плен, но в плену они все-таки рассмотрели, что бородатые русские мужики совсем не простая скотинка, что они «очень сметливы, очень хитры, хорошо поют, а в веселый час по-азиатски ловки на работу».
Несмотря на все уважение к Толстому, Европа этих русских мужиков до войны и до революции никак себе не представляла. Народ русский был для нее еще не вочеловечен, он сливался с бескрайностью русской равнины, с непроходимостью русских лесов, с топью русских болот... был какою-то непонятною, безликою этнографической базой «блистательного европейского Петербурга» и «азиатского курьеза Москвы». Но вот грянула солдатская революция, невероятная по размаху, головокружительная по темпу; понеслись события последних лет, обнаруживая в каждом новом этапе новые и новые стороны русского народного бытия. С пер-
292
вых же дней революции вопрос России стал осью европейской жизни. До падения Временного правительства в центре европейского интереса стоял вопрос о боеспособности русской армии, после его падения — вопрос о заразительности коммунизма. Но и в первый период и во второй Россия была надеждой одних и ужасом других. Росли надежды, рос и ужас. Россия же в европейском сознании росла и вместе с растущими надеждами, и вместе с растущим ужасом. Росла и выросла. Столкнувшись после десятилетнего перерыва с первым европейцем, я это ясно почувствовал. Я почувствовал не только повышенный интерес к себе, как к русскому человеку, который я вместе с моржами вызывал и в Аугсбурге, но и уважение, как к русскому гражданину; эффект для меня совершенно неожиданный,
Германия сейчас, быть может, не совсем Европа, в ее судьбе много общего с судьбой России. Но с этой оговоркой я все-же должен сказать, что мое шестимесячное пребывание в Европе, то впечатление, которое я вынес от разговора с первым европейцем, только усилило.
* * *
Мой собеседник принадлежал к тем слоям Германии, которые в первый период русской революции очень надеялись на утерю русской армией своей боеспособности, а во второй — на буржуазную природу русского крестьянства, с которой никогда не справиться большевистскому коммунизму. Разговор перешел на мужика и уперся в очень существенный не только для моего собеседника, но и для всей России вопрос: буржуазен-ли мужик по своей психологии, или нет. Сознаюсь, что на этот вопрос мне было очень трудно дать ясный и одно мысленный ответ. Русский народнический социализм всегда протестовал против земельной собственности между прочим и потому, что всегда ощущал ее как основу духовного мещанства. О марксизме и говорить нечего. В его представлении мужик — всегда мещанин, — а пролетарий — аристократ духа. Все это совершенно не верно. Русский мужик пока еще совсем не мещанин и, Бог даст, не скоро им станет. Основная категория мещанского душевного строя — самоуверенность и самодовольство; мещанин всегда чувствует себя хозяином своей жизни. По своему душевному строю он всегда позитивист, по своим воззрениям — рационалист, потому он всегда верит в прогресс, и если верит
293
в Бога, то как в усовершенствованную обезьяну. Больше всего он любит солидную гарантированность своей будущности: страховое общество и сберегательная касса — милые его сердцу учреждения. Немецкий развитой рабочий, сознательный социал-демократ, без всякого сомнения гораздо более типичный мещанин, чем русский мужик.
Русский мужик никогда не чувствует себя хозяином своей жизни, он всегда знает, что над его жизнью есть настоящий Хозяин — Бог. Это чувство своей человеческой немощи в нем постоянно питает его ежедневный крестьянский труд. В крестьянстве, как ни работай, доделать до конца человеку самому все равно ничего нельзя. Хлеб можно посеять, но его нельзя взрастить. Прекрасные по весне луга всегда могут к покосу и сгореть, и перестояться под дождями. Как ни ухаживай за скотиной, скот всё-таки не машина: огуляется-ли во время телка, сколькими поросятами опоросится свинья, задастся ли петух, все это в русском мужицком хозяйстве никак непредусмотримо, и отсюда основное религиозное чувство мужика, чувство реального ежедневного сотрудничества с Богом, с живою душой земли, с домовыми и лесовыми. В прошлом году у нас в хозяйстве пропала телка. Три дня все мои с утра до позднего вечера лазили по кустам и оврагам — нет и нет.., Совсем уже отчаялись, но тут присоветовали девки: «а вы, Федор Августович, возьмите корку хлеба, посыпьте солью, дойдите до пенушка на перекрестке, корку положите и скажите:
«Батюшка лесовой,
«Приведи ее домой,
«Выведи ее туда,
«Откуда она пришла!
Обязательно на нее и выйдете». Все вышло как по писанному. Громко произнеся заученные слова (не так стыдно было произносить, как себя слушать) и положив корку на пень, я двинулся к оврагу, который уже утром исходил вдоль и поперек, а не пройдя и трех саженей, наткнулся на свою черно-пегую телку!.. Поверил-ли я в лесовых, я не знаю, но сказать просто «нет» тоже нет у меня никаких оснований. Для всей же деревни было ясно — лесовой вывел. Эта вера в благожелательных домовых и лесовых как и вера в живую душу земли — все что угодно, но только никак не мещанство. Мещанство совсем в другом и меж-
294
ду прочим и в ощущении этой мужицкой веры как тупоумия и суеверия. Мещанину многое ясно, что не ясно ни мужику, ни поэту, ни философу.
Крестьянское чувство земли — очень сложное чувство. Живя все последние годы в деревне, я к нему очень присматривался и уяснил себе многое, чего раньше не понимал. Крестьянин свою землю любит, но эстетического образа своего клочка земли он не чувствует. Для него земля только недра и ни в какой степени не пейзаж. Можно представить себе переселенца, который взял бы с собой мешочек родной земли, но нельзя себе представить такого, который захотел бы взять с собою фотографический снимок поля, покоса или даже своей усадьбы. Из всех русских писателей Достоевский, быть может, сильнее всех чувствовал землю, но во всех его романах совсем нет, пейзажа. Тургенев был величайшим русским пейзажистом, но чувства земли, ее недр, ее плодоносного лона, ее божьей плоти и ее живой души у него нет. Крестьянское чувство земли очень близко к чувству Достоевского, помещичье гораздо ближе к Тургеневскому. У Достоевского и у мужика чувство земли онтологично, у Тургенева и у помещика — оно эстетично. Но это онтологически существенное крестьянское чувство земли отнюдь не объяснимо простою житейской зависимостью всего мужицкого существования от полосы земли. Земля для крестьянина совсем не орудие производства, совсем не то, что инструмент для мастерового или машина для рабочего. Машина во власти рабочего, а крестьянин сам во власти земли. И оттого, что он в ее власти, она для него живая душа. Всякий труд на земле есть человеком земле поставленный вопрос, и всякий всход на земле есть ответ земли человеку. Всякий труд при машине монолог с заранее предусмотренным эффектом, всякий труд на земле диалог с никогда неизвестным концом. В фабричном труде есть нечто мертвящее душу, в крестьянском — животворящее. Потому фабрика ведет к мещанской вере в человека, а земля к религиозной вере в Бога. В жизни эти прямые линии очень осложняются. Многие рабочие верят не в человека, а в Бога. Но это почти всегда крестьяне, работающие на фабрике. И многие крестьяне никак не верят в Бога, но это уже не люди, а звери, и звери прежде всего тогда, когда пытаются стать людьми, осуществить право, закон и справедливость. Типичная история: поймали у нас в деревне конокрада. Сначала хотели «прикончить», но потом передумали. Постановили свезти в уезд-
295
ный город, в суд. До города 30 верст, по пути много деревень. Решили в каждой деревне останавливаться, собирать сход и «учить» вора. «Учили» на совесть, методично и без особой злобы; но до суда не довезли,.. Покойника подкинули в милицию и концы в воду. Кто привез, на чьей лошади, кто бил, кто убил? Таки, ничего и не дознались. И все были очень довольны, сделали чисто, по совести. Все это зверство, но не мещанство. Мещанство всегда серединность, а русский мужик, подземный корень России, весь, как и она, в непримиримых противоречиях.
Все эти пространные рассуждения мой собеседник слушал с очень большим вниманием и интересом, но в самых главных пунктах они его все-же как-будто не удовлетворяли. Понятие буржуазной психологии, понятие мещанства, очевидно, не имело для него того смысла и привкуса, который так понятен и привычен и русскому сознанию, и русскому языку. Он явно связывал мещанство не с психологическими категориями серединности, самонадеянности и без религиозности, но почти исключительно с чувством «священной» собственности. Собственник ли русский мужик в европейском смысле слова — вот что, очевидно, интересовало его в первую голову. Как было отвечать на этот вопрос европейцу? Конечно, русский мужик в известном смысле собственник до мозга костей. Когда деревня делит общественные покос, то не только чужие, но и родные братья готовы из-за пол-косы перегрызть друг другу глотки, но ведь и когда семья хлебает из общей миски, то каждая ложка опускается в миску по очереди и вылавливает только по одному кусочку мяса. Во всем этом понятие собственности странно сливается с понятием справедливости. То же самое и дальше. Какую землю мужик считает своей? В сущности, только ту, которую сам обрабатывает. Когда революция передала нашу пахотную землю деревне, которая ее бессменно обрабатывала при всех помещиках, она приняла ее в глубине сердца как свою. Свою, примерно, в том смысле, в каком кормилицы богатых, светских домов считают своих выкормышей своими детьми. Правда, она долго колебалась, запахивать-ли, и обязательно хотела за нее хоть что-нибудь для формы заплатить, но это только по недоверию к нашей совести, а не по отсутствию веры в свое право. Да, русский крестьянин в отношении земли, конечно, собственник, но только с тою оговоркой, что собственность для него категория не юридическая, но религиозно нравственная. Право на землю дает толь-
296
ко труд на земле, труд, в котором обретается онтологическое ощущение земли и религиозное преображение труда. Каждому мужику, выехавшему с восходом солнца в поле, естественно и почувствовать и сказать: «экая благодать», но как сказать «экая благодать», садясь за чинку сапога или пустив в ход машину...
Так сплетается в крестьянской душе утверждение труда, как основы земельной собственности, и ощущение возделанной земли, как религиозной основы жизни.
Все гораздо сложнее, чем в европейском мещанстве, для которого собственность свята потому, что за нее заплатили деньги и ее охраняют законы, или в европейском социализме, который вообще отрицает всякий духовный смысл собственности…
***
Понял ли мой собеседник все то, что я пытался ему рассказать об интересовавшем его русском мужике, или нет — сказать трудно. Во всяком случае он удовлетворился и успокоился, оптимистически решив, что если я прав, то большевики не могут долго продержаться в России, являясь по всему своему миросозерцанию хулителями и отрицателями не только ее хозяйственных, но и ее религиозных основ. Счастливый европеец!
Ф. Степун
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
