13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Левитин-Краснов Анатолий Эммануилович
Левитин-Краснов А. Э. Закат обновленчества
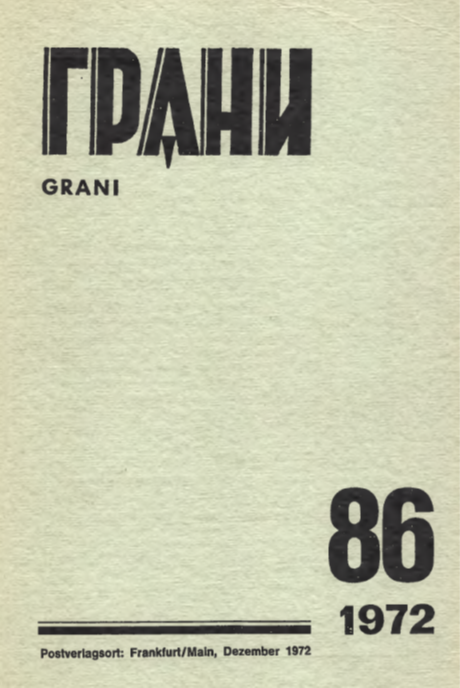
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
А. Краснов
ЗАКАТ ОБНОВЛЕНЧЕСТВА
Из воспоминаний
Ветер форточку приоткрыл,
Не задев остального здания,
Он подслушать, верно, хотел
Твои подошедшие воспоминания.
Мих. Светлов, «Рабфаковке».
Кавказ. Пятигорск. Горы. Там воздух чист и небо близко — и далеко; далеко внизу «— муравейник: маленькие люди...
Я всхожу в горы, усталый, одинокий и больной... Как хорошо в горах ранней весной: солнце над головой, а под ногами хрустит снег. И отчетливо и ясно встают в голубоватой дымке давно ушедшие, полузабытые, замолкшие навсегда...
1938 год. Над Россией пролетел ураган. Огромные опустошения произвел он во всех областях. Особенно пострадала Русская Православная Церковь: десятки иерархов, тысячи священников, огромное количество верующих мирян ушли из жизни. Ежовщина уничтожила подавляющее большинство русского духовенства. Девяносто пять процентов церквей, существовавших в двадцатые годы, были закрыты, огромное количество их было снесено. Самое понятие «церковь» в ушах большинства населения звучало анахронизмом. Не запрещенная официально, Церковь практически была нелегальной организацией, так как малейшее соприкосновение с «церковниками» считалось верным признаком политической неблагонадежности со всеми вытекающими отсюда последствиями (а последствия были страшные).
93
«Церковники и сектанты пытаются отравить ядом религии наших детей. Дадим отпор враждебной работе церковников и сектантов!» Этот лозунг, выдвинутый впервые в майские дни 1937 года, неизменно появляется среди других лозунгов ЦК ВКП(б) в майские и октябрьские дни, на протяжении четырех лет — с 1937 по 1941 г.
Обновленчество разделило судьбу всей Православной Церкви. Власти в это время совершенно перестали делать какое-либо различие между представителями двух церковных ориентаций.
«Мавр сделал свое дело — мавр может уйти», — этими словами одного из персонажей шиллеровской трагедии «Заговор Фиеско» можно охарактеризовать официальную линию по отношению к обновленцам в те годы.
В 1937-38 гг. были арестованы и физически истреблены наиболее видные лидеры обновленчества: Петр Блинов — глава сибирских обновленцев, Петр Сергеев — обновленческий митрополит Ростовский, Василий Челябинский, обновленческий глава Урала. Еще раньше — в 1935 *) году был арестован вскоре умерший в заключении Александр Иванович Боярский — виднейший лидер обновленчества, ставший в последние годы своей жизни митрополитом Иваново-Вознесенским.
В эти годы обновленчеству был нанесен удар в самое сердце: в 1935 году последовал «самороспуск» Синода. Единственным духовным центром обновленчества с этого времени является митрополит Виталий (Введенский) — бывший председатель Синода. По инициативе проф. Зарина (своего секретаря) митрополит Виталий принимает пышный титул «Первоиерарха Московского и всех православных церквей в СССР». Ему присваивается небывалый титул: «Ваше первосвяти-
*) В тексте год написан неразборчиво: можно прочитать 1935 и 1936. — Ред.
94
тельство», а к его имени прилагается эпитет: «первосвященнейший». Однако вся эта внешняя помпа не может скрыть той парадоксальной ситуации, в которой очутилось обновленчество. Ярые противники единоличной власти и сторонники «соборного начала» вынуждены отныне перейти сами к единоличному управлению. Правда, в том же положении находилась и Православная патриаршая Церковь, возглавлявшаяся митрополитом Сергием; власти считали в это время неприемлемым любой коллективный орган церковного управления, — соратники Ежова приходили в ужас при одном слове «соборное» управление и совершенно так же, как купчиха у Островского при слове «жупел», падали в обморок.
Однако с ликвидацией Синода отпадал всякий осмысленный повод для раскола, и отныне вся церковная распря сводилась лишь к борьбе за власть между двумя иерархами. Впрочем, мало кто думал в это время о церковных разногласиях. Уцелевшему духовенству было не до теоретических споров. С другой стороны, резкое сокращение храмов исключало возможность выбора для верующих: ходили в тот храм, который уцелел в данной местности, причем принадлежность этого храма к той или другой ориентации определялась чисто случайными факторами. В Средней Азии, на Северном Кавказе и на Кубани все без исключения храмы были обновленческими просто в силу инерции — такими они стали в двадцатых годах благодаря умелой работе местных деятелей. В России, наоборот, обновленческие храмы попадались лишь изредка, а в Сибири (после ареста Петра Блинова) обновленческая организация фактически распалась.
В Москве после 1937 года было семь обновленческих храмов — Воскресенский собор в Сокольниках, Старо-Пименовская церковь и все московские кладбища (Ваганьковское, Дорогомиловское, Пятницкое, Калитниковское и Даниловское) и несколько церквей в
95
пригородах. Засилие обновленцев на московских кладбищах было остатком тех славных времен, когда обновленцы находились в фаворе: тогда кладбища были им даны на «кормление» и были главной статьей дохода в бюджете обновленческой церкви.
В Ленинграде после массового закрытия церквей оставалось после 1937 года от былого обилия обновленческих храмов лишь две церкви: Спасо-Преображенский собор и небольшая церковка на Серафимовском кладбище.
В обновленческой иерархии также произошли большие изменения: большинство иерархов было арестовано, другие иерархи тихо и скромно ушли на покой и сидели тише воды, ниже травы по глухим углам, больше всего на свете желая, чтоб про них забыли. В это время происходит совершенно скандальный уход из церкви знаменитого обновленческого деятеля Николая Федоровича Платонова.
Н. Ф. Платонов в тридцатые годы начинает занимать в обновленческой иерархии всё более заметное место и не только спорит за влияние с А. И. Введенским, но уже оттесняет его на задний план. Еще будучи до 1934 года архиепископом Лужским — викарием Ленинградской митрополии — Н. Ф. Платонов держит в своих руках все нити Ленинградской епархии. Будучи настоятелем Андреевского собора на Васильевском Острове, Николай Федорович по-прежнему пользуется огромной популярностью среди народа. Снискав жгучую ненависть со стороны приверженцев строгого православия, которые говорят о нем как об агенте ГПУ и о предателе Церкви, он тем не менее является кумиром для огромной массы прихожан Андреевского собора. Настоятель служит почти каждое воскресенье и каждый праздник. Его ораторский талант достигает в это время своего зенита: его яркие и эмоциональные речи волнуют слушателей. Его ораторское мастерство всё совершенствуется. Если раньше Платонов во время ре-
96
чи не всегда соблюдал определенную меру, доходя в конце речи до истошного крика, то теперь ритм его речи становится более четким и ясным. В это время он -— уже хозяин своего темперамента, и пламенные концовки его речей не имеют крикливых интонаций. Путем упорной работы над собой Платонов преодолевает в это время свои природные дефекты: гнусавость и шепелявость, его голос звучит во время проповеди мужественно и энергично, и лишь в отдельные моменты, по тому напряжению, с каким произносятся отдельные фразы, внимательный слушатель чувствует, как трудно оратору преодолевать свой природный порок речи.
По своему содержанию речи Платонова также представляют собой большой интерес: летом 1933 года Платонов выступил с кафедры Андреевского собора с целым циклом речей на тему «Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь». На эту тему им было произнесено шесть речей, из которых каждая продолжалась не менее двух с половиной часов, а три речи продолжались в течение трех часов с минутами. Речи произносились по воскресеньям, после вечерни и акафиста Спасителю. Облеченный в мантию оратор произносил их, стоя на проповеднической кафедре (слева от алтаря). Не менее двух тысяч слушателей с пристальным вниманием ловили каждое его слово, каждую интонацию. Четыре речи из шести раскрывали смысл четырех эпитетов девятого члена Символа Веры. Две речи — первая и последняя — представляли собой вступление и заключение. Шесть речей Платонова не только содержали глубокий богословский анализ учения о Церкви, но и касались широкого круга проблем, связанных с Церковью. Все речи оратора были произнесены с огромным подъемом, и в отдельные моменты чувствовалось искреннее воодушевление. Внимательный слушатель, однако, мог бы услышать в речах оратора нотки пессимизма и неверия в Русскую Церковь, по которым можно было бы догадаться о будущей судьбе Платонова. Так, толкуя уче-
97
ние Спасителя о Церкви (как о Камне), который не одолеют врата адовы, Платонов особо подчеркнул, что обетование Спасителя относится лишь к вселенской Церкви, а не к отдельным поместным Церквам.
«Поместная Церковь, — настойчиво повторял оратор, — может совершенно исчезнуть!»
Далее следовали примеры Карфагенской и Александрийской Церквей. Перейдя затем к русской Церкви, оратор продолжал:
«Еще очень и очень большой вопрос, сумеет ли Русская Церковь найти себе место в новом, строящемся мире, не исчезнет ли она в водовороте революционных бурь».
Такие заявления не были редкостью в то время в речах Платонова:
«Пройдет немного времени и жизнь, быть может, не оставит ничего из того, что для нас священно, — из того, чем мы еще дорожим по привычке...»
Еще более определенно высказывался он в частных разговорах:
«Церковь, видимо, идет у нас к концу, — сказал он однажды одному из своих прихожан, — религия будет существовать, вероятно, в каких-то других, новых формах».
Червь сомнения и неверия медленно, но верно, делал свое страшное дело — постепенно подтачивал этого блестящего проповедника и большого талантливого человека. Летом 1934 года Н. Ф. Платонов произнес цикл столь же блестящих проповедей на тему: «Таинства Церкви». Эти проповеди также охватывали широкую тематику многообразных церковных проблем.
Человек вдумчивый и глубокий, Платонов порой бросает с кафедры смелые, оригинальные мысли:
«Из далекой Византии пришла Владычица светозарной иконой Своей на Святую Русь, — говорил он за всенощной под праздник Тихвинской Божией Матери в 1934 году, — и из Вла-
98
димира пришла она в Тихвин, — учили наши предки и делали из этого вывод: первый Рим пал от ереси, второй Рим — от турок, а Москва есть третий Рим, а четвертому не бывать. А что скажем мы сегодня? Сюда ходила Владычица, туда пришла Царица Небесная, — видим мы и не гордимся тем, что Она к нам пришла, а страшимся, как бы не ушла Она от нас. Не шовинизм и не гордость, а страх перед Богом — желание нравственного обновления и очищения рождает в нас сегодняшний праздник...»
Порой он поднимался до настоящего пафоса.
«Как трудно говорить сегодня, когда лежит перед нами бездыханное Тело Спасителя, — восклицал он в Страстную пятницу в 1935 году, — хочется лежать у плащаницы и плакать, а не говорить. И все-таки надо говорить, надо говорить, чтоб не случилось снова того, что происходило две тысячи лет назад.
Умер на кресте Христос, — и ведь главный ужас в том, что в это время люди собирались праздновать Пасху, приготовляли пасхального агнца, искренне желали служить Богу и какао случайно, незаметно, убили Божественного Агнца».
Все эти отдельные блестящие проповеди Платонова представляли собой, однако, лишь отдельные яркие вспышки этого большого таланта.
Повседневные его проповеди были обычно посвящены иной теме: он всё чаще и чаще использовал кафедру проповедника для сведения фракционных счетов со «староцерковниками»: личные выпады, мелкие грязные сплетни, «сенсационные» открытия из жизни православных иерархов, выискиваемые со старанием сыщика, — таково основное содержание его проповедей. И этот несомненно крупный человек вдруг мельчал: пламенный проповедник неожиданно превращался в какого-то героя кухни в коммунальной квартире.
«Мне незачем анализировать скандальные выступления Вашего Высокопреосвященства, посвященные внутрицерковной тематике, — с мальчишеским задором заканчивал письмо обновленческому Владыке 5 мая 1935 года, пишущий эти строки, —
99
эти ваши выступления не имеют никакого отношения ни к религии, ни к социализму, ни к христианству, они имеют отношение лишь к Гоголю, к «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».
1933 и 1934 годы — переходные, кризисные годы в жизни Н. Ф. Платонова. 31 декабря 1933 года умерла его первая жена — Елизавета Михайловна Платонова, религиозная, глубоко порядочная, одухотворенная женщина. Она умерла после продолжительной долголетней болезни, и Н. Ф. Платонов делал всё для того, чтобы ее вылечить и облегчить ее муки. Он любил свою жену искренно и сердечно, и лишь одно интимное обстоятельство — невозможность иметь от жены детей — отравляло его двадцатилетнюю семейную жизнь. Платонов был искренно потрясен смертью жены. Трогательно и просто рассказывал он о ее предсмертных муках, о том, как она просила его расчесать ей волосы и как, уже чувствуя приближение смерти, сказала: «Как хорошо, но только что-то совершенно новое...»
Со смертью жены ушел единственный близкий Платонову человек, единственный любимый им человек...
«А люблю я все-таки Ленинград!» — воскликнул однажды Александр Иванович Введенский со свойственной ему экспансивностью, когда подъезжали оба они (Введенский и Платонов) к Ленинграду — ехали они в купе экспресса «Красная стрела» из Москвы. «Я ничего не люблю», — вырвалась вдруг у Платонова унылая фраза.
Одиночество и духовная опустошенность характерны для Платонова в начале тридцатых годов: разрыв с ближайшими родственниками (братом и сестрой, причем молва настойчиво приписывала Платонову участие в их арестах) и тайная служба в органах ГПУ с 1923 г. (выражавшаяся в непрерывных доносах, в результате чего погибло много людей), — всё это наложило мрачные блики на его душу.
100
Особенно острым был разлад Н. Ф. Платонова с его сестрой — Александрой Федоровной Платоновой (в монашестве Анастасией), известной духовной писательницей и последней игуменьей Ивановского монастыря.
«Стоим мы с Александрой Федоровной на трамвайной площадке, — рассказывала пишущему эти строки А. В. Волкова (в первой части нашей совместной с В. Шавровым работы мы на нее ссылались), — вдруг входит в трамвай Платонов. Александра Федоровна посмотрела на него и отвернулась. А он к ней: ’Что ты, Шура, или брата не узнаешь?’ А она ему: ’И ты еще меня спрашиваешь, Коля? Наши родители в могиле переворачиваются. Что ты делаешь, ведь ты дьяволу служишь!’».
В том, что Н. Ф. Платонов был непосредственным агентом ГПУ, имело возможность убедиться на своем печальном опыте огромное количество людей (в том числе и пишущий эти строки).
Сейчас, почти через тридцать лет, мне трудно себе представить, что семнадцатилетний чернявый парнишка с угреватым, некрасивым лицом, который впервые переступил порог квартиры Платонова в понедельник 3 июля 1933 г., был действительно я. Жил Н. Ф. Платонов на 6-й линии Васильевского Острова во дворе Андреевского собора, во втором этаже церковного дома. В его квартире помещался епархиальный совет, который носил громкое название «Ленинградского митрополитанского управления». Это учреждение со столь блестящим титулом умещалось, однако, в столовой Н. Ф. Платонова. Здесь, рядом с буфетом, стояла пишущая машинка, на которой бойко отстукивала «Указы по митрополии» быстрая, маленькая пожилая женщина в пенсне — Александра Ивановна Тележкина. У окна рылся в делах также не блещущий красотой молодой человек — здравствующий ныне А. Ф. Шишкин, довольно известный церковный деятель, полученный Патриархией по наследству от Н. Ф. Платонова. На обеденном столе лежала раскрытая книга, в которую по-
101
сетители должны были вписывать свои имена. Каждый лист в этой книге был разделен на три графы:
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Ориентация.
3. По какому делу.
А. Ф. Шишкин бдительно следил, чтоб какой-нибудь посетитель не проскользнул мимо этой почтенной книги. Важно в ней расписавшись, я поставил в графе «Ориентация» — «христианский социалист».
Платонов принял меня тотчас же и удостоил беседой, которая длилась более двух часов. Беседа носила теоретический характер, касаясь взаимоотношений между христианством и социализмом. Я вышел из кабинета совершенно очарованный умом, любезностью и широтой взглядов хозяина, который настойчиво приглашал меня заходить как можно чаще. Между тем более опытный наблюдатель, чем я, обратил бы внимание на целый ряд странностей в поведении собеседника.
Во-первых, всякого бывалого человека удивила бы поразительная откровенность собеседника: он не только не избегал говорить на политические темы с незнакомым посетителем (да еще с семнадцатилетним мальчишкой), но, наоборот, сам охотно задавал самые острые вопросы. Помню, в частности, совершенно невероятную по своей откровенности фразу Платонова: «Я не думаю, чтоб этот эксперимент увенчался успехом».
Во-вторых, всякий обратил бы внимание на то, с какой настойчивостью высокий собеседник расспрашивал, спускаясь с теоретических высот, о весьма конкретных вещах — главным образом, о знакомствах, единомышленниках, друзьях.
Но находясь под обаянием высокого сана, я, конечно, поспешил открыть Платонову всю свою душу и выложить ему всё, что я знал.
Результат приятных и высоко поучительных бесед с высокопреосвященным владыкой (таких бесед было
102
несколько) сказался через девять с лишним месяцев: 24 апреля 1934 года я был арестован, и мне было предъявлено политическое обвинение. Обвинение оказалось совершенно вздорным, и вскоре я вышел из тюрьмы. Однако, несмотря на всю свою неопытность, я убедился в том, что содержание моих бесед с Платоновым до мельчайших деталей было известно следователю.
При всей моей приверженности, — я бы сказал влюбленности к знаменитому проповеднику, — у меня не могло быть ни малейших сомнений в том, что он осведомитель.
Вскоре после моего освобождения, в праздник Троицы, я пришел в Андреевский собор к литургии. Богослужение было торжественным и совершал его сам архиепископ. После вечерни и положенных коленопреклонных молитв, прочтенных с необыкновенной проникновенностью, обновленческий иерарх, разоблачившись, величественно направился к выходу; с колокольни раздавался неумолчный трезвон колоколов, толпа верующих устремилась к владыке под благословение. Когда он поравнялся со мной, я шагнул прямо к нему.
— А вы напрасно сказали, что Михаил Яворский был моим духовником, он никогда моим духовником не был, — резко бросил я ему в лицо, с запальчивостью бурша, не подходя под благословение.
_ Что такое, кому я сказал? — после минутного молчания произнес Николай Федорович.
— Сказали тем, кто вас расспрашивал обо мне, — бросил я столь же резко. Иерарх отвел глаза и промолчал. — А я не был духовным сыном Михаила Яворского, — с глупым упорством повторял я.
— Не помню, не помню, — прогнусавил Платонов, проходя мимо.
Впоследствии мне приходилось неоднократно встречаться с Платоновым. Я говорил с ним в обычном почтительном тоне; ни он, ни я никогда не упоминали о прошлом.
103
В сентябре 1934 года Платонов взлетел на вершину обновленческой церкви.
Указом Священного синода от 1/IX-34 г. «Преосвященный Николай, архиепископ Лужский, (был — А. К.) назначен Митрополитом Ленинградским взамен ушедшего на покой митрополита Серафима (Руженцева)». Это назначение явилось результатом длительных закулисных маневров и интриг Н. Ф. Платонова.
«Бывало, приедет в Москву, и сразу же начинаются разговоры о митрополите Серафиме — и малоактивен, и что-то еще, и чего-чего только о нем не говорит», — вспоминал в 1943 году митрополит Виталий.
Действительно, между митрополитом Серафимом и Платоновым существовала давняя антипатия. Истоки этой антипатии, быть может, скрывались в коренной противоположности их характеров.
Трудно себе представить двух более отличающихся друг от друга людей, чем митрополит Серафим и Н. Ф. Платонов. Митрополит Серафим был выходцем из придворного духовенства, большую часть своей жизни он провел в качестве священника дворцовой церкви в Стрельне. Это оставило неизгладимый след. Изящные, аристократические манеры, величавая осанка важного барина, утонченная вежливость, но с оттенком снисходительности, — таков был протоиерей Руженцев (будущий обновленческий митрополит).
В 1919 году, овдовев, он принимает монашество и возводится на архиерейскую кафедру в одном из северо-русских городов. Присоединившись к обновленческому расколу с самого начала, епископ Серафим принадлежал к числу так называемых тихих обновленцев — он спокойно и с обычным своим достоинством управлял различными русскими епархиями, пока в 1925 году не был назначен обновленческим митрополитом Московским.
104
В 1929 году, после перевода в Москву митрополита Вениамина (председателя синода), митрополит Серафим был переведен в Ленинград. Здесь он сразу же столкнулся с Н. Ф. Платоновым.
Морально чистоплотный и безукоризненно порядочный человек, любивший называть себя джентльменом, митрополит Серафим относился с брезгливым отвращением к своему старшему викарию, который был фактически при нем «комиссаром». Понимая свое бессилие в борьбе с Платоновым, митрополит соблюдал в отношениях с ним внешний такт и вежливость. Всем было известно, однако, что между двумя ленинградскими иерархами существуют холодные, напряженные отношения. И стиль митрополита был также совсем иной, чем у его собрата: он никогда не позволял себе в проповедях личных выпадов против кого бы то ни было, никогда никого не задевал и ни перед кем не подхалимствовал.
Уволенный в сентябре 1934 года на покой, митрополит отдыхал всего лишь полгода, — он умер б марта 1935 года и был погребен на Смоленском кладбище (после торжественного отпевания в церкви св. Великомученицы Екатерины).
Между тем Н. Ф. Платонов 9 сентября 1934 года принял Ленинградскую епархию.
В первые же дни своего управления новый иерарх всячески старался повысить свой авторитет: имея кафедру в Спасо-Сенновском Успенском соборе, он присвоил Андреевскому собору название митрополичьего крестового собора. Торжественные поездки в Карелию, Псков, Новгород, Боровичи должны были повысить его авторитет в провинциальных епархиях. Наконец, к сентябрю 1934 года относится первая акция Платонова во всероссийском церковном масштабе. Осенняя сессия Священного синода, которая назначила Платонова митрополитом Ленинградским, одновременно приняла решение об избрании комиссии по изысканию средств
105
борьбы против «староцерковничества». Председателем комиссии был избран А. И. Введенский, в качестве членов в состав комиссии входили митрополиты Петр Блинов, Николай Платонов, Михаил Орлов, Петр Сергеев, Василий Кожин и др.
С первого же момента инициативу в комиссии захватил Н. Ф. Платонов. Он выступил с сенсационным планом, основой которого был лозунг: «Бить врага его же оружием».
Согласно плану Платонова, обновленческий синод должен был объявить себя единственным законным хранителем Православия. «Староцерковничество» должно было быть объявлено «еретичествующим расколом». В соответствии с этим все «староцерковные хиротонии», произведенные после 10 мая 1922 года (день «отречения» патриарха Тихона), должны были быть объявлены недействительными, все духовные лица, приходящие из «староцерковничества», могли быть приняты только через публичное покаяние, все храмы, которые переходили в обновленческую ориентацию, подлежали переосвящению (через чин малого освящения).
Самым пикантным во всей этой платоновской затее было то, что всего лишь за несколько лет до этого обновленческие иерархи (в первую очередь сам Н. Ф. Платонов) с пеной у рта доказывали «неканоничность» и «незаконность» перерукоположений священнослужителей и переосвящений храмов. А. И. Введенский (следует отметить к его чести) выступил вначале против «плана Платонова». Однако после нерешительного сопротивления быстро сдал свои позиции. Другим обновленческим иерархам, которые выражали свое недоумение по поводу новоявленного «плана», было под сурдинку указано, что «план Платонова» согласован с некоторыми авторитетными инстанциями, которые желают оживления церковной борьбы. Уже через месяц, 3 октября 1934 года, была созвана новая экстренная сес-
106
сия Синода (это была его последняя сессия, так как весной 1935 года он уже был распущен). Синод, заслушав доклад Н. Ф. Платонова, принял так называемые октябрьские указы, написанные Н. Ф. Платоновым. Следует, впрочем, отметить, что, кроме нескольких театральных покаяний, поставленных Платоновым в Ленинграде, никаких практических последствий «октябрьские указы» не имели. Сам Платонов очень громко кричал в своих речах о своем «православии». В январе 1935 года он выступил в Андреевском соборе с двухчасовым докладом о «новом этапе в истории обновленчества». Стоя на кафедре, Н. Ф. Платонов в течение двух часов обливал грязью «староцерковников». Облеченный в стихарь А. Ф. Шишкин, стоя на ступеньках, подавал своему «владыке» нужные документы.
Какова была деятельность Николая Платонова в качестве митрополита Ленинградского? Смешно, конечно, отрицать блестящие административные способности Н. Ф. Платонова. «Как администратор он был бесподобен: им можно было любоваться, так у него всё было продумано, разумно, ясно», — говорил в прошлом году в беседе с пишущим эти строки о. С. Р. — один из ближайших помощников Платонова в последние годы его жизни. Трудно было, однако, что-нибудь сделать существенное в эти годы, когда церковная организация стремительно летела под откос.
Ровно через три месяца после вступления Платонова в должность был убит С. М. Киров. В марте 1935 года — на первой неделе Великого поста — начались массовые высылки из Ленинграда духовенства. Обновленческое духовенство разделило общую участь: был выслан из Ленинграда один из старейших протоиереев о. Константин Шахов — духовник Николая Федоровича. Известный обновленческий деятель и проповедник о. Федор Разумовский остался в Ленинграде только благодаря тому, что снял с себя сан. В июне 1935 года раздался первый тревожный сигнал: был закрыт (и
107
вскоре снесен) ленинградский Вознесенский собор. Правда, Платонову удалось на этот раз взять «реванш»: вскоре в его ведение был передан Спасо-Преображенский собор на Литейном проспекте. Затем, однако, последовал ряд новых закрытий: в 1936 году были закрыты Благовещенская и Екатерининская церкви на Васильевском Острове, Захарие-Елизаветинская, Пантелеймоновская, Космо-Дамианская церкви — в центральном районе города. Вскоре от обновленческой епархии осталось лишь несколько храмов, но и над ними нависла угроза закрытия. После самороспуска Синода было распущено и Ленинградское митрополитанское управление. Платонову предложили сдать пишущую машинку, вся переписка отныне велась в его канцелярии от руки, причем в качестве писца подвизался А. Ф. Шишкин.
Духовенство было охвачено пессимизмом и безнадежностью. Впрочем, про самого Платонова это сказать нельзя. Лето 1936 года он счел наиболее удобным временем для своей новой женитьбы. Избранницей митрополита Платонова оказалась Марья Александровна -— певчая в хоре Андреевского собора. В июле 1936 года Н. Ф. Платонов объявил о предстоящей женитьбе ленинградскому обновленческому духовенству, а в августе того же года протоиерей о. Константин Томилин (ключарь Андреевского собора) обвенчал Николая Федоровича и Марью Александровну. Свадьба происходила в соборе при наглухо закрытых дверях, в присутствии лишь небольшого числа прихожан. Новобрачный был одет в штатское — в синий шевиотовый костюм, священник и диакон поминали брачущихся как «рабов Божиих Николая и Марию», без всяких титулов...
Своеобразный характер носили отношения между Н. Ф. Платоновым и А. И. Введенским. Старые товарищи, хорошо знавшие друг друга в молодости, они никогда друг друга не любили. «Легкомысленный человек», — говорил часто Платонов про Введенского. «Да
108
ведь он сумасшедший!» — сказал он однажды про своего знаменитого собрата в присутствии большого количества мирян. Отзывы Введенского отличались большим добродушием. «Умница, талантливый человек, но только бездушный, совершенно, совершенно бездушный», — говорил неоднократно Введенский.
Отношения между двумя иерархами не ограничивались, однако, обменом колкостями. Были и более серьезные вещи. В 1931 году Н. Ф. Платонов читал курс лекций по гомилетике в Московской богословской академии. Весь этот курс был целиком направлен против А. И. Введенского. Платонов с пеной у рта протестовал против жонглирования именами ученых, против психологических экспериментов и импровизации, вторжения проповедника в не свойственные ему области — словом, против всего того, что являлось характерным для проповеднической манеры Введенского. Самая линия Платонова в церковных вопросах резко противоречила линии Введенского: враг какого бы то ни было новаторства и экспериментаторства, глубокий консерватор в прошлом, Платонов выступал в качестве «ревнителя Православия»: всякие разговоры о реформах всегда вызывали в нем раздражение. В то же время он был отъявленным политическим приспособленцем и сикофантом (доносчиком). Короче говоря, «платоновщина» — это «живоцерковничество» тридцатых годов. От Красницкого Платонов отличался лишь большей скрытностью (он действовал более коварно и конспиративно) и меньшим размахом своей деятельности. Вся беда Платонова заключалась в том, что в тридцатых годах власти считали для себя неприемлемой какую бы то ни было Церковь и не нуждались в услугах даже самых раболепных холопов из числа церковников: эпоха нэпа (век Красницкого) уже прошла, а послевоенная эпоха (век Колчицких) еще не наступила -— пресмыкающиеся политиканы остались не у дел.
Не у дел остался Н. Ф. Платонов в 1937 году. В
109
сентябре этого года он был вызван в здание на Шпалерной улице — в ленинградское отделение НКВД. Он пробыл там два дня. Жене, которая в ужасе металась около здания НКВД, обрывая телефоны, было отвечено:
— Вашего мужа здесь нет.
— Где же он? «— спросила упавшим голосом несчастная женщина.
— Не знаем, — последовал лаконичный ответ.
Однако через двое суток, под вечер, Платонов пришел домой, осунувшийся, побледневший, но в хорошем настроении.
— На днях уезжаем в Сочи, — объявил он с места в карьер испуганной жене.
Действительно, через три дня Платонов уехал отдыхать с женой в Сочи (обычно он ездил в Крым). Сразу после отъезда уставшего обновленческого Владыки в Ленинграде начались поголовные аресты среди обновленческого духовенства. В один день было арестовано более сотни человек. Среди арестованных находились: протопресвитер о. Николай Сыренский — настоятель (или как называли тогда «наместник») кафедрального собора Спаса-на-Сенной; прот. Константин Томилин — ключарь Андреевского собора и много других, глубоко порядочных священнослужителей, которые навсегда исчезли за роковыми стенами Шпалерной тюрьмы. От всего многочисленного ленинградского духовенства сразу осталась лишь жалкая горсточка — не более десяти-пятнадцати человек.
Н. Ф. Платонов не подавал никаких признаков существования; как говорили, он вел в это время идиллический образ жизни, живя в маленьком домике на берегу Черного моря вместе с молодой женой. Приехал он в Ленинград только в ноябре. По-прежнему он управлял остатками Ленинградской епархии. Однако некоторые его поступки вызывали всеобщее недоумение. Так, он совершенно перестал служить (в течение полу-
110
года — от августа до своего отречения — он служил лишь однажды, в Николин день).
В начале января 1938 года два обновленческих священника (о. Михаил Бакулев — настоятель церкви Смоленского кладбища и о. Сергий Румянцев — настоятель храма Спаса-на-Сенной) были вызваны к митрополиту.
«Покои» обновленческого митрополита в это время еще уменьшились. Большая квартира была переделена на две части. Квартира Платонова состояла из двух комнат: столовой и спальни, соединенных большим коридором. Николай Федорович, со свойственным ему практицизмом и вкусом сумел, однако, выкроить приемную, достойную его сана: часть коридора была отделена и получилась крохотная комната. Большое окно было обращено прямо на Андреевский собор, в углу висела старинная икона и стоял облаченный архиерейский посох. Сам хозяин обычно сидел за раскрытым бюро в глубоком кресле, а рядом стояла фортепьянная табуретка для посетителя.
Войдя к митрополиту, оба священника подошли к нему под благословение. Митрополит, одетый в рясу, но без каких-либо знаков отличия (без креста и панагии), однако, отстранил руки, протянутые к нему за благословением, и лишь облобызался с ними по обыкновению. Затем, усадив их, дал каждому из них по листку, отпечатанному на машинке, и сказал:
— Прошу вас прочесть указ по епархии.
И ушел в другую комнату, затворив за собой дверь. В указе, под которым стояла подпись «Николай митрополит Ленинградский», говорилось, что Ленинградская епархия, вплоть до назначения нового митрополита, разделяется на две части: в управление одной ее частью (Андреевский собор, Смоленское кладбище, Серафимовское кладбище) вступает прот. о. Михаил Бакулов; в управление другой ее частью (Спасо-Сенновский собор, Спасо-Преображенский собор и церковь Св. князя
111
Владимира на станции Лисий Нос) вступает о. Сергий Румянцев.
Священники переглядывались в полном недоумении: так что же, значит, он уже не митрополит? В это время из соседней комнаты вышел хозяин (уже без рясы, одетый в штатский костюм).
— Итак, теперь я не имею к Церкви никакого отношения, сегодня мною подано заявление о снятии сана. Работайте без меня, желаю вам успеха.
Бывший митрополит, проводив их до лестницы, по-светски подал им на прощанье руку.
«Вышли мы, как в воду опущенные, — вспоминает один из участников этой встречи, — написали сразу рапорт в Москву митрополиту Виталию, получили ответ о том, что будут даны указания, — и всё: ни указаний, ни привета, ни ответа».
Через несколько дней в «Известиях» и в «Правде» было опубликовано отречение Н. Ф. Платонова. Текст его отречения мы здесь не приводим, так как он недавно перепечатан полностью в книге «Правда о религии» (Москва, 1959 г., стр. 369).
На этом можно было бы поставить точку. С этого времени Николай Платонов уже не существует как церковный деятель и не должен интересовать историка Церкви. Но есть еще один фактор — психологический, и с этой точки зрения последние четыре года жизни Н. Платонова захватывающе интересны. О чем думал, что чувствовал этот недавний религиозный вития, став антирелигиозным пропагандистом?
Первое время после отречения Платонов бравировал своим новым положением. Часто он выступал с докладами в заводских и фабричных клубах. Советская пресса благосклонно отнеслась к «кающемуся»: его отречение, как я сказал выше, было напечатано в «Известиях» и в «Ленинградской правде». Вряд ли можно считать случайностью то, что сразу после отречения Платонова началось новое наступление на Церковь: че-
112
рез месяц после его отречения был закрыт храм Спаса-на-Сенной, обновленческий кафедральный собор. Сразу после Пасхи был закрыт Андреевский собор. Еще через несколько месяцев была закрыта и церковь Смоленского кладбища. От всей обновленческой епархии в 1939 г. остались лишь Спасо-Преображенский собор и церковь на Серафимовском кладбище. Весь этот разгром был осуществлен, однако, исключительно административными методами: нам неизвестен ни один случай ухода из Церкви кого-либо из прихожан Андреевского собора. Самые верные почитатели Платонова, самые ярые его поклонники (такие, например, как Александра Ивановна Тележкина) без колебаний покинули Платонова, — и он остался совершенно один. Уныло и одиноко жили супруги Платоновы в маленькой квартирке на 6-й линии. Правда, в 1939 году, на закате жизни, Платонова посетила последняя радость: в пятьдесят лет, за три года до смерти, он стал отцом; худосочный, слабый, полуживой ребенок был назван Андреем.
— Все-таки, кажется, вам навеки остался памятен Андреевский собор, — сказал Н. Ф. Платонову один из его старых прихожан.
— Да это не потому, это в честь... Жданова, — ответил бывший настоятель Андреевского собора.
Однако и эта запоздалая радость не украсила унылой жизни ренегата.
— Живем мы одни, никто к нам не ходит, никто у нас не бывает, — жаловалась его супруга.
— Ребенок слабый, ну, вдруг он умрет, — а крестить нельзя, — печально говорила в другой раз Марья Александровна.
В то время Н. Ф. Платонов работал хранителем музея истории религии. Ежедневно по ступенькам Казанского собора пробирался одетый в потертое пальто с поповской шапкой на голове, с портфелем под мышкой, человек. Светлая бородка и очки — вид старого учителя. Это был бывший митрополит Ленинградский,
113
много раз служивший в Казанском соборе в бытность свою архиепископом Гдовским — старшим викарием Ленинградской епархии.
Выступления Платонова, собиравшие вначале довольно большое количество народа, постепенно перестали кого-либо интересовать, — его доклады сплошь и рядом срывались из-за отсутствия слушателей. В газете «Безбожник», которая вновь стала выходить в это время в Москве большим форматом под редакцией Е. Ярославского, изредка печатались небольшие статейки Платонова. В частности, перед Великим постом в 1941 году была напечатана небольшая статейка «Исповедь», вульгарная, плоская, в которой повторялись затхлые мещанские сплетни о священниках, под видом исповеди назначающих свидания женщинам.
Так дожили до войны, — и война одним ударом разрушила унылое, жалкое существование Платонова.
В августе 1941 года совершенно неожиданно и непонятно была арестована Марья Александровна, его жена (причины ареста неясны, говорят, что она обвинялась в спекуляции). Через месяц умер от голода двухлетний ребенок, отданный отцом кому-то на воспитание. В это же время эвакуировался из Ленинграда музей истории религии. Хранитель музея в течение нескольких суток не спал, упаковывая фонды. Всё было бережно упаковано и вывезено из Ленинграда — документы, картины, диаграммы, плакаты. Забыли вывезти лишь один ценный экспонат — самого злополучного хранителя музея. Подобно госпоже Раневской, хозяева забыли в оставленном доме своего старого и уже ненужного слугу...
Я увидел его в последний раз в ноябре 1941 года, в самое тяжелое время блокады, когда еженедельно уменьшалась продовольственная норма и на улицах Ленинграда появлялись первые трупы. В декабре Ленинград был уже завален ими.
В небольшой столовке для научных работников (в
114
Этнографическом переулке) я увидел его, сидящего в вестибюле, исхудавшего, бледного, жалкого... Я ни разу не говорил с ним после его отречения и, встречая его на улице, демонстративно с ним не здоровался, но сейчас меня почему-то потянуло к нему, и, подойдя, я окликнул его по имени:
— Николай Федорович!
Встав, он вежливо поздоровался. Мы обменялись рукопожатием.
— Как вы поживаете, Николай Федорович? — спросил я.
— Плохо, очень плохо, голубчик, семья распалась, а сейчас съел карточку, до двадцатого ничего не дадут, — сказал он упавшим голосом.
Это значило, что он получил по продовольственной карточке ту мизерную норму, которая полагалась на десять дней.
— С сердцем плохо, аорта... — пожаловался он.
Я попробовал (со свойственной мне бестактностью) заговорить на идеологические темы, — он устало махнул рукой:
— Не знаю, не знаю, ничего я теперь не знаю...
«Конченный человек», подумал я, отойдя от него.
Конец наступил через несколько месяцев, весной.
В феврале — всеми оставленный, одинокий, голодный — он постучался к Александре Ивановне Тележкиной, своей старой прихожанке, обожавшей его всю жизнь.
Она открыла перед ним свои двери и приютила в своей маленькой комнатке его, своего бывшего владыку, и поделилась с ним последним куском хлеба.
И еще в одни двери постучался отверженец — в двери Церкви. На третьей неделе Великого поста, в среду, во время литургии преждеосвященных даров в Николо-Морском соборе происходила общая исповедь. Исповедовал престарелый протоиерей о. Владимир Румянцев. Неожиданно в толпу исповедников замешался
115
Платонов и начал громко каяться, ударяя себя в грудь. Затем в общей массе он подошел к священнику. О. Владимир молча накрыл его епитрахилью и произнес разрешительную молитву.
— Господи, благодарю Тебя за то, что Ты простил меня! Веровал, верую и буду веровать! — воскликнул он, отходя от святой чаши.
Он умер на другой день, в холодный ленинградский мартовский день, и погребен на Серафимовском кладбище в братской могиле, среди беспорядочной груды трупов умерших от голода людей.
— Он был человеком большого ума и большого сердца, — сказал о нем в 1946 году митрополит Николай, его старый товарищ и друг.
— Царство ему Небесное! — тихо молвил, перекрестившись, А. И. Введенский, старый его противник, в 1946 году, также уже больной, разбитый параличом, за месяц до смерти, после того, как я рассказал ему об обстоятельствах смерти Платонова.
— Царство ему Небесное! — восклицаю и я, прощаясь навсегда с Платоновым, и да послужит его судьба грозным предостережением для всех колеблющихся, сомневающихся, стоящих на грани предательства.
О самих предателях мы не говорим, — на них никакие предостережения уже не подействуют.
«Нет существа более презренного, чем предатель, — говорил в свое время А. М. Горький, — и даже сыпнотифозную вошь можно оскорбить, сравнив ее с предателем».
(Окончание следует)
116 ![]()

А. Краснов
ЗАКАТ ОБНОВЛЕНЧЕСТВА
Из воспоминаний
Тридцатые годы были тяжелой полосой в жизни А. И. Введенского. В 1929 году он последний раз выступил на диспуте в Политехническом музее. Этим выступлением заканчивается продолжительный, самый блестящий период его деятельности. Тридцатые годы — годы непрерывных стеснений. В 1931 году, после закрытия храма Христа-Спасителя, начинается период кочевья А. И. Введенского по московским храмам. Вначале он служит и проповедует в храме свв. апостолов Петра и Павла на Басманной улице, здесь же помещалась Богословская академия. В 1934 году новый страшный удар — закрытие храма Петра и Павла, одновременно закрывается Академия — без формального запрещения, «за отсутствием помещения». А. И. Введенский переходит со всей паствой в Никольский храм на б. Долгоруковской, ныне Новослободской улице. 1935 год -— «самороспуск» Синода. А. И. Введенский остается в самом неопределенном положении. Его официальной должностью была должность заместителя председателя Синода.
1936 год — закрытие Никольского храма. А. И. Введенский переходит в церковь Спаса-на-Спасской, по Б. Спасской улице. Здесь он прослужил полтора года. В
__________
Окончание. Начало см. в «Гранях» №86. — Р е д.
235
1938 году он переходит в свою последнюю резиденцию — в Старо-Пименовскую церковь, стены которой увидели его погребение.
Самый страшный удар из всех, какие испытал когда-либо в жизни А. И. Введенский, был нанесен ему б декабря 1936 года. На другой день после принятия «сталинской» конституции знаменитый проповедник был вызван в «Церковный стол при Моссовете». Здесь третьестепенный чиновник, с невыразительным, незапоминающимся лицом, сухо сообщил, что поскольку новая конституция разрешает отправление религиозного культа, но не религиозную пропаганду, служителям культа запрещается произносить проповеди. Впоследствии такое толкование конституции было официально опровергнуто. В тот момент для А. И. Введенского это был удар грома среди ясного неба. Представьте себе Ф. И. Шаляпина, которому бы запретили петь, или Шопена, которому запретили бы играть, или Врубеля, которому бы отрубили правую руку, — эффект будет примерно тот же. Впоследствии, правда, было разъяснено, что проповеди могут произноситься тогда, когда они являются «неотъемлемой частью богослужения».
Однако от этого было не легче: знаменитый проповедник и апологет превратился в «учителя церковноприходской школы», — единственной дозволенной ему темой стало объяснение праздников. И странно, внезапно и непостижимо чудесный проповеднический дар покинул его, все проповеди, которые произносил А. И. Введенский после 1936 года, оставляли досадное и тягостное впечатление: вдруг погас огненный темперамент, исчезли гениальные озарения и дивные взлеты — на кафедре стоял заурядный священник, который неимоверно длинно и скучно излагал давным-давно всем известные истины. А. И. Введенский — блестящий пример того, как под влиянием внешних стеснений тускнеет и гибнет даже самый яркий талант. И психологически Введенский сильно деградировал.
236
В 1937 году Александр Иванович чудом избежал ареста. В течение всего года он жил под дамокловым мечом. Однажды ночью в передней раздался звонок. Что тут началось! Домашние суетились в паническом ужасе, наскоро сжигали какие-то бумаги, сам хозяин второпях одевался. Жертвенно бледный, он отправился открывать дверь. Вздох облегчения — его духовная дочь, почувствовав себя тяжело больной, послала за своим духовником.
Во главе обновленческой церкви стоял тогда митрополит Виталий — «Первоиерарх».
Я хорошо знал владыку. Он был исправным, истовым (как говорят обычно, «благоговейным») священником. Он был, безусловно, искренне верующим человеком, и человеком добропорядочным (в обывательском смысле этого слова). Однако всякий раз, когда я с ним говорил о богословии, у меня всегда мелькала в голове невольная ассоциация — «бухгалтер».
Человек аккуратный, скрупулезно-пунктуальный в служебных делах, почтительный по отношению к начальству, митрополит Виталий действительно чем-то смахивал на провинциального бухгалтера средней руки.
«Так и остался белевским протоиереем», -— говаривал часто про него Александр Иванович. По своему кругозору и образованию владыка всю жизнь так и не пошел дальше Белева: главным источником его познаний были «Епархиальные ведомости» Тульской епархии. На них он обычно ссылался как на высший авторитет всякий раз, когда речь заходила о философских и социальных проблемах. Трудно было себе представить больших антиподов, чем митрополит Виталий и его знаменитый собрат и однофамилец (мирское имя митрополита Виталия — Владимир Васильевич Введенский). В свое время владыка Виталий стал председателем Синода милостью А. И. Введенского. Об этом избрании Александр Иванович со свойственным ему юмором рассказывал так: «Умер митрополит Вениамин, и мы не знаем, кого
237
избрать вместо него. И вот вспоминаю — в Туле есть архиерей, монах, борода длинная-длинная, седая, картинная... Подумали и решили — быть ему предом в Синоде...»
Став в 1927 году господином положения, владыка Виталий сразу стал прибирать к рукам А. И. Введенского. «В это время достаточно мне было что-нибудь предложить, чтобы сказать с уверенностью — сделают наоборот».
Таким образом, в период с 1937 по 1941 г. А. И. Введенский растерял всё то, что было смыслом его жизни: ораторская и апологетическая деятельность стала невозможной, о реформационной деятельности не могло быть больше речи. Административная деятельность (жалкая и урезанная) стала невозможной. Сильный человек, возможно, вырос бы духовно, пошел бы на подвиг, поднял бы над головой огненный факел страдания и любви...
Но Введенский не был сильным человеком и не был из числа тех, которые способны на подвиг.
И вот в этот период он сразу опустился, потускнел — неуловимые раньше мещанские, пошленькие черточки, которые есть у всякого, у Введенского в это время выступили особенно выпукло и резко. Семейная ситуация, всегда запутанная, в эти годы обострилась до крайности: его личная жизнь превратилась в бедлам...
Равнодушный раньше к житейскому комфорту, Александр Иванович в это время становится страстным приобретателем-коллекционером. Каких только коллекций он ни собирал в это время: и коллекцию картин, и коллекцию бриллиантов, и даже коллекцию панагий.
Коллекции он собирал неумело, ловкие предприниматели обманывали его, как ребенка. Все «старинные» картины фламандских мастеров оказывались сплошь и рядом произведениями «толкучего» рынка. Бриллианты оказывались стекляшками. Возраст «древних» панагий не превышал пятидесяти лет. Но он не хотел верить
238
этому, страшно гордился своими коллекциями, по-детски радовался каждой находке.
Покупка собственного автомобиля (тогда собственные автомобили были редкостью) радовала его сердце. Он начал полнеть и сразу заметно постарел.
Лишь музыка и литургийная молитва, искренняя и пламенная, были единственными просветами в его жизни.
Между тем на Западе в 1939 году уже слышались грозные раскаты. В конце 1939 года грянула кровопролитная и жестокая финская война. Надвигался 1941 год — год великой войны, великого Суда!
СУД
О, сколько тайной муки
В искусстве палача:
Не брать бы вовсе в руки
Тяжелого меча.
Ф. Сологуб
Перо историка — меч.
Перо мемуариста — секира палача.
И самое ужасное, когда эта секира направлена против любимых и близких, против самого себя. Ибо историк и мемуарист — оба слуги истории, и в качестве судебных исполнителей им часто приходится исполнять палаческие функции.
Война 1941 — 45 гг. — это суд над народами, над правительствами, над партиями и — над церквами.
Обновленчество предстало в эти годы перед судом истории и услышало грозный приговор: «Да погибнет!»
А. И. Введенский любил вспоминать, как в неделю «Всех Святых в Земле Российской просиявших» 22 июня
239
1941 г., после литургии, благословляя молящихся, он узнал от иподиакона о начале войны.
А. И. Введенский в первые же дни войны выступил с рядом патриотических деклараций. Искренни ли они были? Безусловно, да. Старый интеллигент, воспитанный в либерально-демократических традициях, Александр Иванович питал прямо физиологическое отвращение ко всем человеконенавистническим теориям и партиям. Гримаса отвращения передергивала его гладко выбритое лицо (незадолго до войны он сбрил усы), когда он произносил такие слова, как «черносотенцы», «Союз русского народа», «фашизм». Глубокий интернационалист (пожалуй, в известном смысле его можно назвать космополитом), для которого одинаково были дороги Анри Бергсон и Достоевский, Шопен и Рахманинов, Введенский не переносил какого бы то ни было шовинизма. Всякие национальные предрассудки ему были чужды.
«У меня было два великих современника, — говорил он часто, — Альберт Эйнштейн и Рабиндранат Тагор» (конечно, за «Гитанджали»). Для Введенского война была не только и не столько борьбой за отечество, Отечественной, сколько борьбой против темного, человеконенавистнического, дьявольского начала, воплотившегося в фашизме. И ему казалось, что в горниле войны сгорят все те пороки, которые были присущи сталинско-ежовской системе. Мне вспоминается один очень откровенный разговор, который у нас произошел весной 1943 года в Ульяновске.
«Быть может, мы не понимаем Сталина, — говорил он. — Он прежде всего военный человек, и вся его политика неразрывно связана с предвидением войны. Победой в войне эта политика исчерпает себя».
Я выразил несогласие. Победа в войне вскружит голову Сталину и тем, кто стоит за ним, и они увидят в этой победе оправдание своих методов. После победы над фашизмом, говорил я, предстоит упорная борьба у
240
нас на родине — против самодурства, произвола и единоличной власти. «Может быть, может быть, — сказал он задумчиво, — но это уж вы боритесь, а я устал, с меня довольно». И он замолк надолго, смотря куда-то вдаль... Мы стояли с ним на Венце — на самом возвышенном месте Ульяновска. Чудесная, широкая-широкая Волга расстилалась перед нами. Вдали догорал закат, легкий ветерок трепал его курчавые волосы (он был без шляпы). «Видите, какой закат и какая красота, а вы говорите — бороться», — сказал он наконец.
— А фашизм?
— Да, победить фашизм — это большая задача, и ее хватит на одно поколение. Поймите, крови у людей мало, и ее надо жалеть!
Я закусил удила — природная вспыльчивость взяла верх над иерархической субординацией.
— Антонин Грановский говорил бы не так! — брякнул я вдруг запальчиво.
— Антонин... так ведь он всю жизнь мучился с печенью, умер от рака желчного пузыря. Вы тоже будете в старости болеть печенью, предсказываю вам это, мой милый борец.
Сейчас в Пятигорске, глотая горячую противную воду, которая якобы должна помогать от болезни печени, я часто вспоминаю разговор на Волге и сделанное мне предсказание...
Религиозно-патриотическая деятельность во время войны была единственным, на что, как оказалось, был еще способен А. И. Введенский. Война снова выдвинула его в первые ряды: в эти дни все люди с популярными именами пошли в ход. В августе 1941 года митрополит Виталий, растерявшийся и совершенно беспомощный (его секретарь, проф. Варин, умер незадолго до войны), по чьему-то совету отказывается от власти и передает ее А. И. Введенскому. Введенский берется за дело с необыкновенной энергией (это, кажется, последняя вспышка энергии в его жизни).
241
Свое восхождение на вершину духовной власти он решил сделать импозантным: прежде всего, он ввел новый титул: «Святейший и блаженнейший Первоиерарх Московский и всех православных церквей в СССР». Эпитеты «святейший» и «блаженнейший» были заимствованы Александром Ивановичем из титула грузинского патриарха — католикоса. Что касается титула «Первоиерарх», то Александр Иванович со свойственным ему юмором говорил следующее: «Не знаю, не знаю — это новый сан. Поэтому я сам не знаю своих полномочий. Вероятно, они безграничны». Некоторые, правда, указывали на то, что этот сан был принят, мягко выражаясь, неканоническим путем — без санкции собора. Следует, однако, отметить, что все имеющиеся в наличии обновленческие епископы одобрили этот титул.
Во время войны были следующие правящие обновленческие епископы:
1. Александр Введенский — первоиерарх Московский и всех православных церквей в СССР.
2. Митрополит первоиерарх Виталий — с правами правящего архиерея.
3. Митрополит Корнилий Ярославский и Ростовский.
4. Митрополит Мельхиседек Архангельский.
5. Митрополит Василий Кожин Ворошиловградский и Орджоникидзевский (Северокавказский).
6. Архиепископ Петр Турбин Тульский.
7. Митрополит Филарет Свердловский (назначен в 1942 году, проживал в Ирбите).
8. Архиепископ Владимир Иванов Краснодарский.
9. Архиепископ Андрей Расторгуев Ульяновский и Мелекесский (в 1943 г. в апреле переведен в Москву с титулом архиепископа Звенигородского).
10. Епископ Сергий Ларин (в октябре 1941 г. рукоположен во епископа Звенигородского). В 1943 г. — епископ Ташкентский и Среднеазиатский.
242
11. Епископ Димитрий Лобанов Рыбинский, рукоположен в 1942 г.
12. Епископ Сергий Румянцев (управляющий Ленинградской епархией, рукоположен в 1943 г.).
Кроме того, во время войны были призваны с покоя:
архиепископ Анатолий Синицын (в 1943 г. назначен архиепископом Алма-Атинским);
архиепископ Сергий Иванцов, бывший Запорожский, с 1944 г. управляющий делами при первоиерархе.
Пребывая на покое, служил в качестве приходского священника в одном из киргизских сёл архиепископ Гавриил Ольховик.
Все эти архиереи в большинстве своем были совершенно посредственными людьми. Лишь четверо из них возвышались над средним уровнем.
Сам Александр Иванович был наиболее высокого мнения о Северокавказском митрополите Василии Ивановиче Кожине. «Вот кого я хотел бы видеть после себя первоиерархом, — часто говорил он, — он управлял бы церковью не хуже, а, может быть, и лучше меня».
В. И. Кожин (впоследствии митрополит Ермоген) был действительно великолепным администратором, человеком веселым, общительным, обладателем живого сангвинического темперамента. Умный и тактичный, он добился крупных успехов на Северном Кавказе. Однако, читая его донесения, рапорты, письма первоиерарху, я всегда испытывал тягостное чувство. Как же бедна Русская Церковь, думал я, если это — самый выдающийся из епископов. Как сейчас вижу эти ровные строчки, написанные четким, крупным почерком, — бесконечные жалобы на соседа Владимира Иванова, благодаря которому, если верить Василию Ивановичу, гибнет обновленчество на Кубани; бесконечные восхваления Северокавказской епархии, где, если опять-таки верить Василию Ивановичу, обновленческое дело идет семимильными шагами вперед и закреплено на столетия. Ни
243
одного живого слова, ни одной своеобразной мысли, ничего такого, что возвышалось бы над местническими провинциальными интересами.
Своеобразным и энергичным человеком был Андрей Иванович Расторгуев (поныне здравствующий* популярный московский протоиерей). «Мужик с характером», — сказал про него однажды митрополит Виталий.
Действительно, всё обнаруживало в архиепископе Андрее властного, деловитого, крепкого хозяина, начиная от синей бархатной рясы, кончая кучерски выбритым затылком. Волжская окающая речь (он был выходцем из весьма известной на Волге старообрядческой торговой семьи), властные окрики на причетников и, наряду с этим, елейность, степенность, уставная строгость — от него так и веяло Мельниковым-Печерским. Он любил служить, служил истово, чинно. Его заветной мечтой было построить службу точно по типикону.
Впрочем, Андрей Иванович был интеллигентным, начитанным человеком. Он хорошо знал Вл. Соловьева, интересовался искусством, хорошо знал живопись и театр. Человек солидный и рассудительный, архиепископ Андрей питал непреодолимое отвращение ко всему экстравагантному, эксцентричному. Уже через неделю после моего рукоположения во диакона Андрей Иванович (рапортом № 11 за 1943 год) предлагал лишить пишущего эти строки сана, как «неспособного к священнослужению». Не знаю, предвидел ли тогда мой непосредственный начальник (он был им, впрочем, лишь формально, т. к. я считался диаконом при первоиерархе и зависел исключительно от А. И. Введенского), что Александр Иванович передаст этот рапорт мне в руки со словами: «С каким удовольствием он лишил бы сана и меня».
Я всегда спрашивал себя, что привело к обновлен-
* Протоиерей Андрей Расторгуев скончался 22 декабря 1970 года. — Ред.
244
честву этого устойчивого, консервативного человека. Однажды я задал этот вопрос своему шефу.
— Ну что вы, какой он обновленец, — получил я быстрый ответ, — просто семейные обстоятельства... Но и большинство обновленцев теперь такие.
— Где же настоящие? — спросил я.
— Ну что в жизни есть настоящего, — отшутился первоиерарх.
В самом деле — типикон и обновленчество... Каких только парадоксов не рождает жизнь.
Следует отметить также епископа Сергия Ларина (теперь архиепископа Пермского) *.
Как увидим ниже, С. И. Ларин стал на короткое время чуть ли не главой обновленчества.
Обладатель бурной и запутанной биографии, человек страстный, темпераментный и честолюбивый, епископ Сергий был единственным из обновленческих архиереев, который противопоставлял себя А. И. Введенскому и имел свое суждение.
Епископ Сергий был самым талантливым после Введенского архиереем: хороший оратор, человек не лишенный литературных способностей, обладавший пытливым острым умом, он мог бы стать выдающейся фигурой в истории Русской Церкви. Но, к сожалению, недостаточная разборчивость в средствах, слишком интимное соприкосновение с некоторыми одиозными органами власти скомпрометировали честолюбивого, хотя и, несомненно, искренно верующего владыку в глазах духовенства и мирян.
Самым чистым и порядочным из обновленческого епископата являлся, несомненно, сын почтенного ленинградского протоиерея (староцерковника), интеллигентный и начитанный о. Сергий Румянцев. В ранней юности он стал обновленцем по глубокому внутреннему
* Умер в 1967 году в сане архиепископа Ярославского и Ростовского. — А. К.
245
убеждению. Благоговейный священнослужитель, искренно религиозный человек, о. Сергий в свое время подвергался репрессиям и пользовался общим уважением со стороны верующих ленинградцев. Он никогда не искал епископства и был рукоположен во епископа Ладожского в 1943 году как самый популярный из обновленческих священнослужителей, переживших ленинградскую блокаду. Все эти архиереи на протяжении войны смирно сидели по местам, произносили патриотические речи, собирали пожертвования на армию и писали почтительные донесения своему первоиерарху. Больше всего они боялись упоминания о своем обновленчестве — о нем не говорили ни с церковной кафедры, ни в частных разговорах. Как однажды выразился Александр Иванович, обновленчество стало чем-то вроде венерической болезни: о нем неприлично упоминать в обществе и его тщательно скрывают. По существу, уже в начале Отечественной войны обновленчество умерло, так как обновленцы сами от него отказались — старались как можно меньше отличаться от староцерковников.
Переломным моментом в жизни обновленческого руководства явилась эвакуация высшего духовенства из Москвы. В октябре 1941 г., в дни самых горячих и упорных боев в Подмосковье, в которых решалась судьба столицы, в квартире Введенского, в Сокольниках, раздался телефонный звонок. Приятный мужской голос с некоторой картавостью вежливо попросил А. И. Введенского прибыть в Московский Совет, в отдел эвакуации. Там, в отделе эвакуации, одетый в форму МГБ генерал с совершенно очаровательной любезностью сообщил, что А. И. Введенский со своей семьей и митрополит Виталий сегодня вечером эвакуируются в Оренбург. «Там, в глубоком тылу, вам будет удобнее управлять Церковью», — вежливо заключил он разговор.
Как огорошенный, вышел Введенский и снова вернулся, стал указывать на полную невозможность оста
246
вить Москву без епископа, на то, что он не может собраться с семьей так быстро, и на то, что эвакуация высшего духовенства из центра в тот момент, когда по всей стране развертывается грандиозная религиозно-патриотическая кампания, совершенно невероятная вещь.
На все эти возражения генерал отвечал односложно: «Военная необходимость». Что же касается отсутствия епископа, он сказал: «Рукоположите кандидата, тем более, что он у вас есть, ну, хотя бы этот молодой священник в Сокольниках». Речь шла о С. И. Ларине.
День эвакуации из Москвы был, вероятно, самым хлопотливым днем в жизни Александра Ивановича: предстояло в один день собраться в дальний путь вместе с большой семьей, собрать вещи и... рукоположить епископа.
Это рукоположение состоялось в тот же день в Воскресенском соборе (в Сокольниках) самым необычным образом. Ввиду полной невозможности совершить литургию, наречение и хиротония должны были состояться в четыре часа дня. Чин наречения и хиротонию должны были совершить двое — А. И. Введенский и митрополит Виталий. Виталий, однако, опоздал к началу, Введенский начал чин наречения один. Он рассеянно слушал цветистую речь рукополагаемого, когда с трамвайной остановки прибежал запыхавшийся Виталий и занял свое место рядом с А. И. Введенским. Сразу же после наречения архиереи облачились в ризы и, став у престола, возложили руки на посвящаемого. Небольшой хор пропел «Аксиос». Хиротония совершилась*. В тот же вечер к запасным путям Казанского вокзала подъехал автомобиль, из которого вышли элегантный взволнованный интеллигентный человек с внешностью киноактера, в модном осеннем пальто и мягкой шляпе,
* Описание хиротонии дается мною со слов А. И. Введенского. — А. К.
247
и седобородый высокий, богатырского вида старик — А. И. Введенский и митрополит Виталий. Рядом с ними стояли: миловидная, хорошо одетая молодая блондинка и пожилая женщина в черном платье, похожая на монахиню. Пижонистый молодой человек с усиками, похожий на Александра Ивановича, и другой молодой человек с рыжей бородкой и с безумными, дико блуждающими глазами, от которого пахло водкой, хлопотали около багажника. Это была семья первоиерарха. Появившийся невесть откуда генерал быстро усадил их в вагон. Там уже сидело несколько скромно одетых людей (руководителей баптистской общины) и такой же скромный бородатый человек (одноглазый) — старообрядческий архиепископ Московский и всея Руси Иринарх.
Едва уселись по местам, как в дверях началась суматоха — внесли чьи-то вещи, почтительно раскрылись двери вагона: в вагон вошел среднего роста старичок с седой окладистой бородой, в золотом пенсне, с подергивающимся нервным тиком лицом, одетый в рясу и монашескую скуфейку. «Какая встреча!» — бросился к нему Введенский. Улыбнувшись, старичок дружески с ним облобызался. «Да, да, какая встреча!» — сказал пожилой, профессорского вида блондин, сопровождавший старичка, и тоже троекратно облобызался с Введенским.
Вошедшие были старые знакомые Введенского: в последний раз Введенский видел старичка в скуфейке девятнадцать лет назад, осенью 1922 года. А. И. Введенский был тогда молодым преуспевающим протоиереем — зам. председателя ВЦУ*, а старичок был членом ВЦУ, и на осенней сессии в 1922 году они сидели рядом. Теперь Введенский, уже немолодой и непреуспевающий, был первоиерархом обновленческой церкви, а вошедший носил в это время титул: «Патриарший Местоблюститель Блаженнейший Сергий, Митрополит Московский и Коломенский». Рядом с ним стоял петроградский товарищ юношеских лет Введенского — митрополит
* Высшее церковное управление. — Ред.
248
Киевский и Галицкий Николай.
Полный, осанистый протоиерей* с благообразным лицом, которое очень портили косые, хитренькие и злобные глаза, стоя рядом, любезно улыбнулся. Генерал МГБ улыбался снисходительно и иронически, братья баптисты и старообрядческий архиерей, скромно потупившись, искоса наблюдали за лобызаниями друзей. Прелестная блондинка нервно пеленала ребенка.
Так началось не имеющее прецедентов в истории Русской Церкви путешествие иерархов вглубь страны. Чего-чего только не было во время этого путешествия. Под Рузаевкой митрополит Сергий почувствовал себя плохо. Люди в белых халатах забегали вокруг него. Здесь было получено из Москвы сообщение об изменении маршрута: по просьбе патриаршего местоблюстителя вагон вместо Оренбурга отправили в Ульяновск. В этот день впервые шепотом было произнесено имя: «Алексий Симанский» (это было тогда, когда митрополиту Сергию было особенно плохо. Вскоре, однако, митрополиту стало лучше — путь продолжали). Под Ульяновском произошла бурная ссора между братьями (сыновьями Введенского), перешедшая в бой, который по своей ожесточенности не уступал настоящей битве. Подавленный бурным темпераментом своих сыновей, Введенский растерянно молчал. Митрополит Сергий робко жался в угол. За окнами мелькали сосны и ели...
Наконец через неделю поезд прибыл в Ульяновск — город, который в течение двух лет (1941—43 гг.) был русским Ватиканом, церковной столицей — местопребыванием высшего русского духовенства. В это время Ульяновск был районным городком Куйбышевской области. До смешного мало изменившийся со времен Гончарова, городок жил тихой сонной жизнью: в городе почти не было тогда заводов, отсутствовала трамвайная линия, автомобили насчитывались единицами.
* Н. Ф. Колчицкий. — А. К.
249
Война, однако, вторглась и сюда, в эту тихую волжскую заводь: плачущие матери, первые эвакогоспитали, эвакуированные москвичи, фантастические цены на рынке. Здесь была одна маленькая церковка на кладбище, похожая на часовню, в которой служил молодой иеромонах с весьма сомнительной репутацией, много кочевавший по различным течениям, в прошлом григорьевец, потом обновленец, ныне и сам хорошо не знавший, кто он такой. После прибытия поезда с патриаршим местоблюстителем, молодой иеромонах немедленно изъявил свою покорность, и кладбищенская церковь стала первым форпостом Московской патриархии на Ульяновской земле. Однако форпост был слишком жалкий: патриаршему местоблюстителю негде было даже остановиться; начались лихорадочные поиски храма. Эту проблему разрешить оказалось не так просто: в Ульяновске — городе, когда-то богатом церквами, не осталось не только церквей, но даже храмовых помещений. Гигантская статуя Ленина возвышалась на самом высоком месте города, где когда-то был собор. Сквер был разбит на месте древнего Вознесенского храма. Две городские церкви — Ильинская и Германовская — не были еще снесены, хотя и давно бездействовали. Однако были настолько исковерканы, что привести их быстро в сколько-нибудь сносный вид, да еще в военное время, было совершенно невозможно. После долгих совещаний в горсовете Колчицкого озарила блестящая идея — переоборудовать под патриархию бывший костел на улице Водников (бывшая Шатальная) с примыкающим подсобным помещением, где когда-то жил ксёндз. Вскоре в бывшем костеле открылась небольшая церковка с громким названием Казанский собор, а в бывшую квартиру ксендза въехал патриарший местоблюститель.
Таким образом, на берегах Волги православие одержало грандиозную победу над католицизмом — увы, кажется, это единственная победа за последние сто лет. Что касается Введенского, то первые два дня он сидел
250
в вагоне. «Ульяновск так меня ошарашил, что я буквально не мог себя заставить сдвинуться с места», — вспоминал он. Наконец ему было сказано: «Ищите, любое помещение, которое вам понравится, отдадим под храм». После этого Александр Иванович предпринял экскурсию по городу. В результате долгих поисков он забрел в самый отдаленный район Ульяновска — на Куликовку. Здесь он увидел странное помещение — деревянный дом (без купола), но несколько напоминающий церковь.
— Бабушка, что здесь раньше было? — спросил он у первой попавшейся старушки.
— Церква, церква здесь была, гражданин, Неопалимая Купина, — ответила бабушка.
«Вот здесь будет наш храм», подумал первоиерарх и стал узнавать, что находится здесь теперь. Энтузиазм Александра Ивановича значительно остыл, когда он узнал, что теперь здесь находится склад МГБ. Однако обещание было выполнено: на другой же день весь скарб был выброшен из помещения и на дверях появилось следующее объявление: «Ввиду предстоящего открытия храма, просят верующих жертвовать иконы». В городском музее Александр Иванович разыскал царские врата и образ Неопалимой Купины, митрополит Виталий договаривался со столяром насчет престола, высчитывая с карандашиком в руках длину и ширину. Новый храм был вскоре освящен: на престоле был положен антиминс из какого-то давно закрытого храма, на котором корявым почерком было написано черными чернилами: «Божией Милостью, митрополит Александр Введенский». Полусельский деревянный храм неожиданно стал религиозным центром обновленчества на Руси.
Довольно поместительный внутри, он совершенно не отапливался. Дары часто замерзали в святой чаше. Иней лежал на стенах. Зимой там был почти полярный холод. Одетый в шубу с поднятым воротником и в ва-
251
ленках, на клиросе читал и пел, исполняя обязанности псаломщика, недавний первоиерарх — митрополит Виталий. В храме обычно присутствовало десять-пятнадцать бабушек, укутанных вместо шуб в одеяла. По воскресеньям народу было больше; иной раз набиралось свыше сотни человек. Все они с некоторым изумлением смотрели на бритого, горбоносого проповедника, который сотрясал своим прославленным голосом деревянные стены и поражал молящихся своеобразной манерой служения.
И сейчас, в старости, манера служить у него осталась прежняя полудекадентская: от каждого слова, от каждого жеста веяло Блоком, Сологубом — дореволюционным декадентским Петербургом.
Он жил неподалеку, на улице Радищева, 109, снимая две комнаты в деревянном доме. И здесь, в Ульяновске, он не изменял обычного образа жизни: рояль был главным украшением скромной комнатки. День начинался с Шопена, вечером обычно вступал в свои права Лист. «Ваше Величество, нельзя ли играть потише, а то у нас дети», — обратилась однажды к А. И. Введенскому соседка. Александр Иванович без малейшего изумления обещал играть потише.
— Почему она вас так титулует? — спросил я.
— Ну, она же знает, что у меня есть какой-то экзотический титул, только не знает — какой, — со свойственным ему юмором отвечал Введенский.
Для меня всегда останется памятен день 26 декабря 1942 года — морозный, солнечный день, когда я впервые переступил порог маленького дома на улице Радищева. Я приехал сюда из Томска, куда был эвакуирован мой институт (я был преподавателем ленинградского Театрального института).
«Это очень, очень приятно, что вы приехали. Я так рад вас видеть», — этой фразой встретил меня в передней хозяин дома.
Я не видел его перед этим девять лет (с 1933 года).
252
Ему исполнилось пятьдесят три года, но выглядел он на редкость моложаво: быстрые, нервные движения, быстро меняющееся выражение лица, хорошо сшитый однобортный пиджак. Лишь седина мелькает в черных курчавых волосах, и немного большие грусти в чудесных глубоких глазах.
Этим утром начался знаменательный период моей жизни — время интимного сближения с человеком, которого я с детства считал своим учителем и вождем, которого я всю жизнь любил и которым безгранично восхищался. Здесь, в ульяновских условиях, началось наше близкое знакомство, оставившее неизгладимый след в душе навсегда.
Я хотел написать о нем всё, что я знаю. И почувствовал, что не могу этого сделать. Слишком дорог мне этот человек и сейчас, чтоб я мог писать о нем объективно, и слишком острую боль вызывают у меня многие близкие к Введенскому люди, и я должен щадить их чувства.
Буду писать только то, что представляет собой общий интерес.
В памяти всплывают различные разрозненные картины.
Вот идем мы в воскресенье на Красную горку в теплый майский день к литургии. Он в белом клобуке. Я иду рядом. «Смотрите, мотыльки; вот будете писать обо мне воспоминания, не забудьте написать про то, как шли мы с вами служить литургию, а вокруг порхали белые весенние мотыльки», — говорил он.
Исполняя желание покойного, высказанное двадцать лет назад, скажу от себя: и в душе у него всегда была чистая и ясная весна.
Суров и несправедлив суд человеческий, милосерден и праведен суд Божий, ибо человек всегда субъективен, вполне объективен лишь Бог. И в справедливости выражается богоподобие человека.
253
Много упреков адресуют люди Введенскому. В своей «Истории церковной смуты» мы сами говорили о многих предосудительных поступках. Здесь мы скажем: душа у него была красивая и чистая — душа артиста, поэта, гуманиста, музыканта, впечатлительная и восприимчивая ко всему прекрасному.
Он вставал в воскресенье в шесть часов утра; он часто вспоминал Андрея Белого, который за всю жизнь не пропустил ни одного солнечного восхода. После прогулки он садился за рояль и долго играл, а потом переставал играть... и сидел, задумавшись, над роялем. Я любил смотреть на него в это время: молодое, прекрасное лицо, хорошие глубокие глаза, проникновенные и лучистые. Но вот резкое движение: он встает из-за рояля, захлопывает крышку и идет в соседнюю комнату читать Правило перед причащением. К евхаристии он относился с особым чувством: «Евхаристия—это основа моей духовной жизни, всей моей религии», — часто говорил он.
А потом он шел служить литургию. Я часто (почти постоянно в тот период) служил вместе с ним. Служил он по-разному: он всегда был человеком настроения. Одно можно сказать: он никогда не служил механически. Я помню одну литургию Преждеосвященных Даров, когда он был настроен лирически и грустно. Митрополит Виталий густым басом пел: «Да исправится молитва моя, яко кадило пред Тобою», а владыка Александр стоял и кадил у престола, и вдруг он начал плакать, и так плакал всю литургию, плакал и утирал слезы, и снова плакал, и прерывающимся от слез голосом произносил возгласы. И какое-то дуновение прошло по храму: у диакона, у певчих, даже у сдержанного и холодного владыки Виталия, у молящихся — у всех на глазах были слезы.
Просто и искренно, без византийской пышности, совершал он эту литургию. «Древнехристианское богослужение, обедня в катакомбах», подумал я.
254
Большей частью его служба была, однако, порывистая и эмоциональная. Человек повышенной страстности и горячего темперамента, притом чуткий и впечатлительный, он обычно служил в состоянии особого нервного подъема.
В момент пресуществления он находился в состоянии особой экзальтации. Громко, каким-то особым захлебывающимся голосом он читал тайные молитвы евхаристического канона. Во время «Тебе поем» он с надрывом, напоминающим декадентские стихи, произносил призывание Святого Духа. Потом взволнованно, не слушая диакона, произносил слова благословения даров. На всю жизнь осталась у меня в памяти интонация, с которой он мучительно, не видя и не слыша ничего вокруг, восклицал: «Преложив Духом Твоим Святым», а затем падал плашмя у престола и долго лежал и плакал. Вставал же просветленный, успокоенный, добрый...
Он часто говорил о своих грехах, каялся в них публично... всегда был готов загладить каждый свой грех... Увы! Не всегда их можно было загладить...
Он был широким человеком — интерес к искусству, к науке, к общественно-политическим вопросам был присущ ему органически, он не мог не думать об этих вопросах. Он был христианским социалистом: «Я могу понять лишь религиозное обоснование социализма», -— говорил он часто.
Вернее — его социализм был религиозно-эстетическим социализмом. «Музыка и религия, религия и музыка — вот что в жизни главное, и надо, чтобы жизнь была наполнена этими двумя божественными стихиями», — часто говорил он.
И отсюда Анри Бергсон. Он был убежденным последователем французского философа. В Бергсоне его привлекала, как мне кажется, не столько сама философская система, сколько общая религиозно-эстетическая окраска, свойственная произведениям великого философа. Я часто спорил с Введенским в это время. Мне, идуще-
255
му от Гегеля, была неприятна та антирационалистическая струя, которой проникнуты произведения Бергсона.
Однако Александр Иванович твердо стоял на позициях интуитивизма: по его глубочайшему убеждению, в основе жизни лежит не разум, а мощные жизненные стимулы, их стихийное течение и сплетение — это и есть жизнь.
Христианство и Сам Христос есть воплощение мощных, прекрасных стимулов — реализация божественной стихии, которая действует в мире, тогда как дьявол есть субстанция, в которой воплощены все темные, уродливые стихии мира сего.
Оба начала, однако, начала стихийные, иррациональные, — в этом был непоколебимо уверен Александр Иванович.
— Каково же место человеческого разума в этом мире? — спросил я однажды.
— Это нечто временное, срединное, равновесие между стихиями, — услышал я в ответ, и он с чувством процитировал Владимира Соловьева:
И тяжкий сон житейского сознанья
Ты отряхнешь, тоскуя и любя.
Мы часто разговаривали с ним о смысле жизни и философии, гуляя весной 1943 года по берегу Волги. Свежий ветер дул с реки — стояла чудесная русская весна. Между тем шла кровавая истребительная война. Жизнь ставила новые и новые вопросы — в церковной жизни назревали важные перемены.
«Обновленчество потерпело крах», — сказал однажды с присущим ему чувством реализма митрополит Виталий.
Конечно, и Александр Иванович не мог не видеть приближения краха. Однако слишком дорого ему было дело всей его жизни, чтоб он мог легко примириться с его провалом. Он не мог и не хотел принять этого не-
256
сомненного факта. Конечно, и для него было ясно, что обновленчество не может стать господствующим течением в Русской Православной Церкви. При этом он не обманывался насчет действительных причин этой невозможности. «Вся беда в том, — говорил он неоднократно, — что в глазах народа мы являемся, говоря языком Великой французской революции, присяжным духовенством. Нас больше всего компрометирует Красницкий, тогда как Антонин Грановский (несмотря на все свои сумасбродства) нас нисколько не компрометирует».
Введенский, однако, считал, что можно сохранить обновленчество в качестве своеобразного течения -— типа старообрядчества или, если угодно, секты.
Я помню один из его примеров: Армяно-Григорианская Церковь.
«Она существует полторы тысячи лет как своеобразное подобие Вселенской Церкви, — сказал он однажды. — Вот видите, насколько самодовлеющей может быть ересь. Почему бы и нам не сделать нашу, так сказать, ересь столь же самодовлеющей, как Армяно-Григорианская Церковь!» — задал он риторический вопрос.
Я промолчал. Тогда я еще не понимал, почему нельзя этого сделать, но мне не нравился провинциализм религиозного течения, живущего местническими интересами, на отшибе от Вселенской Церкви.
Увы! Теперь я ясно и отчетливо понимаю, почему предположение А. И. Введенского было нереально-утопично.
Религиозное течение (раскол, ересь, секта) могут действительно существовать тысячелетия («Тому в истории мы тьму примеров слышим»). Однако при одном непременном условии: это течение должно отвечать заветным сокровенным чувствам какого-то более или менее многочисленного слоя людей. Так, например, Армяно-Григорианская Церковь существует полторы тысячи лет потому, что она (независимо от монофизитской док-
257
трины) стала национальным знаменем многострадального, рассеянного по миру народа. Лишь держась на гребне религиозного фанатизма, может выплыть на историческую поверхность любое религиозное течение. Такая возможность была у обновленчества в двадцатых годах, и эта возможность осуществилась, если бы обновленчество пошло путем, которым призывал идти Антонин, — путем смелых литургических и канонических реформ. Получилось бы малочисленное, но влиятельное своеобразное течение, и оно нашло бы своих энтузиастов и фанатиков. Однако обновленчество во главе с Введенским отвергло Антонина. О причинах очень откровенно сказал мне однажды Введенский: «Я вам скажу правду: я испугался, что останусь один». Но отказавшись от всяких реформ, обновленчество стерло само себя, всякое своеобразие — превратилось в узкопрофессиональное «поповское» движение, совершенно неспособное вызвать в ком-либо энтузиазм, и этим предопределило свой конец.
Конец наступил весной 1944 года. Меня в это время в Ульяновске уже не было, но по многочисленным рассказам непосредственных участников событий (в том числе и самого Александра Ивановича) я хорошо знаю обстоятельства катастрофы, которая постигла обновленцев. Осенью 1943 года состоялась знаменитая встреча И. В. Сталина с тремя митрополитами — после восемнадцатилетнего перерыва Русская Церковь вновь увенчалась патриархом. Александр Иванович, в здоровье которого проявился перед этим первый тревожный симптом — парез, вскоре также вернулся в Москву, оставив митрополита Виталия и семью в Ульяновске.
В Москве он вступил в управление епархией и каждое воскресенье служил с большим торжеством в одном из обновленческих храмов. В провинции всё было спокойно, лишь носились какие-то неясные слухи. В Октябрьский праздник 1943 года А. И. Введенский, по установившейся уже традиции, послал приветственную теле-
258
грамму Сталину, которая была опубликована в прессе. Неясным оставалось лишь юридическое положение обновленчества: в это время были учреждены две правительственные инстанции — Совет по делам Русской Православной Церкви и Совет по делам религиозных культов. А. И. Введенский хотел поставить обновленчество в ведение Совета по делам религиозных культов, — это создало бы юридическую легализацию: наряду с католиками, протестантами, баптистами могло бы существовать и обновленчество. Введенскому, однако, без каких бы то ни было оснований, было отказано в его просьбе — по-прежнему он оставался в ведение Карпова (в Совете по делам Русской Православной Церкви). Получался юридический нонсенс, который не предвещал ничего доброго: власть упорно отказывалась рассматривать обновленчество как независимое религиозное течение — обновленчество оставалось частью Православной Церкви.
Между тем ранней весной в семейной жизни А. И. Введенского произошло важное событие: у него родилась дочь Ольга — в Ульяновске, где проживала его семья. Заботливый и нежный семьянин, А. И. Введенский поехал в Ульяновск. Карпов достал ему пропуск с правом возвращения в Москву (напомним, что во время войны все переезды из одного города в другой совершались только по пропускам или по командировочным удостоверениям).
Охотник до каламбуров мог бы сказать: день рождения Ольги стал днем смерти обновленчества. Действительно, поездка А. И. Введенского в Ульяновск очень облегчила дело ликвидации обновленческого раскола.
После благополучного появления на свет дочери и ее крестин, Александр Иванович стал собираться в обратный путь. Здесь следует упомянуть об одном незначительном, но очень характерном эпизоде: в то время в Ульяновске подвизался некий иеромонах Феодосий. Человек морально растленный и во всех отношениях не-
259
чистоплотный, Феодосий побывал во всех течениях и, изгнанный отовсюду с позором, примазался к обновленцам. Как всем было известно, Феодосий был штатным агентом МГБ. И вот приходит пьяненький иеромонах к одному из сыновей Введенского накануне отъезда первоиерарха в Москву и заявляет: «А владыка-то в Москву не уедет, а пропуск-то окажется недействительным. Вот увидите!»
Никто не обратил внимания тогда на эту пьяную болтовню. И вот на другой день выяснилось, что пьяненький иеромонах оказался провидцем. Когда первоиерарх сидел в поезде, к нему подошел проводник в сопровождении двух работников МГБ и попросил предъявить пропуск.
После того, как пропуск был предъявлен, один из работников перечеркнул его и, сунув в карман, вежливо заявил: «Извините, но пропуск вызывает у нас сомнения, и нам придется запросить Москву. Тотчас после проверки вам будет выдан новый пропуск». И козырнув, работник МГБ прошел в следующее купе, а первоиерарху ничего другого не оставалось, как выйти из вагона за пять минут до отхода поезда.
Когда-то в двадцатых годах Александр Иванович в одной из своих речей назвал «тихоновцев» пассажирами, опоздавшими на поезд советской государственности. Теперь в роли злополучного пассажира (и в буквальном, и в переносном смысле) оказался он сам.
В течение недели сидел Введенский в Ульяновске. Каждый день он говорил по телефону с архиепископом Андреем (Расторгуевым), и каждый разговор приносил какой-нибудь сюрприз.
В первый же день первоиерарх узнал о том, что в патриархию отошло Ваганьковское кладбище, затем последовало Дорогомиловское, затем — Пятницкое, Калитниковское, Даниловское. Еще два дня молчания, и первоиерархом была получена телеграмма от А. И. Расторгуева о том, что он со всем приходом Воскресенского
260
собора в Сокольниках отходит к патриарху. Дом № 34, принадлежащий А. И. Введенскому, в котором проживал архиепископ Звенигородский, будет, сообщал он, им немедленно покинут. Таким образом, в течение одной недели в Москве остался лишь один обновленческий храм — Пименовский.
Не радовали и вести из провинции: совершенно прекратились всякие известия из Средней Азии. Отчаянные телеграммы А. И. Введенского к епископу Сергию Ларину, Гр. Брицкому, И. Е. Лозовому оставались без ответа. Наконец, пришла сухая телеграмма от Лозового (личного эмиссара Введенского), в которой сообщалось, что Среднеазиатская епархия признала патриарха, «в связи с чем поминовение Вашего имени за богослужением нами прекращено».
Это был страшный удар: ведь Средняя Азия была главной цитаделью обновленческой церкви, насчитывающей 90 с лишним храмов и молитвенных домов. Как мне удалось выяснить впоследствии, из Средней Азии (из Киргизии, Казахстана) летели к Введенскому в Москву и Ульяновск сотни писем и телеграмм от священников и мирян с запросами, однако ни одного письма А. И. Введенский не получил. Вслед за Средней Азией пали две другие обновленческие твердыни — Кубань и Северный Кавказ.
Таким образом, обновленческая церковь рассыпалась вся в течение десяти дней, — после этого срока А. И. Введенский получил из транспортного отдела МГБ обратно свой пропуск с извинением и с извещением, что в результате проверки «пропуск подтвержден».
Печальным было возвращение А. И. Введенского в Москву. Оно было подобно возвращению хозяина, который нашел вместо дома пепелище.
В ведении А. И. Введенского остались всего два епископа: митрополит Виталий и митрополит Северо-Уральский Филарет (все остальные принесли покаяние перед патриархией и отошли от обновленчества). В его
261
ведении не осталось ни одной епархии, и в самой Москве у него остался лишь один храм — Пименовский. Зато Карпов встретил прибывшего из Ульяновска гостя с утонченной любезностью: он сердечно поздравлял с рождением дочери, передавал привет супруге, подробно расспрашивал о здоровье и т. д. Тут же он обещал оказать содействие в возвращении в Москву семьи А. И. и митрополита Виталия. Это слово он сдержал: через несколько дней пропуск был получен.
Таким образом, взамен утерянной церкви А. И. Введенскому было предоставлено право наслаждаться семейными радостями. Впрочем, при возвращении семейства в Москву произошел характерный эпизод, который не предвещал ничего доброго. В это время А. И. Введенский проживал в Сокольниках в доме № 34 по 3-й Сокольнической улице. Здесь помещался когда-то обновленческий синод, и так как церковь тогда не имела права юридического лица, дом был куплен на имя А. И. Проживал он здесь до войны совместно с митрополитом Виталием. Однако семейные обстоятельства Введенского были таковы, что совместное проживание с кем бы то ни было, особенно с другим иерархом, было очень тягостно. И вот при возвращении ульяновских беженцев в Москву разыгрался следующий эпизод: А. И. Введенский встретил своего собрата и свою семью на вокзале. Однако, к изумлению митрополита Виталия, для приезжих был подан не один, а два автомобиля. Второй автомобиль предназначался для владыки Виталия, и тут А. И. со смущенной улыбкой объяснил, что «из соображений ваших удобств, владыко, я договорился с матерью Анны Павловны о том, что она пока предоставит вам помещение». Сдержанный Виталий молча наклонил голову и поехал в свою новую резиденцию, которая помещалась в полуподвальном этаже.
Затем начались церковные будни. Отныне московский быт обновленческого руководства мало чем отличался от ульяновского. Так же имелся только один
262
храм. Митрополит Виталий, фактически превратившийся в заштатного священника, так же исполнял обязанности псаломщика и тщательно «делил кружку». Наконец, так же, как в Ульяновске, причт состоял, главным образом, из сыновей Введенского: трое из шести. Через две недели перед Великим Постом произошло, однако, новое завершающее событие: неожиданно исчез митрополит Виталий — вдруг перестал ходить в церковь (обычно он аккуратно посещал богослужения утром и вечером). После нескольких дней отсутствия Александр Иванович в сопровождении сына отправился его навестить. Войдя в комнату, они увидели митрополита, сидящего в шубе (в 1944 году паровое отопление в Москве во многих домах еще не действовало). Поднявшись навстречу первоиерарху, митрополит Виталий сказал:
— Владыко, я перешел к патриарху.
— Вы каялись? — спросил Введенский.
— Надо мной прочли молитву, — ответил Виталий.
Через несколько минут закончилась последняя встреча двух обновленческих первоиерархов.
Уход митрополита Виталия (теперь он получил от патриарха Сергия титул архиепископа Тульского и Белевского, впоследствии — архиепископа Димитровского) был последним завершающим ударом по обновленчеству.
Совершилось то, чего всю жизнь боялся Введенский, — он остался один. Между тем, пока Введенский переживал очень тяжело и мучительно крах своего дела, на периферии завершался процесс ликвидации обновленчества: из обновленческих архиереев лишь двое — архиепископ Виталий и епископ (ныне митрополит) Корнилий — были приняты в сущем сане. Несколько архиереев, женатые и рукоположенные до раскола, были приняты как протоиереи: Василий Кожин, Петр Турбин, бывший Тульский и Белевский Андрей Расторгуев, Владимир Иванов, Анатолий Синицын. Трое — С. И. Ларин, С. В. Румянцев и Димитрий Лобанов,
263
получившие все священные степени в обновленчестве, были приняты мирянами (Сергий Ларин — монахом) и должны были начать с пострижения в псаломщики и иподиаконы. Правда, через некоторое время всё опять встало на свои места. Женатые архиереи преобразились в протоиереев, неженатые — снова получили епархии.
В это время возвращаются из ссылки еще несколько обновленческих архиереев, которые также соединяются с патриархом: Тихон Димитриевич Попов, бывший митрополит Воронежский, был принят протоиереем и назначен ректором Богословского института, Сергей Иванцов, бывший архиепископ Запорожский, был принят протоиереем. Однако тут же как вдовый пострижен в монашество с наречением имени Софроний и рукоположен во епископа Ульяновского и Мелекесского. Михаил Постников (архиепископ бывш. Царицынский) принят в сущем сане и вскоре назначен епископом Пензенским и Инсарским. Александр Щербаков, архиепископ Витебский, принят протоиереем.
Покаяния обновленческих архиереев происходили в патриархии, покаяния рядового обновленческого духовенства также были келейными (происходили в алтаре). Епархии, сплошь обновленческие, принимались архиереем, специально назначенным для этого патриархией: так Среднеазиатскую епархию принимал архиепископ Куйбышевский Алексий, а Северокавказскую и Кубанскую — епископ (ныне митрополит) Ставропольский и Бакинский Антоний*.
Вскоре же из числа обновленческого епископата осталось три человека: митрополит Северно-Уральский Филарет (Яценко), архиепископ Алексий (Мичулин) и архиепископ Гавриил (Ольховик). Из этих трех архиереев самой колоритной и характерной фигурой был митрополит Филарет. К этому времени ему было около 80 лет, однако владыка почему-то любил преувеличи-
* В Бозе почил в декабре 1962 г. — А. К.
264
вать свой возраст и говорил, что ему 86 лет. Бывший гусарский офицер, принявший монашество задолго до революции, Филарет Яценко в течение длительного времени был архимандритом в различных украинских монастырях. Присоединившись в 1923 году к расколу, он был рукоположен в епископа. В 1931 году он совершенно исчезает с арены — что он делал, где он в это время был, никому неведомо. Появляется он вновь лишь в 1943 году в Ульяновске. Здесь происходит характерный эпизод: митрополит Филарет подает заявление Введенскому о том, что он просит призвать его с покоя и предоставить ему кафедру. Тут же он был назначен митрополитом Свердловским и Северно-Уральским. Впоследствии, однако, выяснилось, что одновременно с заявлением Введенскому, Филарет Яценко подал заявление и патриаршему местоблюстителю. Не знаю, почему (вследствие ли этого опрометчивого шага или вследствие каких-либо других причин), Филарет Яценко, постучавшись после развала Северно-Уральской епархии в двери к патриарху, нашел их наглухо запертыми. Почему-то Филарет Яценко оказался единственным обновленческим архиереем, которому было категорически отказано в приеме в Православную Церковь.
Приехав в Москву, Филарет занял вакантное место, оставшееся после ухода Виталия, и так же стал безместным священником при Пименовском храме, с громким титулом митрополита Крутицкого. В это время неожиданно появился в Москве Алексий Мичулин (бывший епископ Петропавловский). Типичный сельский священник (и по своему характеру, и по своему кругозору), о. Алексий совершенно случайно в двадцатые годы попал в провинциальные обновленческие епископы, а в 1930 г. — в эпоху колхозного переворота — тихо и незаметно покинул архипастырскую работу и занялся где-то в глуши физическим трудом.
Теперь, после войны, Алексий Мичулин поселился под Москвой у сына. Изредка он служил вместе с Вве-
265
![]() денским у Пимена, тщательно скрывая это от своих детей (сына и дочери), которые каждый раз, узнавая о служениях отца, устраивали ему безобразные скандалы. Где-то в глубине Средней Азии до 1947 года в киргизском селе служил в качестве сельского священника епископ Гавриил Ольховик. Вот и всё, что осталось от обновленческой организации к концу войны.
денским у Пимена, тщательно скрывая это от своих детей (сына и дочери), которые каждый раз, узнавая о служениях отца, устраивали ему безобразные скандалы. Где-то в глубине Средней Азии до 1947 года в киргизском селе служил в качестве сельского священника епископ Гавриил Ольховик. Вот и всё, что осталось от обновленческой организации к концу войны.
Единственным обновленческим храмом, признанным официально, был Пименовский храм в Москве. Лицо Пименовского прихода того времени — это лицо умирающего, слабо тлеющего, догорающего обновленческого раскола.
Я вспоминаю об этих последних днях обновленчества, как о каком-то кошмаре. Кошмарное впечатление производил внешний вид храма; долгие годы не ремонтировавшийся, с осыпавшейся штукатуркой, с потускневшей живописью, храм носил на себе печать «мерзости запустения».
Нерачительный хозяин, человек богемы, А. И. Введенский был совершенно беспомощен в роли настоятеля. Было и еще одно обстоятельство, определявшее плачевное состояние приходского хозяйства: доходы прихода должны были восполнить исчезавшие доходы, стекавшиеся в кассу первоиерарха еще недавно со всей страны.
Еще более кошмарное впечатление производил причт Пименовского храма: около Введенского в это время оставались лишь одни обновленческие подонки. Наиболее популярным в приходе священником был некий отец Никита — безграмотный старенький попик, рукоположенный из псаломщиков, -— он остался с Введенским по причине второбрачия. В 1944 году Введенскому пришла в голову безумная мысль рукоположить его в епископа несуществующей епархии (Бог знает зачем — видимо, чтоб сохранить на всякий случай обновленческую иерархию). Совместно с Филаретом Яценко А. И. Введенский произвел чин наречения. Однако
266
накануне хиротонии, долженствующей произойти в ближайшее воскресенье, на квартиру к Введенскому позвонил весьма известный среди московского духовенства Трушин (уполномоченный по делам Русской Православной Церкви по Московской области). «Передайте Александру Ивановичу, — сказал он секретарю, — что я категорически запрещаю служить Филарету Яценко как незарегистрированному». Хиротония, таким образом, отпала автоматически. О. Никита, однако, носил после этого панагию и выходил на Малом входе с посохом, считая себя «нареченным» епископом.
Другим священником был о. Андрей Введенский — один из сыновей А. И. Человек психически ненормальный, хронический алкоголик, о. Андрей был знаменит своими скандалами. Его богослужение производило жуткое впечатление; казалось, служит человек, находящийся в белой горячке и сбежавший из сумасшедшего дома. Об этом неудачном отпрыске первоиерарха, носящем на себе скорбную печать вырождения, можно было бы сказать многое. Есть, однако, обстоятельство, которое несколько примиряет с его памятью: он погиб трагической, страдальческой смертью. Выгнанный отовсюду после смерти отца, несчастный пьяненький священник скитался по Москве, живя за счет панихидок, которые он служил на кладбищах. В 1948 году за какие-то пьяненькие высказывания Андрей Александрович был арестован, несмотря на то, что его психическая ненормальность была совершенно очевидна. Бериевская мясорубка заработала — А. А. Введенский получил стандартные десять лет и был заключен в Каргопольском лагере (в Архангельской области). Через три года он трагически погиб во время безумной попытки к бегству: в тот момент, когда заключенные шли строем на работу, Андрей Александрович вырвался рывком из строя и побежал по направлению к лесу. Восемь выстрелов в спину, изрешетившие несчастного, были расправой МГБ с психически ненормальным человеком.
267
Таковы были два священника, служившие у Пимена вместе с Введенским.
Полусумасшедший пьяница диакон Рождественский (лишь немногим отличавшийся от о. Андрея), А. А. Введенский, также служивший диаконом* (подробнее о его роли см. «Мой ответ журналу ’Наука и религия’») и еще несколько причетников довершали картину.
Ради справедливости надо отметить, что на этом фоне всё же промелькнуло два порядочных человека — Иван Андреевич Попов, бывший учитель, пришедший в Церковь по призванию, глубоко религиозный человек, рукоположенный А. И. Введенским в священника, и Владимир Александрович («Володя») -— третий сын Введенского, добрый, бесхитростный мальчик, служивший в это время диаконом. Оба представляли собой некоторый просвет на мрачном фоне обновленческих подонков.
Сам А. И. Введенский находился в это время в состоянии тяжелой моральной депрессии — наступил самый страшный, тяжелый период его жизни. Его проповеди, ничем не напоминавшие проповеди прежнего Введенского, собирали, однако, огромное количество людей: искорки гения, хотя и почти потухшего и бессильного, всё же согревали людские души.
Последние два года жизни Введенского — это период надрывной тоски и непрерывных унижений.
Оставшись совершенно один, теснимый со всех сторон, А. И. сделал в это время несколько попыток к примиренью с Церковью. Эти попытки, совершенно бесплодные, лишь отравили его душу, унизили его в собственных глазах.
Первоначальная попытка была сделана А. И. Введенским на Пасху 1944 года, когда он послал пространную телеграмму патриарху Сергию. Патриарх упомина-
* А. А. Введенский (ныне диакон Калитниковского кладбища) состоит с 1940 г. на секретной службе в КГБ. — А. К.
268
ет об этой попытке в одном из своих писем епископу Александру, напечатанном в книге «Патриарх Сергий и его духовное наследство» (Москва, 1947 г.).
«А. И. Введенский решил сделать нечто великое или во всяком случае громкое, — пишет патриарх, — прислал мне к Пасхе телеграмму: «Друг друга обымем» — себя именует руководителем меньшинства в православии, меня — руководителем большинства. Телеграмма подписана: доктор богословия и философии — Первоиерарх православных церквей в СССР. Я ответил: А. И. Введенскому. Благодарю за поздравление. Воистину Воскресе. Патриарх Сергий. Дело, мол, серьезное и дурачиться не полагается» (стр. 228).
Перед собором 1945 года А. И. Введенский через Карпова пытался получить приглашение на собор — тщетная попытка. В дни собора А. И. делал несколько попыток встретиться с прибывшими в Москву восточными патриархами. Снова неудача. Наконец, после собора, А. И. Введенский капитулировал: помянул на Великом входе патриарха Алексия и стал публично молиться об упокоении патриархов Тихона и Сергия.
В июне 1945 года он написал письмо патриарху Алексию. Начались тягучие, заранее обреченные на неудачу, переговоры с патриархией.
Получив приглашение, А. И. Введенский (в белом клобуке и в панагии) направился в Чистый переулок, в патриархию. Патриарх Алексий, однако, его не принял: он в это время сидел в саду и не вышел к посетителю. А. И. Введенского принял Н. Ф. Колчицкий. Любезно показав гостю помещение патриархии, Н. Ф. Колчицкий усадил его в зале — начались переговоры. Первоначальный проект Введенского — быть принятым в сане епископа (причем А. И. Введенский изъявлял готовность изменить свое семейное положение) отпал сразу. Тогда был выдвинут новый проект: вопрос о сане оставить открытым и принять А. И. Введенского в качестве профессора Духовной академии. Однако и этот проект не
269
удовлетворил Н. Ф. Колчицкого, разыгрывавшего из себя этакого «неусыпного стража православия». Он потребовал покаяния. На этом первое свидание было окончено. В ближайшие месяцы у А. И. Введенского появился сильный союзник — митрополит Николай, который высказывался за компромиссное решение. Однако «твердокаменная преданность православию» Колчицкого, видимо, думавшего, что таким образом можно заставить людей поверить в его идейность (Колчицкий и идейность!), и глухая антипатия патриарха, оставшаяся с 1922 года, — сделали свое дело. В сентябре Колчицкий объявил по телефону окончательное решение: А. И. Введенский после покаяния может быть принят лишь мирянином, и единственное место, которое ему может быть предоставлено, — это место рядового сотрудника «Журнала московской патриархии».
Всё было кончено: судьба Введенского была определена — отныне он был осужден на полное одиночество до конца своих дней.
При характере. Александра Ивановича, при его потребности в триумфах, при его жажде разнообразия, — это был смертный приговор.
И вскоре наступила смерть.
Тревожные симптомы, говорившие о тяжком заболевании, обозначились еще в Ульяновске — осенью 1943 года. Гипертония в тяжелой форме — таков был диагноз, поставленный ульяновскими и подтвержденный московскими врачами. Тяжелые переживания, связанные с распадом обновленчества, тяжелые семейные неурядицы, при нервной, импульсивной натуре А. И., усилили болезнь: в ночь на 8 декабря 1945 года его разбил паралич.
Очень медленно стал он поправляться после удара. Я видел его во время болезни трижды. Я пришел к нему Великим постом в 1946 году, он принял меня ласково и грустно — провел по комнатам, указал на постель. «Вот мой враг, — сказал он, — как ужасно лежать здесь од-
270
ному, бессонной ночью! Как ужасно!» — повторил он еще раз.
Грустен он был и на Пасху: он служил (несмотря на болезнь) всю Страстную неделю, а на Пасху служить не мог. Он вышел ко мне в светлом праздничном костюме.
«Христос Воскресе! — сказал он и тут же прибавил: — Последняя Пасха».
Особенно врезалась в память последняя наша беседа — 20 июня 1946 года. Мы сидели с ним в саду — он в глубоком плетеном кресле, я — около, на скамеечке. Он был настроен нервно и всё время метался, порывался куда-то идти. Болезнь страшно изменила его — передо мной сидел уже старый, седой человек.
Речь его, больная и путаная, однако, сверкала блестками таланта, того чудесного таланта, который всегда так радовал собеседника.
— Я предпочитаю общество автомобилей обществу людей, — бросил он мельком, — уж они-то не меняют своих убеждений.
И, чувствуя на себе насмешливый, скользящий взгляд собеседника, я смущенно отвечаю:
— Но ведь они и не любят, и не привязываются, владыко.
— Да, да, это правда, не любят и не привязываются. А вы меня любите? — Глаза смотрят так же насмешливо и иронически, теперь прямо в упор.
Серьезно и несколько смущенно я отвечаю: «Да, люблю». И начинаю говорить о том, как много значил он в моей жизни и что он был предтечей того, кто еще должен прийти, — и вдруг смущенно замолкаю, заметив, что употребил глагол «был».
— Ну да, да! Лютер пришел не сразу. У него были предшественники, — замечает он, делая ударение на «были».
Чтоб переменить тему разговора, я рассказываю о том, что недавно я прочел его юношескую работу «При-
271
чины неверия русской интеллигенции» и о своем впечатлении от нее. Он внимательно слушает, опускает голову, и его побледневшие губы произносят латинскую фразу: «Я сделал, что мог, кто может сделать больше, пусть сделает».
После обеда быстро начинаю прощаться, чтобы не утомить больного.
Он провожает меня до дверей, в дверях обнимает, трижды целует, и я целую его руку — чудесную тонкую руку, руку пианиста, артиста, гения, теперь слабую и жалкую, бормочу что-то нечленораздельное, чувствую комок, подступающий к горлу.
И он снова меня целует, и бледные губы шепчут: «В последний раз!»
20 июня 1946 года я видел Александра Ивановича Введенского в последний раз.
Он умер 25 июля 1946 года в жаркий летний полдень. За несколько дней до смерти был новый, последний удар.
Он был в сознании до последней минуты и смотрел прямо перед собой блестящими, осмысленными глазами.
— Хотите причаститься? — спросил священник о. Иоанн Попов.
— Хочу, — твердо ответил он, и до последней минуты всё смотрел куда-то вдаль, как бы всматриваясь в наступающую новую жизнь.
26 июля я видел его мертвого. На смертном одре он снова помолодел и теперь был почти таким, каким был в последние годы. Белый подрясник, епитрахиль и малый омофор (он еще не был облачен), густые черные ресницы и печать тихого раздумья на челе, — такое лицо у него было во время наших вечерних волжских прогулок, во время задушевных дружеских бесед.
Я поцеловал его мертвое лицо, а потом долго стоял около смертного одра и думал. И помню — мелькнуло у меня в голове определение: романтик в рясе! Романтик!
272
Серая, скучная прозаическая жизнь никогда не удовлетворяла его — всё яркое, необычное, прекрасное привлекало. И он хотел, чтобы жизнь была яркой, необычной, красивой.
Его похороны состоялись в воскресение 28 июля 1946 года в Пименовском храме. Служили два архиерея — митрополит Филарет Яценко, архиепископ Алексей Мичулин и двенадцать заштатных священников.
Желая воздать последнюю почесть покойному, я облачился в этот день (в первый и последний раз после Ульяновска) в диаконский стихарь и стоял с рипидой у гроба, во время отпевания. А потом я нес гроб — гроб с телом покойного внесли через царские двери в алтарь и затем трижды обнесли вокруг храма. Он погребен на Калитниковском кладбище за алтарной стеной, в одной могиле с Зинаидой Саввишной — своей горячо любимой матерью...
И наступил конец. Через два с половиной месяца, 9 октября 1946 года, в день св. апостола и евангелиста Иоанна Богослова, в Пименовском храме была отслужена последняя обновленческая литургия. Накануне было получено предписание от Совета по делам Русской Православной Церкви о передаче Пименовского храма в ведение патриархии. В середине обедни в храм вошел вновь назначенный настоятель о. Николай Чепурин в сопровождении новой двадцатки. Он сердито договаривался, стоя у свечного ящика, об условиях передачи храма. Горстка молящихся сиротливо жалась к алтарю. О. Никита в алтаре торопливо читал молитвы евхаристического канона... Через полчаса обновленцы покинули храм — обновленчество прекратило свое существование на двадцать пятом году своей истории...
273
Эти воспоминания я начал на Кавказе, у подножия Машука и Бештау. Я заканчиваю их в Москве, у себя, в пригороде. И сюда, на Север, пришла весна — солнышко ярко светит, капли падают с крыш, тает снег...
274
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
