13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Шестов Лев Исаакович
Шестов Л.И. О корнях вещей
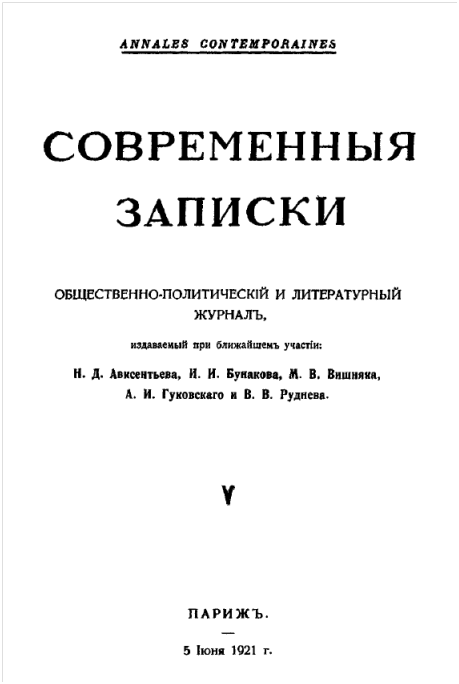
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Шестов Лев
О КОРНЯХ ВЕЩЕЙ
Общее место философии: «лишь то имеет истинное бытие, что не знает изменения, что не имеет начала и не подвержено уничтожению. Если и допустить, что это верно (хотя этого допустить нельзя), то обратное положение, т. е. что все, не подвергающееся изменению и уничтожению, имеет истинное бытие, уже никак не может почитаться правильным хотя бы потому, что нам решительно невозможно узнать, что не подвержено изменению и гибели; нам только известно, что не подвержено более или менее немедленному изменению и гибели. Даже бытие идеального считается вечным и неизменным, по-видимому, лишь в силу недоразумения. Конечно, общее понятие — напр.: лев, комар, ихтиозавр — остается существовать в то время, как множество живых львов, комаров и ихтиозавров исчезают неизвестно куда. И «человек» есть по сию пору, хотя о Сократе, Цезаре и Александре Великом сохранилось только воспоминание, которое в свое время тоже канет в Лету. Но где истинное бытие: в погибшем Сократе, который все-таки хоть и не очень долго, но был живым, или в сохранившемся «человеке», который еще никогда живым не был? Для Гегеля такого вопроса быть не может. А меж тем тут вопрос есть, и вопрос кардинальной важности. Ибо aprés tout «человек», хотя и долговременнее Сократа, но вовсе не вечен, и многие общие понятия окончательно погибли, так что о них не сохранилось даже и воспоминания...
104
«Кто знает, что такое истинная философия, того, — уверяет Гегель, — не беспокоит мифология Платона; тот и его теорию идей понимает как теорию общих понятий». Конечно, и тут возникает вопрос: кто знает, что такое истинная философия и чем она отличается от неистинной? Точнее, кому и кем вверено суверенное право дать последний и окончательный ответ на этот вопрос? Как известно, каждый философ присваивает это право себе. Правда, как я сказал уже, подавляющее большинство философов с древнейших времен было убеждено, что предметом их изысканий должно быть лишь вечное и неизменное. В этом смысле Гегель не отличается от большинства, можно было бы сказать, от философской толпы, если не гнушаться обычными в науке и очень действенными полемическими приемами. Правда и то, что «вечное» имеет пред временным много внешних и очень соблазнительных преимуществ, так что можно допустить, что слабая человеческая природа сказалась и в философах: вечное и неизменное прельстило их не только потому, что оно по своему «существу» выше преходящего и изменчивого, а потому, скажем, что оно легче поддается фиксации, стало быть, изучению. Гераклит дразнил разум: нельзя, говорил он, дважды выкупаться в одной и той же реке. На самом деле и раз не выкупаешься в одной реке. Река непрерывно течет, каждое мгновение она становиться другою, ее нельзя задержать и остановить хотя бы на то короткое время, которое нужно человеку, чтобы погрузиться в воду. И не только река течет — все течет, все меняется, все становится другим. А понятия — остаются. И только при посредстве понятий можно остановить сумасшедшую пляску бытия.
Понятия представлялись философам, как бы радугой на водопаде: брызги сыплются, уходят и пропадают, радуга неподвижна и неизменна. Где искать сущности вещей, о чем думать: об уходящих брызгах или вечной радуге? Так ставили вопрос, забывая, что радуга — тоже переходит, что с закатом солнца радуга перестает существовать, а брызги и капли воды, хотя они и много раньше уходят с
105
поля нашего зрения, остаются. И что сменяющиеся и так быстро пропадающие брызги в последнем счете «вечнее» радуги — они, хотя уходят и сменяют друг друга, но все же не гибнут, а только перемещаются с места на место. Так что, если под сущностью понимать пребывающее, то, конечно, сущностью оказывается не радуга, а водяные капли. Но и не это главное. Главное, что философский реализм (я разумею здесь реализм не в современном, а в средневековом смысле), всегда гордившийся своей возвышенностью и высокомерно презиравший материализм как нефилософскую теорию, сам в своих основных чертах настолько близок к материализму, что приходится только дивиться — почему эти системы так постоянно и упорно враждуют меж собой. Особенно это нужно сказать о философии Гегеля. Я выше заметил, что Гегель не принимал всерьез мифологии Платона. Не любил он и манеру изложения Платона — в одном месте он даже прямо говорит о болтливости «божественного» философа. Правда, как водится, уступая традиции, предварительно он отдает должное красоте и возвышенности платоновского стиля — но о болтливости не мог или не хотел умолчать. И это отнюдь не случайность, так что приходится только пожалеть, что Гегель подробнее не развил брошенной им мимоходом мысли. «Болтливость» Платона, конечно, находится в прямой связи с его интересом к мифологии. С точки зрения философии, которую представляет собой Гегель, всякая мифология есть по существу своему болтовня. Философ обязан мыслить в понятиях, и кто этого не знает, тот не знает, что такое философия. Этого положения ни Гегель, ни его предшественники никогда не могли обосновать — и оно никогда не может быть обосновано, т. к. оно, собственно, предполагается само всяким обоснованием. И вот задачей философии для философа-реалиста (напомню еще раз, что я все время говорю о реализме в средневековом смысле слова, т. е. о том, что в новейшее время называется идеализмом), является статика и динамика идеального. Понятия движутся и переходят одно в другое по собственным им имманентным законам, — постичь
106
внутреннюю связь и необходимость этого движения есть задача философии. Поэтому Гегель последователен, превращая логику в онтологию. Так же остается он верным себе, восставая против кантовского опровержения онтологического доказательства бытия Божия. Кант, как известно, утверждает, что понятие о ста талерах по существу отлично от действительных ста талеров, ибо понятие о ста талерах не предполагает еще бытия их. Гегель считает такого рода рассуждение обывательским. Конечно, говорит он, для индивидуального человека (т. е. для обывателя) такая разница существует: он хочет иметь не понятие о ста талерах, а сто талеров. Но обыватель должен возвыситься до философского состояния, при котором для него делается совершенно безразличным, обладает ли он ста талерами или не обладает, хотя бы они составляли большую часть или даже все его состояние. Гегель в своей требовательности идет еще дальше: философу, говорит он, должно быть все равно, ему даже безразлично, существует ли он сам или не существует, по крайней мере, прибавляет он, в своей конечной жизни. В своем моральном пафосе он доходит до того, что повторяет известный стих Горация
«Si fractus illabatur orbis
Impavidum ferient ruinae»
и делает из него основную философскую заповедь, обязательную для христианского философа еще в большей степени, чем для языческого...
Напрасно только Гегель ограничивает свое положение, требуя от человека равнодушного отношения лишь к своему конечному земному бытию. Напрасно, ибо тут явно кроется неточность, и очень роковая неточность. Бесконечное бытие до такой степени оторвано от бытия конечного, что только традиционной спутанностью идей можно объяснить готовность Гегеля подводить эти два понятия под общий род. Гораздо правильнее было бы называть их разными, даже прямо противоположными именами, как Гегель, впрочем, иногда и делает. Т.е., если мы говорим о бытии конечного, отдельного, индивидуального, то общему мы должны давать предикат небытия, и наоборот. Так что, по точному смыслу, упомяну-
107
тое суждение Гегеля было бы более адекватно выражено, если бы приведенное ограничение было опущено. Нужно просто сказать, что философу, возвысившемуся над обыденностью, должно быть безразлично, существует или не существует весь мир. Отдельное бытие должно быть сведено к бытию вообще во всей его возвышенной и гордой отвлеченности — таково первое теоретическое и практическое требование, предъявляемое философу. Уметь пренебречь отдельным для общего — значит, философски возвыситься.
Прежде чем оценить это положение Гегеля, я хотел бы обратить внимание на то обстоятельство, что указанное требование отнюдь не выдумано им самим. И даже не им формулировано. Оно доминирует во всей философии и, как мне уже приходилось однажды указывать, впервые получило свое выражение в единственном дошедшем до нас фрагменте Анаксимандра. И с тех пор оно уже не исчезает и в философии. Гегель только особенно часто и настойчиво повторяет его, как-то подчеркивая, что оно является articulus stantis et candentis philosophie. И потому, быть может, ни одна из идеалистических систем не оказывается столь родственной материализму, как система Гегеля. Его «мысль», его «идеальное» так же мало заключает в себе одушевленности и жизни, как и материя материалистов. И Бог его — Гегель чаще, чем какой-либо другой философ, называет Бога — и Абсолютное, и Дух, все высокие, возвышеннейшие идеи в этом отношении нисколько не отличаются от материи. Очевидно, первым условием и предположением научного мышления является гибель одушевленного. Гегель, как и его предшественники и преемники, идеалисты и материалисты, равно торжествуют, когда им удается установить γένεσις καὶ φθαρά для всех живых существ. Даже и для Бога, если он живой, должны быть γένεσις καὶ φθαρά, и Бог, стало быть, должен возвыситься над собой и раствориться в общем понятии, которое одно только и является для философа достойным предметом внимания. Вот почему нет никакой возможности отрицать законность притязаний крайней ге-
108
гельянской левой на magister dixit. Учитель сказал, на самом деле сказал все то, что вывела школа исторического материализма. История есть процесс, а материализм вовсе не «индивидуален». Материализм тоже возвышается над отдельным существованием. Для него Горациев стих столь же священ, как и для Гегеля, и к бытию индивидуальных существ он совершенно равнодушен, относительно же личного Бога он куда радикальнее Гегеля и самым решительным образом оспаривает у него право на предикат бытия.
Существует только материя и порядок. Ибо это пребывает, не меняется. Все же прочее — лишь надстройки.
Если хотите, левые гегельянцы напрасно называли себя материалистами: их материя так же идеальна, как и их порядок, но уже во всяком случае в ней нет ни на грош больше той преступной одушевленности, с которой вслед за Анаксимандром боролась вся эллинская философия и от которой предостерегает Гегель. Основное требование философской морали — у философии есть своя мораль, в философии мораль — самое ее существо — соблюдено со всей строгостью, на которую может претендовать самая щепетильная наука. Ибо преступность индивидуального, или одушевленного, — в его самовластии. В царстве же исторического материализма нет места личному произволу — все происходит с «железной необходимостью», по однажды заведенному порядку...
II.
Я отнюдь не хочу обличать Гегеля в безбожии. В настоящее время такого рода обличения были бы смешны: самого Гегеля нет на свете, да, если бы и был, никто бы не стал его преследовать за его атеизм; скорее бы, пожалуй, похвалили. Но, несомненно, материалисты, прямо отрицающие Бога, много вернее выражают последнюю идею философии Гегеля, чем сам Гегель. И Шопенгауэр, идеалист, удачнее формулировал сущность идеализма, когда утверждал, что религия — это для толпы; для избранников же, которым дано видеть и постичь истину — философия, и философия, конечно, атеисти-
109
ческая. Толпа — это те die das Allgemeine nicht erreichen, которые не способны возвыситься до общего. Я не прибавил от себя слово «возвыситься»: оно всегда встречается у Гегеля, когда речь идет об отношении индивидуального к общему. И Бог, по Гегелю, как и кантовские сто талеров, гораздо возвышеннее, когда он превращается в понятие, чем пока он остается живым в своей индивидуальности. Оттого-то он и считает правильным онтологическое доказательство бытия Божия и спорит с Кантом.
Требования морали оставим пока в стороне. Может быть, и действительно так возвышенно отдавать предпочтение общему пред частным; а может быть, вовсе не возвышенно, даже низменно. Я говорю: оставим в стороне, потому что решительно не знаю, каким способом разрешить этот вопрос и даже вообще разрешим ли он в том или ином смысле. По-моему, например, тут разрешения нет и быть не может. Одни станут утверждать, что Бог — понятие, даже вовсе и не Бог, как не Бог чурбан дикарей или белый бык восточных народов; и что, если Бог, в самом деле имеет лишь «бытие в истине», как утверждает Гегель, т. е. такое же бытие, как понятие о ста талерах, то это равносильно тому, что Бог никакого бытия не имеет. Пусть моралист взбирается на какие угодно высокие ходули и доказывает вслед за Горацием, что justum et tenacem proporsiti virum полагается оставаться бесстрашным даже и в том случае, если на него обрушится небесный свод, дело от этого нисколько не меняется. Мораль автономна и предписывает свои законы, не считаясь, конечно, со всякого рода иными законами, издаваемыми другими бесплотными обитателями эмпирической человеческой души. Но с каких это пор эпикуреец Гораций стал авторитетом в нравственных вопросах?! Он восхваляет бесстрашие как абсолютную добродетель, и Гегель вторит ему и уверенно заявляет, что христианину полагается быть еще более бесстрашным, чем язычнику. Это Гегель уже высказывает от своего собственного имени и за своей ответственностью, но тут его уверенность можно противопоставить уверенности в противо-
110
положном. Язычнику еще полагается доводить свое бесстрашие до тех пределов, о которых говорит Гораций: для язычника и на самом деле последней инстанцией является мораль. Для язычника «добро» равно властно и над людьми, и над богами, и того, что предписало «добро», не может отменить ни одна власть в мире. Для эпикурейца ли, для стоика ли virtus, мужество, — высшая, основная, первоначальная добродетель: недаром у римлян этим словом обозначалось и мужество, и добродетель вообще. Но христианин знает и другие добродетели — для христианина, вообще для человека, верующего в Бога, страх Божий есть начало премудрости. Даже Шопенгауэр, человек, у которого в душе сохранились разве что слабые реминисценции о былой вере и который, как я уже упоминал, открыто высмеивает веру, все-таки знает, что мужество есть только эмпирическая добродетель. По его мнению, мужество и бесстрашие — унтер-офицерские добродетели; в этом отношении животные даже превосходят людей: недаром говорят — бесстрашен, как лев.
И правда, бесстрашие есть условная добродетель, я бы сказал, добродетель имманентная, и в качестве таковой она является кардинальной для учения стоиков и эпикурейцев. Nil admirari — ничему не удивляться и ничего не бояться: для человека убежденного, что за пределами видимого мира нет ничего, естественно стремиться только к пониманию, и столь же естественно для него гнать от себя такие чувства как удивление, страх или надежда. В новой философии наиболее замечательным представителем такого взгляда является, конечно, Спиноза, влияние которого на Гегеля трудно преувеличить. Идея абсолютного духа целиком принадлежит Спинозе и у него же со всей ему одному свойственной силой все «отдельное», индивидуальное превращено в модусы единой изначальной субстанции. И еще с большей резкостью, чем у Гегеля, у Спинозы сказывается отвращение к мифологии не только платоновской, но и библейской — он верил в дух и только в дух. Всякого рода душевные колебания для Спинозы были только признаками слабости: он равно презирает
111
и тех, кто поддается страху, и тех, кто обольщается надеждами. Задача для него, т. е. для философа, одна: intelligere. Соответственно этому идеал: amor Dei intellectualis; причем, по-моему, слово intellectualis мы с равным правом можем отнести и к amor, и к Dei. И перевести так: познавательная любовь к познавательному Богу.
Конечно, — прав был Гораций, учивший в ars poetica, что
Pictoribus atque poëtis
Quodlibet audendi semper fuit aequa potestas.
Не только поэтам и художникам, но и философам всегда предоставлялось право и власть всевозможных дерзаний, я менее всего желал бы, чтоб то, что я здесь говорю о Шопенгауэре, Спинозе и Гегеле было истолковано как стремление «обвинить» этих философов в «свободомыслии». Наоборот, я готов, если бы меня спросили, разрешить всем ищущим — будут ли они художники, поэты, богословы, философы или даже просто странники — potestas audendi в какой угодно мере: пусть дерзают. Смысл моих замечаний к тому только и сводится, чтоб оберечь право философии на дерзания, хотя бы и безмерные и опасные. Если я спорю, то только потому, что, как я все более и более в том убеждаюсь, рационалистическая философия, ведущая свое начало от эллинов, всегда имела своей тайной задачей ограничить potestas audendi. Это чисто эллинское устремление отразилось даже и на Св. Писании. 4-е Евангелие начинается словами ἐν ἀρχῆ ἦν ὁ λόγος — в начале было слово. Как у римлян virtus, так у греков λόγος имело два значения: λόγος значит и слово, и разум. И это тоже, конечно, неслучайно. В «слове» греки уже предполагали implicite заключенный разум, в слове же они его и искали, в особенности Сократ и вышедшие из Сократа школы.
В «Федоне» Платон говорит, что самое большее несчастье, которое может приключиться человеку, это — если он станет μισόλογος’ом, т: е. ненавистником разума, и что этого нужно беречься больше всего на свете. Эта мысль проникает всю эллинскую философию и, по-видимому, чрез Филона иудейского попала в Евангелие, а оттуда в
112
христианскую философию. Сократ побивал своих противников в спорах всегда одним способом: он доказывал им, что в их жизни и поступках нет той внутренней связи и последовательности, которые он всегда умел находить в мыслях и словах. И он, конечно, был прав. В языке, в «слове» много больше логики, чем в жизни и душе какого хотите человека. В конце концов, только в «слове» и есть логика и выдержанная последовательность. Ни Алкивиад, ни Перикл, ни даже, нужно думать, сам Сократ, если бы можно было выявить его душевную жизнь, никогда в смысле выдержанности и последовательности не могли сравниться с разработанным до тонкостей языком эллинов, который в руках мастера был образцом послушания и связности. И причину этого нужно видеть главным образом, в том, что язык оперирует преимущественно, если не исключительно, общими понятиями. Ведь даже собственные имена — уже общие понятия: каждое собственное имя есть отвлечение от того или иного предмета, ибо представляет его не в определенное время и в определенном месте, а всегда и везде. Цезарь есть Цезарь — и младенец, и отрок, и старик, и в Риме, и в Галлии, и в бодрствовании, и во сне. Назвав человека или предмет по имени, мы уже тем самым от свойственной всей действительности, т.е. всему «особенному» сложной и не передаваемой словами загадочной случайности сразу перешли в область общего с ее простотой, прозрачностью, закономерной необходимостью и потому понятностью.
Существует мнение, что человек как разумное существо отличается от животных как от существ неразумных именно тем, что посредством мышления он способен переходить — или, по Гегелю, возвышаться — от частного к общему. Я думаю, что тут кроется заблуждение, и очень серьезное. Способность видеть в предметах общее вовсе не есть исключительная способность человека: все животные воспринимают в предметах общее, и низшие в большей степени, чем высшие. Для волка или льва ягненок — только пища, и в этом смысле все ягнята — суть лишь ягнята
113
вообще. То же для орла или кондора. «Особенное» животные замечают редко: только разве в своих детенышах, и то не всегда. Птицы, как известно, не умеют даже отличать свои яйца, и маленькая трясогузка высиживает подложенное ей кукушкино яйцо. Я уже не говорю о низших организмах, для которых существуют, по-видимому, только самые общие представления: пища и не пища. Так что, в противоположность Гегелю и тем, от которых он принял основоположение своей философии, нужно считать способность отвлекаться от частного к общему не возвышением, а падением – если, конечно, принять, что в лестнице живых существ человеку принадлежит более высокое место, чем животным. А раз так, то, стало быть, надо думать, что в λόγος’е — слове — может и не быть всего разума, как в и virtus’е — храбрости — всей добродетели. Если угодно, в начале и было слово — но лишь потому, что в начале — по крайней мере, в том начале, до которого может добраться своим близоруким глазом человек, — все еще было очень элементарно (в начале, повторяю, живые существа искали только пищи, какой угодно пищи, пищи вообще) и многого тогда еще совсем и не было. Потом, когда пища вообще и все то «вообще», что является необходимым условием существования живых организмов, было найдено и, в особенности, когда появился культурный человек с большими запасами этого «общего», так что можно было о нем совсем больше и не заботиться; когда, стало быть, появился досуг и с досугом — возможность интересоваться не только необходимым, но чем угодно, — тогда только впервые со всей силой сказалось значение частного и индивидуального. В начале все люди были равны и отличались разве только количественно: один сильнее, другой слабее, физически, разумеется. В начале не было Сократа, Мелита, Патрокла и Терсита, а только были люди вообще. Тогда Гомеру или Шиллеру и другим певцам нечего было бы делать, так как было одно общее, которое все воспевали однообразными, надо полагать, словами и еще более однообразными делами...
114
III.
Как же случилось с философией, и как раз с той философией, которая так настойчиво всегда претендовала на возвышенность и которая, по-видимому, и в самом деле хотела быть возвышенной и только возвышенной, что она прославила идеал пещерного человека и даже беспозвоночного животного? Атавизм ли здесь был причиной или тут простая какая-нибудь тайна? Почему в истории философии победителем оказался Аристотель, а не Платон? Почему даже христианство соблазнилось логосом, а новое время никак не может освободиться от чар гегелевской философии, и даже верующие люди уже могут верить только в бытие «общего» Бога, т. е. Бога понятия, и убеждены, что всякая другая вера предосудительна и даже совершенно невозможна для просвещенного человека? И точно ли невозможна она? Или мы вправе потребовать, наконец, по отношению к полученному нами от эллинов наследству, beneficium inventarie, о котором не думали наши отцы? Но как и от кого требовать? Кто скажет нам наверняка, есть ли 1-й стих 4-го Евангелия откровение — или интерполяция позднейшего времени, когда Св. Писание было уже не в руках нищих духом, для которых оно предназначалось, а в руках избалованной или просвещенной эллинской мудростью римской знати? И кто поможет решить нам вопрос: где искать настоящего Платона — в его мифологии или в научно обработанной Аристотелем его теории идей?
Сейчас, как известно, европейская философия ведет ожесточенную борьбу с «психологизмом». Дело, конечно, не новое. Психологизм всегда существовал, и идеалистическая философия всегда с ним боролась. В новейшее время мы едва ли можем назвать кого-либо другого, кто был бы более ожесточенным и непримиримым противником психологизма, чем Гегель: уже из того, что я до сих пор о нем рассказывал, это достаточно явствует. Но, вот у самого Гегеля мы встречаем такое рассуждение: «каждый человек, не колеблясь, говорит: несомненно, что вещи, которые я вижу,
115
существуют. Но на самом деле — неправда, что он верит в их реальность; на самом деле он допускает противоположное, ибо он ест и пьет их — т. е. убежден, что вещи сами по себе не существуют, что бытие их не имеет никакой прочности, не имеет сущности. Обыкновенный рассудок, таким образом, в своих действиях оказывается лучшим, чем в своем мышлении, ибо его действующее существо есть целостный дух». Объяснение Гегеля оставим в стороне, ибо оно, как всякое объяснение, спорно. Но факт бесспорен: человек, думающий, что вещи существуют, вместе с тем знает, что они не существуют, и это знание его выражается не в слове, не в словах, а совсем по-иному, в действиях, — но все же выражается так, что о нем могут оказаться осведомлены и другие, например, Гегель, а за ним и его читатели.
Теперь возьмем другой факт — совершенно того же порядка, но относящийся уже не к обывателю, а к философам. Все философы с древнейших времен считали психологическую точку зрения ложной. Гегель сам — в особенности. Так же, как и обыватели полагали, что вещи, которые они видят, существуют, так и философы полагали, что истины, которые они мыслят, тоже существуют, и все поэтому провозглашали себя анти-психологистами. Но прочтите «Logische Untersuchungen» и другие работы Гуссерля. Оказывается, что утверждать-то они утверждали и провозглашать — тоже провозглашали, но «делали» совсем иное: совсем, как обыватели, ели и пили те свои истины, которые сами же называли вечными. Спрашивается: как быть с философами — считать ли их в «истине» тогда, когда они «делали», т. е. предъявлять к ним такие же требования, как к обывателям, — или в силу их высокого положения даровать им привилегию неподсудности общим законам?
Это тем более существенно, что, по Гуссерлю, и сам Гегель не избег общей участи: и он провозглашал одно, а делал — в своей философии и через свою философию —другое. Если же принять и мое свидетельство, то в таком же положении, как Гегель, оказывается и сам Гуссерль. Он тоже ест и
116
пьет свои вечные истины и даже в большей мере ест и пьет их, чем какой либо другой философ; можно сказать, что у него истребление истин прямо пропорционально его уверенности в их неистребимости. Так вот я и ставлю вопрос: с чем считаться нам? Со словами философов или с их делами: на словах они говорят, что их истины вечны, делами же своими показывают, что их истины так же преходящи, как и те чувственные предметы, которые для обывателя кажутся существующими, но для «разума» оказываются чуть ли не фантасмагориями, обращающимися в ничто при прикосновении логики. Иначе говоря, как учиться у философа: усваивая ли придуманные им теории или наблюдая его жизнь во всех ее выражениях, т. е. не в словах только, а в действиях, поступках и т. д.?
Нужно, однако, думать, что едва ли удастся, как это и вероятно хотелось бы читателю, особенно читателю-специалисту по философии, который любит общее и ценит единообразное, дать один исчерпывающий ответ на этот вопрос. Ибо иногда «целостный дух», пользуясь термином Гегеля, может проявиться в делах, а иногда — в словах. Иногда бывает такое complexio oppositorum, что противоречие в словах и делах для бедного двуногого животного оказывается неизбежным. Так, например, обывателю все-таки приходится утверждать, что хлеб и вода существуют, и вместе с тем есть хлеб и пить воду. Ибо есть и пить несуществующее он, как показал ему опыт, не умеет, хотя, если бы умел, он предпочел бы их очень часто существующим. Так что вопрос оказывается большой сложности, и все-таки мы не можем ни обойти его, ни упростить. Да и вообще, стремление упростить сложное никогда не приводит к добру: в голове-то мы можем устроить видимый лад и порядок, но действительность все же остается прежней и не вмещается в строй ни идеалистического, ни материалистического понимания. Какие бы здания мысли мы ни возводили бы, в них не окажется достаточно места обывателю, чтобы вместить все, что ищет себе пристанища...
Повторяю, материализм в своем существе от идеализма
117
ничем не отличается, хотя на внешний вид они так не похожи друг на друга. И здесь, и там хотят загнать жизнь под крышу, в подвал, в подземелье, и одинаково безуспешно. Жизнь взрывает самые толстые стены, самые крепкие своды. Философия рано или поздно станет философией en plein air, как бы тому ни противились люди традиции и старого уклада. Люди поймут, наконец, что в «слово», в общие понятия можно загонять на ночь для отдыха и сна усталые человеческие души — но днем нужно их снова выпускать на волю: Бог создал и солнце, и небо, и море, и горы не для того, чтобы человек отвращал свои взоры от них. Правы были ватиканские отцы: Si quis mundum ad Dei gloriam conditum esse negaverit, anathema sit. И вот платоновская мифология, которую, под разными предлогами, так упорно Гегель (да не только Гегель — все почти его предшественники и преемники) выметает из философии, — она-то и говорит о том, что мир создан во славу Божию, и, если философу не дать об этом рассказать, — что тогда от философии останется?
IV.
Но идеалистическая, как и материалистическая, философия всегда старались возвыситься над Богом. И даже, в конце концов, теология, которая, как мне уже приходилось однажды указывать, даже в средние века, в пору своего величайшего расцвета и торжества, была всегда прислужницей философии (ancilla philosophiae), — и она непременно хотела быть выше Бога, над Богом. Вся potestas audendi философов и теологов выражалась, главным образом, в стремлении подчинить Бога человеку. Так что, пожалуй, теперь, после напряженнейшей двадцатипятивековой борьбы разума с Богом и после тех решительных побед, которые разум одержал над Богом, — сейчас, в настоящий момент была бы величайшим дерзновением попытка заговорить о настоящем Боге, который и в Св. Писании, и в символе веры, произносимом миллионами людей всех частей
118
света, называется творцом Неба и Земли. Когда-то псалмопевцу казалось безумием отрицать существование Бога: «и рече безумец в сердце своем: нет Бога». Теперь доказывают существование Бога и вновь хотят восстановить онтологическое доказательство его бытия. И это не только у Гегеля, но даже и у Декарта. Ибо условием доказательства является μετάδυσίς εἰς ἄλλο γένος — любимейший и вернейший способ, которым издревле пользовалась спекулятивная философия для достижения своих целей. Я опять повторяю, что гегелевский Бог нисколько не отличается от материалистического принципа. И, если приведенных примеров недостаточно, я укажу еще один, в некоторых отношениях еще более интересный и поучительный. Это размышления Гегеля о судьбе Сократа. Размышления столь замечательные, что их стоит привести полностью. «О Сократе говорят, что, так как он был без вины приговорен к смерти, то его судьба трагична. Но такого рода несчастье невинного человека было печальным, а отнюдь не трагическим событием, ибо оно не есть разумное несчастье. Ибо несчастье лишь тогда разумно, когда оно вызывается волею субъекта, долженствующего быть бесконечно правым и нравственным, равно как и силы, против которых он выступает; поэтому, последние не должны быть просто силами природы или деспотической волей; ибо только в первом случае человек сам повинен в своем несчастье, в то время как естественная смерть есть абсолютное право, которое природа осуществляет по отношению к человеку. В истинно трагическом, таким образом, должны сталкиваться с обеих сторон меж собою силы, равно правые и нравственные: такова и была судьба Сократа. Его же судьба не есть только его личная, индивидуальная, романтическая судьба; в ней представляется общая нравственно трагическая судьба, трагедия Афин, трагедия Греции. Два противоположных права выступают одно против другого и разбивают друг друга; обе стороны проигрывают, обе равно правы одна пред другой, а не то, что одна права, другая не права. Одна сила — это божеское право, вкоренившийся обычай, законы
119
которого отождествились с волей, живущей в нем как в своем собственном существе свободно и благородно; отвлеченно говоря, мы можем назвать ее объективной свободой. Другой принцип есть столь же божественное право свободы, право знания или право субъективной свободы: это есть плод дерева познания добра и зла, т. е. разума, черпающего из самого себя — общий принцип философии на все последующие времена. Эти два принципа и столкнулись в жизни и философии Сократа».
Приведенный отрывок взят мною из гегелевской истории философии, но здесь, конечно, важна для нас философия истории в понимании величайшего и, пожалуй, наиболее последовательного из рационалистов. Принципом философии на все последующие времена оказывается разум, черпающий из самого себя. Что правда — то правда. Послесократовская, я бы охотнее сказал и был бы, пожалуй, ближе к истине, послеплатоновская философия всецело и исключительно определилась этим принципом. После Платона философы сознательно пренебрегали всяким другим источником познания — и в этом отношении позитивисты и эмпирики мало отличаются от метафизиков. Но даже Платон всегда колеблется. Он, конечно, пользуется мифом, и очень охотно пользуется; он верит даже в откровение, но, веря, отвергает его, как видно из следующего места Тимея: «что Бог дал способность предсказания именно человеческому неразумию, достаточным доказательством тому является то обстоятельство, что ни один владеющий своим разумом человек не приобщается божественного и истинного пророчества, но только те, у которых во сне сковывается сила разума, или те, которые в болезни или в состоянии экстаза выходят за пределы самих себя». Ясно, что Платон брезгает и в чем-то недобром подозревает всякого рода пророческие дарованья и боится их считать непорочными источниками истины. Тот, кто предсказывает, не находится в своей власти: его разум скован сном, болезнью или экстазом. Может быть, правильнее было бы сказать, раско-
120
ван? И потом, Платон забывает об одном замечательном и хорошо ему известном случае, когда дар пророчества не предполагал скованности разума. Сократу его демон открывал будущее не во сне, а наяву, при самых нормальных состояниях тела и души. Так или иначе, Платон хочет считать, что единственным источником познания истины является разум, и только в силу человеческой непоследовательности, которая, как мы видели на примере обывателя, едящего и пьющего, существующее, иногда бывает плодотворнее последовательности, так как часто обращается к мифам.
Но, что еще поразительней, даже Плотин — философ-мистик — живет исключительно в мире интеллигибельном: у него состояния экстаза не только не разрывают, а, скорее, еще теснее сближают его с разумом. Можно сказать, что Плотину нужны экстазы лишь затем, чтобы высвободиться от того, что философы именуют скованностью, чувственной данностью. Или, выражаясь языком Библии, который не чужд порою и Гегелю, в экстазе Плотин повторяет преступление Адама: в состоянии добровольной невменяемости он вкушает от древа познания добра и зла, чтобы превратить свою человеческую сущность в чисто разумную. Из всех даров Божиих философ принимает только разум.
Таков смысл слов «разум, черпающий из самого себя», таково содержание «общего принципа», определившего собой, по Гегелю, философию на все последующие времена. Конечно, если разум может, хочет и должен все черпать из самого себя и если философия есть то и только то, что разум может вычерпать из самого себя, то философия истории и, в частности, история философии истории должна быть построена more geometrico. Т. е. нужно установить внутреннюю связь чистых понятий и показать, как одно понятие диалектически, т. е. с естественной необходимостью, превращается в другое. Сократ жил, учил добру и умер. Умер не своей смертью, как бы полагалось с человеческой точки зрения такому великому мужу, а был сопричтен к злодеям и казнен своими согражданами. Платон написал на эту тему
121
знаменитый диалог «Федон». А что делает разум, все черпающий из себя? Первое правило: разум никогда не теряется, вперед уверенный, что он вычерпает из себя соответствующие объяснения. Отравили Сократа — значит, нужно было отравить. Именно нужно. Если бы не было нужно, то, конечно, его тоже могли бы отравить, но это было бы чистой случайностью, печальной, правда, но все же случайностью. Чтоб стать трагедией, несчастье должно быть «разумным» — и Гегель ставит себе задачу показать, что смерть Сократа как раз и была разумным несчастьем и потому может быть достойным предметом историко-философского размышления. Объективная свобода должна была смениться субъективной; процесс совершился — и при этом отравили Сократа.
Но, во-первых, исторический процесс мог прекрасно совершиться и без того, чтоб отравили Сократа. Если бы, скажем, Сократ умер 69 лет от тифа или иной болезни, процесс перехода от объективной свободы к субъективной не задержался бы нисколько. Второе — зачем Гегель говорит о случайной случайности, о несчастии, о трагедии? Что печального или трагического в том, что умер старый грек? С точки зрения, конечно, разума, черпающего все из себя. Умер ли Сократ или не умер, умер ли он в связи со столкновением двух принципов или от того, что столкнулся с быстро мчавшейся колесницей, — в чем тут разница? И как вычерпал из себя разум такие слова как печальное, несчастье, трагедия? Платон мог оплакивать своего друга и учителя. Но чистый разум не знает и не хочет знать слез: для него радость и горе — только признаки индивидуального восприятия. Если искать чистого познания, нужно отказаться от всякого обладания и, по завету Спинозы, трактовать человеческие аффекты, как трактуются перпендикуляры и треугольники. Все должно сводиться к «пониманию», т. е. к механическому объяснению. Объективная свобода переходит в субъективную, в этом — содержание истории; натуральное хозяйство сменяется капиталистическим — опять содержание истории. Все это, конечно, очень хорошо придумано, и едва ли можно что-нибудь возразить Гегелю или материалистам, оставаясь на их почве.
122
Но, если разрешается делать возражения психологистического характера, я бы мог напомнить то, что Гегель говорил о наивном обывателе, вообразившем, что хлеб и вода существуют. Ибо Гегель никогда не остается на «высоте» чистой спекуляции, и как бы он ни уносился в область метафизического и общего, он всегда остается обвешанным «единичным» и «эмпирическим». Он без разбора ест и пьет и существующее, и призрачное и своими действиями возражает себе еще больше, чем его самые ожесточенные противники. Не даром он говорит о Festigkeit der Allgemeinheit: он хочет сгустить, я бы сказал, материализовать общее. И он достигает своей цели: его «общее» почти осязаемо — и, я думаю, в этом тайна его огромного успеха.
С одной стороны, он отвязался от всего индивидуального, справиться с которым философии не под силу; с другой стороны, у него остались и «материя» и «движение», всегда прельщавшие людей, жаждущих философии с началами и концами. Начала и концы обеспечены только такому миропониманию, которое признает единый источник истины. Оно «возвышается» над отдельным и случайным, оно преодолевает все трудности и неразрешимые противоречия жизни. Оно «понимает» жизнь — ему не страшна и смерть — der natürliche Tod nur ein absolutes Recht ist, was die Natur am Menschen ausübt. Если бы небо обвалилось на него — он бы не испугался. А Бог — Бога он еще меньше боится. Бог ведь —понятие, и уж, наверное, понятие самое чистое, самое свободное от всего индивидуального. Он не может ничего ни дать, ни отнять у человека. «В истории, конечно, идея проявляется как абсолютная власть: иначе говоря, Бог правит миром. Но история есть идея, воплощающаяся естественно, а не сознательно». Совершенно очевидно, что сущностью гегелевской разумной философии является die Idee, die auf natürliche Weise vollbracht wird. И еще: вряд ли я ошибусь, если скажу, что словом «естественно» исчерпывается сущность материализма.
Я не знаю, кто ввел впервые в употребление понятие «естественный». Знаю только, что оно существует очень
123
давно — столько же, пожалуй, времени, сколько и сама философия. И еще знаю, что сейчас нужна величайшая не только возможность, но и способность дерзания, чтобы освободиться от власти этого слова. Попробуйте отказаться от него, что останется тогда от философии? Кажется, что совершенно невозможно не то, что философствовать, но даже просто говорить. Оттого все философы так тяготели к научному методу мышления.
«Res nullo alio modo vel ordine a Deo produci potuerunt quam productae sunt» — говорит Спиноза. И в этих немногих словах он как нельзя точнее выразил исторические задачи и приемы искания философии. Бог, создавая вещи, создавая мир, только покоряется своей природе в таком же роде, в каком геометрические теоремы развиваются из аксиом и определений. Сумма двух сторон треугольника больше, а разность — меньше третьей стороны, сторона вписанного в круге правильного шестиугольника равняется радиусу этого круга и т. д.— вплоть до последней теоремы все есть необходимое развитие основных положений. И, подобно тому как геометр не может вписать в круг ромба, так не мог Бог до сих пор создать крылатых людей или разговаривающих львов. И, подобно тому как геометру видно, что сторона вписанного в круге правильного шестиугольника должна равняться радиусу этого круга, так философ до тех пор не может успокоиться, пока не убедится, что человек должен быть бескрылым, Эпиктет не мог не быть рабом, а Сократу так и полагалось умереть смертью злодея. Понимание есть последняя цель философии: когда Гегель «понял», что смерть Сократа была «разумным» несчастьем, или трагедией, когда он съел или выпил эту «истину», — он насытился, удовлетворился, и ему казалось, что все, читающие его произведения, должны тоже насытиться и получить удовлетворение, и что его «судьба Сократа» есть потому более философское произведение, чем «Федон» Платона, который является не ответом, а вопросом, и притом таким вопросом, на который, по-видимому, никто никогда не даст надлежащего, удовлетворяющего или насыщающего ответа.
124
V.
Спиноза идет еще далее Гегеля. По крайней мере, в своем аскетизме он смелее, решительней и откровеннее. Мы знаем дерзновенное и загадочное заявление родоначальника цинизма Антисфена: лучше мне сойти с ума, чем испытать удовольствие. Передают, что Диоген называл Антисфена громкой трубой, которая не слышит сама себя. Неизвестно точно, почему ученик так отзывался об учителе. По всей вероятности, что именно приведенное изречение дало повод Диогену к такого рода «психологистической» критике. Философ, по мнению Диогена, должен не говорить, а действовать. И я думаю, что из новейших философов требованию Диогена наиболее других ответил бы Спиноза. Он и вправду «делал» свою философию и тщательнейшим образом вытравлял из своего «бытия» все «чувственные» элементы, так что ему больше, чем кому-либо удалось превратить свою душу в общее понятие. Он перестал быть Спинозой hic et hunc, он стал philosophus’ом, т. е. существом не только бесплотным, но и «бесчувственным», как тот Бог, которому он поклонялся. Я думаю, что именно этим он внушал такое суеверное отвращение к себе современникам, и этим же он покорил сердца дальних потомков, вновь открывших, или отрывших его из-под десятилетий забвения.
Биография Спинозы говорит нам, что среди живых людей XVII столетия долгое время блуждало привидение — если под привидением разумеется то, что под этим словом обычно разумелось: т.е. существо, умеющее по-человечески мыслить и даже по-своему заинтересованное земной жизнью, но лишенное всех тех чувственных свойств, по которым мы всегда отличаем живых от призраков. Привидение есть нечто среднее между мертвецом и живым. Оно не мертво, ибо оно вступает в общение с людьми, но оно и не живет, ибо существующее для него не существует. И отношение к привидению особенное: одни его боятся, другие пред ним преклоняются.
125
И вот любопытнейший вопрос: как произошла со Спинозой такая странная метаморфоза, почему он из человека превратился в привидение? Вопрос тем более любопытный, что, хотя, по учению Спинозы, res nullo alio modo vel ordine a Deo produci potuerunt quam productae sunt, у нас есть все основания думать, что та res, которая существовала в свое время под именем Бенедикта Спинозы, сделалась тем, чем она стала, т. е. предметом страха и удивления людей, вовсе не в силу «необходимости» и даже не в силу необходимости своей внутренней природы. И Бог тут нисколько не замешан. С этой вещью произошло нечто поистине замечательное: она вырвалась из связи с остальными вещами, из той среды, в которую ее поместила судьба, и стала не такой, какой ей полагалось бы быть в силу необходимости, а такой, какой по особенному, ей одной свойственному капризу она быть захотела. И если правда, что Бог создает вещи, то в данном случае, нужно думать, Бог остановился на полпути. Он начал создавать Спинозу обычным способом, но, увидав, какой своеобразный материал попал ему под руку, предоставил ему самому кончать себя. И, конечно, Спиноза такой, каким мы его знаем, создан не Богом и не в силу необходимости, а самим собой и по свободному произволу; может быть, в осуществление той свободы, о которой рассказывал Достоевский устами своего Кириллова. Я скажу еще больше. По Спинозе, камень, если бы был одарен сознанием, считал бы, что он не падает на землю, повинуясь закону притяжения, а свободно мчится, куда ему вздумается. Так вот, камень, обладающий сознанием, быть может, и не догадался бы, что он не летает, а падает; но даже камень, не обладающий сознанием, должен был бы понять, что Спиноза стал Спинозой не в силу необходимости, а по свободному решению воли.
Теперь посмотрим, каким образом он превратился в привидение или в то, что люди приняли за привидение. Ответа на этот вопрос вы не найдете ни в одном из его основных произведений — ни в этике, ни в теолого-политическом трактате, ни даже в письмах. Там он уже
126
законченный philosophus, там пред нами — человек, преодолевший все сомнения, выкорчевавший из себя все человеческое; словом, там пред нами — человек вообще, человек-понятие, чистый интеллект с незыблемым принципом de natura rationis non est res ut contingentes, sed ut necessarias contemplari. Но в trachtatus de intellectus emendatione мы можем хоть отчасти проследить тот процесс, посредством которого «этот человек», т. е. человек живой превращается в человека-понятие. Правда, и здесь даже Спиноза необыкновенно выдержан и скуп на откровенные признания, точно такого рода сведения должны быть намеком, и то лишь для посвященных; намеком, по которому можно судить, что за экзотерической философией скрывается философия эзотерическая. Гегель, как известно, ужасно негодовал против допущения такого противопоставления. Но мне кажется, что в этом случае Гегель был недостаточно проницательным, — быть может, ex officio. Несомненно, что у каждого человека существуют две философии — одна явная, выраженная, для всех и всем доступная; другая — тайная, не только недоступная для всех, но временами непостижимая даже для того, кто ее создал и выносил в душе своей. Она почти не находит внешней формы для своего выражения. Отрывочные, вырвавшиеся, словно против воли, фразы; слова, полуслова, интонации, восклицания — такими и только такими способами даст о себе знать эта невидимая, скрытая, но, может быть, значительнейшая часть жизни человеческой души. Даже Гегель, который по своим устремлениям был особенно далек от такого рода переживания, не мог, хотя бы мимоходом и с презрением или пренебрежением, не отметить факта «музыкального» сознания. Но, как мы знаем, Гегель искал материализации даже общих понятий, Festigkeit der Allgemeinheit, и больше всего боялся одушевленности, в которой он справедливо усматривал носительницу столь враждебных ему начал случайности и произвола. И потому между Гегелем и Спинозой, несмотря на сходство их пантеистических идей, чувствуется столь существенная разница. Гегель беспечней, уверенней
127
Спинозы как человек, за которого труднейшее проделали другие. Свою власть вязать и разрешать potestas clavium он получил по наследству, она передалась ему через длинный ряд поколений — и он думает, что она от Бога. Спиноза сам добыл ее и знает — как всякий, кто сам добывал власть, хотя бы и царскую, — какой ценой она покупается. Оттого у Гегеля есть все ответы на все вопросы. У Спинозы же есть только «этика», т. е. наука, которая показывает, что человек может, если пойдет на великое самоотречение и проделает труднейшие exercitia spiritualia, сделаться метафизическим существом, иначе говоря, обратиться в чистую мысль, равно независимую и от случайностей земного бытия я, и от превратности индивидуальной судьбы. Конечно, Спиноза не первый ставил такую задачу и не первый ее выполнил. Но первенство тут ни при чем. В таких делах опыт предшественников ровно ничего не дает. Нужно самому проделать от начала до конца все то, что требуется для превращения живого человека в идею или понятие. В древние времена люди чаще ставили себе такие задачи. Даже до сократовской философии они не были чужды. Но сведения наши о древних слишком скудны, чтоб отваживаться у них искать ультра-эзотерическую философию. Даже о циниках и стоиках мы знаем мало. В новейшее же время наиболее замечательным примером такой философии является Спиноза.
И вот в своем tractatus de emendatione он вкратце передает, что с ним было. Как и всякому человеку, в молодости ему казалось, что лучшее в жизни — это divitiae, honores и libidines. Но вскоре он убедился, что все это добывается с величайшим трудом, редко кому достается и, сверх того, в высокой степени бренно. Да и по существу своему не может дать истинного удовлетворения. Богатому человеку хочется еще богатств, почести только будят жажду новых отличий, а наслаждения оставляют после себя лишь чувство пустоты. Что же делать? Как человек, заболевший смертельной болезнью, Спиноза почувствовал себя обреченным на отчаянное лечение: отречение. Само лекарство могло убить его. Но другого выхода не было. Он отрекся от мира и
128
нашел ту amor erga rem aeternam, которая одна только может исцелить человеческую душу и дать ей то высшее благо — конечно, благо интеллектуальное — о котором мечтают бедные потомки Адама с той поры, как их прародители были изгнаны из рая.
VI.
Я знаю очень хорошо, что Спиноза в еще большей степени, чем Гегель, был врагом мифологии и что для него библейская мифология не имела никаких преимуществ пред языческой. И все-таки я не мог не вспомнить про Адама и грехопадение. Свою этику Спиноза заканчивает словами «omnia praeclara tam difficilia, quam rara sunt» — что это, как не передача «своими словами» грозного напутствия Бога Адаму и Еве при изгнании из рая: в поте лица своего будешь добывать хлеб свой и т. д.? Почему все прекрасное должно быть редким и трудным? Казалось бы, наоборот, что хлеб насущный человеку следовало добывать легко и радостно. И женщине — рожать детей без болей. Ведь все, что «естественно», должно было бы — если только слово «естественный» имеет хоть какой-нибудь смысл — соответствовать воле и устремлению, а также и физической организации человека. Труд бы должен был быть потребностью нашей, а роды — не только безболезненными, но приятными. Даже смерть как естественный конец должна была бы быть не страшной, а желанной гостьею.
Но Спиноза, как и все большие философы, чувствовал, что в философии нужно идти не по линии наименьшего, а по линии наибольшего сопротивления. Если правильно, что от πόλεμος πατὴρ πάντων, то философия должна быть πόλεμος по преимуществу. Оттого, вероятно, эвдемонистические, гедонистические и даже утилитарные теории морали никогда долго не заживались на земле. Философ ищет трудного, ищет борьбы. Его стихия — проблематическое и вечно проблематическое. Он знает, что рай потерян, — и хочет вернуть потерянный рай. Если нельзя вернуть сейчас или в ближайшем будущем, он готов ждать годы, десятилетия, до конца жизни — а нужно
129
отложить задачу и на после смерти, хотя для этого пришлось бы жить в величайшем напряжении и всегда испытывать лишь муки и боль неосуществленного материнства.
У Спинозы, несмотря на загадочное и все покоряющее внешнее спокойствие, эта напряженность достигает крайней степени. Быть может, самое замечательное в его философии, что он умел говорить простыми, даже бедными словами о тягчайших и величайших событиях своей внутренней жизни. Его прославившееся изречение non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere — вовсе не значит, что он не смеялся, не плакал и не проклинал. Я даже готов перевести его словами Паскаля, на первый, раз как будто стало противуположными: je n’approuve que ceux, qui cherchent en gemissant. Когда он, подобно монаху, дающему обеты воздержания, бедности и послушания, отрекается от divitiae, honores et libidines, кажется, что вновь повторяется трагедия изгнания Адама из рая. Ведь что такое divitiae, honores et libidines? Как будто три маленьких слова — да еще таких, которые никогда не таили в себе ничего привлекательного для философа. Но ведь под ними весь Божий мир! Если хотите, даже рай, ибо, как передается в Библии, в раю было великое изобилие всех богатств, и радости там не возбранялись, человек был в почете, и все страсти, кроме одной — страсти к познанию, — были дозволены и даже поощрялись. Теперь стоит над всем этим ангел с огненным мечом, и только к дереву познания, к intelligere, остался свободный доступ.
Конечно, и огненный меч, и ангел — только образы: я не хочу смущать современного образованного читателя, требуя от него веры в сверхъестественное. И вообще я никаких требований не предъявляю. Но вот действительность. Хотите — не хотите, Спиноза прав: и divitiae, honores et libidines, Боже, какими жалкими и ничтожными являются они здесь на земле! Если лаконические рассуждения Спинозы вас не удовлетворяют, перечтите Шопенгауэра: он вам обо всем расскажет со свойственной ему яркостью красок и живописью воображения. И прибавит, что в маленьком трактате Спинозы все это implicite уже заключено.
130
VII.
Но, спросят, при чем же тут ангел и огненный меч? Есть и то, и другое, только не вне, а внутри человека, как и то яблоко, которое проглотил наш праотец. Они в нашем стремлении intelligere, в искусстве созидать общие понятия. Стоит только человеку, как это сделал, по завету своих предшественников, Спиноза, заговорить на языке общих понятий, и рай мгновенно превращается в ад. Там, где были, прекрасные сады, где пели птицы, играли вчера сотворенные и вечно юные львы; где радовались, любили, где была жизнь, свободная и торжествующая, — там появились divitae, honores, libidines — понятия, которые, будете ли передавать на русском или на латинском языке, обозначают одно: смерть, смерть и смерть. И философия Спинозы с ее гордой вершиной amor Dei intellectualis — тоже смерть: внутри человека стоит ангел с огненным мечом и не пускает в рай.
Древнее проклятие с нас не снято. Мы сами оказываемся и преступниками, и своими добровольными палачами. Res nullo alio modo vel ordine a Deo produci potuerunt quam productae sunt (Eth. I. pr. ХХХIII), или, по Гегелю, «vernünftiges Unglück»! Как мог человек дойти до того, что последнее удовлетворение он стал находить в сознании, что «несчастье разумно» и что Бог не мог создать вещи иными, чем он их создал? А ведь на этом нам предлагают остановиться, в этом видят высшую мудрость, самое ценное, что бывает в жизни. Даже сладкопевец Гораций убеждает нас, что завиднейший на земле удел — это удел мудреца:
Sapiens uno minor est Jove, dives
Liber, honoratus, pulcher, rex denique regum.
Кто так говорит? Древний змей, воплотившийся в поэта и вновь соблазняющий людей красотой плодов от дерева познания добра и зла? Если бы один Гораций! Его можно было бы и не слушать: πολλὰ ψεύδονται οἱ ἀοίδιοι (много лгут певцы). Но Гораций только повторяет то, что постоян-
131
но твердят философы — философы, которым отлично известно, что в этих уверениях нет ни слова правды. Мудрец вовсе не прекрасен, и не свободен, и не царь царей. Он связан, он безобразен, он — последний из рабов и уступает не только Юпитеру, но самому ничтожному из смертных.
Конечно, «экзотерическая» философия обязана молчать об этом. Я думаю, что даже и посвященные между собою об этом не разговаривают. Только у святых вы встречаете такого рода признания — но святые об этом умели так говорить, что им никто никогда не верил. И вообще, это одна из тех великих тайн жизни, которые остаются тайнами даже и в том случае, если их выкрикивают на всех площадях. Философам, как и святым, нужна sancta superbia. И Спиноза в последнем счете только и жил, что «святой гордостью», о которой в своих сочинениях ничего не рассказал, ибо ее невозможно трактовать, как трактуешь перпендикуляры и треугольники. Ее нужно воспевать, как пищу богов, как нектар и амброзию. Этика Спинозы в целом и есть торжественная, хотя далеко не торжествующая песнь во славу sancta superbia.
Говорят, что интуиция есть единственный способ постижения последней истины. Интуиция происходит от слова intueri — смотреть. Люди очень доверяют своему зрению и имеют для этого, конечно, достаточно оснований. Но нужно уметь не только видеть, нужно уметь и слышать. Философам следовало бы подобрать производное от audire существительное и дать ему все права интуиции. Даже больше прав. Ибо главное, самое нужное увидеть нельзя: можно только услышать. Тайны бытия бесшумно нашептываются лишь тому, кто умеет, когда нужно, весь обращаться в слух. В такие минуты открывается, что не все в жизни «разумно» и менее всего разумно «несчастье», что Бог — не общее понятие и не то, что не действует «по законам» своей природы, а сам есть источник и всяких законов и всяких природ; что вещи созданы Богом, как они созданы, а могли бы быть созданы и иначе; что философ, принужденный познавать мир при посредстве общих понятий, есть не rex regum, a servus servorum, самый
132
последний из всех людей, какими были и прославленные святые — Тереза или ее ученик Джиованни делла Крочи и др. Но увидеть всего этого — нельзя: можно только услышать...
В новейшее время Гуссерль определил философию как ῥιώματα πάντων — учение о корнях всего. Это определение, в котором нельзя не заметить реминисценции Эмпедоклова:
τέσαρα γὰρ πάντων ριζώατα πρῶτον ἀκοῦε *)
необычайно соблазнительно и в своем роде правильно изображает задачи, которые философия в лице виднейших своих представителей всегда себе ставила. Однако исчерпывающим его назвать нельзя. Конечно, человек стремится постичь корни и источники всего существующего. Но и Плотин прав, когда на вопрос, что такое философия, он отвечает: τὸ τιμιώτατον — самое важное, самое значительное. Человек ищет корней всего не потому, что его толкает к этому неудовлетворенное любопытство. Он ждет — правильно или неправильно, что там, где корни и начала, — там и самое важное, самое значительное, самое для него нужное.
Если бы случилось, скажем, что обыкновенный материализм заключал в себе «последнюю истину», то философия, конечно, уже не заслуживала бы названия науки наук. Раз все из праха возникло и в прах обратится — стоит ли интересоваться корнями и началами? Так что, отыскивая ῥιζώματα πάντων философов, стремится к τὸ τιμιώτατον, т. е. ищет источников живой и мертвой воды.
Даже давший обет отречения монах Спиноза учит (Eth. I. Pr II): posse non txistere impotentia est et contra posse existere potentia est... Ergo, Ens absolute infinitum, hoc est Deus, necessario existit. Ведь вот и монах, а гонится за potentia! А ведь potentia — это те же divitiae, honores и, если угодно, libidines, только до некоторой степени освобожденные от тех условностей и случайностей, которые «усвоены» себе всякого рода земным бытием.
*) Прежде всего выслушаю о четырех корнях всех (вещей).
133
Знатный и богатый человек есть человек властный прежде всего, а потому —свободный и гордый. Сам же Спиноза богатство и знатность отводил только потому, что человек не в силах удержать за собою добытые или доставшиеся ему по наследству divitiae и honores. Когда же он их назвал словом potentia, ему показалось, что дело в корне изменилось, ибо potentia, по крайней мере, та potentia, о которой он мечтал, была определена им в терминах или предикатах, не допускающих и мысли об уничтожении. Но здесь, конечно, вся аргументация ошибочна. Начать с того, что posse non existere можно считать и силой, и слабостью. Может быть, высшему существу должен быть в равной степени предоставлен выбор между существованием и не существованием. А затем, если и согласиться со Спинозой, что posse non existere — impotentia est, кто может обязать нас отдавать предпочтение силе пред слабостью? Или, вернее, разве стремление к силе не есть libido — одна из тех страстей, от которых Спиноза дал обет отречься? Разве в геометрии есть место potentia? И, главное, стремлению к potentia! Математически рассуждая, potentia есть некая кривая, т. е. геометрическое место точек, имеющих одно определенное свойство; impotentia — другая кривая, т. е. опять же геометрическое место точек, имеющих определенное свойство. Первая, скажем, есть круг, вторая — эллипс. Совершенно очевидно, что и нет никакого основания отдавать предпочтение кругу пред эллипсом. Бог может иметь своим предикатом и posse existere, и posse non existere, если его судьба решается more geometrica. Я хочу сказать, что «доказательство» здесь заключает в себе petitio principii и не может не заключать его. Ясно, что, прежде чем приступать к доказательствам, Спиноза в каком-то процессе, в его сочинениях не выявленном (и не выявленном, вероятно, умышленно), решил вопрос не только о бытии Бога, но и обо всех его предикатах, и лишь когда ему пришлось высказаться пред людьми, он вспомнил о геометрии. Вспомнил, ибо боялся, что без доказательств его мысли будут встречены недоверием и насмешкой. А ведь его философия была для него τὸ τιμιώτατον,
135
— самым важным! И нужно было ее оберечь во что бы то ни стало всеми способами, какие только были в его распоряжении. Если бы Спиноза был царем или папой, он обратился бы к кострам и пыткам. Но он был бедным, слабым, никому не известным человеком. В его распоряжении был только его разум. И он написал ethica more geometrico demonstrata. Оказалось, что таким способом можно тоже очень многое охранить. Даже на долгое время и лучше, чем кострами и пытками. Но все-таки — не навсегда. Если у философии Спинозы не найдется другого способа защиты, то и его Бог, как и тот Бог, которого охраняли инквизиторы, не будет в силах противиться времени... И еще, по-видимому, очевиднее, что вопрос должен быть поставлен иначе — так, как его ставили люди, еще свободные от нашей самоуверенности и предвзятости: не человек «защищает» Бога, а Бог защищает человека; или, иначе говоря, Бога нужно не защищать, а искать и, стало быть, в философии, если она хочет осуществить завет Плотина и стать τὸ τιμιώτατον (самым важным делом), разум должен отказаться от притязаний на суверенитет. Ему не дано «все черпать из себя», не он был в начале. Истоки и корни жизни лежат за пределами разума.
VIII.
Но с этой мыслью нам труднее всего примириться. И наилучшим доказательством тому может служить философия Шопенгауэра. Ницше где-то говорит, что мораль всегда была Цирцеей для философов. Правда. Но тоже правда, пожалуй, даже в большей мере, — что и разум умел околдовывать философов. Как известно, Шопенгауэр был не только теоретически, но и по всему своему духовному складу наименее всего склонен к рационализму. У него разум — паразит, почти как у Лютера, блудница. И никто в философии не умел так тонко подметить и остроумно изобразить слабые стороны разума, как Шопенгауэр. Он принимает —
135
один из всех учеников и последователей Канта — целиком трансцендентальную эстетику и логику учителя. Разум не дает и не может нам дать настоящего знания. Его функция — создать иллюзорный мир, мир Майи, при помощи форм чувственности — пространства и времени — и категорий; главным образом, по Шопенгауэру, — категории причинности. Поэтому все, что мы знаем, мы знаем не о действительности, постигнуть которую разуму по самой его сущности не дано, а о «явлениях», не открывающих, а скорей прикрывающих истинную реальность. Казалось бы, при таком положении вещей, после того, как Канту удалось догадаться, что разум наш есть источник не истины, а заблуждений и обмана, вся задача философии должна была бы свестись к освобождению людей от навязанных им паразитом и обманщиком разумом мнимых истин. Сущность мира — воля, и ее голос, ее решения должны были бы быть для нас единственным источником настоящего познания. Но сила и власть Цирцеи-разума таковы, что ей покоряются даже самые смелые и проницательные люди, и до сих пор не нашлось еще хитроумного Одиссея, которому удалось бы добыть волшебный цветок и разрушить чары волшебницы. Все философы прославляли и воспевали разум — не избег этой участи и Шопенгауэр. С ним произошло то же, что и с библейским Валаамом: он хотел проклинать разум, но на самом деле благословлял его. Его философия — один непрерывный спор между разумом и волей; спор, в котором окончательным победителем почти всегда является разум. Как только «воля», т. е. действительная, метафизическая сущность бытия, пытается возвысить свой голос, разум начинает бряцать аргументами, и голос воли заглушается. Воля в человеке хочет жизни и радости. Разум «доказывает», что радости преходящи, а жизнь — ничтожна. Воля рвется к любви, разум произносит длинную, остроумнейшую и блестящую речь на тему о метафизике половой любви, в которой выясняется, что любовь — только обман и иллюзия. Воля в человеке хочет вечной жизни, разум доказывает, как дважды два четыре, ссылаясь на
136
Аристотеля (разум без Аристотеля никогда обойтись не может), что все, что возникает, обязательно должно исчезнуть, а стало быть, и человек, в свое время родившийся, непременно должен умереть; что наша боязнь и наше отвращение к смерти есть только пустой предрассудок, ровно ни на чем не основанный и рассеивающийся, как свет лампады пред восходом зари, пред бессмертным солнцем ума. Но ведь разум ничего не знает и знать не может; по учению самого же Шопенгауэра, разум — раб и прислужник, вся задача которого только в том, чтоб исполнять веления воли. По какому праву разрешает он себе столь высокомерный тон в споре со своей повелительницей? Его дело — безропотно повиноваться, а он, как взбунтовавшийся раб, вздумал повелевать и господствовать. Шопенгауэр и сам подмечает, что у него разум изменил своему назначению, «эмансипировался», стал работать для себя и на свою потребу. Замечает — но нисколько не смущается, даже радуется. Радуется, что колдун, которого ему удалось было заковать в цепи, вновь вырвался на свободу и вновь стал творить свои беззакония! Почему радуется? По-видимому, потому, что иначе философия оказалась бы невозможной — по крайней мере, философия как «строгая наука». Но ведь философия хочет быть не только строгою наукой, она хочет «самого важного», хочет найти ῥιζώματα πάντων, добраться до корней жизни! И вот дилемма: будешь слушаться разума — получишь строгую науку, но уйдешь за тридевять земель от ῥιζώματα πάντων. Хочешь ῥιζώματα πάντων, т. е. признаешь, что самое важное (τὸ τιμιώτατον) находится там, где скрыты эти глубокие корни, — нужно отказаться от разума и от надежды, что когда бы то ни было у тебя будет полная уверенность, что то, что ты считаешь корнями, есть и на самом деле корни. Ибо разум тем и пленял всегда человека, что давал ему уверенность, certitudinem, о которой так вдохновенно говорит даже сдержанный и скупой на слова Спиноза. Разум — родной брат морали и всегда умел действовать неразумными средствами, тем, что в логике называется argumenta ad hominem. Правда, разум в этом
137
никогда не признается и даже обижается, когда его подозревают в такой нелояльности. Он претендует на абсолютное бесстрастие, на высшую объективность. Но все-таки, я полагаю, что, если бы вместо своей «эпифилософии» Шопенгауэр написал специальную главу на тему «метафизика объективного разума» по программе своей статьи «метафизика половой любви», то его философия много бы от этого выиграла. Ибо, если правда, что воля является метафизической основой жизни, то вряд ли верно, что разум «вырвался» на свободу и эмансипировался от своей служебной роли. Вернее всего, что в числе прочих иллюзий, которые по заданию и указке воли создавал разум, и его мечта о свободе — тоже чистейшая иллюзия, и иллюзия притом созданная для нужд и потребностей воли. Воле нужно было, чтоб разум вообразил себя автономным и законным. Поэтому она внушила одним людям мысль, что ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, а Шопенгауэру — что, хотя логос и не было в начале, но все-таки ему дано было освободиться от метафизического начала жизни. Шопенгауэр, так удачно высмеивавший человеческие иллюзии, сам попал на удочку собственного глубокомыслия и, в конце концов, поверил в основной обман жизни, разделив, впрочем, в этом судьбу всех людей. Во всем этом противоречий и запутанности — хоть отбавляй; но я не думаю, чтоб задача философии сводилась к тому, чтоб во что бы то ни стало если не распутать, то хоть разрубить все гордиевы узлы жизни. Если жизнь полна путаницы, то философия не может, да и не хочет стремиться во чтобы то ни стало к «ясности и отчетливости». Если в жизни есть противоречия, философия должна жить ими. Я полагаю, что обилие запутанностей и противоречий должно поставить в заслугу Шопенгауэру. Конечно, он прельстился «разумом», но нужно ему отдать справедливость: у него «воля» иной раз говорит так громко и властно, что соображения разума как бы совсем перестают существовать. Недаром он столько говорил о метафизическом значении музыки. В его философии много музыки, которая не знала «слова» ни в «начале», ни в конце. Конечно — сущность
138
каждой философии — даже Аристотеля — вся в «музыке». Иначе говоря, философ не только видит, но и слышит, и источником философии является не только «духовное» зрение, но и «духовный» слух, а может быть — кто знает? — и духовное осязание (как у Плотина), и даже обоняние, вкус... Нельзя даже быть уверенным, что нет каких-нибудь «чувственных способностей», еще не открытых психологией, которые окажутся или всегда были родниками высших философских откровений. Во всяком случае ясно, что Шопенгауэру никак не следовало бы забывать в угоду разуму о воле. Пусть бы выяснилось, что воля, т. е. последнее метафизическое «начало», не может дать научного знания. Из этого можно только заключить, что научное познание не есть высший, наиболее совершенный вид знания, стало быть не может привести нас к ῥιζώματα πάντων, к корням вещей. И что есть какое-то знание, «логическая конструкция», которая совсем не похожа на логическую конструкцию знания научного. Философ не только не вправе брезгать им, но его прямая обязанность, или, лучше сказать, его царственная привилегия —только этого знания и искать. Шопенгауэр же, околдованный своей Цирцеей, пишет (W. a. W и V. II. 720 Rec.): «Die Philosophie hat ihren Wert und ihre Wuerde darin, dass sie alle nicht zu begruendenden Annahmen verschmaeht und in ihre Data nur das aufnimmt, was sich in der anschaunlich gegebenen Aussenwelt, in der unsern Intellekt konstruirenden Formen zur Auffassung derselben und in dem Allen gemeinsumen Bewustsein des eigenen selbst sicher nachweisen laesst».
В этих словах — все общие места и все предрассудки традиционной философии. Так может говорить только разум, вообразивший, что он уже окончательно и навсегда освободился от своего служебного назначения и сам стал господином над собой. Совсем, как в сказке о рыбаке и золотой рыбке. Разуму захотелось, чтоб сама жизнь была у него на посылках! Он пренебрегает всеми недоказуемыми положениями, он признает только общее всем сознание, ценит только уверенное знание. «Даров» он не принимает: берет только ему принадлежащее — все «черпает
139
из себя». Конечно, все это — условная ложь, и лучшим обличением этой лжи являются собственные сочинения Шопенгауэра, в которых на каждом шагу мы встречаем утверждения, ровно ни на чем не основанные и не имеющие права претендовать на какую бы то ни было доказательность. И, если бы из его книг вытравить те места, которые не отвечают предъявленным им к философии требованиям, то у нас осталось бы только несколько десятков страниц общих рассуждений, не имеющих к философии никакого отношения, — т. е. осталось бы разбитое корыто: все, что остается у философов, добросовестно подчиняющихся традиции «научности».
Но Шопенгауэр не таков: он, не стесняясь, и превозносит, и хулит разум. Когда ему нужно, он вспоминает о «примате» воли и смеется над теми, кто верит в чистый разум. Переверните страницу после приведенного мною выше места, и вы увидите Шопенгауэра в обществе людей, при которых о разуме и вспоминать неловко, тем более — о строгой науке. Он беседует с Ангелусом Силезиусом, восторгается Мейстером Экхардтом и theologia deutsch, восхваляет знаменитого квиетиста Молиноса и, точно бы не он только что говорил о строгой научности философии, спокойно заявляет: «Jede Philosophie, welche consequenterweise jene ganze Denkunksart verwerten muss... nothwendig falsch sein muss» (Н. 724). И, как бы затем, чтоб каждый мог наглядно убедиться, что ему гораздо ближе парадоксы, чем «обоснованные» истины, он еще через несколько страниц приводит нижеследующие слова бл. Августина: «novi quosdam, qui murmurent: quid si inquiunt, omnes velint ab omni concubitu abstinere, unde subsistet genus humanum? Utinam omnes hoc vellent! Dumtaxat in caritate de corde puro, ex conscientia bona, ex fide non ficta: multo citius Dei civitas compleretur, ut accelleraretur terminus mundi». Подите разберите — что это такое: «обоснованные» ли разумом положения, которым одним только место в философии, или своевольные утверждения, исходящие из таинственного источника: sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas.
Я не хочу делать новых выписок, хотя бы и необычайно
140
интересных, из той же главы или других сочинений Шопенгауэра, чтоб еще нагляднее подтвердить равнодушие его к им же самим выставленному общему положению. И без того достаточно ясно, что источником его философских устремлений менее всего является «чистый разум» или «общее для всех» сознание. Он видит, слышит, осязает и т.д. и доверяет своим непосредственным впечатлениям в гораздо большей степени, чем «доказательствам».
Шопенгауэр мог стать тем, чем он стал, только потому, что он не боялся, когда нужно было пренебрегать всякого рода ratio и давать полную свободу своей voluntas. Своей — а не voluntas «вообще». Т. е. той «собственной» творческой, живой voluntas, которая вопреки «вечным» законам вырвалась из лона общего, всегда себе равного, чтоб начать, может быть, временную и изменчивую, но самостоятельную жизнь. И если все-таки разум de jure является у Шопенгауэра последним судьей над живыми и мертвыми, то это, по-видимому, указывает только на то, насколько крепки и неистребимы человеческие предрассудки, или, если хотите, как неизменны решения Всевышнего.
Ведь «разум» и есть тот огненный меч, которым отгоняет поставленный Богом ангел людей от врат Эдема. И — поразительное дело! — Шопенгауэр Ветхого Завета не любит. Но в сказании о грехопадении усматривает глубокий смысл и великую тайну. И все же не умеет или не хочет догадаться, что первородный, теперь по наследству передающийся грех нашего праотца тем и ужасен, что человек, вкусивший от древа познания, теперь уже не может мыслить иначе, как при посредстве общих понятий, и всегда ищет «доказательств». Чтоб услышать Молиноса, Шопенгауэр должен проверить его Ангелусом Силезиусом или Мейстером Экгардтом. И только убедившись, что «все» говорят одно и то же, Шопенгауэр соглашается поверить им и приглашает и других им верить. Т. е. признает заранее верховным судьей над истиной и ложью «общее всем сознание». Но, если бы и на самом деле показания всех допрашиваемых им людей и сходились и было бы доказано, что
141
они, как полагает Шопенгауэр, ни прямо, ни косвенно не могли влиять друг на друга, это вовсе не служило бы порукой истинности их учений. Они все могли бы быть жертвами одного обмана и одной иллюзии. Ведь люди и западного, и восточного полушария, которые были разделены меж собой океанами, равно были убеждены, что небо — твердь, земля — неподвижна и т.д. И все были обмануты.
Так что и Молинос, и Ангелус Силезиус, и мадам Гюйол, и др. могли тоже одинаково обмануться, и метод «разума», на который так рассчитывает Шопенгауэр, дает только видимость несомненности. И философия, надеющаяся при посредстве общих понятий найти истину, живет иллюзиями. То, что было с Молиносом, что он видел и слышал, было только для него и за пределами всего «общего». С Ангелусом Силезиусом уже было другое, а со св. Терезой — третье. Проверять же Силезиуса Экхардтом и наоборот — значит, отказываться от опыта того и другого. А еще хуже, по опыту двух, трех или даже какого хотите большого числа людей приходить к заключению о том, что вообще бывает и может быть.
Таким способом логический «глаз» создает иллюзию твердых, прозрачных понятий, подобно тому как и физический глаз создал иллюзии твердого хрустального купола над нами. Общее и необходимое есть не бытие par excellence. Только постигши это, философия искупит грех Адама и придет к ῥιζώματα πάντων, к корням жизни, к тому τιμιώτατον, тому важнейшему, о котором столько тысячелетий грезят люди.
Л. Шестов.
142
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
