13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Хоружий Сергей
Хоружий С. Алексей Хомяков: учение о соборности и Церкви
Файл в формате pdf взят на сайте http://www.btrudy.ru/archive/archive.html
Правообладателем разрешена публикация только на нашем сайте.
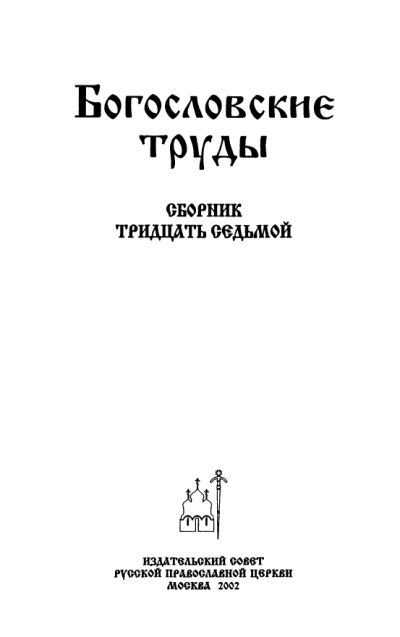
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
С. С. ХОРУЖИЙ
АЛЕКСЕЙ ХОМЯКОВ:
УЧЕНИЕ О СОБОРНОСТИ И ЦЕРКВИ1
1
Мысль философа должна выражать его жизненный мир, Lebenswelt2. Будь это условие единственным, что требуется от философии, — русские философы всегда были бы в ней в числе виднейших фигур, а A.C. Хомяков был бы меж ними из самых первых. Мы не раз уже отмечали прямое и тесное соответствие, цельное единство его мысли и его жизни. Однако одно это единство еще не обеспечивает, увы, зрелой философии. Больше того, кружково-салонная среда скорей мешала углублению мысли, уводя от строгих задач создания понятий и метода. Мысль Хомякова на славянофильском этапе — лишь «кружковая философия», где выдвигаются свежие, порой плодотворные идеи, однако их совокупность складывается разве что в идеологию, но отнюдь не в полноценное философское или богословское учение. Религиозно-богословский дискурс здесь, по сути, отсутствует, философский же пребывает на обрывочном и довольно дилетантском уровне.
Затем наступает, однако, новый, зрелый этап; и в его стимулах, истоках мы снова видим единство мысли и жизни. Для Хомякова высшие ценности, движущие начала существования — не в отвлеченном мышлении, а в «жизни», в живом «великом организме», которому принадлежит человек и которым для него самого была православная Русь. Поэтому его мысль побуждается к развитию не проблемами теории, а жизненными запросами, которые, по пресловутой воинственности его духа, виделись ему большей частью в полемической плоскости — в защите прав, отстаивании смысла и ценности «великого организма». И в ходе событий на первый план в этих полемических задачах все больше выходят религиозные и богословские вопросы, а обсуждение их приобретает глубину, весьма превосходящую уровень дилетантского и кружково-салонного дискурса. Центральную роль в этом переходе сыграл один биографический эпизод — переписка Хомякова с диаконом англиканской церкви Уильямом Пальмером (1811 — 1879).
Принадлежавший к известному «оксфордскому движению»3, стремившемуся внедрить в основания англиканства экклезиологию и Предание единой Церкви до разделения, Пальмер в вопросах догматики и богослужения был полным сторонником Православия. Особую симпатию его вызывали Русская Церковь и Россия, где он побывал в 1840—1843 гг., и с 1840 г. он начинает многолетние попытки перехода в Православие. По разным причинам, отчасти принципиальным, отчасти формально-бюрократическим, попытки остались безуспешны, и в 1855 г. Пальмер перешел в католичество. В 1844 г. Хомяков обращается к Пальмеру с письмом, где говорит о современном состоянии проблемы соединения церквей (поводом для письма было изъявление благодарности за сделанный Пальмером перевод стихотворения Хомякова). Завязавшаяся богословская переписка (на английском языке) продолжалась
____________
1 Публикуемый текст — вторая (богословская) глава неопубликованной работы автора о А. С. Хомякове. Необходимые места из главы I, на которые опирается текст, приводятся в сносках. — Ред.
2 Одно из понятий в феноменологии Э. Гуссерля. — Ред.
3 Об оксфордском движении см.: Соловьева Т. Оксфордское движение: борьба за церковное возрождение в Англии // Альфа и Омега. № 3(25). 2000. С. 334—353. — Ред.
4 См. Birkbeck W. J. Russia and the English Church during the last fifty years. Vol. 1. London, 1895.
153
до 1854 г.; ее опубликованный состав4 включает 12 писем Хомякова и 8 писем Пальмера. В этой переписке для Хомякова «открылся уровень дискуссии, к которому не могли подойти близко ни в западнических, ни в славянофильских салонах»1. Автор этих слов, комментатор последнего издания писем к Пальмеру, проницательно замечает также, что вначале Хомяков не был подготовлен к такому уровню. Переписка оказалась для него стимулом, толкавшим к углублению богословской мысли — прежде всего в темах экклезиологии и межконфессиональных отношений. То была своеобразная лаборатория его религиозной мысли; здесь можно проследить генезис тех идей и тем, которые затем разрабатываются в его богословских произведениях.
Корпус этих произведений отнюдь не велик. В их число входят: «Церковь одна» (1845?), краткий текст, часто называемый «катехизисом Хомякова» и тезисно излагающий учение о Церкви и таинствах; три полемические брошюры (1853, 1855, 1858), обращенные к западному читателю; пространное письмо к М. Бунзену, немецкому переводчику Библии (1860); кроме того, наряду с письмами Пальмеру, сюда примыкает и ряд не столь крупных писем религиозно-богословского содержания. Брошюры и письмо Бунзену написаны по-французски, так что единственный богословский труд Хомякова на родном языке — «Церковь одна», труд небольшой и начальный (по словам Ю. Самарина, «несомненно... первый труд автора по части богословия»), позиции которого поздней уточнялись, углублялись, даже кое-где менялись. Эта «ориентация на заграницу» богословия Хомякова в значительной мере вынуждена. Путь богословского творчества, адресованного русской аудитории, для него был практически закрыт в силу сразу двух факторов: во-первых, писания славянофилов всегда преследовались цензурой и особенно жестоко — в последние годы правления Николая I, именно в пору хомяковского поворота к богословию; во-вторых, в сфере богословия в России царили дух косности и запрета, застылое отсутствие творческой мысли и развития. Хотя имелись яркие исключения — как митрополит Филарет (Дроздов), патролог архиепископ Филарет (Гумилевский) и другие — но для фигуры богослова-мирянина с живым языком, с творческим подходом здесь не было места; и сам Хомяков отзывался о богословской ситуации с едкой горечью: «Стыдно, что богословие как наука так далеко отстала... Макарий провонял схоластикой... Я бы мог назвать его восхитительно-глупым... Стыдно будет, если иностранцы примут такую жалкую дребедень за выражение нашего православного богословия»2. «Церковь одна», вопреки стараниям автора, была опубликована лишь после его кончины, в 1864 г., и также после кончины, в 60-х и 70-х гг. XIX в., в России появляются переводы других богословских работ Хомякова.
Понятно, что описанный корпус текстов не мог содержать полной богословской системы. Сколько-нибудь развернуто, основательно в нем представлены всего два раздела, учение о Церкви и межконфессиональные различия; из всей области догматики присутствуют лишь отдельные темы, что причастны к этим разделам (как, скажем, вопрос об исхождении Святого Духа, значение Писания и Предания и т. п.). И тем не менее не подвергается никакому сомнению, что богословие Хомякова составило новый этап не толь-
____________
1 Лурье В. М. Примечания к письмам Пальмеру // Хомяков А. С. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М., 1994. С. 416.
2 Хомяков А. С. Письмо к А. Н. Попову от 23 окт. 1848 г. // Полное собрание сочинений Т. 8. М, 1900. С. 188—189. Упоминаемый «Макарий» — появившийся в 1847 г. труд «Введение в православное богословие» будущего митрополита Макария (Булгакова, 1816—1882), затем расширенный до многотомного «Догматического богословия» (тт. 1—5, 1849—1853) и в таком виде служивший базовым курсом догматики в русских богословских школах в течение многих поколений. Сейчас, в постсоветской России, этот курс, «устарелый уже при самом своем появлении в свет» (отзыв отца Георгия Флоровского), переиздан вновь со следующей оценкой ученого-публикатора: «классическое и эпохальное сочинение, прославившее русскую богословскую науку» (Д-р церковной истории А. И. Сидоров. Предисловие // Митрополит Московский и Коломенский Макарий. Православное догматическое богословие. М. 1999). Ни богословие Хомякова, ни его мнение в этом предисловии публикатора не упоминаются.
154
ко для русской, но и для общеправославной богословской мысли, с течением времени все более становясь предметом активного исследования и полем межконфессионального диалога. В новейшем католическом обзоре-исследовании русской мысли прочтем: «Хомяков открыл новую эпоху в истории богословской мысли»1. Столь же несомненно и то, чем именно обеспечивается такая роль: это — экклезиология Хомякова, в основе которой — его знаменитое учение о соборности.
Это учение Хомякова приходит как новое, более зрелое выражение тех же основ его опыта и менталитета, что прежде, на славянофильском этапе, выражалось на языке понятий «жизни», общины, самобытности и т. п. Становление нового этапа, нового языка шло органично, без катаклизмов. Переписка с Пальмером будила богословскую мысль, выводила религиозные темы на первый план; но она вовсе не была единственным фактором. Мысль Киреевского шла в целом по тем же путям, что мысль Хомякова, но она отличалась большей философской углубленностью и раньше, еще в тридцатые годы, прошла религиозный поворот; отчего тесное общение с ней также толкало к новому этапу. В 1852 г., как и в 1839 г., происходит обмен текстами: на появление программной статьи Киреевского Хомяков отвечает большой статьей, где мы видим, как мысль соратника сократически помогает развиться новой ведущей идее — идее иноприродности Церкви в силу присутствия в ней Святого Духа, и государству, и обществу, и всякому мирскому, эмпирическому объединению людей. И, наконец, в том же направлении явственно шла и внутренняя жизнь Хомякова. В поздний период, после кончины друзей и жены (в 1852 г. — смерть жены, смерть Н. В. Гоголя, в 1856 — И. В. и П. В. Киреевских), стихия молитвенная и церковная занимает все большее место в его существовании.
Опытный жизненный исток хомяковской концепции соборности надо подчеркнуть сразу. Религиозность философа с детских лет была активной и церковной верой, в Церкви он был всегда, и всегда это пребывание им воспринималось как опыт со-жития, соучастия вместе с единоверцами — «братьями», по постоянному его слову, — в общей жизни духовного и сакраментального Тела. Явно и очевидно, за этим восприятием жизни Церкви стоит бытийная интуиция, выражавшаяся в понятии «жизни» и соединявшая в себе органицистские и персоналистские, личностные представления2. Но на раннем
____________
1 Spidlik, T., S. J. L'Idee Russe. Une autre vision de l'homme. Ed. Fates. 1994. P. 122.
2 В главе I автор пишет: «Хомяков — сильная, своевольная натура, человек полемической и бойцовской складки в любой теме, проблеме, сфере реальности философ стремится увидеть действие двух противоположных стихий : сначала оппозиция видится им на поверхности вещей, в частных явлениях исторической и социальной жизни, но постепенно она начинает осмысливаться как фундаментальный философский и онтологический фактор. Исходная интуиция Хомякова — полярная противоположность всего естественного, органического, свободно растущего изнутри — и искусственного, механического, регулируемого и регламентируемого извне. Ясна ее связь, ее согласие с устоями его жизни и личности: вся его биография, вся стратегия жизненного поведения выражают тягу к органическому существованию в свободной гармонии с окружающим (что сегодня мы бы назвали экологическим идеалом) Прежде всего, в картине реальности у Хомякова выделяется явственное верховное начало, зиждительная стихия. Она обозначается обычно как "жизнь"; но это — жизнь не в биологическом, а в весьма обобщенном, идеализированном и отчасти туманном смысле: идеальное органическое бытие или сущее, полное в себе, всецело и всюду связное, движимое изнутри; своего рода всеединство, видимое как живой организм , жизнь трактуется им "в высшем значении умственном и духовном", т. е. включает в себя сознание и самосознание, разум, дух Тем самым, понятие или интуиция "жизни" у Хомякова сливает в себе уровни бытия органического и личностного, сближая их почти до неразличимости В отличие от чисто органицистских концепций, он наделяет члены, образующие многоединство Жизни, свободой и характеризует их связь как взаимное общение. Вместе с тем, в отличие от чисто личностных, персоналистских концепций, он не наделяет эти члены автономией и самодостаточностью, твердо настаивая, что каждый из них сам по себе вовсе не несет жизненного начала, "жизненности", но только получает его от Целого, через свою связь с ним. Жизнь как цельность и Целое —
155
этапе в выражении этой интуиции оставалось много несовершенного, недодуманного. Главным воплощением «жизни» были общество и община; но Церковь, согласно ее описанию в «Церковь одна», также явно наделялась чертами «жизни». Вставал принципиальный вопрос о взаимной природе, о различении Церкви и общества, но он в этом тексте не задавался; и подобным же образом оставались слиты, неразличаемы личность и организм.
На новом этапе слитые уровни и понятия начинают наконец разделяться. Именно тут оказывается в помощь Киреевский1. Внимание Хомякова останавливают его слова: «Церковь всегда оставалась вне государства и его мирских отношений... как недосягаемый светлый идеал, к которому они должны стремиться и который не смешивался с их земными пружинами»2. Подхватывая эту мысль, он развивает ее, и так возникает отчетливая идея о том, что предносившийся всегда ему идеальный принцип бытия в своем совершенстве несет сверх-эмпирические черты, имеет сверх-эм-
____________
единственный исток и носитель жизненной силы. Это положение создает превосходство, первенство Целого над своими частями, а отсюда и перевес, преобладание органицизма над персонализмом в воззрениях Хомякова Безжизненность, или "мертвенность", понимаемая как собрание или "скопление" никак не связанных внутренне элементов, как внешне-механически устрояемый и управляемый образ существования, — это и есть понятие, полярное Жизни Как Жизнь наделяется всеми положительными, так Мертвенность — всеми отрицательными свойствами, причем главная часть этих отрицательных свойств есть своего рода испорченная форма, "овнешнение" положительных свойств Жизни: единство, свобода, взаимосвязанность могут делаться из внутренних, органичных — внешними, пустыми, формальными, и тогда это уже характеристики Мертвенности, а не Жизни Диалектическое единство противоположностей не находит себе места ни в отношении Жизни к Мертвенности, ни во внутреннем устроении Жизни как органического единства; оно прямо отвергается Хомяковым: "Нам случалось слышать от невежественной критики... что внутреннее раздвоение есть необходимый момент в развитии каждого лица или каждого народа... Это произвольное положение совершенно ложно... Здравое единство не нуждается в моменте раздвоения, которого действительное разрешение есть смерть (точно так же как двойственность гегелизма не разрешается ни во что кроме буддаистического нигилизма)"». — Ред.
1 В главе I автор пишет: «После периода кружковых бесед, к концу тридцатых годов появляются наконец первые славянофильские тексты — статья Хомякова "О старом и новом" (1839) и откликом на нее "В ответ А. С. Хомякову" Ивана Киреевского По традиции они признаются программными документами славянофильства — и этот взгляд справедлив, хотя никакой систематичной или полной программы тут вовсе нет. Тексты программны в ином смысле: говоря о русской истории и культуре, они не предлагают их научного анализа, но хотят дать оценку их сегодняшнего момента, найти должный вектор их развития, указать их насущную задачу. Чтобы достичь этих целей, они выдвигают определенные тезисы о сути, о движущих началах исторического и культурного процесса в России, набрасывают схемы и парадигмы этого процесса. При этом схемы двух авторов дополняют друг друга: мысль Хомякова движется в диахронии, выстраивая оппозицию Старое — Новое (противоположность древнего и современного общественного уклада), мысль же Киреевского — в синхронии, выстраивая оппозицию Россия — Запад (противоположность российского и западного типов культуры). Точно так же (что замечали уже не раз) дополняли друг друга и сами фигуры лидеров будущего движения. По всей натуре и поведению Хомяков и Киреевский были полной противоположностью: как экстраверт и интроверт, решительный практик и колеблющийся мечтатель, поборник живого опыта и философ спекулятивной складки , у двух соратников различным был и характер их религиозности, духовный тип, причем это различие можно в точности сопоставить с изначальным различием двух направлений православной духовности — общежительного (киновийного) и уединенного (исихастского) монашества. Хомяков ярко, определенно представляет первый, общежительный тип, Киреевский столь же определенно — второй, исихастский. И для развития славянофильского движения — как прежде для развития православной аскезы — подобное апорийное сочетание было плодотворным».— Ред.
2 Киреевский И. В. О характере просвещения Европы и его отношении к просвещению России // Полное собрание сочинений в 2-х тт. / Под ред. М. О. Гершензона. Т. 1. М., 1911. С. 205.
156
пирическую природу — и потому он не может быть относим к обществу, но может и должен быть отнесен к Церкви. Но для такого принципа прежний термин «жизнь» оказывается неадекватным — и на его место встает «соборность». Это тоже жизнь, однако уже — жизнь Церкви, Божественная, благодатная жизнь.
2
По традиции, заложенной самим Хомяковым, изложение учения о соборности всегда начинают с раскрытия этого понятия. Мы не станем изменять этого порядка, однако на первое место поставим один вопрос, часто не получающий должной ясности. Какова связь между «соборным», «соборностью» — и «собором»? Ответ, казалось бы, тривиален и лежит на поверхности: «соборный» есть попросту прилагательное от «собор», т. е. свойственный, присущий собору. Однако, по Хомякову, как мы увидим, церковный собор может и не обладать соборностью (понимаемой как свойство Церкви) — ergo, не быть «соборным»! А в языке Древней Церкви, греческом, третий атрибут Церкви, к которому относится учение Хомякова, («едина, святая, соборная и апостольская Церковь», согласно 9-му члену Символа), есть καθολικός — слово, вообще не имеющее связи с «собором» (σύνοδος). Аналогично два понятия не имеют терминологической связи и в латыни. Вопрос на поверку не тривиален, и с терминами следует разобраться. Итак, понятие, которое Хомяков полагает в основу своего учения, есть третий атрибут Церкви в Символе веры, выражаемый в греческом тексте термином καθολικός, а в русском и церковно-славянском переводах — словом «соборный». Помимо Символа, этот же термин входит в название новозаветных апостольских посланий (кроме Павловых), где также переведен по-русски и церковно-славянски как «соборный». Современная текстология не подтвердила мнения Хомякова, считавшего, что указанный перевод идет от самих Мефодия и Кирилла, первоучителей славян (IX в.). В действительности, в ранний период термин передавали калькой, «кафолический», и такую же передачу часто используют и поныне в богословских текстах, стремящихся к строгой точности; отец Сергий Булгаков замечал однажды, что «русский перевод кафолический как соборный неточен»1. В своей истории термин восходит к Аристотелю, у которого субстантивированное выражение το καθ'ολον (где καθ'ολον значит буквально «согласно, сообразно целому, всему») означает то общее, что существует в частных, единичных явлениях, το καθ' εκαστον; или, точней, два этих выражения обозначают два способа существования — соответственно «по образу всеобщего» и «по образу единичного», причем первое присутствует во втором как его основа и истина. В дальнейшем, καθολικός, как и το καθόλον, τα καθόλου и т. п., означали «общее, всеобщее, всеобъемлющее, универсальное...». Переход термина в христианский дискурс, как всегда, должен был нести переосмысление понятия, а с ним и трансформацию семантики термина. Однако на Западе семантико-смысловые перемены были очень невелики, сводясь в основном к точной регламентации значения. Здесь καθολικός трактуется как «повсеместный, всемирный, всеохватный...», и эта трактовка закреплена в так называемом «Каноне святого Викентия Лиринского» (V в.), устанавливающем троякий критерий кафоличности Церкви: quod ubique, quod semper, quod ab omnibus creditum est (во что веруют всюду, всегда и все). На Востоке же кафоличность понимали всегда иначе. Уже в древнейшем появлении этого атрибута Церкви, у священномученика Игнатия Богоносца (II в.): «где Христос, там и кафолическая Церковь»2, — термин явно имеет смысл не внешней распространенности, а некой внутренней подлинности, истинности; но этот иной смысл оставался подспуден, не раскрыт. Богословие Хомякова было едва ли не
____________
1 Протоиерей Сергий Булгаков. Очерки учения о Церкви // Путь. Париж, 1925. №1. С. 57 (репринт: Путь. Орган русской религиозной мысли. Кн. I (I—VI). M., 1992. — Ред.).
2 Св. Игнатий Антиохийский. Послание к Смирнянам, VIII, 2 // Раннехристианские церковные писатели. М., 1990. С. 102.
157
первым опытом такого раскрытия, и оно сильно опиралось на специфическую черту русского дискурса: тесное сближение кафоличности (третьего атрибута Церкви) и собора Церкви.
Сближение оказалось удачным обстоятельством. Воспользовавшись им, Хомяков сумел проделать, по сути, классическую работу патристики: руководясь живым христианским опытом, достичь творческого переосмысления старых понятий, раскрыть их по-новому, как выражение христианской истины; и этот традиционный характер сделанного им, бесспорно, очень содействовал принятию его труда церковным сознанием. «Неточный перевод», создавший связку «кафоличность — собор», был интуитивно верным: оба понятия были связаны с аспектом множественности в Церкви и церковной жизни, и оба, как улавливал христианский опыт, не сводились к одной лишь эмпирической множественности, но несли в себе нечто от сверх-эмпирической и христоцентрической природы Церкви, от присутствия в ней Святого Духа. Сближение понятий помогает передать это «нечто» в каждом из них — с помощью другого. «Собор», вбираясь в саму дефиницию Церкви, не может пониматься как простое «собрание представителей» или «совещание руководителей», но должен давать выражение и проявление самой природы Церкви — как не только земного общества, но и мистического Тела Христова. И точно так же обратно, «кафоличность» Церкви, будучи переведена как «соборность», не может трактоваться лишь внешне, через число верных и протяженность в пространстве-времени, но должна отсылать к неким внутренним качествам церковного бытия, что проявляются на соборе.
Но здесь требуется важное уточнение. В отличие от «соборности», сам «собор» — не общее понятие или качество, но реальное событие, созываемое и организуемое собрание. И, как твердо принято считать в Православии, нет и не может быть формальных правил или внешних условий, «наружных отличий» (Хомяков), которые гарантировали бы, что то или иное собрание есть истинное проявление жизни мистического Тела, т. е. запечатлено присутствием Святого Духа и приобщено к Христу — Истине, обладая тем самым харизмой истинности, непогрешимости своих решений и суждений. Известные примеры — в частности «Разбойничий» Эфесский собор 449 г. — подтверждают это отсутствие гарантий и, как мы упоминали, Хомяков вовсе не утверждает, что всякий собор как таковой — носитель соборности. Оба понятия в свои определяющие признаки, свою суть включают нечто «невидимое», не обеспечиваемое никакими внешними условиями. Об этих «невидимых», благодатных сторонах соборности мы еще будем говорить, а пока лишь заметим, что у собора «невидимая» сторона состоит, по Хомякову, в необходимости общецерковной рецепции, «признания за голос Церкви всем церковным народом» — в согласии со знаменитым положением из «Послания Восточных Патриархов» (1848): «Хранитель благочестия у нас есть самое тело Церкви, т. е. весь церковный народ»1. — Итак, «соборным», выражающим соборность церкви, является не любой, но истинный, признанный всеправославно собор; и эти соборы получают название «вселенских» (которое, таким образом, отнюдь не дается при созыве, а присваивается в итоге рецепции — возможно, и через долгое время!). В итоге соборность — атрибут истинного, или вселенского собора, и «Соборная Церковь» есть то же, что «Церковь Вселенских Соборов», имеющая последние своею формой самосвидетельства и суждения. Так в русле хомяковских идей раскрывается богословский смысл часто употребляемой формулы: Православная Церковь — Церковь Семи Соборов.
____________
1 Окружное Послание единой, святой, соборной и апостольской Церкви ко всем православным христианам // Иванцов-Платонов А. М. О римском католицизме и его отношении к Православию. М., 1869. С. 279 / (Догматические послания православных иерархов XVII—XIX веков о Православной вере. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1995. С. 233. - Ред.).
158
3
После этого разъяснения терминов представим наконец описание, конституцию понятия соборности. Это — ядро учения, и у Хомякова оно дано довольно систематично (редкий для него случай). Как мы говорили, соборность сменяет собою «жизнь» в качестве верховного принципа хомяковского учения; и конституция ее повторяет основные черты конституции «жизни». Те же две главные особенности встречают нас: во-первых, мысли Хомякова остается присущ истинный культ единства, и, подобно «жизни», соборность также рисуется им как некоторый род единства, «единство соборное»; во-вторых, эта мысль сохраняет свой полемический, бойцовский характер, и соборное единство очерчивается, в известной мере, путем резкого противопоставления, критики единства иного рода. При этом, как всегда, в качестве оппонента служит Запад — из многих его обличий, на сей раз в религиозных чертах. Развитие учения о соборности осуществляется, на львиную долю, в форме полемики с инославием.
Итак, построение понятия начинается с привычной для Хомякова схемы, на сей раз выраженной в религиозных терминах, применительно к типам христианской религиозности. Философ выделяет «троякого рода единства, решительно противоположные по своим началам»1. Эта интуиция трех видов единства, из коих один есть совершенное, истинное единение, а два других — его взаимно противоположные редукции умаления, — исконна для Хомякова. Определяющий признак каждого вида — тип связи между элементами единства: в ущербных видах связь либо совсем отсутствует, номинальна, либо, напротив, жестко, недвижно сковывает элементы; истинный же вид сочетает взаимосвязанность элементов и их свободное, самостоятельное существование. На ранних этапах образами истинного единства служили жизнь, организм, община, народ; ущербного — груда песчинок, общество, сложившееся в итоге войн и миграций (бессвязность) или стена из кирпичей, отряд рабов, солдат и т. п. (тотальная связанность). Теперь, на богословском этапе, три вида единства являются как Православие (истинная Церковь, Церковь как таковая, соборное единство...), протестантство и католичество. «Единство у протестантов состоит только в арифметическом итоге известного числа отдельных личностей, имеющих почти тождественные стремления и верования, а у римлян — только в стройности движений подданных полудуховного государства»2. Этот тезис определяет общий характер трактовки инославия у Хомякова и главное направление его критики, пространной, а нередко и весьма резкой.
Чтобы правильно оценить подход Хомякова к инославию, надо увидеть место и функцию данной темы в общей логике его мысли. На новом этапе эта мысль вовсе не покидает своей базовой парадигмы — оппозиции двух принципов устроения сущего и бытия, «Жизни» и «Мертвенности» как положительного и отрицательного полюсов; но оба полюса получают новое воплощение. Положительный полюс раскрывается теперь как Соборность (Соборное Единство) и Церковь, причем последняя, в согласии с каноническою позицией Православия, отождествляется с Православной Церковью: «Церковь называется Православною, или Восточною, или Греко-Российскою»\ Соответственно противный полюс воплощается в «ином православию» — в инославии, сохраняя при этом свой прежний смысл (начала Мертвенности, обратного Жизни) и прежнюю роль (методологического оппонента, через критику которого совершается раскрытие положительного начала). Отсюда понятны рез-
____________
1 Хомяков А. С. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу одного окружного послания Парижского архиепископа (Далее цитируется как НС-2.) // Хомяков А. С. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. М., 1994. С. 88.
2 Там же.
3 Он же. Церковь одна. Цит. изд. С. 23. Хомяков, впрочем, уточняет: «но все сии названия суть только названия временные», поскольку «не связывается Церковь с какою-нибудь местностью» (там же), и он имеет в виду перспективу преодоления разделенности христиан, которая рисуется как «исчезновение ложных учений».
159
кость критики Хомякова и то странное обстоятельство, что в этой критике он всего настойчивей утверждает именно мертвенность, отсутствие жизни в Западном христианстве — хотя на практике активная жизнь последнего и в католичестве, и в протестантстве, явно не уступала православию, а в полномерности, развитости всех сторон, измерений церковной жизни заведомо превосходила его. Философ не может отрицать наглядной реальности, но он толкует ее нужным образом, объявляя наглядное «кажущимся» и находя, что в Восточном христианстве «жизнь действительная при кажущемся омертвении», тогда как в Западном «смерть действительная при кажущейся жизненности»1. И по законам риторики, сомнительность тезиса заставляет утверждать его еще настойчивее и резче2
Далее, в своем содержании тема инославия раздвоена на темы о католичестве и протестантстве; и то, как рассматриваются оба исповедания, также делается понятным из общей логики. Для Хомякова они вместе, в совокупности, воплощают Мертвенность, являя собою два ее взаимно противоположных вида. Такая раздвоенность заложена уже в самой природе этого принципа как антитезы Жизни. Жизнь как органическое единство может разрушаться, утрачиваться двумя противоположными путями: в распаде внутренних органических связей и в их застывании, замене их внешними оковами. Поэтому бинарная оппозиция Жизнь — Мертвенность вполне равносильна описанной схеме «троякого рода единства»; и если прежде раздвоенность негативного полюса оппозиции не играла особой роли, на богословском этапе она оказывается удобно приложима к реальности. Именно так предстают у Хомякова западные исповедания: как два противоположных пути разрушения живого единства и отпадения от Церкви — Жизни; и будучи в одинаковом отношении к положительному полюсу, они выступают как явления одного порядка, имеющие общие определяющие черты. Укажем две основные. Во-первых, разделение Восточной и Западной Церквей, по Хомякову, есть следствие вероучительных изменений, таких как Filioque, односторонне и самочинно, без общецерковного согласия и решения, вводившихся Западом; и точно так же самочинно потом проводили Реформу протестанты. Поэтому католичество, отделенное от Православия, есть также проявление «реформатства» и «протестантства». «Католики — сами протестанты с первой минуты своего отпадения»3, и обычная формула Хомякова есть «протестантство романское и германское» (ср. 2); другим общим их именем служит «раскол». Во-вторых, оба пути отхода от органического единства Жизни суть редукции этого единства, его умаления, меняющие его сверхрациональную природу на упрощенный и обедненный, рационально определимый тип организации. Поэтому «две части западного раскола (католичество и протестантство]... не что иное, как несомненный рационализм... их общее основание есть рационализм»4.
Возвращаясь же к положительному полюсу, соборному единству Церкви, мы замечаем, что противопоставление инославию все же играет в его раскрытии лишь подсобную роль. Главное содержание понятия, его наиболее существенные свойства выясняются не из противопоставлений и отличении, а из свидетельств опыта. Соборность — опытный концепт, и то, что мы называем «учением Хомякова о соборности», есть, главной и важнейшей частью, не построенная теория, а изложенный опыт. Как мы подчеркивали, мысль Хомякова всегда носит не отвлеченно-спекулятивный, а конкретно-опытный характер; однако сам опыт человека меняется, созревая и углуб-
____________
1 Хомяков А. С. НС-2. С. 124.
2 Ср. хотя бы: «В протестантстве... вместо жизни мы находим ничтожество или смерть... В романизме... ничтожество или признаки духовной смерти... Оба протестантства (римское и германское)... напрасно опасаются, как бы их не убило неверие. Чтобы быть убитым, нужно быть существом живым; они же... носят уже смерть в себе самих. Неверию остается только убрать трупы и подмести арену». - Он же. НС-2. С. 122-125.
3 Хомяков А. С. Несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу брошюры г. Лоранси. [Далее как НС-1.] // Хомяков А. С. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. С. 50.
4 Он же. НС-2. С. 124.
160
ляясь. И если прежде для философа стоял в центре опыт родовой и социальный, то на позднем, богословском этапе достигают выражения и получают первенство иные, самые глубинные опытные пласты: личный опыт православной церковности.
Выше, в самом начале, мы уже говорили о религиозности Хомякова, ее общем типе1. Свидетельства на этот счет отнюдь не обширны: хотя религиозный опыт был всегда стержнем его жизни и личности, философ оставлял его сокровенным, не выносимым на поверхность (напомним приводившуюся уже выше характерную черту религиозности Хомякова: «Молился он много и усердно, но старался этого не показывать и даже это скрывать»). Однако немногое известное выразительно. Оно прежде всего говорит о высокой и постоянной напряженности религиозной жизни. Так рассказывает Самарин, который, ночуя по случаю в одной комнате с Хомяковым и под утро проснувшись, стал невольным свидетелем его молитвы: «Он стоял на коленях перед походной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула. Голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания... от человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь»2. Другой подобный рассказ дошел... от разбойников, желавших ограбить его усадьбу. Будучи пойманными поздней, они сообщили, что наметивши ограбление, они не исполнили, однако, своего плана: им помешало, что в одной из комнат усадьбы не гас свет и, как могли они видеть, до утра неусыпно молился барин. Но стоит отметить, что эта горячая молитвенность не принимает специфически мистических или аскетических форм, и философ не вступает на путь духовной практики исихастского типа; в его текстах даже можно найти свидетельства скептического и неодобрительного отношения к ней. Насколько известно, он не включился в завязанную Киреевскими активную, тесную связь с Оптиною пустынью, знаменитым центром исихастской традиции. Это многозначительно, ибо исихазм — школа не совместной, общежительной, а уединенной духовной жизни. У Хомякова же лейтмотивом, определяющей чертой его религиозности служило не столько личное, индивидуальное устремление к Богу и общение с Ним, сколько именно — единение в вере, общая, сверхиндивидуальная жизнь, обретаемая в разделяемой обращенности к Богу; или, говоря коротко, — Церковь. Именно Церковь, а не перипетии собственного индивидуального духовного пути — средо-
____________
1 В главе 1 автор пишет: «Алексей Хомяков родился 1 мая 1804 г. в Москве. Его ранние годы, его молодость вполне следовали классической модели Erziehung-Romane его эпохи: как у Вильгельма Майстера, шли Schuljahre, за ними — Wanderjahre , едва ли не важнее наук были другие плоды Schuljahre: прочные религиозные и нравственные основы, заложенные тогда же и с тех пор неизменные. "Я знал Хомякова 37 лет, и основные его убеждения 1823 г. остались те же и в 1860 г.", — пишет один из его ближайших друзей, славянофил А. И. Кошелев. Здесь жизнь философа уже не следует образцам эпохи: в отличие от романтического канона, мы не найдем в ней никакого резкого кризиса или переворота, "обращения", "сжигания старых богов"... Из первых свойств его личности всегда называют цельность. Стержнем же этой цельности была нерушимая православная вера. Немаловажны и качества этой веры. Это никак не была обычная в образованной среде "просвещенная вера, пренебрегающая условностями и обрядами". Вера Хомякова была всегда, всю жизнь — строгой, молитвенной и церковной. Даже в пору своих Wanderjahre, живя один в Петербурге и Париже, служа в гвардии, сражаясь на войне, он не отступал от церковных обрядов и постов. И в этой особенности — прямая связь с учением, что он разовьет поздней, с его идеей соборности. Христианская вера для Хомякова — отнюдь не индивидуальный акт, но проявление Церкви, акт соборный. Она не может измышлять себе какие-то формы по индивидуальному произволу, ибо жизнь по вере — не что иное, как выражение принадлежности к Церкви. Так говорит Кошелев: "Для Хомякова вера Христова была не доктриною и не каким-либо установлением: для него она была жизнью, всецело обхватывавшею все его существо... Он говорил, что содержит посты потому, что Церковь их установила, что не считает себя вправе становиться выше ее и что дорожит этой связью с народом. В Церковь он ходил очень прилежно... Молился он много и усердно, но старался этого не показывать и даже это скрывать". Еще яркая черта хомяковской религиозности — ревность о вере, постоянная бдительная готовность к ее отстаиванию и защите». — Ред.
2 Самарин Ю. Ф. Записки. Цит. по: Флоровский Г. В. Пути русского богословия. Париж, 1983. С. 272. (Более доступный репринт: Вильнюс, 1991. — Ред.).
161
точие религиозного опыта Хомякова, и его экклезиология соборности — прямое выражение этого опыта. Все исследователи согласно видят в этой особенности ключ к его богословию. «Хомяков жил в Церкви»: к такой формуле приходит Юрий Самарин, подыскивая, как передать жизненный нерв его творчества и личности. «Хомяков подошел к существу Церкви изнутри, а не извне... в его богословии выразился живой опыт Православного Востока»1, — не мог не заметить и Бердяев, хоть сам был далек от этого живого опыта. Но всего глубже и точней сказал о богословском способе Хомякова другой православный экклезиолог, отец Георгий Флоровский: «Хомяков исходит из внутреннего опыта Церкви... Он сознательно не доказывает и не определяет, — он свидетельствует и описывает. В этом и сила его. Как очевидец, он описывает реальность Церкви, как она открывается изнутри, чрез опыт жизни в ней. Богословие Хомякова имеет достоинство и характер свидетельства»2.
Итак, что ж описывает очевидец-участник жизни Церкви? Прежде всего — многие общие черты с той жизнью, что им описывалась раньше, жизнью рода и народа, общины, а также и жизнью как общим принципом. Главная из таких черт — органичность: жизнь — это живой организм. Черта эта утверждается настойчиво, выдвигаясь на первый план: «Церковь в ее истории... живой и неразрушимый организм»3; Церковь — «органическое единство во Иисусе Христе», это — «Церковь, признающая себя единством органическим», и т.д. и т.п. Квалификация Церкви как организма, органического образования, органического единства — важное терминологическое новшество Хомякова, активно подхваченное всей экклезиологией славянофилов4 и в целом принятое и закрепившееся в православном богословии. Нет сомнения, что у него есть прочные корни и основания в Писании, в экклезиологии апостола Павла, утверждающей Церковь как Мистическое Тело Христа и, разумеется, тоже возникающей не как сочиненная теория, а как свидетельство опыта. Но стоит указать и одну разделяющую грань: речь богослова, в отличие от речи апостола, — не откровение, а только артикуляция, подыскание понятий; и понятие организма, в отличие от Мистического Тела, вводит нас в научный дискурс. Здесь термины имеют четкую дефиницию и сферу употребления, и заведомо нельзя сказать, что «организм» может служить подлинной дефиницией Церкви в ее сути и полноте (он неотделим от сети биологических коннотаций, снижающих и редуцирующих, свойства его не охватывают многих ключевых свойств Церкви и т. д.). Это справедливо отмечал, критикуя Хомякова, отец Павел Флоренский5; но в защиту нашего автора надо сказать, что внимательный анализ показывает мудрую осторожность его письма: в отличие от многих последователей (ср. 4), он очень редко называет напрямик Церковь — организмом; по сути, он утверждает лишь, что Церкви присущ ряд важных свойств организма и в неких существенных чертах своего бытия Церковь органична.
Как подобает свидетельству, это утверждение органичности Церкви не декларативно, а предметно-конкретно. Все главные свойства живого организма — свойства его внутренней жизни, невидимые и непонятные для внешнего наблюдателя. Жизнь как таковая неформализуема, сверхрациональна, ее познание требует взгляда изнутри, извне же сущность ее неуловима и непостижима. Именно это свидетельствует Хомяков о Церкви. Она неопределима и непознаваема со стороны, не имеет формальных, заранее известных признаков, по которым ее можно было бы опознать и удостоверить. Ее определяющие свойства невидимы, неразличимы не только для чувственного восприя-
____________
1 Бердяев И. А. А. С. Хомяков. М., 1912. С. 84, 82.
2 Флоровский Г. В. Цит. соч. С. 274, 275 (курсив автора).
3 Хомяков А. С. НС-2. С. 121.
4 Ср., напр., у Самарина: «Церковь есть живой организм, организм истины и любви или, говоря точней: истина и любовь как организм». Самарин Ю. Ф. Предисловие // Хомяков А. С. Полное сочинений. Т. 2. Прага, 1867. С. XXVIII.
5 См., напр.: П. А. Флоренский по воспоминаниям Алексея Лосева // П. А. Флоренский: Pro et Contra. Личность и творчество Павла Флоренского в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб., 1996. С. 195-196.
162
тия, но и для рассудочного, рационального познания. Эти свойства нельзя вывести логически, и больше того, нельзя достоверно заключить даже о простом наличии ее. «Церковь видима только верующему... Знание о ее существовании есть также дар благодати»1. Как явствует отсюда, и видение Церкви, и знание о ней тем не менее возможны и существуют; однако отличие их в том, что они не берутся, а даются: как жизнь видится и познается через «признаки жизни» — знаки, подаваемые ею самой, так видение и знание Церкви даются лишь ее собственным изъявлением, самосвидетельством. Так говорит Хомяков: «Церковь не доказывает себя, а свидетельствуется собою»2. Таково первое из разряда органических свойств.
Далее, как мы видели, органическим признается тип единства, присущий Церкви. Выше мы описали два иных типа, которые Хомяков приписывает протестантству и католичеству и трактует как рационалистические редукции, умаления истинного единства Церкви; само же это сверхрациональное единство он неизменно характеризует как «органическое». Ключевая черта, которою философ определяет этот особый тип единства, — связь его с началом свободы. В рационалистическом понимании, как и в обычных эмпирических проявлениях, эти начала полярны, несовместимы, и в инославии, по Хомякову, это понимание победило: католичество избирает жесткое подчинение внешнему авторитету, или единство без свободы, протестантство — свободу одинокого разума, «личных мнений без общей связи», без единства. В Церкви же — таинственное соединение, синтез этих начал, в котором они оба изменяют свою природу, становясь не только совместимы, но и взаимно необходимы, сближаясь до тождества друг другу. Многократно, без конца варьируя формулы, Хомяков стремится передать этот синтез: «Церковь — свобода в единстве»3, «свободное единство живой веры», «единство... плод и проявление христианской свободы»4, «единство Церкви есть не иное что, как согласие личных свобод»5, «свобода и единство — таковы две силы, которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе»6 и т. д.
Вглядимся, что за концепция свободы возникает из этих формул. Она крайне отлична от привычных категорий свободы воли или свободы выбора в западной философии и теологии, которые заведомо не могут служить созидательными началами единства, будь то церковного или иного. Элемент выбора не входит вообще в ее конституцию; свобода христианина в Церкви — это свобода его самореализации, самоосуществления, которые для верующего, в «состоянии веры», отнюдь не связаны с выбором, а заключаются в Богоустремлении и Богообщении. И хотя Хомяков не указывает (и возможно, даже не знает) этого — его понятие свободы как самоосуществления в Богообщении, соединении с Богом, имеет явные патристические корни, совпадая, по сути, с понятием «свободы (или воли) природной», θέλημα φυσικόν преподобного Максима Исповедника. Это понятие преподобного Максима противоположно обычной эмпирической свободе выбора, или «гномической», θέλημα γνωμικόν: «свобода природная» определяется не теми или иными эмпирическими актами, но отношением к собственной природе, как бытийная стратегия человека, состоящая в реализации определенного бытийного назначения, онтологического телоса, — т. е. именно в «самоосуществлении в Богообщении».
Понятно, что такая свобода, в самом деле, тождественна единству входящих в Церковь; но столь же понятно, что принятие свободою данной формы требует некой фундаментальной предпосылки. Эта предпосылка выражается Хомяковым по-разному, в разных терминах: как обладание верой (см. выше), пребывание в Церкви, «нрав-
____________
1 Хомяков А. С. Церковь одна. С. 12.
2 Там же. С. 9.
3 Он же. НС-2. С. 66.
4 Он же. Еще несколько слов православного христианина о западных вероисповеданиях. По поводу разных сочинений латинских и протестантских о предметах веры [Далее как ЕНС] // Хомяков А. С. Сочинения в 2-х тт. Т. 2. С. 208.
5 Там же. С. 209.
6 Там же. С. 217.
163
ственный закон взаимной любви и молитвы», «Божественная благодать взаимной любви». Но все формулы, по существу, равносильны: они означают, что в Церкви неотъемлемо присутствует особое начало, действием которого свобода человека трансформируется, преображается в свободу бытийного самоосуществления. Патристическая концепция свободы, «свобода природная» преподобного Максима, выступает здесь как экклезиологический принцип: это свобода, которую человек обретает в Церкви. Преображающим же началом служит Божественная благодать, обитающая в Церкви как наделенной святостью; и таким образом свобода в Церкви имеет благодатную и харизматическую природу. «Просвещенная благодатью свобода» — так часто называет ее Хомяков. Но стоит заметить, что, четко различая, подобно преподобному Максиму, два вида свободы, или «свободу в смысле политическом и в смысле христианском», философ вовсе не утверждал, что эмпирическая свобода человека в мире противоречит свободе онтологической, христианской или для нее безразлична. Напротив, он был безусловным поборником личных свобод, и духовной, и политической, и хотя в Николаевской России отнюдь не мог печатно заявлять о подобном, но все же во французских брошюрах он ратует за свободу мнения и исследования, а в переписке с Пальмером мы можем прочесть, что «расширение умственной свободы много бы способствовало к уничтожению бесчисленных расколов»1.
4
Харизматический синтез единства и свободы в Церкви вплотную подводит нас к раскрытию природы соборности. В особой заметке, посвященной терминам «кафолический» и «соборный», Хомяков разъясняет свою трактовку понятия. Усиленно подчеркнув важность перевода греческого καθολικός как «соборный» (см. выше), он говорит, что переводчики Символа веры «остановились на "слове соборный"», поскольку «"Собор" выражает идею собрания, не обязательно соединенного в каком-либо месте, но существующего потенциально без внешнего соединения. Это единство во множестве»2. Смысл этого лаконичного суждения раскрывается в свете сказанного выше. Ясно, что то «единство во множестве», какое становится атрибутом и самим определением Церкви, единство множества, существующее всегда и без внешнего соединения, — такое единство есть не что иное, как «единство истинное, внутреннее», которое составляет «плод и проявление свободы», таинственно сочетаясь и отождествляясь с нею. Поэтому в атрибуте соборности выражается и закрепляется тождество единства и свободы в Церкви; и поскольку это тождество устанавливается, как говорит Хомяков, «по благодати Божией, а не человеческому установлению», — соборность также имеет благодатную и сверхэмпирическую природу. «Соборность в понимании Хомякова — это не человеческая, а Божественная характеристика»3. Но тождество свободы и единства есть самая сердцевина, конститутивный принцип церковного устроения; и потому выражающая его соборность есть для Хомякова центральный, ключевой атрибут, сама квинтэссенция церковности. «Одно это слово содержит в себе целое исповедание веры»4.
Так хомяковское учение о Церкви оформляется в экклезиологию соборности. Жизненный нерв такой экклезиологии, ее специфика — того же рода, что в прежней хомяковской трактовке «жизни»: это — своеобразный холизм, пафос Целого, Всеединства, которое одно является исключительным держателем и истоком всякой сути и ценности. Этим определяются позиции учения в целом ряде проблем. Одна из них — проблема «голоса Церкви»: как должно выражаться само свидетельство Церкви? как изъявляется цер-
____________
1 Хомяков A.M.. Письмо V к Пальмеру. Цит. изд. С. 280.
2 Он же. Письмо к редактору «L'Union Chretienne» о значении слов «кафолический» и «соборный» по поводу речи отца Гагарина, иезуита. Цит. изд. Т. 2. С. 242.
3 Флоровский Г. В. Цит. соч. С. 277.
4 Хомяков А. С. Письмо к редактору «L'Union Chretienne» о значении слов «кафолический» и «соборный» по поводу речи отца Гагарина, иезуита. С. 242.
164
ковное решение и суждение? Понятно, что общецерковное суждение — некоторая форма консенсуса, согласия членов Церкви; но принцип соборности диктует весьма особую форму этого согласия. Соборность — онтологическое единство множества членов, и потому то согласие их, каким свидетельствуется Церковь, — отнюдь не простое совпадение мнений. Внутри Церкви согласие людей трансформируется так же, как их свобода: выражая бытийное их единство, оно перестает быть обычным «согласием в мнениях или целях» и становится совершенным единством мысли, как и единством чувства, единомыслием и единодушием. Это различие согласия обычного и «соборного» удачно выразил отец Сергий Булгаков: «Существа соборности ищут на основе единения в объекте, в любви к одному и тому же (т. е. согласия мнений — С. X.)... Однако всего этого мало... соборность состоит, в первооснове своей, в единении в субъекте, в ипостасности»1. Не мы определяем истину, соглашаясь во мнениях о ней, но Истина, нас преображая, делает нас едиными в ипостасности (по Булгакову), или осуществляющими свободу природную (по преподобному Максиму), или наделенными свободным единодушием (по Хомякову). Все эти формулы православных мыслителей трех разных эпох выражают в точности то же.
Сюда близко примыкает и проблема авторитета, к которой не раз возвращается Хомяков, находя здесь один из коренных пунктов в расхождениях с католичеством. Как заявляет он в одном из самых цитируемых мест своих сочинений, понятие авторитета вообще чуждо домостроительству Церкви: «"Церковь — авторитет", — сказал Гизо... Нет! Церковь не авторитет, как не авторитет Бог, не авторитет Христос; ибо авторитет есть нечто для нас внешнее. Не авторитет, говорю я, а истина и в то же время жизнь христианина, внутренняя жизнь его»2. Как внешний принцип, авторитет принадлежит мирскому и государственному порядку, он уничтожает свободу, и с его внедрением в Церкви «государство заняло место Церкви... Церковь обратила человека себе в раба»3. Полемика Хомякова здесь прямо направлена на статус папы в католичестве, и особенно острое его неприятие вызывает подготавливавшийся тогда догмат о папской непогрешимости. Вполне понятно: этот догмат прямым и вопиющим образом противоречит соборному пониманию церковной истины. Соборный характер истины означает, по Хомякову, что «истина дана единению всех и их взаимной любви в Иисусе Христе»4; или, равносильно этому, «непогрешимость в догмате, т. е. познание истины имеет основанием в Церкви святость взаимной любви во Христе»5. Как легко заключить отсюда, «Церковь видит лишь верх нелепости в притязании какого-либо епископа на непогрешимость в вере. Что для всех есть нравственный долг, то не может быть ничьею привилегиею в особенности»6.
Парадокс, однако, состоял в том, что в пору деятельности Хомякова учение о соборности нисколько не было соборным — то есть разделяемым Церковью — учением. Оно не имело ни известности, ни поддержки, и как не без горечи писал Хомяков (Пальмеру), его позиции «были прямым отрицанием многих определений Церкви и
____________
1 Булгаков С. //. Трагедия философии. Сочинения в 2-х тт. Т. 1. М., 1993. С. 411 (курсив автора).
2 Хомяков А. С. НС-1. С. 43-44.
3 Там же. С. 43.
4 Он же. НС-2. С. 78.
5 Там же. С. 81.
6 Там же. С. 107. Заметим, что В. Соловьев пытался проводить совсем иной взгляд на отношение соборности к католическим принципам церковной организации. По его утверждению, «принцип папского единовластия... не мешал и не мешает папам действовать соборно... Соборное начало проявлялось на Западе даже гораздо сильнее, чем на Востоке», и даже Ватиканским догматом лишь «ограничивается, но не исключается значение соборного начала в Церкви». — Соловьев В. С. Национальный вопрос в России. Вып. I. // Соловьев В. С. Собрание сочинений. Т. 5. СПб., б. г. С. 64. Но все эти тезисы основаны на его собственной трактовке соборности, по которой «Соборное начало само по себе есть начало человеческое и как все человеческое может быть обращено и в хорошую, и в худую сторону» (Там же. С. 63.). Ввиду кричащего расхождения этой трактовки с хомяковской и обшеправославной, намеченная здесь теория «папской соборности» не получила развития.
165
ее сущности, данных теми богословами нашими, которые, к несчастью, воспитались под влиянием западной науки»1. Проповедь соборности была делом одиночки, и такая ситуация, хотя и не подрывала прямо само учение, но значила, по меньшей мере, что в современной автору церковной реальности защищаемые им начала выражены ничтожным образом. В свете этого мы непременно должны упомянуть здесь событие, ставшее для Хомякова радостным исключением: появление в 1848 г. так называемого «Послания Восточных Патриархов». То было обширное определение по межконфессиональным вопросам, составленное в ответ на прозелитическую активность Пия IX и подписанное четырьмя патриархами и 29-ю епископами православных церквей Востока (Константинопольской, Антиохийской, Александрийской, Иерусалимской). Экклезиологические позиции Послания (их главный тезис мы привели выше), хотя и бегло представленные, были в явном согласии с учением Хомякова; и это поистине стало для него «нечаянной радостью», неожиданной и важной поддержкой. Он обращается к Посланию много раз, приводит парафразы его в таком виде, что они в точности звучат как собственные его тезисы о соборности, — и называет факт его появления «самым значительным событием в церковной истории за много веков».
Коль скоро соборность заключает в себе, по Хомякову, «целое исповедание веры», она оказывается центром и фокусом всего домостроительства Церкви; к ней стягиваются и ею проникаются все части этого домостроительства. Если следовать Символу, то в качестве таковых частей, наряду с икономией соборности, должны служить: икономия единства — икономия святости — икономия апостоличности. Из них первая, как мы видели, выступая у Хомякова как икономия нераздельных единства и свободы, прямо сливается с икономией соборности и вбирается в нее. Последняя же не получает в его богословии большого внимания. Из относящихся к ней тем, он касается сколько-нибудь подробно всего лишь двух: это тема миссии и тема Предания. О миссии говорит он (в Письмах II и III к Пальмеру) в сугубо оправдательном ключе, в ответ на упреки Пальмера, который порицал Православие за нерадивость в деле распространения веры. Находя лишь кой-какие побочные, но не принципиальные возражения, он принимает упреки со смирением — и в том, по справедливому замечанию комментатора (В. М. Лурье в изд. 1994 г.), оказывается поверхностен: ибо возразить было что. В действительности, православная миссионерская проповедь велась в первой половине XIX в. на широких пространствах Сибири, Алтая, даже Аляски; но стиль ее был отличен от католического активизма: сами глубинные черты православной духовности диктуют чуткий, нефорсированный подход к проповеди веры, особо требовательный к духовным качествам самих проповедующих. Что же касается Предания Церкви, то о нем Хомяков говорит не раз, но особенно не заходит вглубь: в своем «катехизисе» он сжато резюмирует каноническую православную позицию неразделимости и равной богодухновенности Писания и Предания; в полемических текстах, повторяя эту позицию, он также критикует протестантское «упразднение Предания» и католическое смешение предания местного с «догматическим вселенским Преданием».
Напротив, святость Церкви никак не может остаться в кругу незначительных тем. Будет правильным сказать: центр и фокус экклезиологии Хомякова — не просто соборность, но соборность, составляющая одно со святостью, сущая с нею в срастворенности, обоюдной связи — так что святость оказывается соборна, а соборность — свята (напомним, что это — «Божественная характеристика»). Эта обоюдная связь двух начал церковности ярко выступает в трактовке молитвы у Хомякова. Служа и средством, и самой средой богоустремления и богообщения, стихия молитвы входит неотъемлемым элементом в домостроительство святости, и само обожение человека мистико-аскетическая традиция Православия ставит в теснейшую связь с молитвой. Хомяков же всюду последовательно утверждает церковную и соборную природу молитвы. Молитва у него — отнюдь не индивидуальный акт, но акт Церкви (характерная печать холиз-
____________
1 Хомяков A.C.. Письмо V к Пальмеру. С. 279.
166
ма), и на первый план в молитве им выдвигается не вертикальное, а горизонтальное ее измерение, не устремленность молящегося к Богу, но созидаемая молитвой связь членов Церкви: «Каждый из нас требует молитвы от всех и всем должен своими молитвами, живым и усопшим»1. Эта молитвенная связь играет критически важную роль в Церкви, составляя особый церковный способ общения, своего рода систему коммуникаций, пронизывающую всю ткань, все тело Церкви; и понятно, что в органической парадигме для этой системы напрашивается метафора кровообращения. «Молитва всех о каждом и каждого о всех... есть как бы кровь, обращающаяся в теле Церкви, она ее жизнь и выражение ее жизни, она глагол ее любви, вечное дыхание Духа Божия»2. В своем «катехизисе» Хомяков выражает этот образ со сжатой силой: «Кровь же Церкви — взаимная молитва»3.
Этот подход к молитве, оставляющий на втором плане ее вертикальное измерение и уделяющий взаимности и соборности молитвы больше внимания, чем самой цели богообщения, заведомо не охватывает всех сторон молитвенной жизни Православия. Русское исихастское возрождение XIX—XX вв., а также и развитие православного богословия сформировали прочный взгляд, по которому суть православной духовности, ее подлинное выражение — это исихастский строй внутренней жизни и путь молитвенного делания. Но этот путь, этот строй заметно отличны от хомяковских. В отличие от его соратника Киреевского, установки уединения и молчания, сама идея индивидуальной «практики себя», методической дисциплины духовного восхождения, не близки его духовному миру и складу личности. Напомним, что он — снова в отличие от Киреевского — не проходил обращения, и весь духовный путь его — не движение, а стояние в вере, держание изначальных устоев. Но соборность неотрывна от святости, и соборность молитвы у Хомякова не исключает, а предполагает ее харизматическую, благодатную природу: ибо связь в молитве — связь благодатной любви, что есть «Божественный дар». Равно как и обратно, аскетическое видение молитвы не исключает, а предполагает ее соборную сущность. Установки православного подвига всегда включали в себя своеобразную диалектику «отшельнической соборности», антиномическое сочетание отъединенности и совместности. Уже в древнейшем исихастском трактате о молитве прочтем: «Монах тот, кто от всех отделясь, со всеми состоит в единении»4, и самый образ молитвы — кровеносной системы также возникает в аскетических текстах: «Молитва... животворит духовный организм так же, как кислород, принятый в дыхании, через кровь расходится по всему телу и оживляет его»5. Так говорит святитель Феофан Затворник, крупнейший учитель Исихастского возрождения в России, и речь Хомякова о соборной молитве — не в расхождении, а в согласии с ним.
5
Эти новые возникающие черты — нераздельная диада церковных святости и соборности, образ особой «кровеносной системы» тела Церкви — начинают приоткрывать нам видение Церкви у Хомякова в его цельности; мы лучше понимаем теперь, что стоит за его органическим дискурсом. В отличие от позднейшей русской «органической мысли», акцент здесь отнюдь не на сближении и слиянии Церкви с земными структурами и стихиями, но на утверждении своего особого бытия, полноценного и самодостаточного, каким обладает Церковь. Но это бытие — не абстрактное, оно полно энергии и движения, оно есть жизнь — и потому сам термин «бытие» для него недостаточен, слишком пуст. В поисках более конкретного имени, Хомяков избирает «организм»: но,
____________
1 Хомяков A.C. Церковь одна. С. 19.
2 Он же. НС-2. С. 94.
3 Он же. Церковь одна. С. 21.
4 Евагрий Понтийский. Слово о молитве // Добротолюбие. Т. 2. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1992.С. 222.
5 Епископ Феофан (Говоров). Начертание христианского нравоучения. М, 1892. С. 163. (Более доступное издание: Творения иже во святых отца нашего Феофана Затворника. Начертание христианского нравоучения. В 2-х тт. , 1994.).
167
сознавая риск редукции, снижающих коннотаций (см. выше), он пишет обычно так, что сам стиль его говорит и напоминает: если Церковь и организм, то это — особый организм, быть может, сверx-организм... Мы знаем сегодня, что подобное бытие, или «организм высшего рода», которому присущи духовная жизнь и общение любви, надо описывать не в категориях организма, а в категориях личности; но мысль Хомякова еще не могла сделать этого шага (лишь однажды мы встретим у него: «Церковь как личность живая»). Однако, когда мы проникли в способ мышления автора, выбор категорий теряет свою остроту. Мы поняли главное, что стремится донести автор: Церковь — особый мир и особый порядок бытия. Так можно выразить «чувство Церкви» у Хомякова; и в свете этого, фраза Самарина о том, что Хомяков «жил в Церкви», получает насыщенный и глубокий смысл.
Данный тезис — фундаментальная предпосылка экклезиологии Хомякова; им объясняются позиции его богословия во множестве крупных и мелких тем. Становится прежде всего понятна хомяковская трактовка веры: ясно, что это понятие должно иметь у него сущностный и бытийный смысл, не сводящийся ни к психологии, ни к гносеологии. Мир Церкви, бытие Церкви проявляются, обнаруживают себя человеку не чисто внешне (физически-вещественно), но и не чисто внутренне (субъективно-психологически). Коль скоро это особый мир и порядок бытия, человек должен обрести принадлежность, причастность к ним или способность воспринимать их: это одно и то же, ибо воспринимать их возможно лишь изнутри, к ним принадлежа. Эта способность и есть «вера... по благодати Господней не веренье и не аналитическое познание, а внутреннее совершенство и созерцание Божественного»1. Как видим, она понимается у Хомякова как своеобразное «духовное зрение» (ср. приводившееся: «Церковь видима только верующему»), подобно «умным чувствам» в аскетике, особым способностям восприятия, открывающимся в духовном восхождении2. Общность еще и в том, что в обоих случаях условием, предпосылкой видения служат благодать и любовь. «Вера смыслящая есть дар благодати»3.
Прямым развитием этой логики является и трактовка церковных таинств. Церковь — особый мир и порядок бытия, «мир веры»: все сакраментальное богословие Хомякова строится в рамках этой позиции, и только из нее может быть верно понято. Вот его исходный и ключевой тезис в данной теме: «Первейший элемент каждого таинства есть Церковь и... собственно для нее одной и совершается таинство, без всякого отношения к законам земного вещества»4. Ясно, что этот тезис вполне вытекает из указанной позиции; и далее на его основе Хомяков производит разбор каждого из таинств, останавливаясь особо на Евхаристии и критикуя как католический, так и протестантский подход. Однако в отрыве от своих экклезиологических корней его толкование легко возможно принять за протестантский уклон, превращающий таинства в феномены чистого субъективизма. Подобный взгляд высказан был Флоренским, который в 1916 г. выступил с резкой критикой хомяковского истолкования Евхаристии5. Примечательно, что Н. А. Бердяев, много критиковавший Флоренского и всегда расходившийся с ним, в данном вопросе присоединился к нему: «В учении о таинствах у Хомякова был уклон к протестантизму, преобладание момента субъективно-духовного и морального над объективно-космическим... Тут, может быть, сказалась недостаточная чуткость Хомякова к мистической стороне христианства... Отец П. Флоренский в вопросе о таинствах более прав, чем Хомяков»6. Этот пассаж Бердяева любопытен и показателен. Упрекая Хомякова в невнимании к некой «космической мистерии» (которая действительно не
____________
1 Хомяков А. С. ЕНС. С. 191.
2 О концепте отверзания чувств в православной аскезе см.: Хоружий С. С. Трилогия Границы: три текста о Духовной практике // Хоружий С. С. О старом и новом. СПб., 2000. С. 402—420. — Ред.
3 Он же. НС-1.С. 49.
4 Он же. НС-2. С. 101.
5 Флоренский П. А. Около Хомякова. Сергиев Посад, 1916. Научное издание с комментариями: П.А. Флоренский. Собрание сочинений. Т. 2. М., 1998. С. 278.
6 Бердяев Н. А. Хомяков и свящ. Флоренский // Бердяев Н. А. Собрание сочинений. Т. 3. Париж, 1989. С. 577-578.
168
стоит в центре хомяковского понимания христианства, ибо никак не стоит в центре самого христианства), Бердяев приписывает ему субъективистский взгляд, поскольку не замечает в его понимании христианства другой мистерии — мистерии Церкви. Истовая вера в мистическую реальность Церкви, живой опыт этой реальности проводят резкую грань между взглядами Хомякова и протестантством. По мемуарным свидетельствам, истинный характер хомяковской позиции верно увидели и оценили в христианском кружке М. А. Новоселова, став на сторону Хомякова против Флоренского; и сам Флоренский после дискуссии с Новоселовым признал неправоту своей критики1. Но при всем том, как Флоренский, так и Бердяев правильно уловили, что Хомяков сильней всего опасается уклонений к «языческой магии» в трактовке таинств — уклонений, всегда присущих народной религиозности и в изобилии процветавших в России; и его пафос резкого неприятия этих уклонений2 оказывался отчасти созвучен протестантской мысли.
Далее, в кругу тем, решение которых у Хомякова целиком зиждется на опыте премирной реальности Церкви, можно упомянуть и его герменевтику, подход к пониманию Писания. Суть подхода ясна заранее: как Писание, так и толкование его — явления жизни Церкви, подчиняющиеся лишь особым законам «мира веры». «Св. Писание есть откровение Божие, свободно понятое разумом Церкви... Все тайны веры были открыты Церкви Христовой от самого ее основания... и все эти тайны выражены были первыми Христовыми учениками, но были выражены только для Церкви и только ею могут быть поняты»1. Отсюда следует, что герменевтика Писания может быть исключительно церковною и соборною герменевтикой: «Слова, которыми выражаются понятия о мире Божественном, могут быть понятны только для того, чья собственная жизнь находится в согласии с реальностью этого мира... Слова [Писания]... представляются в своем реальном смысле только тому, чья жизнь составляет живую принадлежность организма Церкви»4.
Все эти обсуждавшиеся черты — разнообразные проявления и следствия самостоятельной и премирной реальности Церкви. Восходя от следствий к причинам, нам время перейти к тем началам, коими создается и держится эта особая реальность. Здесь мы на почве общих устоев христианской и православной экклезиологии; но важно, с какою истовой глубиной, не формально, а действенно и предметно, эти устои утверждаются в учении Хомякова. Премирная природа Церкви — не что иное, как действие в Церкви Святого Духа, нетварной благодати Его; первый же дар Божественной благодати — любовь. Начало любви известно и в метафизике, и в теологии во многих формах; и наряду с формами, что ограничены горизонтом здешнего бытия, принадлежа психологии и морали, существует любовь как бытийный принцип: любовь совершенная и Божественная, «движущая Солнце и светила», выражающая норму иного порядка бытия. Именно она даруется благодатью Св. Духа, и все, кто ею связуются, — это и есть Церковь. Даруемая Духом любовь — взаимная благодатная любовь всех сущих в Церкви — есть подлинное основание Церкви. Истина эта краеугольна для Хомякова, он повторяет, варьирует ее множество раз: «Церковь, тело Христово, органическое основание которого есть любовь»5; «Церковь, признающая себя единством органическим, живое начало которого есть Божественная благодать взаимной любви»6; «учение о взаимной любви, на которой единственно зиждется вся жизнь Церкви»7; и т. д.; и, наконец, в литургике он также находит свидетельство того, что любовь — основание единства Церкви «"возлюбим друг друга, да единомыслием исповемы
____________
1 Уделов Ф. И. [С. И. Фудель]. Об отце Павле Флоренском. Париж, 1972. С. 84.
2 См., напр., Письмо к К.С. Аксакову о молитве и чудесах // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 2. М., 1900.
3 Хомяков А. С. ЕНС. С. 184.
4 Там же. С. 185.
5 Он же. НС-2. С. 87.
6 Там же. С. 88.
7 Он же. ЕНС. С. 192.
169
Отца и Сына и Св. Духа"... слова древней литургии, слова высокой догматической важности»1. Необходимый вывод отсюда тот, что богословие Хомякова — не только богословие соборности, но и богословие любви; однако здесь нет двух разных первоначал. Богословие Хомякова есть богословие соборности, потому что оно — богословие любви: ибо сама соборность — не что иное, как осуществление взаимной благодатной любви. Благодать и любовь — полагающие силы, конституирующие принципы Церкви как особого порядка бытия, «мира веры», мира соборности.
Устроение этого мира и его образ жизни сейчас представились нам ясней. Конечно, он не является во всем и абсолютно иным по отношению к эмпирическому миру и обществу, он также представляет собой сообщество пребывающих в общении членов, лиц, он характеризуется теми же аспектами, атрибутами, что эмпирические людские сообщества. Но все эти аспекты и атрибуты — уже отнюдь не такие, какими они бывают у обычных обществ и институтов. «Церковь живет даже на земле не земною, человеческой жизнью, но жизнью Божественной и благодатной»2. Обозревая содержание этой главы, мы видим, что его можно почти целиком свести к цепочке одинаковых, однотипных выводов: выводов о том, что та или иная черта реальности, делаясь атрибутом Церкви, обретает связь с благодатью и этою связью преображается, изменяет свою природу. Все стороны, свойства, элементы строения и жизни Церкви проходят это «соборное преображение Духом»: «любовь есть Божественный дар», «вера смыслящая есть дар благодати», единство Церкви — «единство по благодати Божией, а не по человеческому установлению», свобода — «просвещенная благодатью свобода», «мысль Церкви... просвещенный благодатью разум ее членов»... — и так далее, без конца. И в этой цепочке выводов богословие Хомякова действительно предстает нам как конкретное описание благодатной жизни Церкви, данное изнутри очевидцем. Став фактом живого опыта, реальность этой мистической жизни делается убедительной и наглядной. «В изображении Хомякова самодостаточность Церкви показана с покоряющей очевидностью»3. В этом — особый дар Хомякова, одно из ценнейших качеств его богословской мысли.
Живая наглядность реальности Церкви у Хомякова позволяет глубже понять природу этой реальности. Прежде всего можно окончательно уяснить и смысл, и границы органической парадигмы, или метафоры, в его экклезиологии. В конечном счете Церковь сближает с организмом один ключевой принцип: принцип холистического приращения, согласно которому каждая часть, член, входя в Целое, испытывает претворение (расширение, усиление...) «делается больше себя самого»; так что Целое тут больше, чем простая сумма частей. Сравнительно с любой частью оно обладает новым качеством, новой природой, которая выражается в связной совместной вовлеченности всех частей в общую жизнь, внутренне-внешнюю «глобальную динамику». — Но стоит углубить, провести дальше сопоставление. Необходимо должен быть источник этой особой силы или способности Целого; и чтобы обладать силой претворяющего воздействия, чтобы сообщить собранию частей новую природу, он сам должен обладать иной, чем они, природой, должен лежать в ином уровне или горизонте реальности. Ключ к жизни Целого — в этом Внеположном Источнике. Для организма это, очевидно, генетический код, для Церкви же — Дух Святой, Ипостась Бога, Которого в этой логике — и в свете православной идеи обожения — мы бы могли назвать нашим «небесным кодом»4. Но далее идут важные расхождения. Законы генетики действуют с необходимостью и наталкиваются на случайности, и ткань органического существования — сплетение факторов случайности и необходимости. Зако-
____________
1 Хомяков A.C. Письмо к Монсеньору Лоосу, епископу Утрехтскому. Цит. изд. Т. 2. С. 234.
2 Он же. Церковь одна. С. 16.
3 Флоровский Г. В. Цит. соч. С. 273.
4 Здесь нет и намека на пресловутое «кодирование» и «программирование», говоримое относится к человеку, сотворенному по образу Бога, человеку, вместе с другими единосущными ему людьми составляющим Церковь Бога Живаго. Многоликое же единство Церкви подобится триединству Божества. «Небесный код» соответствует учению об образе Божием. — Ред.
170
ны Духа действуют в свободе, ткань жизни церковной — синергия Божией благодати и человеческой свободы, «святое единение любви и молитвы» (Хомяков), и это уже совсем иное существование, сверхорганическая и личностная динамика молитвенного общения. Образ Церкви у Хомякова ярко доносит и органические, и сверхорганические ее черты; и мы видим, что этот образ не укладывается в рамки схоластических схем: его нельзя отождествить ни с «Церковью эмпирической», ни с «Церковью мистической». Хомяков всегда подчеркивал условность разделения видимой и невидимой Церкви, и его описание соединяет в себе особенности и той, и другой. Предмет живого опыта верующего, «святое единение любви и молитвы» — не Церковь Мистическая (чисто духовная) и не Церковь эмпирическая (чисто земная), но — Церковь Растущая, созидаемая в Духе новая Богочеловеческая реальность.
В христианской мысли экклезиология неотрывна от христологии и всецело основывается на ней. Однако у Хомякова, как и у других славянофилов, эта конститутивная связь-зависимость выражена не столь отчетливо и учение о Церкви развито несравненно более, чем учение о Христе. Этот пункт не раз служил основанием для критики — особенно в западном богословии, где разделы вероучения гораздо более обособлены, нежели в Православии. В недавней книге отца Франсуа Руло, в особом параграфе, названном «Отсутствие христологии у славянофилов», говорится: «Происходит переворот перспективы: в традиционной христианской мысли христология предшествует экклезиологии, но в мысли славянофилов предшествующей является экклезиология... особенно у Хомякова экклезиология развита гораздо более отчетливо... У Киреевского и его друзей христология остается весьма смутной или даже отсутствующей... Отсюда лучше понятны слабости славянофильской мысли: она слишком идет по линии теологизации Volksgeist»1. В этом замечании много верного. Как мы подчеркивали, экклезиология Хомякова возникает вслед за его славянофильской органической философией, которую обычно — и справедливо — сближают с теориями немецких романтиков, где в центре понятие народного духа, Volksgeist. Вырастая из такой философии, она действительно в известном аспекте (именно генетическом) может рассматриваться как «теологизация Volksgeist». Однако, помимо «народного духа», мысль Хомякова имеет и другие движущие истоки и интуиции. Его живой опыт церковности, его пафос свободы, толкающий к личностному, а отсюда и христоцентричному видению приводят к тому, что его богословие перерастает свои генетические рамки — чтобы стать полноценным образцом православного учения о Церкви.
Напомним: исходные задачи богословия Хомякова заключались в полемическом разборе межконфессиональных различий; и изначальная глубинная интуиция его была в том, что все эти различия имеют один общий корень — различное понимание самой стихии церковности, различное видение Церкви. Этим уже предопределялось центральное место экклезиологии. Однако, по мере развития его экклезиологической мысли, в ней все ясней обозначается и мотив необходимой связи экклезиологии с христологией, необходимой опоры и укорененности первой во второй; и при всей несистематичности его богословских текстов в последней из трех его полемических брошюр мы находим-таки целый раздел, более 10 страниц, посвященный христологии и сжато, сильно выражающий ее основные положения. Здесь, на этих страницах, богословие Хомякова раскрывается как последовательно христоцентрическая мысль, ибо все его ведущие принципы — благодать, любовь, свобода в единстве — возводятся ко Христу: «Дух Божий (благодатью — С. X.)... дал нам разуметь, что правда Отца проявилась в свободном совершенстве Его возлюбленного Сына... что бесконечная любовь Отца проявилась в свободной любви Агнца Божия, принявшего заклание за Своих братьев. Все есть дело свободы: правда Христова, нас осуждающая, и любовь Христова, спасающая нас тем реальным и неизглаголанным единением, к которому Он нас допускает»2. Здесь же, в этом разделе, находится единственная во всех текстах Хомякова цитата из знаменитого Мелера, с учением которого по праву сближают хомяков-
____________
1 Rouleau F., S. J. Ivan Kireievski et la naissance du slavophilisme. Namur, 1990. P. 245—246.
2 Хомяков А. С. EHC. С 170-171.
171
скую экклезиологию1; и эта цитата — именно утверждение христоцентризма: «Придет время, когда человечество поймет, что одинаково немыслим мир без Бога и Бог без Христа». Можно с уверенностью сказать: не будь в учении Хомякова этого христоцентрического корректива к органической и романтической мысли, оно никогда бы не получило того признания, каким пользуется сегодня.
6
Нам остается кратко сказать о судьбах богословия Хомякова в позднейшем развитии православной мысли. Прежде всего приходится здесь отметить существенные лакуны: в XIX в. русская богословская мысль еще была плохо подготовлена к восприятию идей Хомякова; крупнейший же следующий этап этой мысли, знаменитый Русский религиозно-философский ренессанс, оставался в целом далек от церковной жизни — а с тем и от серьезного осмысления хомяковской экклезиологии. В итоге важнейшие этапы обдумывания, оценки, рецепции хомяковского учения можно выделить следующим образом: Вл. Соловьев — богословие русской диаспоры 20-х — 50-х гг. (отец Сергий Булгаков, отец Георгий Флоровский, В. Н. Лосский и др.) — формирование современной итоговой общеправославной концепции. И на всех этапах почти у всех авторов можно найти один мотив, один существенный общий знаменатель: все признают подлинность и глубину церковного опыта Хомякова, выражают доверие к его жизни в Церкви и его видению Церкви. Есть, впрочем, и неизбежное «исключение, подтверждающее правило»: им служит Вл. Соловьев. Но крайне редки и безусловные апологеты Хомякова; почти все авторы не обходятся без несогласия с ним, без критики тех или иных его воззрений.
В церковной среде XIX в. не было достигнуто сколько-нибудь глубокого анализа богословия Хомякова, и тем более не могло сложиться никакой его общепринятой оценки; налицо были лишь два ряда мнений: одни сдержанно-положительные (митрополит Филарет (Дроздов), А. М. Иванцов-Платонов и др.), другие — в разной степени отрицательные (отец А. В. Горский, Ф. К. Певницкий и др.). Что же до Вл. Соловьева, то его отношение к творчеству Хомякова не было лишено предвзято-негативного элемента сразу по нескольким причинам. Во-первых, по логике развития русской мысли: в деле создания русской религиозно-философской традиции Соловьев был прямым преемником славянофилов и по известному закону отталкивался от них, находя их мысль философски незрелой, размытой и пустоватой. Уже в ранний период, в пору «Чтений о Богочеловечестве», он отзывается о славянофилах с прене-
____________
1 В главе I автор пишет: «В контексте европейской культуры XIX столетия давно стало общепринятым (особенно среди западных авторов) утверждать коренную зависимость славянофильства от немецкого романтизма и шеллингианства, а также проводить параллель между воззрениями славянофилов и французских традиционалистов. Эти западные явления также принадлежат широкому руслу органического мировоззрения, и названные связи, несомненно, имеют место (хотя зависимость от романтизма часто весьма преувеличивается и, во всяком случае, у Хомякова она гораздо слабее, чем у Киреевского). Однако, наряду с ними, мы бы считали нужным указать и еще одну параллель — с течением либерального католицизма, представители которого были убеждены в ценности древней традиции и с этих позиций противостояли ультрамонтанству и усилению папской власти, а позднее составили ядро Старокатолического движения. Как славянофилы, так и либеральные католики были защитниками духовной свободы, представляя лояльную, умеренную и традиционалистскую оппозицию господствующим силам неограниченной власти — власти папы на Западе, царской бюрократии — в России. Оба течения тяготели к древнему, идущему от апостола Павла и первохристиан учению, согласно которому единство Церкви основано не на формальном авторитете, а на Духе Святом, являющем Свое присутствие в единящей любви, и выразили эту свою позицию в богословских учениях, развитых И. А. Мелером (1796—1838) на Западе и Хомяковым в России. Как хорошо известно, оба эти учения имеют глубокую близость между собой и, как писал отец Георгий Флоровский, столь примечательное родство экклезиологического видения означает "подлинную духовную встречу между Мелером и Хомяковым". Другой мыслитель из либерально-католических кругов, Франц фон Баадер (1765—1841), был известен и почитаем в славянофильской среде еще более, чем Мелер». — Ред.
172
брежением: «Общий тон и стремления очень симпатичны, но положительного содержания никакого»1. Затем имелись «семейные обстоятельства»: Хомяков резко полемизировал с исторической концепцией С. М. Соловьева, тот, в свою очередь, оставил в своих «Записках» желчную, даже очернительскую характеристику Хомякова и, как замечает Л. П. Карсавин, «отрицательное и несправедливое отношение к Хомякову в семье Соловьева... видимо, наследственно»2. И, наконец, тяготевший к католичеству Соловьев не мог, конечно, относиться к антиримской полемике Хомякова иначе, как с полным неприятием. Последний пункт — самый существенный и определяющий. Соловьев пишет о богословии Хомякова не раз, подробнее всего — в одной из статей «Национального вопроса в России», и главный предмет всех его обсуждений — «деконструкция» хомяковской критики католичества. Упомянем лишь два пункта ее. Во-первых, Соловьев указывает, что, по Хомякову, два главных порока католичества — рационализм и слепое подчинение истины внешнему авторитету; но эти пороки несовместимы между собой, отчего критика несостоятельна. Во-вторых, в своем сравнении христианских исповеданий Хомяков противопоставляет реальным католичеству и протестантству, с их историческими слабостями и грехами, идеальный образ Православия, отнюдь не соответствующий ни Византийской, ни Русской Церкви в их реальности. Последний аргумент лежит в основе всей соловьевской критики экклезиологии Хомякова. Логика этой критики проста: Соловьев вполне принимает концепцию Церкви у Хомякова как «синтеза единства и свободы в любви», однако согласен считать ее лишь отвлеченным идеалом, отвергая отнесение ее к Православной Церкви. «Наши новые православные [славянофилы], смешав... божественную и земную стороны Церкви, не задумались отождествить смутный идеал с современной Восточной Церковью в ее настоящем виде3... Хомяков предпочел проповедовать свой отвлеченный идеал так, как будто бы этот идеал уже был у нас осуществлен»4. Ясно, что такая позиция есть полное отрицание основного свойства учения Хомякова о Церкви — его опытной природы, в силу которой его содержание нисколько не идеал, но прямая передача реальной и личной жизни в Церкви.
Как мы сказали, Религиозно-философский ренессанс не дал глубокого понимания хомяковской мысли. Но он, конечно, не мог и оставить без внимания эту мысль. Почти все лидеры его так или иначе высказывались, писали о Хомякове, затрагивая разные грани его творчества; и эти писания составили набор пестрый, как сам Серебряный век. В 1904 г. прошел столетний юбилей Хомякова, и В. В. Розанов отметил его блестящим очерком, где... обвинил юбиляра в массе грехов и дурных качеств, рисуя крайне непривлекательный образ: «"Любви", им проповедуемой, не так много было у него самого... В "мирское", "хоровое начало" он не вошел... от недостаточной в нем любви к другим, простоты и скромности... Это до того противоречит всей программе его проповеди, что стоит задуматься... "Только любовь... открывает нам истину..." Это — исходная точка его воззрений... Но была ли она им применена к лютеранству и католичеству? Он начинает критиковать, в мотивировке — слащавый, а в цели — беспощадный... до чего в этом месте гнусно-ханжеский тон!.. Здесь... разверзается такая сухость сердца, придирчивость ума, такое жестокое отношение к ближнему...»5. Бердяев, в отличие от Розанова, находил Хомякова очень привлекательной личностью и писал немало о нем, однако всегда поверхностно (один пример см. выше, в разделе 5; книга его о Хомякове заслужила отзыв С. Булгакова: «это не столько Хомяков, сколько Бердяев о Хомякове»). По сути, его внимание и симпатия
____________
1 Соловьев В. С. Письмо к С. А. Толстой от 24 апреля 1877 г. // Соловьев Вл. С. Письма. Т. 2. СПб., 1909. С. 200.
2 Карсавин Л. П. А. С. Хомяков // Карсавин Л. П. Малые сочинения. СПб., 1994. С. 372.
3 Соловьев Вл. С. Россия и Вселенская Церковь. М, 1911. С. 119.
4 Он же. Национальный вопрос в России. Вып. 2. // Соловьев Вл. С. Собрание сочинений. Т. 5. СПб., б. г. С. 171.
5 Розанов В. В. Памяти А. С. Хомякова // Розанов В. В. Около церковных стен. Т. 2. СПб., 1906. С. 345-360.
173
к Хомякову держатся на единственной черте — на вольнолюбии Хомякова, с которым ассоциируются еще две-три импонирующие Бердяеву особенности: утверждение необходимости движения, творческого динамизма в жизни Церкви (впрочем, эту черту он в Хомякове преувеличивал), критика наличного состояния Русской Церкви и России... В отличие от Бердяева, Вяч. Иванов не проявлял заметного интереса к Хомякову и его мысли в целом; но он прошел в своем творчестве «славянофильский» этап, когда соборность выступала для него как важное и даже центральное понятие — причем он стремился, без достаточных оснований, возводить ее корни к античной мистериальной религии. В 1910-е годы, как пишет его жизнеописательница Ольга Шор (Дешарт), «на башне В. И. много говорил о соборности. Он тогда полагал, что она могла возникнуть из "дифирамбического хора» мистерии"1. Далее, у отца Павла Флоренского отношение к Хомякову амбивалентно: с одной стороны, он был лидером московских «неославянофильских» кругов, и в этом качестве, защитником тех же ценностей и во многом тех же позиций, что Хомяков; но, с другой стороны, в упоминавшейся брошюре 1916 г. он, помимо полемики о таинствах, подверг острому сомнению подлинную приверженность самого Хомякова этим ценностям и позициям. Сомнения его, впрочем, никто из позднейших авторов не признал оправданными. Затем еще стоит упомянуть Л. П. Карсавина, который, напротив, был горячим сторонником Хомякова — в том числе и в его критике инославия. Хотя небольшой текст Карсавина о Хомякове скорей незначителен, но в самой системе Карсавина, в его философских и богословских построениях можно не раз уловить влияние Хомякова, именно его экклезиологии; печать ее, в частности, видна на главных карсавинских концепциях всеединства, церкви, «симфонической личности».
Здесь мы уже затронули тему философских влияний Хомякова. В период Серебряного века они значительней богословских, и мы кратко скажем о них, хотя в целом учение Хомякова — отнюдь не в философском дискурсе и мы не прослеживаем его философских отражений. Воздействия и связи учения о соборности в метафизике Серебряного века наличествуют, по меньшей мере, в трех направлениях: 1) в онтологии — в концепциях всеединства, строившихся в философии Вл. Соловьева и его продолжателей — Е. Трубецкого, Флоренского, Булгакова, Карсавина и др.; 2) в гносеологии — в построениях так называемой «онтологической гносеологии»; 3) в социальной философии. Родство принципа соборности с философским принципом всеединства очевидно: оба принципа несут ту же исходную интуицию единства и связности бытия, выражая способ организации или же принцип внутренней формы совершенного единства множества — такого единства, которое, по одной формуле Хомякова, есть «единство всех и единство по всему». Но тем не менее близость их ограничена: всеединство — сугубо философский концепт, принадлежащий традиции христианского платонизма и восходящий к античному платонизму и неоплатонизму2; соборность же, как мы видели, имеет опытную и экклезиологическую природу, восходя к новозаветному видению Церкви у апостола Павла. Помимо того, в учении Хомякова соборность не является в полной мере реализацией структуры всеединства, которая требует совершенного тождества частей целому: холизм Хомякова сохраняет за целым известный приоритет, примат, и его статус, природа, свойства не полностью делегируются частям. Тем самым это своего рода «гипер-холизм», за счет которого индивидуально-личное богообщение и богопричастие, в том числе обретаемые в аскезе, в духовном восхождении, не достигают полноты: «Небесный свет Фавора... открывается не иначе, как сквозь тень вещества»3. Как все православное богословие той эпохи, мысль Хомякова не знает положения восточных отцов и подвижников о полноте прямого богообщения
____________
1 Дешарт О. А. Комментарий к ст. «Религиозное дело Владимира Соловьева» // Иванов Вяч. Собрание сочинений Т. 3. Брюссель, 1979. С. 771.
2 См. главу «Идея всеединства от Гераклита до Бахтина» в кн. Хоружий С. С. После перерыва // Пути русской философии. СПб., 1994. С. 32-66. - Ред.
3 Хомяков А. С. ЕНС. С. 186.
174
(играющего столь важную роль в учении об обожении) — и иногда она расходится с этим положением.
В гносеологии русская мысль, критикуя западные системы, и в первую очередь неокантианство, выдвинула ряд положений о зависимости акта познания от тех или иных онтологических предпосылок, тем самым превращая гносеологию в «онтологическую гносеологию». Два главных положения этого рода прямо связаны с идеями Хомякова:
Сознание имеет соборную природу. Оно не принадлежит индивидууму как таковому, но только реализуется, осуществляет свою работу через индивидуума и в индивидууме. Само же по себе оно с необходимостью включает в себя трансиндивидуальные, интерсубъективные, коллективные аспекты и предпосылки, является родовым и вселенским сознанием.
Познание базируется на нравственных предпосылках. Оно невозможно как чисто рассудочная деятельность, но представляет собой некую синтетическую, целостную активность, в которую вовлекаются и мысль, и воля, и чувство; и из всех этих внерассудочных слагаемых процесса познания решающим и важнейшим служит любовь.
Эти положения изучались многими русскими философами — Сергеем и Евгением Трубецкими, Николаем Лосским и Франком, Флоренским, Шпетом, Аскольдовым... Лучшее, наиболее яркое обоснование первого из них дано, вероятно, у С. Н. Трубецкого в работе «О природе сознания», обоснование второго же — у Флоренского в знаменитой книге «Столп и утверждение Истины», где оно выставлено уже в эпиграфе: «Познание совершается любовью». Но еще задолго до этих трудов и то и другое положения были отчетливо выдвинуты Хомяковым. Из многих его формулировок, относящихся к ним, достаточно привести одну: «Ясность разумения поставляется в зависимость от закона нравственного. Общение любви не только полезно, но вполне необходимо для постижения истины, и постижение истины на ней зиждется и без нее невозможно. Недоступная для отдельного мышления, истина доступна только совокупности мышлений, связанных любовью»1. И можно с полным правом сказать, что русская религиозная философия Серебряного века унаследовала свои основные гносеологические установки от Хомякова.
Что же касается социальной философии, то здесь значительные и зримые влияния идеи соборности сочетались с небезопасным смешением понятий. Принцип соборности в русской мысли весьма часто пытались применять к устройству общества, построению социальных теорий и моделей, но при этом обычно игнорировали специфически церковную суть понятия, его благодатную природу. Почти всегда соборность здесь понималась как некий идеализированный коллективизм, принцип социальной гармонии, основанной на нравственных началах взаимной любви, взаимного принятия и ответственности. Тем самым под видом соборности у Хомякова на поверку заимствовалось и эксплуатировалось иное понятие, общинность или «общинное единство», принцип устроения русской сельской общины, либо идеализированного народного, национального бытия в духе упоминавшегося романтичес-
____________
1 Хомяков A.C. По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В. Киреевского // Хомяков А. С. Полное собрание сочинений. Т. 1. М., 1900. С. 283.
2 В главе 1 автор пишет: «Наследие славянофилов не было позабытым никогда; на любом своем дальнейшем этапе русская мысль так или иначе обдумывала и оценивала его. Но эту вечную актуальность ему обеспечили не столько его идеи, сколько его вхождение в некоторую новую проблематику — такую, которую никогда не свести к законченным концепциям и теориям. Проблематика русского самосознания остается всегда открытой, представляя собою пребывающий топос русской мысли. В строгом смысле, славянофилов нельзя считать ее первооткрывателями — в какой-то форме темы самоопределения и самосознания всегда присутствуют в культуре нации. Однако именно славянофилам, и в особенности Хомякову, принадлежит заслуга ее выдвижения в центр, ее фронтальной и настойчивой постановки, тематизации. Далекая от научной основательности, эта тематизация все же включала в себя все нужные элементы: набор тем и проблем — набор рабочих понятий — набор идей и решений. Ядро всего этого комплекса — загадочный концепт "самобытности", куда сгущенно вобрано все, что касается специфических отличий "русского пути": парадигмы русской истории, социального
175
кого понятия Volksgeist2. Такая подмена совершалась уже у поздних славянофилов, затем во многих социальных теориях эпохи Серебряного века, еще поздней — в евразийстве, идеи которого широко распространены и сегодня, в посткоммунистической России.
Адекватное изучение и развитие учения о соборности фактически начинается лишь в богословии русской эмиграции. Первым шагом в этом направлении, вероятно, можно считать «Очерки учения о Церкви» (1925—1929) отца Сергия Булгакова. Эти очерки во всех своих главных темах: власть и авторитет в Церкви, понятия собора и Вселенского собора, отношение к инославию, проблема догматической непогрешимости... — целиком следуют в русле Хомякова, в фарватере его идей; по сути, автор развертывает не столько собственные, сколько хомяковские позиции. Большей самостоятельностью отличается известная книга «Православие» (1932). Будучи также окрашена явным влиянием Хомякова, она решительно ставит принцип соборности в центр всего православного учения о Церкви: «Душа Православия есть соборность... [она] выражает собой самую силу и дух православной церковности»1. Здесь дан обстоятельный анализ понятия, выделяются многообразные функции начала соборности в жизни Церкви и развивается концепция «соборования» — постоянно происходящего в Церкви удостоверения и поддержания соборности. При этом как в «Очерках», так и в «Православии» освещение экклезиологических проблем еще не несет печати собственной богословской системы о. Сергия, его софиологии. Напротив, в поздней «Невесте Агнца» (1945) учение о Церкви строится всецело в рамках этой системы и хотя общие принципы богословия соборности сохраняются, они подчинены софианским положениям, как и сама Церковь здесь есть «София в обоих аспектах, Божественная и тварная, в их взаимоотношении».
Дальнейший шаг в раскрытии учения о соборности представляют труды В. Н. Лосского (1903—1958). В ряде аспектов, концептуальный анализ соборности достигает здесь большей отчетливости и глубины; в частности, Лосский обсуждает (ср. выше) смысловые преимущества, рождаемые переводом греческого καθολικός как «соборный»: «Славянский текст Символа веры очень удачно передает прилагательное греческого оригинала "кафолический" словом "соборный". Хомяков произвел от него неологизм "соборность", совершенно совпадающий с идеей кафоличности, которую он развил в своем труде о Церкви... Производные "соборный", "соборность" для русского уха приобрели новый нюанс, что отнюдь не значит, что они утеряли от этого свое прямое значение "кафолический", "кафоличность"»2. Важнее, однако, то, что Лосский начинает изучение некоторых существенных сторон богословия соборности, ранее почти не затрагивавшихся. В первую очередь это — догматические вопросы.
____________
устройства, менталитета... Лишь очень отчасти он совпадает с пресловутым понятием Volksgeist, "народного духа", в романтическом дискурсе. С трудом поддающаяся артикуляции, вызывающая по сей день не только критику, но и враждебные насмешки, карикатуру, сакраментальная "самобытность" несет тем не менее реальное содержание, тесно связанное с понятиями самоопределения, этнокультурной идентичности и т. п. — и прочно закрепилась уже в числе ключевых слов-символов русского сознания. Ее зашита у славянофилов никак не может приравниваться к националистической или шовинистической позиции (хотя история концепта красноречиво показывает и то, как легко его утверждение может соскользнуть в шовинизм и национализм). Вестернизация — как замечалось в истории многих культур, вовсе не только русской — несет реальную угрозу нивелировки, утверждения монологической культурной модели. И когда Хомяков в "Письме об Англии" утверждает и превозносит самобытность отнюдь не русской, а английской культуры, исторического уклада, менталитета, он утверждает не националистическую, но полифоническую концепцию культуры. Поэтому современная философия может видеть в славянофильской защите самобытности — защиту экологического принципа ценности и необходимости разнообразия культур». — Ред.
1 Булгаков С. Н. Православие. Париж, 1962. С. 145. (Более доступное издание: Булгаков С.Н. Православие//Очерки учения Православной Церкви. Киев, 1991. — Ред.).
2 Лосский В. Н. О третьем свойстве Церкви //Лосский В. Н. По образу и подобию Божию. М., 1997. С. 152.
176
Лосский стремится показать, что в природе соборности заложена внутренняя связь с догматом Троичности. «Источник соборности... изначальная тайна христианского Откровения, догмат о Пресвятой Троице1... Чудо кафоличности открывает в самой жизни Церкви строй жизни, присущий Пресвятой Троице»2. Как показало дальнейшее развитие, именно в сфере догматики и домостроительства Ипостасей, в христологии, сотериологии, пневматологии позиции Хомякова требуют пристального критического разбора.
Но подлинную базу для современного понимания и оценки богословия соборности доставили труды отца Георгия Флоровского. Эти труды продвинули изучение идейного наследия Хомякова сразу в нескольких направлениях: во-первых, и это главное, глубокие экклезиологические разработки отца Георгия вывели на новый этап само учение о соборности в его основах; во-вторых, Флоровский представил в «Путях русского богословия» проницательный обзор и анализ хомяковской мысли; и, в-третьих, созданные им концепции «христианского эллинизма» и «неопатристического синтеза» выстроили общую перспективу и единый контекст всего пути развития православной мысли, доставив возможность интеграции учения Хомякова в этот единый контекст.
В экклезиологии Флоровского предпринята заново опытная дескрипция соборного устроения Церкви; и эта дескрипция во многом разъясняет, дополняет, а порою и корректирует речь Хомякова о соборности. В отличие от Хомякова, у Флоровского органический дискурс, хотя и продолжает отчасти использоваться, однако отчетливо подчинен личностному; Церковь — «сверхорганизм личностей». В связи с этим здесь полностью исчезают, корректируются присущие хомяковской трактовке соборности элементы «гипер-холизма», — примата, доминирования церковного целого над слагающими его членами, или частями. Соборность утверждается как подлинное «всеединство личностей», совершенное равновесие и тождество личного и обще церковного начал: «Церковь соборна в каждом из своих членов... в полноте церковного общения исполняется соборное преображение личности»3. Последнее означает, что личное сознание «возводится в план соборности» и «личность получает силу и способность выражать жизнь и сознание целого в творческом действии... Соборность есть "телос" личного сознания, который осуществляется в творческом развитии»4. Как уже сказано, общая оценка богословия Хомякова проводится Флоровским с позиций его теории неопатристического синтеза и в согласии с ее принципами особую важность приобретают вопросы связей, соотношения этого богословия с патристическим преданием. В «Путях русского богословия» отец Георгий приходит к выводу, что мысль Хомякова вполне удовлетворяет критериям соответствия с патристикою: «Хомяков остается вполне верен началам отеческого богословия... В своем учении о Церкви Хомяков остается верен именно основной и древнейшей отеческой традиции»5.
Сегодня, по заключениям исследователей, «церковная рецепция хомяковских идей уже в основном завершена»6. В последние десятилетия богословие Хомякова выступает как достаточно освоенная часть богословского наследия Православия, прочно вошедшая в традицию православной мысли. Было бы преувеличением сказать, что оно стало стержнем, основой современного этапа этой традиции: как известно, такой основой стал «неопаламитский синтез» классической патристики, византийского богословия энергий и аскетической антропологии. Это — опытное учение о синергии и обожении, о христоцентрической стихии диалогического Бого-
____________
1 Лосский В.Н. С. 159.
2 Он же. Очерк мистического богословия Восточной Церкви // Богословские труды. Т. 8. М., 1972. С. 93.
3 Florovsky G. Catholicity of the Church // Florovsky G. Collected Works. Vol. 1. Belmont, MA., 1972. P. (курсив автора). (Русский перевод см. в: Флоровский Г. В. Избранные богословские статьи. М., 2000. - Ред.).
4 lb. P. 43-44.
5 Флоровский Г. В. Цит. соч. С. 283, 278.
6 Лурье В. М. Преамбула Комментария. Цит. изд. С. 341.
177
общения, в котором весь человек, в цельности своего существа, возводится к преображающему воипостазированию, вхождению в горизонт личного бытия-общения: в Божественную жизнь. Но эта христоцентрическая и энергийная стихия обладает неотъемлемым качеством, измерением церковности: и в этом своем измерении она верно и глубоко передается учением о соборности. Соборность выступает здесь как имманентный интерсубъективный аспект обожения: интерсубъективность, прошедшая благодатное «преображение Духом», интегрированная в мета-антропологическую перспективу обожения. В таком освещении учение Хомякова — живая и актуальная часть наследия, которая, получив уже определенную оценку и статус, тем не менее активно продолжает исследоваться и не менее активно привлекается к решению насущных богословских проблем.
В православном богословии наших дней найдется много примеров этого современного отношения к хомяковскому наследию. На смену исследованию самого принципа соборности в центр выдвигается раскрытие его места и значения в православном вероучении, его связей с другими богословскими разделами, а также и практическое внедрение соборности в церковную жизнь, «практика соборности», по выражению отца Александра Шмемана. В богословии Шмемана соборность последовательно выступает как «само существо православного понятия Церкви», как принцип, определяющий православное понимание храма:
«Храм — это прежде всего место собрания Церкви... храм переживается и ощущается как собор, как собрание воедино — во Христе — неба и земли и всей твари»1, литургии и Евхаристии:
«Собрание в Церковь есть основание всей литургии... Евхаристия определяется и рассматривается как "таинство собрания"... Собрание всегда считалось первым и основным актом Евхаристии»2, и самой Церкви:
«Вся жизнь Церкви соборна. Каждый акт созидания ею самой себя — богословие, молитва, учительство, проповедь, слушание — имеет соборный характер»3. — Все эти явления соборности, по Шмеману, имеют один общий исток в соборности самой христианской онтологии, соборности Пресвятой Троицы: «Пресвятая Троица, Бог и Божественная жизнь... сущностно-совершенный собор... Троица есть совершенный Собор»4. Шмеман также стремится показать, что видение всей икономии Церкви, всей новой жизни во Христе как стихии соборности было присуще церковному сознанию раннего христианства, и потому принятие учения о соборности является восстановлением, возвратом первохристианского видения.
Что касается «практики соборности», то обращение к Хомякову стало почти непременным при обсуждении проблем авторитета и непогрешимости суждения в Церкви, значения соборов и Вселенских Соборов. У Шмемана мы найдем трактовку смысла и роли церковной иерархии на основе принципа соборности: по этой трактовке иерархия в Церкви реализует не отношения власти и подчинения, но необходимое свойство соборного образа бытия как бытия личного — все лица, входящие в соборное единство, различны и уникальны, а значит, и наделены каждое своим личным призванием, личной харизмой на занятие своего уникального места в Церкви. Поэтому иерархия в Церкви — осуществление «соборной иерархичности», которая означает признание всеми личной харизмы каждого на его уникальное место и служение. Осмысление в свете соборности разных сфер жизни церкви содействует реальному обновлению этой жизни. Все чаще принцип соборности выступает как практический ориентир, помогающий определить позицию в широком спектре про-
____________
1 Протопресвитер Александр Шмеман. Евхаристия. Таинство Царства. Париж, 1988. С. 23. (Есть переиздание: М., 1992. - Ред.).
2 Там же. С. 27, 14, 18.
3 Он же. Церковь, мир, миссия. М., 1996. С. 193.
4 Там же. С. 192, 194.
178
блем. Так формулирует отец Иоанн Мейендорф свой основной тезис при обсуждении вопроса о соединении церквей: «Единство Церкви — не дело рук человека, но есть дар Божий, который может быть лишь принят или (если он утрачен) обретен вновь»1. Влияние Хомякова здесь ясно без доказательств. В экклезиологических дискуссиях в связи с получением автокефалии Русскою Церковью в Америке (1970 г.) в статьях отца Александра Шмемана и др. идеи Хомякова играли роль практических аргументов. Но одновременно эти идеи продолжают подвергаться изучению и критическому анализу. Неизбежным образом выявился ряд спорных и слабых пунктов богословских воззрений Хомякова. Самый простой и очевидный из них — всегда отмечавшиеся «полемические заострения» (Мейендорф) в оценках западного христианства; но некоторые связаны и с тонкими богословскими проблемами. Главные возражения рождает уже не раз упомянутый хомяковский «гипер-холизм», уничтожающий «синергийную полноценность» частей Целого. Эта особенность означает умаление, недооценку благодатной стихии в жизни личности, а также и Поместной Церкви, что, в свою очередь, влечет целый спектр спорных или неверных позиций в проблемах святости и обожения, молитвы, конституции Поместной Церкви, отсюда — в христологии и сотериологии. Здесь возникают глубокие вопросы, которые явно потребуют еще внимательной богословской работы.
Первая посмертная публикация богословских сочинений Хомякова в России, в журнале «Православное обозрение» в 1863 г., предварялась заметкой от редакции, где говорилось, что труды Хомякова «возбуждают богословскую мысль к самостоятельной работе». Сегодня, как и при первом появлении этих трудов, такое суждение продолжает быть верным.
____________
1 Протоиерей Иоанн Мейендорф. Что такое Вселенский Собор? // Протоиерей Иоанн Мейендорф. Православие в современном мире. Нью-Йорк, 1981. С. 87 (курсив автора). (Есть переиздание: М., 1997. - Ред.).
179
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
