13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Альмен фон, Жан-Жак
Альмен фон, Жан-Жак Евхаристия, Церковь и мир
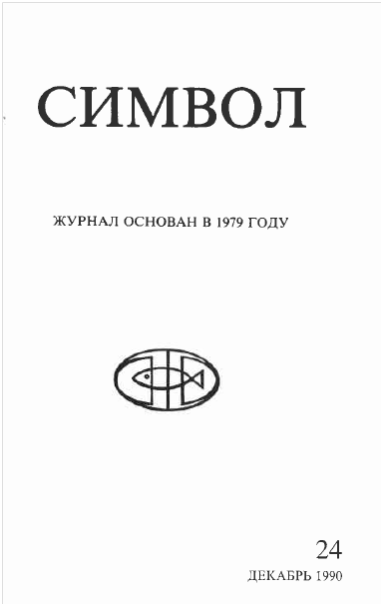
PARIS
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Жан-Жак фон Альмен
ЕВХАРИСТИЯ, ЦЕРКОВЬ И МИР
Введение
В наше время Церковь довольно часто оказывается перед альтернативой: либо оставаться самой собой, сосредоточиться на своей «сущности» и посредством поиска самой себя и выражения своей собственной специфики определить все то, что отличает ее от окружающего мира, — либо же присоединиться к миру, отдаться выполнению своих апостольского и диаконского служений, подвергаясь при этом опасности — «отстраниться» от своей глубинной сущности, риску—погрузиться в некий кенозис, который охватит все, включая ее будущее и судьбу.
Но, может быть, вопреки мнению какого-нибудь страстного поборника одного из возможных решений проблемы, составляющие подобной альтернативы не столь уж полно исключают друг друга. Однако для того, чтобы Церковь гармонично сочетала в себе свою сущность и свое делание посредством некой диалектики, которая, так сказать, сглаживала бы острые углы альтернативы, необходимо найти некое «место», которое неврежденно сохраняло бы и то, и другое, более того: «место», которое требовало бы их обоих. Я полагаю, что таким местом, такой точкой соприкосновения двух аспектов Церкви и является Евхаристия.
Неизбежная, необходимая краткость данного изложения обязывает меня предложить здесь лишь весьма конспективный и сжатый анализ. Тем не менее я надеюсь изложить его достаточно ясно, чтобы дать возможность читателю дополнить, акцентировать и исправить мой схематичный труд.
103
Я начну с напоминания о космическом измерении и характере Евхаристии. Во второй части своего изложения я постараюсь перечислить опасности, в силу которых трапеза Господня рискует потерять свой изначальный смысл, «так, что это [уже] не значит вкушать вечерю Господню» (1 Посл. к коринфянам, гл. 11, ст. 20), ради вкушения которой собирается Церковь. И наконец, мы поговорим о прообразовательном эсхатологическом (заменяющем) характере христианского культа 1).
1) Болееподробно см. вмоей книге: J. J. von ALLMEN Essai sur le Repas du Seigneur. Neuchâtel-Paris, 1966..
104
ГЛАВА 1
Мир небезучастен к совершению Вечери
Мир небезучастен к совершению Вечери, даже если он почти и не обращает на нее внимания. Каждый раз, когда она имеет место, таинственно, сокровенным образом совершается История. Действительно, служение, совершение Вечери — это анамнезис, воспоминание кульминационного момента Истории мира. Попытаемся рассмотреть, что это означает.
«Всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Посл. к коринфянам, гл. 11, ст. 26) 2). Если мир небезучастен к совершению Вечери, то именно потому, что событие, которое возвещается апостолом 3), представляет собой кульминационный момент его, мира, Истории: то есть речь идет об искупительной смерти предвечного Сына Божьего, воплотившегося в человеке Иисусе из Назарета.
В связи с этим я хотел бы сделать четыре замечания.
Первое. При внимательном чтении Нового Завета можно заметить, что в словах, повествующих о Страстях и Воскресении Иисуса, таится и одновременно раскрывается убеждение апостолов в том, что в это время поистине происходит конец мира и замена его жизнью будущего века. Они, конечно, знают, что это изменение произошло не явно, что «мир сей», или «век сей», как они о нем говорят, еще длится — и преисполнен великой мощи, — и, что «будущий век» дает еще только первые побеги. Но поистине изменение все-таки произошло, и они призваны сказать об этом людям, чтобы те, в свою очередь, приняли это, не убоявшись опасности, и жили этим «совершилось» (Еванг. от Иоанна, гл. 19, ст. 30): бунт человека и любовь Бога не могут простираться далее, нежели крест Иисуса Христа и Его опустелый гроб. В грядущих событиях не будет ничего нового в собственном смысле этого слова, они лишь подтвердят, проиллюстрируют, используют этот конец и новое начало мира; все же в этих грядущих
2) Глагол «возвещать» здесь, вероятно, означает торжественное возвещение некоего основополагающего события; речение «доколе Он придет» обладает определенным каузальным измерением: «в убеждении, что Он придет, и ради того, чтобы Он пришел».
3) Как показывают иудейские литургические параллели, это «возвещение» обращено к собранным для Трапезы: оно не имеет непосредственного миссионерского измерения.
105
событиях можно различить два обладающих огромной назидательной силой момента: момент, когда человек соглашается с этим концом и этим новым началом, принимает их в себя, соглашается умереть, чтобы вновь родиться во Христе, — это и есть момент крещения; и другой момент, который посредством некоего космического крещения положит конец самой Истории, и мир исчезнет, чтобы обновиться и предстать в новом образе — в образе новых небес и новой земли. Следовательно, совершая анамнезис смерти и воскресения Христа на Тайной Вечери, Церковь совершает нечто такое, что непосредственно относится к миру: она совершает его конец (и таким образом, Тайная Вечеря представляет собой опасность для мира) и его новое сотворение (и таким образом, Тайная Вечеря представляет собой некое благое обетование мира).
Мое второе замечание относится к невозможности отделить Великую Пятницу от Пасхи и, стало быть, анамнезис Смерти Христа — от анамнезиса Его Воскресения. С самой глубокой древности в литургических текстах содержится указание на эту связь; анамнезис включает в себя не только воспоминание смерти Христа, но и самого Христа («Делайте это в Мое воспоминание...»): Его смерть и, следовательно, Его воскресение, Его прославление, все, что связано с Его страстями и Его победой, Его учением, Его чудесами, Его обещаниями и, в частности, обещанием нового пришествия. Более того, подобно тому как некогда вокруг Ноева ковчега было собрано все, что должно было перейти с берега Божьего гнева на берег Его прощения, так и вокруг креста, в его анамнезисе сосредоточено, собрано все, ради чего Христос пришел умирать. Именно на выражение этого и направлено все красноречие создателей литургий древней Церкви. Вспомним, например, об евхаристической молитве «Апостольского предания» Ипполита Римского или о вступлении к анафоре «Апостольских постановлений». Невозможность совершить анамнезис смерти Христа вне анамнезиса Его воскресения (вместе с заключенной в нем надеждой для мира) проявляется в факте, который, мне кажется, в высшей степени симптоматичен: по традиции анамнезис смерти Христа совершается не в день Его смерти, то есть в пятницу, а в день Его восстания из мертвых — в воскресенье.
Третье мое замечание относится к смыслу анамнезиса. Недавние исследования, и «протестантские» и «католические», показали, что в анамнезисе речь идет о чем-то большем, чем воспоминание, делание памятования. В анамнезисе мы имеем дело с литургическим актом иудейского типа, при котором, следуя учрежденному, чаще всего
106
Самим Господом, порядку, человек становится участником и «благо- получателем» в главном событии истории спасения — через установленный ради этого чин воспоминания. Совершать Пасху, например, это значит — самому проходить через «Чермное море» по дороге, ведущей из египетского рабства к покою земли обетованной. Если же Тайная Вечеря была учреждена Христом с целью установления воспоминания о Нем самом и Его служении, то именно ради того, чтобы те, кто ее совершают, становились причастниками Его жизни и Его спасения. Он становится для них «хлебом жизни». В противоположность широко распространенному мнению, именно анамнезистический характер Тайной Вечери определяет и гарантирует ее реализм и действенность. Здесь, я полагаю, перед нами наиболее убедительное свидетельство следующего: если мы не хотим потерять Евангелие, то не должны и не можем исторгать его из иудейской почвы.
Последнее замечание. Мы живем в период, когда верующих всех Церквей охватывает глубокое сомнение: на протяжении тысячелетия — и больше — привыкшие к христианству, которое уже не представляет собой какого бы то ни было «камня преткновения»; посредством библейских и патриотических исследований первой половины нашего века призванные к новому, основанному на пасхальной тайне пониманию Евангелия; внезапно ясно осознавшие, что такая концентрация внимания на смерти и воскресении Христа подразумевает признание, что люди не захотели принять Христа, поскольку они Его убили, и что, следовательно, Евангелие представляет собой «камень преткновения», своего рода «скандал»; смущаемые теми, кто пытается смягчить другой «камень преткновения», каким является утверждение, что Иисус вышел за пределы смерти, в которую люди, как им казалось, заключили Его, и кто нагромождает аргументы против исторической достоверности пасхальных повествований; настойчиво призываемые миром, все призывы и вопли которого устремлены к иному (на первый взгляд), чем то, что возвещает Евангелие, — мы, христиане, хорошо знакомы с соблазном «поставить в скобки» пасхальную тайну или вырвать ее из истории Иисуса из Назарета, дабы просто ограничить Его рамками современной нам истории. Такого рода соблазн ужасен. Для того, чтобы оградиться от этого соблазна и преодолеть его, по- моему, необходимо твердо держаться того, что основывает и оправдывает все современные аллюзии на пасхальную тайну, и того, что определяет их историчность и заставляет обращать внимание на все это: то есть следует хранить уверенность в правдоподобности событий, о которых повествует Евангелие страстей и воскресения Христа. Если
107
Христос не умер и не воскрес в истории, то все исторические события, которые, по-видимому, свидетельствуют о страстях и воскресении Христа (и все они так или иначе намекают на то, что произошло в Великую Пятницу и на Пасху) тоже теряют весь свой исторический смысл: вместо того, чтобы составить, как обычно выражаются, «христианское прочтение истории», они становятся в полной мере неудобочитаемыми для христиан. И Тайная Вечеря, и она тоже, становится неспособной обосновать то, что должна совершать Церковь в мире.
Совершение Тайной Вечери непосредственным образом затрагивает Творение. И в этом также проявляется свойственное ей космическое измерение.
« И когда они ели, Иисус, взяв хлеб... и взяв чашу...» (Еванг. от Марка, гл. 14, ст. 22 и далее). Эти на первый взгляд безобидные слова, дважды повторяемые в рассказе об установлении Тайной Вечери, заслуживают более подробного рассмотрения. Действительно, они содержат в себе богатейшее содержание. Постараемся раскрыть его с помощью трех замечаний.
Первое. Недавняя богословская литература, посвященная Евхаристии, в частности англосаксонская литература, большое внимание уделяет тому факту, что Иисус, для того чтобы обозначить Свое реальное присутствие и определить Себя, как Того, Кто дает жизнь миру, прибегает не к элементам этого мира, непосредственно почерпаемым в Творении (таким, как, например, крещальная вода), но к элементам, являющимися плодом человеческого труда. Он использует не зерна, а хлеб. Он пользуется не виноградом, а чашей вина (может быть, немного смешанного с водой, согласно иудейскому пасхальному обычаю). В этом имеется свой смысл. И все же мне это кажется в смысловом отношении менее значительным, чем тот факт, что Иисус, чтобы учредить анамнезис, то есть воспоминание о Себе, заимствует нечто из этого мира, которое становится таким образом действенным обозначением Его личности и Его делания: Он берет хлеб и вино, чтобы они обозначали Его тело и кровь и становились ими. Следовательно, здесь надо отметить прежде всего верность Евхаристии «движению» воплощения: творение Бога есть место, рамки и средство Его пришествия; в этом творении и через это творение совершается Его пришествие — и через это оно, пришествие, свидетельствует о местоположении того, что Он хочет найти и спасти. Христос не спасает от «мира» (конечно же, Он спасает от «мира», который не хочет быть в Нем восстановлен), Он спасает мир, и для его
108
спасения Он — и это первое с чего он начинает — входит в него, дабы в нем жить и в нем умереть и призвать его к Своему служению и — таким образом — к спасению.
«Взяв хлеб...» Второе мое замечание относится к взаимосвязи между этим глаголом и библейским понятием избрания. Избрание заключается уже, а может быть и прежде всего, в том факте, что, для того чтобы установить анамнезис своей личности и своего делания, Иисус избирает, если не иудейскую пасху (этот вопрос продолжает обсуждаться учеными), то, по крайней мере, (и по этому вопросу мнения сходятся), дух иудейской пасхи, таким образом навсегда связывая то, что Он сделал для спасения мира, с тем, что характеризует и определяет народ Израиля. Но это не только выбор хлеба и чаши благословения. Прежде всего, это выбор праздничной трапезы — конкретной, общинной, всем известной (следует вновь к этому вернуться, когда разговор пойдет об агапе.) Далее, во время этой трапезы как бы выносится приговор хлебу и чаше, ибо до тех пор, пока Иисус не возьмет их, они не способны достичь своего предназначения: именно теперь, после того как Он взял их, хлеб и чаша обретают подлинное оправдание своего существования, становясь знамением и средством спасения. Таким образом, взятый Иисусом хлеб становится хлебом, выявляющим свои глубочайшие потенциальные возможности, хлебом, достигающим своего назначения; а до этого он был хлебом, утерявшим свою цель, «хлебом, который не насыщает» (Исаия, гл. 55, ст. 2), как манна в пустыне (Еванг. от Иоан на, гл. 6, ст. 58). Теперь он становится хлебом, который обещает тому, кто его вкушает, жизнь вечную (Еванг. от Иоанна, гл. 6, ст. 58), той «сокровенной манной», о которой говорится в Откровении (гл. 2, ст. 17). Наконец, в этом прежде всего содержится как бы призыв ко всем трапезам стать знамением этой трапезы, всякому хлебу стать упованием или поминанием этого хлеба, а всякой чаше стать воспоминанием об этой чаше или прообразом ее. Избрание отделяет и отличает лишь для того, чтобы с еще большей полнотой вовлечь и осиять. Подобно тому как избрание Израиля делает из этого особого и единственного народа свет народам, избрание Иисусом хлеба и чаши ставит эту евхаристическую трапезу в таи нет венную связь со всякой трапезой, со всяким совместным деланием и всякой человеческой общиной.
«Взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал им: примите, ядите, сие есть тело Мое...» Мое третье замечание относится к будущему мира, которое открывается Тайной Вечерей. Пользуясь градацией Барта, можно сказать, что кого Бог избирает, того Он оправдывает,
109
того Он и освящает, того и прославляет. Совершение евхаристической трапезы имеет преображающее значение. Благодаря ему полностью концентрируется и расцветает вся тайна Вечери. История богословия показывает, что оказывают плохую услугу Церкви те, кто, подобно Моисею, зашедшему сзади, чтобы узнать, отчего не сгорает «неопалимая купина», вышелушивают, вместо того чтобы славословить, или навязывают свое толкование, вместо того, чтобы призывать к умножению благодарения. Итак, здесь следует сохранять осторожность и дискретность — не для того, чтобы бежать от тайны изменения, которое совершается во время Вечери, но именно потому, что наше понимание конечных преображений может быть лишь очень приблизительным. В связи с этим можно было бы воспользоваться некоей аллюзией (весьма вероятно, принадлежащей апостолу Павлу) на евхаристическое учение ранней Церкви и сказать, что под воздействием Святого Духа хлеб и вино «воскресают», становятся «духовной пищей и духовным питием» (1 Посл. к коринфянам, гл. 10, ст. 3 и далее),—подобно тому как наши тела, преображенные воскресением, превратятся в «духовные тела» (1 Посл. к коринфянам, гл. 15, ст. 44). Так же как воскресение Христа предвосхищает конечное воскресение людей, Вечеря есть место и время, где и когда таинственным образом окончательное космическое преображение обретает свое подтверждение и уверенное предзнаменование. Церковная Евхаристия своей внутренней связью с Воскресением периодически вводит мир в будущее, которое его ожидает. Также и в этом смысле она, согласно формулировке Игнатия Антиохийского, является «эликсиром бессмертия, противоядием, дабы не умереть, но вечно жить во Иисусе.» (Посл. к ефесянам Игнатия Антиохийского, гл. 20, ст. 2). Впрочем, один из наиболее известных аспектов христианской веры состоит в исповедании того, что здесь, на Вечери, в ней, будущее мира уже вторгается в историю этого «мира» — как в утро Пасхи. Присутствие Вечери указывает на последовательность этапов Истории, в которых уже пребывает Царство Небесное. Таким образом подчеркивается мессианский характер евхаристической трапезы: Тот, Кто ее устанавливает, Кто в ней вновь приходит (Maranatha), Кто ее возглавляет, Кто себя в ней отдает, Кто заканчивает ее благословением, — это Иисус из Назарета, Израильский Мессия 4). Эта трапеза — окончательного, совершаемого в радости, утоления, трапеза, которую народ Израиля
4) Явление Воскресшего Одиннадцати вечером в день Пасхи, как об этом свидетельствует евангелист Лука (гл. 24, ст. 36-53), представляет собой как бы схему культа рождающейся Церкви.
110
ждал в конце времен, — уже собирает вместе ради куска хлеба, — но уже хлеба жизни — и глотка вина,— но уже нового вина — тех, кто признали в Иисусе Помазанника Божьего и этим поставили под угрозу свою жизнь. Тайнодейственным образом обетования уже исполнились, будущее уже началось. Будущее мира — уже в самом мире. Вот почему Тайная Вечеря столь важна для мира, несмотря на то, что здесь, на земле, она никем, так сказать, не «рекламируется».
Эти слова могут показаться безумными, не правда ли? Разумеется... но не для тех, кто произносит их в вере. Misterium fidei,тайна веры,— вот что такое Тайная Вечеря, и вне этой веры она не может быть понята. В то же время эта вера не должна смешиваться с религиозным чувством. Скорее следовало бы сказать, что Евхаристия защищает и глубочайшим образом выражает специфичность христианской веры: то есть присутствующие на Евхаристии христиане исповедуют, что в Иисусе из Назарета, в его пришествии, в его отверженности людьми, в его казни, в его вхождении в смерть и выходе из смерти, в раскрытии его Владычества совершилось нечто реальное, решающее для самой истории мира и для истории каждого отдельного человека. Мессия проскользнул во времени, инкогнито, ибо его любовь жаждала достичь тех, кому он себя предал, чтобы все «свершилось» (см. Еванг. от Иоанна, гл. 19, ст. 30), чтобы восстановить историю людей и историю мира, чтобы придать этому «всему», о котором так часто говорит апостол Павел (см. 1 Посл. к коринфянам, гл. 6, ст. 8; Посл. к ефесянам, гл. 1, ст. 10; гл. 4, ст. 10; Посл. к колосянам, гл. 1, ст. 19 и далее; Посл. к фессалоникийцам, гл. 3, ст. 21; Посл. к римлянам, гл. 11, ст. 32 и т.д.), направленность и оправдание. В этом и заключается христианская вера: исповедовать, что в Иисусе из Назарета то, что должно совершиться только в конце времен (и что обернулось бы нашей гибелью), уже таинственно свершилось (в этом и состоит наше упование прославления). Главная суть христианской веры не в том, чтобы говорить, что Бог есть. Христианская вера есть прежде всего исповедание того, что Иисус из Назарета— это Тот, в Ком, вопреки всем нам, свершились Божии обетования и исполнились молитвы рода человеческого. И христиане верят в это, потому что они верят, что Христос победил смерть. Вера христиан проявляется именно в исповедании пасхальной победы, так как «если Христос не воскрес, то вера наша тщетна» и «мы несчастнее всех человеков» (1 Посл. к коринфянам, гл. 15, ст. 17 и далее), так как мы в этом случае обманулись бы в том, ради чего поставили под угрозу свою жизнь.
Исповедовать христианскую веру, которая остается «камнем преткновения» для человеческого разума, это значит признать тайну,
111
совершающуюся в Страстях Христовых: конец нашей немощи и вторжение того, что автор послания к Евреям называет «силами будущего века» (гл. 6, ст. 5). Однако необходимо не только признать это, но и войти в это самому, участвовать в этом самому, принять, дабы в нас повторилось то, что произошло тогда: согласиться умереть вместе со Христом, дабы воскреснуть с Ним. Вера достигается ценой умерщвления самости, через рискованную самоотдачу, которая имеет шанс не быть худшим из обманов только в том случае, если Христос воистину воскрес и если Его воскресение сильнее нашей смерти и, следовательно, может нас опять наделить жизнью. Я попытался, довольно неловко, вновь повторить то, что уже сказано в Новом Завете, в частности у апостола Павла, о крещении, лишь после которого (см. Посл. к римлянам, гл. 6, ст. 1-14; Посл. к колосянам, гл. 2, ст. 8; гл. 3, ст. 17; Посл. к галатам, гл. 1, ст. 3 и далее) Тайная Вечеря реализует то, что она обозначает: она действительно есть хлеб жизни для тех, кто наделен жизнью, пища будущего для тех, кто уже воскрес со Христом. Крещение, предшествующее Вечери и приводящее к ней, указывает на следующее: для того, чтобы различать то, что происходит во время Евхаристии, необходима вера. Действительно, что представляет собой Евхаристия без веры? Священная трапеза, для которой можно найти параллели в других религиях, общая человеческая трапеза, связывающая и обязывающая тех, кто вкушает вместе, как и во время других совместных братских трапез, собрание-воспоминание, бесплодная мечта, роковая иллюзия? Необходимо признать в Иисусе из Назарета освободителя мира, а также его умиротворителя и заступника, чтобы анамнезис, который построен на воспоминании о Нем, стал бы, субъективно говоря, деланием, через совершение которого те, кто его совершают, живут тем, что они совершают.
Субъективно говоря... Одна ко следует говорить и объективно. Здесь прежде всего надо упомянуть о двух моментах. Первое. Отнюдь не верой совершающих трапезу эта трапеза становится трапезой Господней. Их вера позволяет им понять, увидеть происходящее, подобно тому как она им позволяет признать и исповедовать Мессию в лице Иисуса из Назарета, но не превращать Его в Мессию. Второе. Также и не тот, кто возглавляет евхаристическое служение, превращает эту трапезу в трапезу Господню. Конечно, тот, кто олицетворяет учредившего эту трапезу Христа, тот, кто повторяет Его слова, не может по собственной воле сделать себя возглавителем евхаристического собрания: он должен быть, так сказать, узаконен как наместник, заместитель Христа, Его посланник, или «апостол», в котором вновь
112
присутствует сам Христос («Кто принимает вас, принимает Меня») (Еванг. от Матфея, гл. 10, ст. 40; Еванг. от Иоанна, гл. 13, ст. 20), и он должен быть признан как таковой. Но все-таки не он превращает эту трапезу в трапезу Господню. Это творит Святой Дух. Поэтому уже очень и очень давно, и, может быть, с самой глубокой древности в той или иной форме существует эпиклезис, призывание Святого Духа на хлеб, чашу, общину, чтобы Его благодатью свершилось то, что превышает человеческие силы: превращение, преложение хлеба, вина и всего евхаристического собрания в тело Христа. В этом смысле можно сказать, что эпиклезис охраняет анамнезис от всякой магии, что призывание Духа предлагает деланию Духа некое Слово, хлеб, вино, служение, крещенных, дабы Он, Дух, даровал им способность превратить Вечерю в то, во что хотел ее превратить Христос, когда устанавливал ее (христиане Востока сумели, я полагаю, ясным и доходчивым образом напомнить об этом западным христианам). И мы возвращаемся к тому, о чем я уже говорил выше: будучи совершаемой Духом, Который есть «залог наследия нашего» (Посл. к ефесянам, гл. 1, ст. 14), «залог» Царства (см. 2 Посл. к коринфянам, гл. 1, ст. 22; гл. 5, ст. 5), Тайная Вечеря поистине дает возможность будущему мира уже теперь присутствовать здесь, на земле.
113
ГЛАВА II
А если бы Церковь потерпела неудачу с Вечерей?
А если бы Церковь потерпела неудачу с Вечерей? если бы она сама ослабляла ее действие или даже извращала ее? Не только она пострадала бы от этого: ее миссия в мире и, следовательно, сам мир при этом также пострадал бы. Так как если Церковь не способна претворять Вечерю в трапезу Господню, то она вполне может умалить и в результате даже исказить ее. В качестве доказательства можно привести слова апостола Павла о том, что трапеза, для совершения которой собираются коринфяне, не является трапезой Господней, поскольку каждый на ней «вкушает свою пищу» (1 Посл. к коринфянам, гл. 11, ст. 20 и далее). 5)
Церковь всегда сознавала, что Христос вручил ей неоценимое сокровище, оставил ей повеление совершать Трапезу и осуществлять обетования этой Трапезы. Церковь неизменно старалась защитить это сокровище от всего того, что способно нанести ему ущерб. Однако по меньшей мере можно сказать, что эта бдительность не смогла различить все угрозы и что множество ударов было нанесено по Вечери потому, что Церковь полагала, что опасность таится лишь в том направлении, куда она направляла все свое бдительное внимание. Совершенно очевидно, что одним из ударов по Вечери, одним из факторов, способных ее скомпрометировать, является, так сказать, узурпация служения, возложенного на возглавителя евхаристического собрания. Однако сведение к этой одной опасности всех возможных опасностей, привело к мнению, что единственное, что может действительно скомпрометировать Вечерю, это возглавление ее человеком, чьи верительные грамоты служения не были повсеместно признаны. Но подобное мнение является упрощением, и Церкви должны от него решительно отказаться. Существуют и другие способы наносить удары по Трапезе Господней или же компрометировать ее. Лукавый с великой ненавистью относится к этой трапезе, поэтому он нападает на нее не только со стороны юридической, но
5) Способ выражения, каким в этом тексте пользуется апостол, не позволяет ясно понять, что он понимает под этим. Тем не менее очевидно, что в любом случае он подразумевает некоторую несовместимость между той трапезой, в какой коринфяне желали видеть Трапезу Господню, и самой этой Трапезой: их образ совершения Трапезы искажал Трапезу Господню
114
открывает против нее и другие фронты; и ему удается это тем легче еще и потому, что Церковь предстает перед ним как бы завороженной защитой, предоставляемой ей лишь одним из многочисленных аспектов Вечери. Нисколько не умаляя этот присущий долгу Церкви аспект, — впрочем, это и невозможно, поскольку в центре дебатов относительно поисков достижения Единства стоит проблема апостольской преемственности и ее понимания, и, следовательно, права того или иного лица председательствовать на Трапезе в качестве того, кто замещает Господа, — я хотел бы здесь остановиться на других фальсификациях Вечери, которые равным образом и столь же полно следует раскрыть именно потому, что они, может быть, более непосредственно касаются миссии Церкви в мире.
1. Недостаток любви
Прежде всего, ослабляет, компрометирует, искажает трапезу Господню недостаток любви — недостаток любви как к Христу, так и к братьям. Церковь — невеста Христова. Ее жизнь состоит в том, чтобы любить Его так, как Он возлюбил ее. Весьма показательно, что в древней Церкви, где христианская вера почиталась как вера зрелых людей, каковой она и является, тема Евхаристии очень часто связывалась с темой брака, а совершение Тайной Вечери было как бы откликом на Песнь Песней. «Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою» (Откровение, гл. 2, ст. 4). В чем же заключается истощание любви? Главным образом в уклонении от общения со Христом во время Вечери. Другими словами, в неприсоединении к литургическому собранию того, кто является его членом, или в непричащении с другими членами литургического собрания того, кто не отлучен от общения, или в отказе принимать участие в Вечери во время воскресного собрания. — Все это наносит ущерб самой Вечери.
В связи с этим стоило бы задержаться на некоторых текстах древней Церкви. В качестве примера приведем лишь два из них. Первый взят из письма Игнатия Антиохийского, написанного на пороге II-го века «Церкви, достойной быть названной блаженной, Церкви в Эфесе Азиатском»: «Старайтесь собираться как можно чаще для Божьего благодарения и для прославления. Когда вы часто собираетесь для этого служения, то силы Сатаны терпят неудачу, и опасность погибели, которой он окружает вас, разбивается об единство вашей веры», (гл. 13, ст. 1). Евхаристия поддерживает эсхатологический настрой
115
Церкви и знаменует собой поражение дьявола. Второй же отрывок взят из текста III-го века, называемого «Дидаскалией апостолов», здесь епископам дается следующее наставление: «А когда ты поучаешь, то повелевай и убедительно внушай народу, дабы он всегда присутствовал в собрании церковном и не уклонялся бы, но постоянно собирался бы, дабы никто не умолял Церкви не посещая собрания и не делал бы тем Тело Христа одним членом беднее. Так как вы члены Христа, то не расточайте себя из Церкви не посещая собрания, ибо вы имеете главою Христа, как Он обещал и заповедал; следовательно, являетесь причастниками вместе с нами. Итак, не нерадите о самих себе и не похищайте у Спасителя нашего Его членов, не раздробляйте и не расточайте Его Тело» (гл. 13). Отвергать причастие — это значить наносить ущерб телу Христову, наносить ему рану; рану себе наносит и тот, кто отвергает его, поскольку лишиться причастия — это значит прежде всего нанести ущерб себе, значит презреть самого себя, забыть о том, что у нас нет более высокой чести, нежели быть членом тела Христа — причащаясь Ему.
Но лишать себя причастия, когда оно призывает, — не единственный удар против Вечери. Следует сказать также, что еще один способ нанести удар любви, которой Христос возлюбил Церковь, еще один способ отвергнуть себя от Него — это собираться в день Господень, отказываясь во время этого собрания объединиться вместе ради Трапезы Господней. Более того, я твердо убежден, что еженедельное повторение, возобновление Тайной Вечери входит в природу самой Вечери: единодушие первохристианской Церкви по этому вопросу слишком очевидно и показывает, что одновременное прославление дня Господня и трапезы Господней было угодно самому Христу, соответствовало тем указаниям, которые Он нам оставил. Я знаком с довольно обоснованными (на первый взгляд) причинами (пастырского характера), которыми — во время Реформации — оправдывали достаточно распространенное разделение, отделение прославления дня Господня от совершения трапезы Господней. Реформаторы имели веские причины полагать, что обычные мессы, совершавшиеся в средневековой Западной Церкви, уже более не являлись Трапезой Господней. Вполне возможно, что в то время, вероятно, и было необходимо в качестве церковной реформы ввести своего рода евхаристический полу-пост, некоторое воздержание. Но не полу-пост же на четыреста лет! В первую очередь хотелось бы ожидать от реформаторской Церкви, если она желает доказать, что любит Христа, чтобы она как можно скорее объединила бы прославление дня Господня с
116
совершением Его трапезы. Речь идет не о том, чтобы сохранять, в сущности, второстепенные «протестантские обычаи»: речь идет о том, чтобы показать, что наше сердце загорается в нас, когда Христос призывает нас соединиться с Ним.
Когда угасает любовь к братьям, трапеза Господня ослабляется, компрометируется и даже искажается, так как действительно невозможно любить Христа, не включая в эту любовь, не охватывая этой любовью также и тех, кого Он возлюбил. Да позволят мне здесь, рассмотреть среди множества других лишь четыре темы для размышления.
Первая связана со святым целованием, о котором упоминается уже в Новом Завете (см. Посл. к римлянам, гл. 16, ст. 16; 1 Посл. к коринфянам, гл. 16, ст. 20; 2 Посл. к коринфянам, гл. 13, ст. 12; 1 Посл. к Тимофею, гл. 5, ст. 26; 1 Поел. Петра, гл. 5, ст. 14) и которое столь обычно для древних литургий. Оно предшествует причастию, которое сплачивает умиротворенных и примиренных мужчин и женщин. Вечеря вкушается по ту сторону того, что восстанавливает людей друг против друга. И тогда неудивительно, что слова Иисуса: «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой» (Еванг. от Матфея, гл. 5, ст. 23) — уже очень рано были истолкованы в евхаристическом контексте (см. Дидахе, гл. 14, ст. 2). Евхаристия, таким образом, становится моментом, после которого причастники могут вновь вернуться в мир, как носители мира, миротворцы (Еванг. от Матфея, гл. 5, ст. 9), но также и как напоминание того, что люди не могли бы установить мир, если бы они его не получили от Царя мира и не распространили бы этот мир по Его повелению и во имя Его. Еще можно было бы добавить, что Евхаристия свидетельствует, что христианская Церковь есть крещальная община, члены которой — люди, умершие для самих себя. Вот почему из всех примеров, какие может подать Церковь, наиболее худший, губительный и унизительный — непримиримость.
Конфликты, продолжающиеся в Церкви вопреки крещению и восстанавливающие людей друг против друга в плане разных поколений, пола, расы, нации, общественной ситуации, культурного уровня, наиболее противоречат тому, чем она притязает быть. Поскольку наше воскресение совершается еще только тайнодейственным образом, то неудивительно, что эти человеческие конфликты стремятся проникнуть в Церковь и распространиться в ней. Они весьма живучи и умирают лишь с большим трудом. Но настоящая опасность возникает
117
тогда, когда Церковь устает бороться с ними и соглашается с их существованием. Поступая таким образом, она наносит ущерб Тому, Кто дал ей жизнь, и обесценивает свидетельство, которое она призвана нести миру.
Вторая тема, которой я хотел бы коснуться, связана с разделением христиан. И во время Вечери разделение проявляется особенно сильно, ибо именно тогда оно дерзает заглушать призыв к целованию мира. Тем не менее можно ли сказать, что всякое разделение христиан ошибочно? Я так не думаю. Существуют разделения, которые, как и ампутация больной части тела, являются необходимым очищающим актом скорее, нежели горестное признание в неспособности к любви. Также не удивительно, что христиане, вопреки своему крещению, иногда затевают раздоры, единственным исходом из которых, как им кажется в это мгновение, является взаимное отвержение. Вызывает опасение не столько то обстоятельство, что возникающие в определенные моменты разделения выглядят как наименее худшие решения, но скорее утверждение в этих разделениях, как если бы они должны были длиться вечно, как если бы конфликт, вызвавший разделение, имеет достаточный исторический вес, чтобы его превратить в постоянную добродетель, как если бы этот конфликт мог претендовать на превращение в абсолютную истину, имеющую непреложное значение, как, например, Рождество или Пасха, которые совершенно преобразили мир и переориентировали его радикальным образом. Вызывает опасение то, что для разделенных христиан не является самоочевидностью совместный периодический пересмотр спорных, разделяющих их вопросов, дабы, с позиций Иисуса Христа и той задачи, которую Он поставил перед Своей Церковью на земле, увидеть: сохраняют ли по-прежнему эти вопросы, «императивное» значение до такой степени, что их невозможно отбросить. Я очень боюсь, что если мы настолько нерешительны перед такого рода пересмотром или если мы собираемся это делать скорее в полемической изоляции, чем в настоящем диалоге, то это именно потому, что мы смогли бы заметить, что то, что нас разделяет, гораздо менее значительно, чем наша любовь ко Христу и наше общее убеждение, что мы выполняем миссию в мире, и что вместо того, чтобы признать перегиб, преувеличение в наших разделениях или их бесполезность, мы испытываем страх, боимся пожертвовать накопленными на протяжении четырех, девяти, пятнадцати веков конфессиональными обычаями ради свобод и дерзновений, присущих новому послушанию Духу. Итак, пришло время сказать, и не только сказать, но и еще и еще
118
раз повторить, что невозможно внушать нормальным христианам, что Церковь не имеет права быть разделенной между белыми и черными, между богатыми и бедными, между старыми и молодыми, и одновременно внушать им, что она должна оставаться разделенной на «католиков» и «протестантов».
Но — и это третья тема, над которой следует поразмыслить, — не проще ли было бы тогда отбросить все, что препятствует совершению совместной Евхаристии, делая усилия в этом направлении и — открыто или нет — все-таки принимая систему межконфессионального евхаристического общения? Эта проблема слишком обширна, поэтому мы затронем лишь некоторые ее аспекты. 6) В последующем изложении речь пойдет о таких направлениях поиска, которые имеют лишь временный характер. Однако эта проблема больше не может не ставиться: во-первых, потому, что библейское обновление 40-50-х годов напомнило христианам всех конфессий об основополагающем значении Евхаристии и причастия для культа Церкви; во-вторых, потому, что последние исследования в области церковной истории показали, насколько все великие церковные расколы (V-гo, ΧΙ-го и XVI-го веков) несут на себе отпечаток породившей их эпохи, которая не является нашей эпохой (что придает большинству христианских расколов все более и более анахроничный вид); и в-третьих, потому, что настоящие причины, по которым верующие тянутся к причастию, к какой бы Церкви они ни принадлежали, суть не такие причины, которые препятствуют им причащаться вместе: наоборот, то, что их подвигает причащаться, совершенно одинаково для всех Церквей; и наконец, проблема межконфессионального евхаристического общения не может не быть поставлена еще и потому, что Евхаристия есть по преимуществу исполнение и завершение тех молитв, апостольского, диаконского и социального служений и богословских исследований, к совместному переживанию которых призваны разделенные христиане. Предстоятели наших Церквей ведут нас такой дорогой, которая, если только мы не смеемся над Господом, непременно приведет нас всех вместе за Его стол. Проблема евхаристического общения, которая бесконечно превосходит конфессиональные противоречия, а также противоречия различных рас, общественных положений и социального происхождения, уже поставлена. Но именно: если мы ставим христианские разделения на общий уровень с разделениями расовыми, общественными и т. п., тогда на нашу долю остается
6) Подробнеесм.: 7. de Baciocchi, J. Klinker et M. Thwian. Vers l'inlercummurtion (Eglises en dialogue, 13). Marne, 1970.
119
полное, безнадежное отчаяние, ибо нет никакой надежды вновь обрести единство в Церкви. Ведь всегда будут белые и черные, и они ими останутся до конца времен, и всегда были и будут среди нас бедные. Однако было бы неоправданным преувеличением считать, что события, имевшие место в V, XI или XVI веках, привели в тогдашние времена к неотменяемому решению, что отныне и навсегда будут существовать, «не-халкидоняне», «православные», «католики» и «протестанты». Евхаристическое общение, которое довольствовалось бы пророческим преодолением условий, которые сохранятся вплоть до наступления Царства Божьего, не годится для разделенных Церквей. Их примирит вовсе не евхаристическое общение в таинстве причастия (действительно, такое общение предполагает продолжение существования разных конфессий, из рамок которых выходят ради евхаристического общения в таинстве причастия), а вновь найденное общение и, вследствие этого, конец разделений, конфессий, или деноминаций. Межконфессиональное евхаристическое общение не упраздняет христианского разделения, но даже как бы узаконивает и поддерживает его. Можно возразить, что такое евхаристическое общение ставит это разделение под вопрос. Это действительно так. Но если мы желаем совершить это неким приемлемым образом, то должны сделать это ради вновь обретаемого единства. Следовательно, чтобы не превратиться в пустую затею, межконфессиональное евхаристическое общение в таинстве причащения предполагает совместное участие разделенных Церквей в дискуссиях и переговорах, направленных на объединение. Межконфессиональное евхаристическое общение — нетерпеливое и протестующее, не желающее стать двигателем желаемого взаимного объединения и подготовительным опытом искомого объединения, неспособно действенным образом положить конец недостатку любви между людьми: в этом случае оно просто покрывало бы наши древние распри, не вырывая их из действительности нашей современной церковной жизни. Но если так надо говорить, дабы предостеречь от поспешного межконфессионального евхаристического общения, то равным образом следует настойчиво (с неотступностью вдовы, представшей перед неправедным судьей) (Еванг. от Луки, гл. 18, ст. 2-5) призвать предстоятелей Церквей, чтобы они регулярно, максимум каждые два года, убедительным образом объясняли, — также и прежде всего тем из верующих, которые не углубляются в богословские тонкости, — почему следует запретить межконфессиональное евхаристическое общение, если оно должно быть запрещаемо.
120
А «те внешние», как называет их Новый Завет (см. Еванг. от Марка, гл. 4, ст. 11; 1 Посл. к коринфянам, гл. 5, ст. 12 и далее; Посл. к колосянам, гл. 4, ст. 5; 1 Посл. к Тимофею, гл. 4, ст. 12), может быть, у них тоже есть место за столом Господним? И разве он не был воздвигнут в знак всеобщего примирения? Все те, кто придут в Царство с Востока и Запада, чтобы воссесть с Авраамом, Исааком и Иаковом, разве их не надо уже пригласить вкусить первые плоды мессианской трапезы и открыть им доступ к столу святому — как в притче о брачном пире, когда господин послал своих рабов собрать по дорогам тех, кого они там найдут, поскольку трапеза была приготовлена раньше срока и те, кто был в первую очередь приглашен на этот пир, отказались прийти на него? (Еванг. от Матфея, гл. 22, ст. 1-14; Еванг. от Луки, гл. 14, ст. 16-24) Действительно, мы знаем, что к Церкви обращены настойчивые призывы убрать все те препятствия, что преграждает путь к столу Господню. Принимание всех, ради кого Христос умер, не выделяя никого и не выдвигая каких-либо предварительных условий, — неужели это и есть Любовь? Положительный ответ на этот вопрос привел бы к противоречию со всей совокупностью христианского предания, включая и то, что содержится в словах Иисуса (см. Еванг от Матфея, гл. 22, ст. 11-14). Действительно, Тайную Вечерю нельзя снести только к своего рода прообразу мессианской трапезы. Она также и анамнезис личности и делания Иисуса и брачная встреча Христа и Церкви. Теснейшим образом связанная со всеми трапезами Христа, о которых говорится в Евангелии, — когда Он умножает хлебы, когда Он принимает приглашения вкушать вместе с самыми грешными людьми, — Вечеря, тем не менее, отличается от них, она есть нечто иное: это — совершенная отдача Христу тех, кто в ней участвует, отдача Христу, который полностью отдал Себя им и ради них. В этом причастии не участвует тот, кто этого не хочет, кто не признал в Иисусе Христе, умершем и воскресшем, «хлеба, который дает жизнь миру» (Еванг. от Иоанна, гл. 6, ст. 33). Не в силу некоего эгоизма Церковь защищает подступы к своей Евхаристии (к этому следует еще вернуться). Она совершает это потому, что временно приходится различать между Церковью и миром — крещение само по себе доказательство тому — а также потому, что ей не дано стереть это различие — как если бы Царствие Небесное уже было видно невооруженным глазом — без необходимости прибегать к некой «рентгенографии» сущего, которая становится возможной благодаря вере.
121
2. Апостольская бездеятельность
Также и апостольская бездеятельность компрометирует, ослабляет и искажает трапезу Господню, Церковь, потерявшая силы и дерзание миссионерской Церкви, противоречит тому, к чему стремится Вечеря: этой еженедельной встрече с Воскресшим, в процессе которой Он обновляет Свой миссионерский призыв. Встреча с Ним неизменно выливается в посланничество. Если мы принимаем Его, то неизбежно, уже потому, что мы несем Его в себе, устремляемся туда, куда Он желает идти: к другим. Каждая Вечеря продолжает «движение» Рождества: приход в мир Того, Кто может и желает быть для мира надеждой и славой. Христиане, рожденные во Христа крещением, носители Его плоти и Его крови, через Вечерю становятся причастниками миссии самого Христа. Он был послан, и христиане тоже посылаются в мир (Еванг. от Иоанна, гл. 20, ст. 21). Сказано же для всех: «Вы соль земли, вы свет мира» (Еванг. от Матфея, гл. 5, ст. 13 —14). Но также это касается каждого из нас. Важно отметить, что почти каждое появление Воскресшего сопряжено с определенным призывом: возвещение другим ученикам (Еванг. от Матфея, гл. 28, ст. 10), проповедь миру Его победы над смертью (Еванг. от Матфея, гл. 28, ст. 18 и далее; Еванг. от Марка, гл. 16, ст. 15 и далее; Еванг. от Луки, гл. 24, ст. 47 и далее), оставление, связывание грехов (Еванг. от Иоанна, гл. 20, ст. 22 и далее), управление Церковью, которое предполагает риск самой жизнью (Еванг. от Иоанна, гл. 21, ст. 18), выход из рамок парода иудейского ради того, чтобы открыть не-иудеям, что Евангелие дано также и им (Деян 26, ст. 15-18). Совершая Вечерю и встречая на ней Воскресшего, мы при этом неизменно, так или иначе, слышим отзвук слов, которые Иисус сказал своим ученикам, отправляя их в посланничество. В самом факте признания и принятия в себя Христа содержится своего рода принуждение: христианин, умалчивающий о дарованном ему познании Христа, на первый взгляд, проявляет сдержанность, необходимую в любом частном деле, — в действительности же своим молчанием он отрицает это познание, ибо тот, кто имеет познание о Христе и не возвещает об этом, не имеет познания о Нем.
Из чтения Нового Завета явствует, что Вечеря неизбежным образом подразумевает апостольство. Из этого следует, что в противоположном случае Вечеря перестает быть трапезой Господней. Это проявляется двояким образом.
122
Прежде всего, имеется некое общее стремление евангельского проникновения в мир, подобное закваске, сбраживающей все тесто, соли, придающей вкус пище, свету, проникающему в темноту. Поскольку Церковь пребывает в этом мире, здесь пребывает нечто, против чего гневается или претыкается все, что в «мире». Это нечто является как бы инородным телом, которое ранит и разверзает мир; и мир старается избавиться от него или ассимилировать его. Церковь дает возможность познать Евангелие уже одним фактом своего существования, даже если это существование церковного гетто. Когда Церковь учреждается в каком-то месте, это означает, что в этом месте закладывается фермент будущего. Поэтому не следует удивляться тому, что мир не может оставаться безразличным к существованию в нем Церкви, столь похожей на него, поскольку она состоит из людей и вещей, ему принадлежащих, и столь непохожей на него, поскольку эти люди и эти вещи становятся неким глубочайшим вопрошанием, обращенным ко всему тому в мире, что имеет черты сходства с ними. Не следует удивляться также и тому, что, как правило, мир реагирует на Церковь так же, как он реагировал на Христа, — стремится грубо отделить ее от себя. В посвященной вопросу отношений Церкви и мира литературе, появившейся в последнее время в большом количестве, больше всего меня удивляет то, что в ней столь охотно умалчивается о риске преследований, на который идет Церковь, или то, что преследования Церкви упоминаются только «для памяти», как о наименее вероятном событии, могущем произойти по ходу земного паломничества Церкви. Видеть вещи таким образом — это значит совершенно сознательно искажать путь Церкви в истории, или предлагать Церкви действовать в мире, забывая о своей специфической миссии, или же думать, что с течением времени враг настолько состарился, настолько захирел, что было бы смешной мифоманией в наше время — сегодня! — полагать, что История на своем последнем этапе способна воспринимать ритм скорее апокалипсический, нежели прогрессирующий.
Однако совершение Вечери , в общем, не превращает Церковь, как бы против ее воли, исключительно и только в такое место, где «окапывается» Царство небесное для того, чтобы достичь людей. Оно превращает Церковь — и только в этом случае она остается истинной трапезой Господней — в сознательное, терпеливое и разумное апостольское тело. Если сравнить сам образ исполнения и понимания апостолами возложенной на них миссии с усваиваемым им убеждением в неминуемом пришествии Христа, то сразу же становится очевидной несовместимость первого со вторым. Одно из двух
123
должно быть ложным; поскольку же наши сведения о миссионерской практике первохристианства более точны и полны, чем сведения об эсхатологической «горячке», поразившей первых христиан, то следует сказать, что эта «горячка» была куда менее сильна, вопреки утверждениям тех, кто пытается внушить нам искаженное представление о ней, то есть те, кто считает, что ни Иисус, ни апостолы не располагали временем для устроения Церкви и ее структур и что, следовательно, Церковь представляет собой некий вызывающий сожаление плод, быть может, оправдывающий отсрочку парусии. Что же происходило на самом деле? Наряду с «онтологическим» излучением Церкви, о котором мы только что говорили, понадобилось гонение на «эллинистов» (см. Деяния, гл. 6), чтобы Двенадцать, рискуя собой за пределами Иерусалима, пошли утверждать в качестве Церквей общины, составленные из христиан, подвергшихся гонениям и рассеявшихся «по разным местам Иудеи и Самарии.» (там же, гл. 8, ст. 1). Петру было даровано ясное видение — ибо он должен был понять, что Бог призвал к служению также и язычников. Кажется, что Павел ждал, чтобы Варнава приехал к нему в Таре и забрал его, дабы ввериться миссионерскому послушанию, к которому апостол уже давно был призван. Павел с неизменным и величайшим тщанием подготавливает свой миссионерский путь, который начинается с Иерусалима и заканчивается в Иерусалиме, так же как и второй миссионерский круг, начинающийся и заканчивающийся в Риме. Прежде чем предстать перед судом кесаря, Павел проводит три года в Кесарийской тюрьме, и, оказавшись на корабле, направляющемся в Рим, советует избрать наиболее надежный и, следовательно, более долгий путь. И если необходимо с некоторой осторожностью принимать сведения, передаваемые Лукой, — как это принято в наши дни, — все же, по свидетельству других источников, которыми мы располагаем, несомненно, что Лука был совершенно прав, когда описывал зарождающееся христианство как прежде всего городское явление и, следовательно, укоренное там, исходя откуда Евангелие смогло постепенно распространится в сельских местностях Очень вероятно также и то, что зарождающееся христианство, в противоположность существующей на этот счет более романтической точке зрения, распространялось вначале не среди бедных и несчастных слоев городского населения, а прежде всего в средней прослойке его, что давало возможность затем охватить как элиту, так и низшие слои общества. Все это обсуждается здесь для того, чтобы показать, что зарождаемое Тайной Вечерей, если только она истинная Вечеря, апостольское
124
сознание нисколько не исключает продуманных, терпеливо разработанных апостольских действий, которые принимали в учет дальнее будущее и высшие и низшие слои общества. Причащаться дающему Жизнь, встречать Воскресшего — вызывает к жизни скорее осознанное и ответственное свидетельство, нежели свидетельство исполненное поспешности и страха.
3. Доксологическая леность
Если мы хотим продолжить разговор об «евхаристических недугах» Церкви, то нам следует еще сказать, в третьих, что именно доксологическая леность ослабляет, компрометирует, делает ложной трапезу Господню. Вечеря — это «месса», она отправляет в миссию. Но Вечеря также и «Евхаристия», она пожинает плод своей миссии, чтобы с благодарением принести его Христу. И если Вечеря сопрягает Церковь с Воплощением Христа, она сопрягает ее также и с Его Вознесением. Ни об одном из этих аспектов Вечери нельзя говорить вне его связи с другим.
По этому поводу мне хотелось бы высказать два соображения.
Первое связано с неким дыханием, которое замечаешь в самой манере повествования евангелиста Луки о послании и возвращении семидесяти учеников-апостолов (гл. 10, ст. 1-20). Христос посылает их перед собой, подготавливая свой приход, и дает им право и власть подтверждать знамениями наступление нового, грядущего мира. Признание Мессии в Иисусе из Назарета превратило их в миссионеров. Но идут они в мир не для того, чтобы раствориться в нем, а чтобы вновь и вновь возвращаться «с радостью» (ст. 17). Жатва, которую они собирают, обильна: подобно некоему клину, имя Иисуса вторглось во владение князя мира сего. Они смогли стать освободителями. Это двойное действие апостолата и благодарения, диастолы и систолы, является основополагающей частью Евангелия: Рождество вызывает Вознесение, которое, в свою очередь, помогает лучше понять Рождество; семя брошено ради жатвы, сети — для рыбной ловли. Слово исходит для того, чтобы снова вернуться к тому, кем оно сказано, наполненное тем, ради чего оно было произнесено (см. Исаия, гл. 55, ст. 10-11). Вечеря искажается, если она не является столько же местом, куда возвращаются миссионеры, сколько и местом, откуда они отправляются в путь. Они ведь идут не для того, чтобы опустошиться, затеряться в мире и в человеческой истории; они идут, чтобы отстоять у Лукавого тех, кого, как ему кажется, он держит в своей власти, —
125
отстоять, чтобы освободить их и привести к Тому единственному, Кто некогда смог сказать о себе самом, что у него нет ничего общего с Врагом: «Во Мне не имеет ничего» (Еванг. от Иоанна, гл. 14, ст. 30). В этом и состоит смысл воскресного дня: это еженедельное возобновление, в день Господень, когда Господь встречается со своей Церковью, выходящей из мира вместе со всем тем, что она ему принесла, прежде чем вновь погрузиться в него для новых сражений, новых побед, новых страданий, из которых она через неделю выйдет с новыми трофеями. В последнее время в богословии наметилась сильная тенденция ставить значительный или даже исключительный акцент на «кенозисе» Рождества: Христос истощает свою божественность, чтобы стать человеком среди людей, носимым в течение девяти месяцев в утробе матери, рожденным, как и все остальные люди, подчиненным всем правам и обязанностям иудейского закона. Но это богословие, дающее весьма много для понимания реализма воплощения, как бы замолкает тогда, когда Христос предстает неким отличным от других людей существом, когда Его «инакость» начинает удивлять, беспокоить и раздражать. Христос как бы исчезает в Рождестве, и никакой Иуда, никакой Каиафа, никакой Пилат уже не могут найти его, то есть он не может исполнить то, ради чего он пришел в этот мир. «Кенотический» Христос растворяется до Своего крещения, которое укажет на Него как на Возлюбленного Сына Божьего. Его анонимное растворение в человечестве, может быть, и открывает нам путь к более истинной встрече с другим человеком. Но я не смог бы по-настоящему понять этого другого человека, если бы течение жизни Иисуса не показало бы мне, что судьба этого другого — участвовать в славе Христа, что глубочайшая тайна другого человека заключается в том, что ему предстоит воскреснуть из мертвых и что знание этого позволяет мне встретить его как моего истинного ближнего. Если Церковь не возвращается к Вечери, от которой она произошла, если она не обретает в ней свою самобытность эсхатологического народа, нет в ней никакой пользы для мира. Ибо вместо того, чтобы его беспокоить и освящать, призывать и принимать, она растворилась бы в нем. А мир? Мир умер бы вместе с мертвой Церковью в своем чреве. В «Дидаскалии», правда в другом контексте, мы находим уже ранее цитировавшиеся слова: Церковь умаляет себя в том случае, когда те, кто являются ее членами, не возвращаются к Вечери для того, чтобы благодарить, благословлять и ходатайствовать. Дальше, говоря о «заменяющем» характере христианского культа и о Вечери, которая является его кульминацией, мы будем иметь возможность вернуться к этой интересующей нас
126
здесь теме. Скажем только, что благодарению и ходатайству необходима миссия, как и миссии необходимы благодарение и ходатайство. Ибо в противоположном случае как мы узнаем, за что благодарить, как узнаем, кто и что предается любви и прощению Божию на Вечере, если в течение недели мы не шли встречать то, что сокровенным образом живет в Нем, Им и для Него? Благодарение и ходатайство Церкви становятся пустыми, напрасными, не имеющими никакой силы словами, если Церковь не провела свою неделю ради имени Божьего в мире. Иона просто угасла бы в мире, так и не встретившись с ним, с миром, если бы то, что она делает и то, что она видит, она не преобразовывала бы в покаяние, благодарение и ходатайство.
Во-вторых, мне хотелось бы коснуться жертвенного — по-необходимости — характера Вечери. Происходит некая атрофия Вечери, когда она перестает быть тем временем и местом, когда и где Церковь осознает себя приглашенной участвовать в жертве Христа и принимает это приглашение. Вечеря обладает неким жертвенным измерением. И если в связи с этим утверждением богословская и литургическая традиция Церкви пережила свои, быть может, наиболее волнительные моменты, столкнулась с наибольшей опасностью забвения единственности и самодостаточности всепримиряющей крестной смерти Христа, то это все же не может служит оправданием для тех, кто, так сказать, отступает от этого измерения. Главное заключается в том, чтобы рассматриваемому жертвенному измерению не придавали такого значения, которое бы, так сказать, затмевало другие свойственные Вечери аспекты, столь же необходимые для ее понимания и совершения: установительные слова Христа; параллель, которую проводит апостол Павел между столом Господним и языческими жертвенниками (1 Посл. к коринфянам, гл. 10, ст. 14 и далее); Иоанново учение о хлебе жизни, плоти, которую Иисус Христос отдает «за жизнь мира» (гл. 6, ст. 51). Действительно, древняя традиция неизменно представляет и видит Вечерю в таких тонах, свечение и цвет которых совершенно бы исчезли, если бы в ней был утерян жертвенный момент. Надо сказать, что такого же мнения придерживается и большинство протестантов, даже если их — неизбежное — «борение» с Евхаристией, повторяющей голгофскую жертву и, следовательно, лишающей ее присущих этой жертве единственности и самодостаточности, и заставило их отодвинуть на дальний — задний — план включение Церкви, через Вечерю, в примиряющее и искупляющее жертвоприношение Христа. Я хотел бы затронуть эту проблему под углом зрения, быть может, не очень обычным, и который касается чистоты жертвы. Бог — не мусорный ящик для мира, а его Господь.
127
И если Он ради своего делания выбрал в мире все наиболее слабое, безумное, ничтожное и презираемое (см. 1 Посл. к коринфянам, гл. 1, ст. 27-28), то это не для того, чтобы предаться самолюбованию в безобразии, а потому, что «то, что высоко у людей, то мерзость пред Богом» (Еванг. от Луки, гл. 16, ст. 15). Он ненавидит гордыню. Но этот «нечаянный» выбор Бога, дающий столь великую надежду людям, не порождает, в свою очередь, приношения того, что в наших глазах представляется наименее ценным. Наоборот. Ужасное приношение Авраама (см. Бытие, гл. 22, ст. 1-19) и вся ветхозаветная традиция жертвоприношений, когда в жертву Богу приносится самое чистое и самое лучшее, что служит доказательством обратного. Именно в этом аспекте надо понимать и девство матери Иисуса или новизну гроба, высеченного в скале, который должен был стать театром пасхального свершения. Именно в этом аспекте чистоты того, что связано с жертвой Христа, следует понимать тот факт, что определенная дисциплина в Церкви устанавливается именно в связи с Вечерей, поскольку именно она, Вечеря, является временем и местом, когда и где Церковь на самом высоком уровне свидетельствует, что именно в ее самопожертвовании, благодаря которому она, Церковь, более всего уподобляется Тому, Кто есть ее глава, эта жертва (жертва Христа) должна быть чиста. И она очищается через Христа и через Него же соглашается принять это очищение. Но это согласие требует от нее волевой направленности и стремления к чистоте, которые именно и могут принимать формы дисциплинарных мер, подчинения воле Христа, беспрекословного принятия того, что только то, что Он ждет от нее, может поставить ее перед Ним «славною Церковью, не имеющей пятна, или порока, или чего- либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Посл. к ефесянам, 5, ст. 27). Дисциплина в Церкви, в некоторых крайних случаях могущая привести к временным исключениям из евхаристической общины, дается не для того, чтобы воспитывать фарисеев, которые благодарят Бога за то, что они не похожи на остальных людей. Цель ее — уподобить тело голове, соединить Церковь с жертвой Христа, дабы это наиболее приличествовало Тому, Кто любит ее. Это вовсе не безразлично для мира, а, наоборот, очень важно для него, ибо Церковь представляет собой обетование для мира, так как то, что в мире приобщено к силам будущего века, и есть Церковь. Чем более она чиста, тем более она восстает против того, кто тянет мир в сторону лжи, трусости, несправедливости и смерти. Чем более в чистоте она сосредотачивается в Том, Кто отдает себя Богу для мира, тем лучше она среди людей исполняет трудное служение — быть одновременно здесь и в ином мире.
128
4. Леность в диаконском служении
Наконец, ослабляет, компрометирует и делает ложной трапезу Господню леность в диаконском служении. В Новом Завете содержатся совершенно определенные намеки на Евхаристию, и в рассказах о чудесном насыщении толпы (см. Еванг. от Матфея, гл. 14, ст. 13-21; Еванг. от Марка, гл. 6, ст. 30-34; Еванг. от Луки, гл. 9, ст. 10-17; Еванг. от Иоанна, гл. 6, ст. 1-15; и еще Еванг. от Матфея, гл. 15, ст. 29-39 и Еванг. от Марка, гл. 8, ст. 1-10), и в притчах о брачном пире (Еванг. от Матфея, гл. 22, ст. 1-14; Еванг. от Луки, гл. 14, ст. 16-24), и в эпизоде из жизни иерусалимской Церкви, когда избрали Семь в помощь Двенадцати, чтобы печься о столах (Деяния, гл. 6, ст. 1-6 — хотя точные исторические реалии эпизода достаточно трудно восстановить). Из этого следует, что Вечеря есть также предвосхищение и предвкушение великого брачного пира — целостного насыщения надежды израильского народа, когда наступит конец и придет Царство Божие. Если же это так, Вечеря обязательно должна стать очагом, центром диаконского служения Церкви в мире. Церковь, которая сама наслаждается Вечерей, но не понимает, что эта трапеза — предвосхищение великого общего пира, долженствующего насытить всех людей, и которая поэтому почти не сожалеет о том, что еще не видит их собранными всех вместе за столом, где раздается «хлеб, который дает жизнь миру» (Еванг. от Иоанна, гл. 6, ст. 33), — такая Церковь грешит против одной из основных тем Евхаристии. На самом деле, Евхаристия — это не только печать примирения, не только то, откуда исходит в мир и вносится в него нечто, чего он сам в себе не имеет и что ему жизненно необходимо, но Евхаристия также и то место, куда вновь возвращается всякое становление и свершение, чтобы образовать единое целое с жертвой Христа. Она так же и столько же — начаток ожидаемой полноты и, следовательно, то место, откуда исходят предвестники этой полноты, стремящиеся преодолеть все преграды и достичь нуждающихся в ней.
В связи с этим мне хотелось бы высказать четыре замечания.
Первое относится к положению диакона в древней Церкви. Я хорошо знаю, что, несмотря на большое стремление к этому, не следует идеализировать древнюю Церковь. Она, так же как наша современная Церковь, имела свои слабости и свои трудности. Но тем не менее она, вероятно, все-таки отличалась от нашей сегодняшней Церкви, потому что ей тогда еще не приходилось преодолевать некое искушение — усталость от самой себя. Действительно, в древней
129
Церкви поражает интенсивность ее диаконского попечения и любви. В одном из «кратких сообщений», которые особенно удавались Луке, о первых христианах говорится, в частности, что «они имели все общее» (Деяния, гл. 2, ст. 44). В другом — что «у множества уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее» (Деяния, гл. 4, ст. 32). Даже если в Деяниях суть дела изложена скорее в форме фресок, а не миниатюр, все равно это не мешает понять, что дух соревнования, щедрости служения был свойственен тем ревнителям справедливости, которых Христос провозгласил «блаженными». Даже такие противники Церкви, как, например, Цельс, удивлялись большому числу людей, получавших помощь благодаря щедрости Церкви и хорошей организации тогдашнего диаконского служения, которое в то время включало в себя даже своего рода перераспределение средств между поместными Церквами, процветающими и более бедными — например, сбор средств, организованный апостолом Павлом в основанных им Церквах в пользу «святых в Иудее» одновременно и для того, чтобы оказать им помощь, и для того, чтобы неопровержимо доказать единство между поместными Церквами. Здесь же надо указать и на то, что апостол Павел просит коринфян откладывать то, что пойдет в пользу вышеуказанного сбора, в «первый день недели» (1 Посл. к коринфянам, гл. 16, ст. 2), или в тот день, когда совершается Евхаристия, и на то, что он, говоря об этом диаконском служении, находит слова, как бы напоминающие или, может быть, даже подготавливающие древнюю евхаристическую, литургическую терминологию: «Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело с... >. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей. Так, чтобы вы во всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас [так как апостол Павел сам собирался отнести этот сбор в Иерусалим, рискуя из-за этого своей жизнью] производит благодарение Богу [досл. евхаристию]. Ибо дело служения сего [досл. диакония этой литургии] не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильные благодарения Богу [досл. обильные евхаристии Богу]...» (2 Посл. к коринфянам, гл. 9, ст. 8 и далее). Известно также, что одной из задач, возложенных на диаконов и диаконис, было распределение хлеба и вина трапезы Господней среди верующих или раздача евхаристического хлеба тем из верующих, кто не смог принимать участия в самом богослужении. Без преувеличения можно сказать, что стол Господень был сердцем
130
диаконского служения христиан, так же как он был сердцем того, что их объединяет, что их побуждает к свидетельству, что преображает их жизнь в жертвенный подвиг.
Второе замечание относится к проявлению в мире диаконского служения Церкви одновременно с ее апостольским в нем служением. Служение братьев не ограничивается рамками самой Церкви, так как прежде всего за ее пределами обретается человеческая немощность. Предвкусив в воскресный день великое «насыщение», Церковь возвращается в мир, как если бы она следовала по стопам воплотившегося Христа. Следовательно, имеет основополагающее значение, чтобы христиане отражали и продолжали в истории делание Христа не только как носителя Слова Божия, но также и прежде всего делание Христа, своим приходом на землю утвердившего на ней знамения Царства, Царем которого Он является: Того, Кто стал надеждой бедных, больных, глухих, хромых, немых, униженных и мертвых, Того, Кто сострадал им всем, Того, Кто нес свою любовь малым сим, и Кто всячески старался их освободить и защитить, Того, Кому иногда приходилось это совершать почти анонимно, так что те, кто Его благодарил за оказанные Им благодеяния, даже не знали, что их коснулось вторгнувшееся на землю Царство Божие, — они знали лишь, что отныне не нужно носить их на постели, но что они сами могут носить ее (см. Еванг. от Иоанна, гл. 5, ст. 1-13). Как же могло случиться, что неукротимое стремление утверждать знаки Царства Божьего настолько истощилось в Церкви, что для Церкви стало гораздо менее желательно, чем для самого Иисуса, высказывать, отмечать свое присутствие в мире в виде чудес, dynameis, как об этом говорится в греческих текстах, динамических вторжений? И почему это стремление, как правило, проявляется наименьшим образом у тех, кто старательно разъясняет и стремится помочь понять вероучительное содержание Евангелия, как будто бы они не понимают, что единственное право любить христологию — это любить самого Иисуса. Кстати, только что приведенный пример человека, который был исцелен, не зная исцелителя, показывает, что миру совершенно не обязательно всегда знать о том, что если Церковь направляет свои усилия к тому, чтобы по справедливости, миру и свободе не были нанесены слишком сильные, жестокие удары, то это потому, что приблизилось Царство Божие. Иногда Церковь может позволить миру самому догадаться об этом.
Но здесь — и это относится к моему третьему замечанию — важно сказать, что эти знамения прорыва Божественного будущего (которые мы, христиане, призваны утверждать еще и потому, что мы уже
131
вкушаем трапезу этого окончательного насыщения) — суть такие события, делания, которые, даже если они и превратятся в некие установления, ничего от этого не выиграют. Во времена Иисуса были исцелены некоторые хромые, глухие, немые, но это не привело к исцелению всех таких людей. Лазарь вышел из могилы, однако это не привело к всеобщему воскресению из мертвых. Подобно диаконскому присутствию Христа, диаконское присутствие Церкви в мире носит случайный и неинституциональный характер. В Церкви институционально, обязательно следующее: для того, чтобы стать ее членом, необходимо принять крещение; обязательны еженедельные, по воскресеньям, евхаристические созывания всех верующих. Также Церковь должна нести в мир благовестие и любовь. Но то, каким образом она будет передавать одно и доказывать другое — не установлено. Все это случайно и очень лично — так, как пожелает это сделать Слово и Любовь. Диаконское служение представляет собой нечто структурированное, согласованное, подобно имевшей место в прошлом миссии (как мы это показали выше), — и это вполне естественно. К тому же структурированность диаконского служения необходимым образом вытекает из структурированности миссионерского служения, поскольку Слово неизменно стремится доказать, что оно представляет собой нечто иное, нежели чистая абстракция. Но при этом важно подчеркнуть, что Церковь должна понять некоторую эфемерность тех знаков присутствия Царства Божьего, которые благодаря ее диаконскому служению утверждаются в мире; они исчезают подобно тому, как умерли все те люди, которые сподобились Христовых чудес в Евангелии. Вследствие этого, они должны вновь и вновь обновляться, непрестанно самосозидаться, заново утверждаться, потому что они пока — лишь знак. Церковь не устанавливает Царства Божьего на земле, она только свидетельствует о его присутствии здесь.
Последнее замечание. — Не было бы проще выявить диаконское измерение Вечери, без всяких предварительных условий преобразив ее в то, чем она должна быть, то есть в окончательную трапезу со Христом, столь же щедрую, как брачный пир? Другими словами: не следует ли превратить Вечерю в Агапу? Не приобщимся ли мы в этом случае к евхаристической жизни первых христиан, которые собирались вместе скорее для того, чтобы вместе вкушать (1 Посл. к коринфянам, гл. 11, ст. 33), нежели для того, чтобы совершать богослужение? На этот вопрос следует ответить отрицательно, но все же этот отказ нуждается в подробном объяснении. Прежде всего, отрицательный ответ обусловлен некоторыми историческими причинами:
132
если бы Вечеря сводилась только к агапе, то никак нельзя было бы понять, почему Христос установил ее столь торжественно, столь «литургично»; в этом случае нельзя было бы понять того абсолютно непреодолимого различия, которое существует между трапезой за столом Господним и трапезами, совершаемыми за столами с идоложертвенными приношениями язычников (см. 1 Посл. к коринфянам, гл. 10, ст. 14 и далее); в этом случае нельзя было бы понять, почему евхаристический момент сразу же выделился из общинной трапезы, из которой и в рамках которой он развился: действительно, нет никакого указания, которое бы позволяло считать, что Церковь продолжала совершать трапезу Господню в том виде, в котором она была установлена, разделяя, распределяя в процессе трапезы частицы хлеба и вино. Наоборот, чета хлеб-вино всегда находится либо в начале, либо в конце трапезы; а если Вечеря сводилась бы только к Агапе, нельзя было бы понять слова апостола Павла (см. 1 Посл. к коринфянам, гл. 10, ст. 15-17), или апостола Иоанна (Еванг. от Иоанна, гл. 6, ст. 53 и далее), в которых евхаристическая трапеза определяется хлебом-плотью и чашей-кровью; нельзя было бы также понять, почему в тех трех случаях, когда в Новом Завете дается недвусмысленный намек на эту трапезу, в рамках и во время которой была совершена Тайная Вечеря, это делается с некоторой осторожностью, даже беспокойством (см. 1 Посл. к коринфянам, гл. 11, ст. 20 и далее; 2 Поел. Петра, гл. 2, ст. 13; Поел. Иуды, гл. 12); и даже если трудно найти неоспоримое доказательство того, что те, кто на Вечери «ест и пьет недостойно, не рассуждая о Теле Господнем» осуждается (1 Посл. к коринфянам, гл 11, ст. 29 и далее), все равно такая строгость была бы столь же непонятна, если бы Вечеря представляла собой только общинную трапезу, Отрицательный ответ следует также и по вероучительным причинам: трапеза Господня, совершаемая перед Его вторым пришествием, по своей глубинной сути скорее всего идентична той трапезе, которую Он обещал своим по исполнению времен. Это пока еще не та неисчерпаемая совместная трапеза со Христом и со святыми — поскольку пока смерть постоянно возвращается. Но теперь она лишь знамение обетованной трапезы, лишь таинство совершающейся радости. Это еще не совершенная, окончательно освобожденная от какого-либо страха перед каким-бы то ни было возвращением смерти трапеза со Христом и ближними его: но на время земного существования Церкви она должна быть анамнезисом отвержения людьми Христа и сознательным, свободным соучастием Церкви в жертве Христа. Лишь в Царстве Божьем Вечеря
133
полностью отождествится с агапой. Свести ее к агапе уже теперь было бы равносильно признанию того, что Царство Божие уже наступило (и христианская вера тогда превратилась бы в еще одну человеческую иллюзию, самую жестокую из всех иллюзий). Но если и необходимо по веским историческим и вероучительным причинам уклоняться от соблазна превратить Вечерю в агапу, все же не следует недооценивать все то, что способно придать этому соблазну видимость некоего призыва к послушанию. Действительно, кто может отрицать, что Церкви глубоко забыли о том, что трапеза Господня атрофируется, искажается, будучи сводима только к анамнезису жертвы Христа, отгораживая иногда от стола Господня даже тех крещеных, которые имеют право и долг причащаться? Кто может отрицать, что этот хлеб стремится утолить не только голод христиан, но и голод других людей, что это вино стремится утолить жажду не только тех, кто уже знает и любит Христа, но и других человеческих существ? Не может понять Вечерю Господню тот, кто не способен оценить ее настойчивое стремление стать трапезой, дающей жизнь миру, у кого не появляется чувство грусти из-за невозможности уже теперь участвовать в ней вместе со всеми людьми, кто не усиливается щедро утверждать знаки, которые для христиан суть напоминания о Тайной Вечери, но которые для нехристиан суть не больше, чем делание преломления, разделения общего блага. Мир нуждается не столько в том, чтобы Церковь преобразила свою Вечерю в агапу, сколько в христианах, которые, поскольку они познали за столом Господним духовные пищу и питие (см. 1 Посл. к коринфянам, гл. 10, ст. 2 и далее), не способны более безучастно выносить зрелище людей, которые умирают от голода и жажды.
134
ГЛАВА III
Присутствие Церкви в мире определяется не только Вечерей
Евхаристия, Церковь и мир... Говорилось о том, что Вечеря совершает анамнезис кульминационного, решающего момента истории мира, и, следовательно, о том, что ее совершение непосредственно затрагивает творение, даже если необходима вера для того, чтобы увиденное не показалось плодом безумия. Во второй главе нашего исследования мы попытались напомнить о том, что если Вечеря не становится местом высказанной и разделенной любви, то Церкви постигают болезни; это происходит и тогда, когда Вечеря не посылает верующих в мир свидетельствовать об Евангелии, когда она не призывает их вернуться из пределов мира, дабы Христос стал восстановителем всего того, что они в этом мире увидели, совершили, перестрадали, достигли; когда она перестает быть наиболее могущественным двигателем их диаконского служения в мире. По сравнению с тем, что мы только что перечислили, Вечеря представляет собой нечто весьма малое. Но это должно пребывать неизменным.
Одна из больших ошибок сегодняшней Церкви состоит в том, что Церковь полагает возможным открыть себя миру и через свой культ. Отсюда бесчисленный поток книг и статей, посвященных приспособлению христианского культа к секуляризованному миру, то есть к нашему сегодняшнему миру. Я думаю, что не совершу большой ошибки, утверждая следующее: чем менее понятным становится культ нашим современникам, тем более он становится христианским. Само собой разумеется, традиционные формы его требуют переводов, сокращений, исправлений и адаптаций. Но все это делается не для того, чтобы этот культ стал доступен миру, а для того, чтобы культ мог с большей вовлеченностью и радостью совершаться христианами. Действительно, в культе раскрывается некая тайна. В этом смысле он разделяет ту же судьбу, какую избрал себе Христос.
В начале века экзегеты много говорили о «мессианской тайне». Они опирались на то, что Иисус якобы с целью защиты завуалировал свое мессианство, открывающееся (что еще надо доказать!) только тем, кто узревает в нем Освободителя, о котором говорили Моисей и пророки. Конечно, Иисус открыто явил себя. Он действовал открыто. Но для того, чтобы в Его словах услышать слово Божье, чтобы в этом странном,
135
непонятом, гонимом и напоследок осужденном и преданном казни человеке увидеть обетованного царя, нужны были другие уши, другие глаза, нежели те, которые нам даются при нашем человеческом рождении. Можно было бы привести этому множество примеров, начиная с бедности свидетелей Его рождения, двусмысленности юридического положения тех, кто первыми узнали о том, что Его больше нет во гробе, странный выбор людей, которым он возвестил о своем мессианстве (Еванг. от Иоанна, гл. 4, ст. 26; 9, ст. 37), колебаний учеников, которые были удивлены тем, что Он усмирил бурю (Еванг. от Матфея, гл. 8, ст. 27), которые, устами Петра, осмелились исповедовать Его как «Христа, Сына Бога живаго» (Еванг. от Матфея, гл. 16, ст. 16), но которые после Его креста говорили о Нем в прошедшем времени, как об исчезнувшей мечте (см. Еванг. от Луки, гл. 24, ст. 19 и далее). Для того чтобы исповедовать мессианство Иисуса, прежде всего надо в Него поверить. А вера — это не результат какого-то исследования или доказательств, это дар — способность идти дальше того, что исследования или доказательства могут дать как нечто вполне очевидное. И когда Иисус воздает Богу наиболее совершенное, личное и всеобъемлющее восхваление, растворенное благодарением, всякая очевидность исчезает, все погружается во мрак (Еванг. от Матфея, гл. 27, ст. 45).
Христиане первых веков были убеждены в том, что и они должны набрасывать своего рода покров тайны на свои собрания, на которых они собирались ради богослужения, и они совершали это поскольку здесь они обретали свою наиболее глубинную самобытность, которая не могла не стать «камнем преткновения» для обществ а. Несмотря на то, что у историков первохристианства мнения по этому вопросу расходятся, мне кажутся вполне вероятными доводы, которые приводятся в доказательство того, что первые христиане сохраняли в глубокой тайне все относящееся к совершению Вечери 7). Без этого нельзя было бы понять, ни почему в Новом Завете так редко упоминается Вечеря, ни почему в нескольких местах говорится о том, что верующие собирались при закрытых дверях, ни почему под жестокими пытками христиане, о которых повествует Плиний Младший, говорили лишь о том, что Церковь собирается для «невинной» трапезы, ни почему все, в чем обвиняли христиан, — которые даже не пытались оправдаться и открыть свой культ для публичного рассмотрения, — было направлено против якобы каннибальского характера их собраний. Первохристианская Церковь участвовала в общественной жизни не своим культом — не говоря о мученичестве, являющемся своего рода
7) См. в частности, J. Jeremias. Die Abendmahlsworte Jesu. Goeltingen, 1960. p. 118-130.
136
культом — а прежде всего своими «делами» (, Откровение, гл. 2, ст. 2, 19; 3, ст. 1,7,15), достойной жизнью своих членов, своим служением 8).
Прошло много времени прежде, нежели культ стал своего рода «рекламой» Церкви. Еще больше времени — может быть, до самой каролингской реформы — потребовалось, чтобы культ, в конце концов, стал средством пропаганды, публичного проявления веры и христианской жизни. Я очень опасаюсь, что такого рода утилизация культа, и особенно Евхаристии, может иметь для миссии Церкви в мире по крайней мере три чрезвычайно неприятных следствия. Прежде всего, это привело к выдвижению на первый план жертвенного характера Вечери, что отодвинуло на задний план общинный характер трапезы Господней, свойственную ей эсхатологическую радость от того, что она позволяет уже теперь приобщаться к силам будущего века. Над Вечерей нависала угроза превратиться в спектакль, все роли которого были распределены лишь среди духовенства. Отсюда снижение литургической вовлеченности народа крещеных: культ для них — это скорее то, что они приходят видеть, а не совершать. Наконец, в результате этого прекратило свое существование апостольское служение Церкви в мире, прежде всего в плане примерного поведения христиан и церковного служения, а забота о постоянном подтверждении того, что «теперь все новое» (2 Посл. к коринфянам, гл. 5, ст. 17), поскольку Иисус родился, умер и воскрес, была переложена на культ. В этих моих замечаниях имеется некоторая схематизация, и я это прекрасно сознаю. Но тем не менее в них, как мне кажется, отражается некая реальная тенденция, которая может иметь пагубные последствия. Ибо если культ становится спектаклем и в нем, культе, больше не принимают участия те, кого он собирает, если он им дает своего рода оправдание и своей жизнью они более не свидетельствуют о ныне наступивших последних временах, то как можно помешать культу мало-помалу соскальзывать туда, где он становится просто этнической особенностью или выражением народного духа, фольклором?
Таковы причины, по которым, как мне кажется, Церковь должна заново понять, что ее культ не есть главное выражение ее посланничества и милосердного служения в мире. Культ — это не то место и не то время, где и когда Церковь демонстрирует себя миру: он, скорее всего, то место и то время, где и когда Церковь внутренне собирается, куда она возвращается после своего паломничества в мире и откуда
8) Об этомсм.: K. Aland Über den Glaubenswechsel in der Geschichle des Christnlums. Berlin, 1961, p. 15-40.
137
она вновь идет в мир. Церковь уповает, что в новом мире культ станет средством воздействия на мир, а главное человеческое устремление будет направлено на литургическое служение. Но культ только предвосхищает это конечное литургическое служение, но еще им не является- Вот почему не столько через Вечерю, сколько через проповедь Евангелия и явление этической и милосердной силы Евангелия Церковь осуществляет свое видимое присутствие в мире.
Заключение
Из всего вышесказанного мне хотелось бы сделать три окончательных вывода.
Первый связан с двойственным — по необходимости — характером присутствия Церкви в мире. В сущности говоря, мир сам не понимает, почему Церковь пребывает здесь. Ее присутствие не представляется ему ответом на некую историческую необходимость. Он относит ее к области «религиозной», иногда — к области «социальной». Благодаря ее мыслителям и художникам он отводит ей некоторую культурную роль. Он полагает, что, она как и другие религии, отвечает на некую более или менее распространенную и довольно стойкую потребность человечества. Следовательно, Церковь и не должна ожидать, что мир поймет, насколько она — народ, в котором продолжает жить пришествие Иисуса Христа, — ему необходима. Время, когда основной функцией Святого Духа уже больше не будет убеждение в истинности Евангелия, еще не настало. Чрезвычайно огорчительно также и то, что на протяжении около двух тысячелетий существования христианства слишком часто забывали, что христианами становятся по вере, что христианство — не этнический атавизм и что, вследствие этого, быть христианином — и, стало быть, причастником Тела и Крови Господа (тема, которую мы здесь затрагиваем) — не есть нечто само собою разумеющееся. Мне кажется, что самая большая опасность для современной Церкви состоит в забвении того, что ее присутствие и ее миссия становятся понятными только через веру и для веры и что они суть не историческая очевидность, но тайна, заключенная в истории. Другими словами, наибольшая опасность для Церкви сегодня состоит в упразднении присущего Святому Духу служения, в за мене его неким спасительным фатализмом, согласно которому История самим своим развитием способствует восстановлению всего сущего во Христе (Посл. к ефесянам, гл. 1, ст. 10). Итак, лишенная Святого Духа,
137
Церковь теряет самобытность, отличающую ее от мира, а культ — и, следовательно, Вечеря — становятся излишними.
Отсюда — и это мое второе замечание — вытекает некое особое изнеможение, порождаемое культом. Но это изнеможение и даже отвращение к культу происходит не только оттого, что ныне не очень- то понимают для чего необходимо совершение этого культа. Это происходит еще и оттого, что теперь ничто не защищает культ от посторонних глаз. Он более не есть то место и время где и когда собираются вместе, почти как заговорщики, те, кто пришел сюда, чтобы совершить анамнезистого момента, когда свершилось спасение мира, и чтобы заново приобщиться к этому деланию. Его ограды, как их можно было бы назвать, заимствуя образ из псалма 79(80)-го, были разрушены самими христианами, и он был предан в волю всех приходящих. Церковь сохраняет спокойствие даже тогда, когда ее брачная встреча со Христом становится добычей телевидения. Она сама порождает подобного рода бестактности. Нечему тогда удивляться, что «сокровища», которые так плохо охранялись, начинают быстро терять свою ценность Еванг. от Матфея, гл. 7, ст. 6; 13, ст. 45 и далее). Я уверен в том, что если культ вновь будет огражден посредством некоей тайны, которая охраняла Вечерю при ее зарождении, то отвращение к культу, столь распространенное там, где произошла его вульгаризация, стало бы значительно меньшим, И даже, может быть, сама молитва перестала бы быть одним из возможных видов внутреннего монолога и приобрела бы, вероятно, образ более действенного служения христиан в мире и ради мира. Не симптоматично ли, что в «катакомбных Церквах» — даже если иногда и казалось, что Церковь в них скорее потерялась, нежели обрелась, — их члены стремились к весьма интенсивной литургической, евхаристической жизни?
И последнее замечание. Может быть, даже хорошо, что те, кто участвует в совершении культа, вновь начинают понимать, что, совершая культ, Церковь делает это неким «замещающим» образом. Она собирается для трапезы, которую мир уже не умеет или еще не умеет приготовить, но на которой уже раздается хлеб, дающий жизнь миру. Церковь кормится на ней для мира и во имя его. И благодаря этому она становится — для мира —обетованием жизни. Вместе с тем, постигая, что через свое участие в Вечери она становится именно этим обетованием жизни, Церковь проникает в наиболее глубокую тайну своего существования. И эту тайну она не желает разглашать и превращать своей культ в собрание, которое уже ничто не охраняет. Она скорее будет тщится преобразовать его в свидетельство и в служение.
139
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
