13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Макарий (Оксиюк), митрополит
Макарий (Оксиюк), митр. Эсхатология св. Григория Нисского
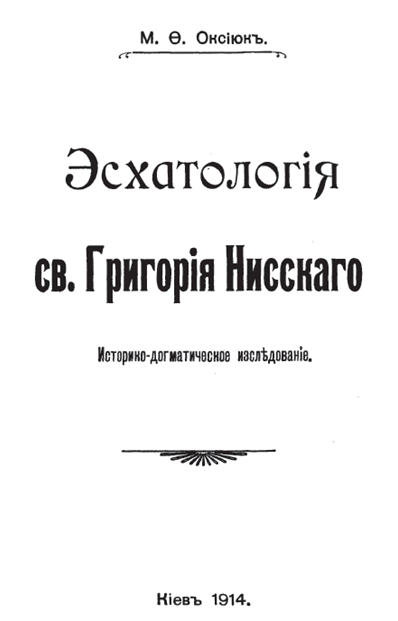
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
Оглавление размещено в начале.
Μ. Ф. Оксиюк.
ЭСХАТОЛОГИЯ
СВ. ГРИГОРИЯ НИССКОГО
Историко-догматическое исследование.
Киев 1914.
ОГЛАВЛЕНИЕ.
Общее определение предмета исследования в связи с историческим очерком литературы о св. Григории Нисском и его учении. Специальное определение предмета, задачи, метода и составных частей исследования. Источники исследования. Замечания о подлинности некоторых сочинений св. Григория Нисского I—XX
Вступительная часть.
Раскрытие эсхатологических истин в древнегреческой христианской литературе до времени св. Григория Нисского.
I Эсхатология апостольских мужей.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 1 — 10
1. Ὁ αἰὼν ὁ ἐρχόμενος 1 — 4
2. Учение о будущей участи людей 4 — 10
A. Участь праведников па том свете 5 —8
B. Участь грешников на том свете 8 — 10
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 11 — 19
1. Учение о втором пришествии Христа 11 — 14
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 14 — 16
3. Учение о всеобщем суде 16 — 18
4. Учение о конечной судьбе мира 18 — 19
II. Эсхатология христианских апологетов II-го века.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 20— 31
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души 20— 24
2. Учение о будущей участи людей 24— 31
A. Участь праведников на том свете 24— 28
B. Участь грешников на том свете 28— 31
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 31— 52
1. Учение о втором пришествии Христа 31— 35
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 35—47
3. Учение о всеобщем суде 47— 51
4. Учение о конечной судьбе мира 51— 52
III. Эсхатология св. Иринея Лионского.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 53— 62
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души 53— 55
2. Участь души непосредственно после смерти человека. 55— 62
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 62— 83
1. Учение о втором пришествии Христа 62— 68
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 68— 73
3. Земное царство Христа 73— 78
4. Учение о всеобщем суде 78— 82
5. Учение о конечной судьбе мира 82— 83
ІV. Эсхатология св. Ипполита Римского.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 84 — 93
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти, бессмертии души и ее участи на том свете 84— 93
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 94 -105
1. Учение о втором пришествии Христа 94— 99
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 99—102
3. Учение о всеобщем суде 102—103
4. Учение о конечной судьбе мира 103—105
V. Эсхатология Климента Александрийского.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 106—116
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души 106—107
2. Учение о будущей участи людей 107—116
A. Участь праведников на том свете 107—113
B. Участь грешников на том свете 113—116
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 116—120
Второе пришествие Христа (117). Всеобщее воскресение мертвых (117—118). Всеобщий суд (118—119). Конечная судьба мира вообще (119—120)
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 121—153
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души 121—124
2 Участь души непосредственно после смерти человека 124—126
3. Определение потусторонних мест пребывания человеческих душ 126—131
4. Учение о небесном блаженстве 131—141
5. Учение об адских мучениях 142—153
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 153—193
1. Учение о втором пришествии Христа и опровержение хилиазма 154—162
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 162—171
3. Учение о конечной судьбе мира 171—180
4. Учение о всеобщем суде 180—184
5. Учение о всеобщем апокатастасисе 184—183
Последователи и противники эсхатологических воззрений Оригена 193—196
VІІ. Эсхатология св. Мефодия Олимпского
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 197—203
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души 197—199
2. Учение о будущей участи людей 199—203
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 203—216
1. Учение о втором пришествии и земном царстве Христа 203—205
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 206 — 215
Всеобщий суд (215).
3. Учение о конечной судьбе мира 216
Уяснение некоторых деталей притчи о богатом и Лазаре (217 — 218). Второе пришествие Христа (218—219). Всеобщее воскресение мертвых (219—222).
IX. Эсхатология св. Василия Великаго.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 223—227
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти, бессмертии души и ее участи на том свете 223—227
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 227—237
1. Учение о втором пришествии Христа 227—229
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 229—230
3. Учение о всеобщем суде и его следствиях 230—237
4. Конечная судьба мира вообще (237).
X. Эсхатология св. Григория Богослова.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности. 238—246
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души 238—240
2. Участь души непосредственно после смерти человека. 242—244
A. Участь праведников на том свете 242—244
B. Участь грешников на том свете 244—246
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще 247—255
1. Учение о втором пришествии Христа и всеобщем воскресении мертвых 217—248
2. Учение о всеобщем суде и его следствиях 248—254
3. Конечная судьба мира вообще (254—255).
— Заключение к вступительной части: общий ход раскрытия эсхатологических истин в греческой церковной литературе I — IV вв. и место, занимаемое св. Григорием Нисским в истории эсхатологии 255—257
Учение св. Григория Нисского о конечной
судьбе каждого человека в отдельности.
Эсхатологическое учение о телесной смерти.
1. Сущность и физические проявления телесной смерти 258—263
2. Бессмертие души 263—279
3. Всеобщность телесной смерти 279—281
4. Ὁθάνατοςεὐεργεσία 281 — 290
Участь души непосредственно после смерти человека.
1. Пребывание души при элементах ее разложившегося тела. 291—300
2. Опровержение учения о переселении душ 300—303
3. Воздаяние после смерти человека 303—308
Определение потусторонних мест и состояний человеческих душ.
1. «Первое» или «воздушное» небо 310—311
2. «Второе» или «звездное» небо и «небесное царство» 311—315
3. «Третье небо» или «рай» и «небесная земля» 315—320
4. «Лоно Патриарха» или «недра Авраама» 320—322
5. Представление св. Григория об аде 323—328
Учение о небесном блаженстве.
1 Участники небесного блаженства 329—332
2. Сущность небесного блаженства 332—344
3. Развитие небесного блаженства в бесконечность 344—351
4. Разные степени небесного блаженства 351—355
Учение об адских мучениях.
1. Субъект адских мучений 356—361
2. Сущность адских мучений 361—367
3. Адские мучения— ἰατραεία καὶ θεραπεία 368—375,
4. Разные степени интенсивности и продолжительности адских мучений 375—380
5. Временный характер адских мучений 380—389
Учение св. Григория Нисского о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще.
Учение о втором пришествии Христа.
Время второго пришествия Христа (390—891). Второе пришествие Христа-факт будущего (391—392). Изображение второго пришествия Христа (392—396). Цель второго пришествия Христа (396).
Учение о всеобщем воскресении мертвых.
1. Время всеобщего воскресения мертвых 397—399
2. Сущность всеобщего воскресения мертвых 399—404
3. Доказательства возможности всеобщего воскресения мертвых 404—419
A. Естественные основания возможности всеобщего воскресения мертвых 405—416
B. Сверхъестественные основания возможности всеобщего воскресения мертвых 416—419
4. Доказательства действительности всеобщего воскресения мертвых 419—434
A. Свидетельства Св. Писания о действительности воскресения мертвых 420—425
B. Свидетельства истории домостроительства нашего спасения о действительности воскресения мертвых. 425—434
5. Всеобщность воскресения мертвых. 434—435
6. Тожество воскресших тел с настоящими 435—449
7. Действие всеобщего воскресения мертвых 449—469
А.—на тело 449—468
и В.—на душу 468—469
8. Двоякое воскресение мертвых и его порядок. 469—470
Учение о всеобщем суде.
Время всеобщего суда (471).
1. Судья всеобщего суда 471—474
2. Объект всеобщего суда 474—480
3. Изображение всеобщего суда 480
4. События, следующие непосредственно после всеобщего суда 486-490
5. Этическое значение учения о всеобщем суде 490—492
Учение о конечной судьбе мира.
1. Время кончины мира и ее возможность 493—495
2. Обновление мира 495—497
3. Открытие царства славы 597—501
Учение о всеобщем апокатастасисе.
1. Сущность учения о всеобщем апокатастасисе 502—507
2. Доказательства учения о всеобщем апокатастасисе 507—542
A. Метафизические основания учения о всеобщем апокатастасисе 507—516
B. Психологические основания учения о всеобщем апокатастасисе 516—522
C. Телеологические основания учения о всеобщем апокатастасисе 522—524
Д. Искупление — основание для учения о всеобщем апокатастасисе 525—527
Е. Свидетельства Св. Писания—основание для учения о всеобщем апокатастасисе 527—542
3. Ἀποκατάστασις всех людей 542—545
4. Ἀποκατάστασις злых духов 545—559
Раскрытие эсхатологических истин в древне - греческой христианской литературе от времени св. Григория Нисского до V-го вселенского собора.
I. Эсхатология св. Епифания Кипрского.
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти 594—597
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 597—605
Замечание относительно воззрения св. Епифания на участь воскресших людей (605). Учение о конечной судьбе мира вообще (605).
II. Эсхатология св. Иоанна Златоуста.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности 607—612
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти, бессмертии души и ее участи на том свете 607—612
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мири вообще. 612—631
1. Учение о втором пришествии Христа 612—618
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 618—624
3. Учение о всеобщем суде и его следствиях 624—631
III. Эсхатология бл. Феодорита Кирского.
1. Учение о втором пришествии Христа. 632—636
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых 636—638
3. Учение о всеобщем суде и его следствиях 638—641
Замечание о будущем преобразовании мира (641). Замечание об особенностях эсхатологии бл. Феодорита (642).
IV. Эсхатология Энея Газского 643-647
Судьба идеи апокатастасиса во время оригенистических споров 647—649
Предисловие
Эсхатологическая проблема занимает далеко не случайное и не последнее место в христианском миропонимании. Напротив, эсхатологические истины принадлежат к числу основных истин христианского вероучения. Это ясно следует из того обстоятельства, что развитие теологии в истории христианской церкви началось с эсхатологии. Эсхатологические истины св. апостол Павел ставит на одинаковой высоте с учением о «крещении и возложении рук». В своем послании к евреям он пишет: «оставивши начатки учения Христова, поспешите к совершенству и не станете снова полагать основание... учению о крещениях, о возложении руке, о воскресении мертвых и о суде вечном» (6, 1. 2). Поэтому-то, несомненно, в изысканиях, относящихся к будущему, к последним судьбам человечества и всего мира вообще, Священное Писание не видит простой праздной пытливости, а наоборот, там и сям оно даже поощряет эти изыскания, приглашая к занятию пророческим словом. Так, св. апостол Петр, обращаясь к христианам, говорит: «ты имеете вернейшее пророческое слово; и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнете рассветать день и не взойдете утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Петр. 1, 19). А св. апостол и евангелист Иоанн Богослов считает счастливыми читающих и слушающих написанный им Апокалипсис, т. е. откровение о бу-
I
II
дущих судьбах церкви Христовой и всего мира. Блажен,—говорит он,—читающий и слушающие слови пророчества сею и соблюдающие написанное в нем (Ап. 1, 3). Потому-то и отцы церкви никогда не чуждались эсхатологических исследований. Более того, они признавали за ними важное практическое значение, так как эсхатологические убеждения действуют определяющим образом на наше нравственное поведение. Не удивительна, поэтому, та настойчивость у некоторых из свв. отцов, с какой они рекомендуют эсхатологические изыскания. Для иллюстрации последней мысли достаточно указать на св. Ефрема Сирина, который пишет: «не переставай испытывать Божественные Писания, не переставай вопрошать матерь свою—церковь, когда придет желанный Жених, расспрашивай и разведывай и знамения Его пришествия, потому что Судия не замедлит. Не переставай вопрошать, пока в точности не узнаешь; не переставай прибегать к помощи знающих об этом в точности» 1). Таким образом, ясно, что эсхатология в составе христианского миропонимания занимает место одной из основных догматических истин. Отсюда, если эсхатологическая проблема занимает одно из основных мест в общей сумме христианского знания, то нет ничего удивительного в том, что предметом предлагаемого исследования является эсхатология св. Григория Нисского, который в данной области христианского богословия дал одну из наиболее полных систем философского направления, являясь при этом лучшим и наиболее умеренным выразителем идеи всеобщего апокатастасиса.
Св. Григорий Нисский, восточный богослов-философ ІV-го века, стал предметом довольно обстоятельного изучения как со стороны западных ученых, так и рус-
1) Творения св. Ефрема Сирина (Сергиев Посад 1897) изд. 4, ч. IΙΙ, стр. 150.
III
ских особенно с прошлого, XIX-го столетия. Кроме разного рода общих курсов по патрологии, по истории догматов и по общей церковной истории, в которых отводится известное место сведениям о личности св. Григория и его воззрениях, можно указать в западной и русской литературе целый рад появившихся от начала прошлого столетия специальных исследований о нем и его учении. Чтобы наше данное утверждение на показалось голословным, мы перечислим здесь те сочинения, которые написаны учеными исследователями относительно самого св. Григория и особенно относительно его воззрений. Таковы на языках:
а) иностранных, главным образом, на немецком:
1) I. Rupp, Gregors , des Bischofs von Nyssa , Leben und Meinungen , Leipzig 1834.
2) St. P. Heyns, Disputatio historico-theologica de Gregorio Nyseeno, Lugduni Batavorum 1835.
3) E. G. Moeller, Gregorii Nysseni doctrinam de hominis natura et illustravit et cum Origeniana comparavit, Halae 1854.
4) I. N. Stigler, Die Psychologie des hl. Gregor von Nyssa systematisch dargestellt, Regensbusg 1857.
5) L. Kleinheidt, S. Gregorii episc. Nysseni doctrina de angelis, Fribnrgi Brisg. 1860.
б) Bouëdron, Doctrines psychologiques de saint Grégoire de Nysse, Nantes 1861.
7) H. Weiss, Die grossen Kappadocier Basilius, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa als Exegeten, Braunsberg 1872.
8) G. Herrmann, Gregorii Nysseni sententiae de salute adipiscenda, Halae 1875.
9) 1. C. Berga des, Ἡ περὶ τοῦ σύμπαντος καὶ τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου διδασκαλία Γρηγορίου τῆς Νύσσης, Thessalonicae 1876.
10) A. Μ. Akylas, Ἡ περὶ ἀθανασἑας τῆς ψυχῆς δόξα τοῦ Πλάτωνος ἐν συγκρίσει πρὸς τὴν Γρηγορίου τοῦ Νύσσης, Athaenis 1888.
IV
11) А. Krampf, Der Urzustand des Menschen nach der Lehre des hl. Gregor von Nyssa. Eine dogmatisch patristische Studie, Wörzbnrg 1889.
12) Fr. Eilt, Des hl. Gregor von Nyssa Lehre vom Menschen systematisch dargestellt, Köln 1890.
13) I. Bauer, Die Trostreden des Gregorios von Nyssa in ihrem Verhältnis zur antiken Rhetorik, Marburg 1892.
14) W. Meyer, Die Gotteslehre des Gregor von Nyssa. Eine philosophische Studie aus der Zeit der Patristik, Leipzig 1894.
15) Fr. Diekamp, Die Gotteslehre des hl. Gregor von Nyssa. Ein Beitrag zur Dogmengeschichte der patristischen Zeit. Erster Theil, Münster 1896.
16) Fr. Preger, Die Grundlagen der Ethik bei Gregor von Nyssa, Würzburg 1897.
17) A. Reiche, Die künstlerischen Elemente in der Weltunt Lebeneanschanung des Gregor von Nyssa. Ein Beitrag zur Philosophie der Patristik, Iena 1897.
18) W. Votiert, Die Lehre Gregors von Nyssa vom Guten und Bösen und von der schliesslichen Ueberwindung des Bösen, Leipzig 1897.
19) Dr. Loofs, Gregor von Nyssa y A. Hauchs, Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche (Leipzig 1899) Bd. VII, S. 146—153.
20) E. Michaud, St Grégoire de Nysse et 1’Apocatastase: Revue internat, de Théol. 10, 1902, 37—52.
21) K. Weiss, Die Erziehungslehre der drei Kappadozier. Ein Beitrag zur patristischen Pädagogik, Freiburg i. Br. 1903 (Strasebnrger theol. Studien 5, 3—4).
22) 7. B. Aufhauser, Die Heilslehre des hl. Gregor von Nyssa, München 1910 1).
1) Кроме указанных сочинений, о св. Григории Нисском или его учении можно читать в следующих трудах, имеющих, большей частью, самое малое, только косвенное отношение к нашей работе:
V
и b) на руссском:
23) (Арх. Порфирий), Св. Григорий Нисский: Прибавления к изданию творений свв. отцов в русск. переводе 1861 г., ч. XXI, стр. 1—99.
24) А. Мартынов, Учение св. Григория, епископа Нисского, о природе человека, Москва 1886.
25) Д. Тихомиров, Св. Григорий Нисский, как моралист, Могилев 1886.
26) В. Несмелов, Догматическая система святого Григория Нисского, Казань 1887.
27) Пр. И. Скворцов, Христианское употребление философии или философия св. Григория Нисского: Труды Киевской Духовной Академии 1863 г., т. III, №№ 9—12, стр. 129—160.
28) Н. Барсов, Св. Григорий Нисский, как проповедник: Христианское Чтение 1887 г., т. II, стр. 312—347.
______________________
1) S N. Tillemont, Mémoires pour servir à Г histoire ecclésiastique 9 (éd. 2 Paris 17?4), p. 561—616. 732—744.
2) R. P. Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés ecclésiastique. T. VIII; S. Grégoire év. de Nysse, Paris 1740.
3) Prof. Al. Vincenzi, S. Gregorii Nysseni et Origenis de aeternitate poenarum in vita futura cum dogmate cathoIico concordia, Romae 1864.
4) Fr. Böhringer, Die Kirche Christi und ihre Zeugen oder die Kirchengeschichte in Biographien, 2 Aufl., Bd. VIII: Die drei Kappadozier. 2. Gregor von Nyssa, Stuttgart 1876.
5) H. Koch, Das mystische Schauen beim hl. Gregor von Nyssa; Theol. Qnartalschrift 80, 1898, S. 397—420.
6) K. Holl, Amphilochius von Ikonium in seinem Verhältnis zu den grossen Kappadoziern, Tübingen 1904, S. 196—235: .Die Theologie des Gregor von Nyssa» (die Prinzipien, die Trinitätslehre, die Christologie).
7) L. Mendier, L’influence de la seconde Sophistique sur l’œuvre de Grégoire de Nysse, Rennes 1906.
8) J. H. Srawley, St. Gregory of Nyssa on the Sinlessness of Christ: The Journal of Theol. Studies, 7, 1906, p. 434—441.
9) J. Dräseke, Zu Gregorios von Nyssa: Zeitschrift f. Kirchengeschichte 28, 1907, S. 387—400 (zu der Trinitarischen Ausführung in De orat. dom. hom. 3).
10) C. Gronau, De Basilio, Gregorio Nazianzeno Nyssenoque Platonis imitatoribus, Gottingae MCMVIII.
и 11) Fr. Diekamp, Die Wahl Gregors von Nyssa zum Metropoliten von Sebaste im Jahre 380: Theol. Quartalschrift 90, 1908, S. 384—401.
VI
и 29) Проф. И. В. Попов, Григорий Нисский: Православная богословская энциклопедия. Изд. под. редакцией проф. А. П. Лопухина. T . IV (Петроград 1903), стр. 633—6431).
Из данного перечня сочинений, написанных как относительно личности самого св. Григория Нисского, так— и это в особенности—относительно его учения, ясно видно, что мы не нашли и не имели под руками сочинения, специально посвященного изучению эсхатологии святителя Нисского. Последнее обстоятельство дает нам некоторое право надеяться, что появление специального исследования эсхатологии св. Григория не будет излишним.
Прежде чем приступить к раскрытию эсхатологии св. Григория Нисского, необходимо более точно определить предмет настоящей работы, ее задачу и метод, а также наметить ее составные части.
Чтобы определить более точно предмет настоящего исследования, мы считаем необходимым сказать несколько слов о значении понятия эсхатология. Несомненно, этим термином в его собственном смысле обозначается учение о завершительном или последнем дне настоящего существования мира и человечества, другими словами, учение о втором пришествии Христа и мировых событиях, следующих непосредственно за ним. Но так как второе пришествие Христа само по себе в будущем состоянии людей не произведет никакой существенной перемены сравнительно с тем их состоянием, в каком они бывают в момент своей телесной смерти, то, поэтому, современные ученые богословы2) под эсхатологией разумеют не только учение о последних временах мира и человечества, но и учение о последних временах
1) Некоторые другие сочинения, не вошедшие в настоящий перечень литературы, так или иначе служившие для нас в качестве пособий при написании настоящего сочинения, будут указаны в своем месте.
2) Напр., Prof. L. Atzberger, Geschichte der christlichen Eschatologie innerhalb der vornicänischen Zelt (Freiburg Im Breisgau 1896) (S. 3); Dr. I. Niederhuber, Die Eschatologie des heiligen Ambrosius (Paderborn 1907) идруг.
VII
каждого человека в отдельности, начиная их его смертью и продолжая до второго пришествия Христа, когда судьба каждого человека в отдельности сплетется с судьбами всего мира и человечества. Соответственно такому пониманию термина эсхатология, в предлагаемом исследовании мы трактуем: о 1) конечной судьбе каждого человека в отдельности и 2) конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще, по учению св. Григория Нисского.
Так как богословско-философские воззрения св. Григория Нисского, с одной стороны, в значительной степени отражают на себе характер и господствующие течения предшествующей и отчасти современной ему богословско-философской мысля, а с другой,—н сами не остались без влияния на последующее богословие, то мы рассматриваем эсхатологические воззрения святителя Нисского в возможно широкой исторической перспективе. Отсюда, задачу настоящего исследования мы полагаем, прежде всего, в систематическом изложении эсхатологии св. Григория в связи с раскрытием эсхатологических истин греческими церковными писателями до святителя Нисского 1) в время него и после него до V-го вселенского собора, когда богословская мысль получила определенную норму для решения эсхатологических вопросов. Однако, выдвигая на первый план задачу систематизации эсхатологических воззрений св. Григория, мы не оставляем без внимания и другой не менее важной задачи предлагаемой работы. В виду того, что при систематизации эсхатологических воззрений св. епископа Нисского приходится привлекать к делу такие места из его творений, которые без предварительного анализа и комментария не бывают вполне при-
1) При изложении эсхатологии греческих до-никейских писателей значительную услугу нам оказало указанное выше сочинение Prof. Е. Atzberger'a, Geschichte der christlichen Eschatologie innerhalb der vornicänischen Zeit.
VIII
годными для построения известного звена в целой стройной системе, то немаловажной задачей настоящего исследования является анализ и комментарий таких приводимых нами выражений св. отца, которые, по нашему мнению, в них имеют нужду.
Осуществляя первую задачу предлагаемого исследования, мы, пользуясь в данном случае, на наш взгляд, самым правильным методом, стараемся говорить обо всем по возможности словами св. Григория Нисского в переводе на русский язык, давая в подстрочных примечаниях,—а иногда и в тексте,—центральные места из выражений св. отца и на языке подлинника. При осуществлении второй задачи настоящего исследования, мы прибегаем в известных случаях к контексту речи св. Григория, филологическому анализу и проч.
Соответственно сказанному, настоящее сочинение состоит из четырех частей: вступительной, двух частей исследования и заключительной.
Частнее: во вступительной части, представляющей собой общий исторический фон и источники эсхатологических воззрений св. Григория Нисского, мы предлагаем систематическое изложение эсхатологии греческих предшественников и современников последнего: I—апостольских мужей, II— христианских апологетов второго века, III—св. Иринея Лионского, IV—св. Ипполита Римского, V—Климента Александрийского, VI—Оригена1), VII—св. Мефодия Олимпского, VIII—«Адамантия», IX—св. Василия Великого и Х—св. Григория Богослова.
Первая часть предлагаемого исследования распадается на пять глав. В І-й из них мы излагаем эсхатологическое учение св. Григория Нисского о телесной смерти; во
1) К эсхатологии Оригена прибавляется историческая справка о судьбе этого учения—о ближайших последователях и противниках его.
IX
ІІ-й—мы рассматриваем участь души непосредственно после смерти человека; предметом III-й—служит определение потусторонних мест пребывания душ; в ІV-й—мы предлагаем учение святителя Нисского о небесном блаженстве и, наконец, в V-й—учение об адских мучениях.
Вторая часть предлагаемого исследования также состоит из пяти глав. В І-й из них мы излагаем учение св. Григория Нисского о втором пришествии Христа: во ІІ-й— учение о всеобщем воскресении мертвых; в ІІІ-ей—учение о всеобщем суде; в ІV-й—учение о конечной судьбе мира и, наконец, в V-й учение о всеобщем апокатастасисе.
Наконец, в заключительной части, представляющей собой раскрытие эсхатологических истин греческими церковными писателями, после св. Григория Нисского с указанием предшествующих страниц, на которых излагаются взгляды этого св. отца по затрагиваемым известным позднейшим писателем вопросам, мы предлагаем систематическое изложение эсхатологии: I—св. Епифания Кипрского, II—св. Иоанна Златоуста, III—бл. Феодорита Кирского и IV—Энея Газского, а также даем историческую справку о судьбе идеи апокатастасиса в первой половине VІ-го века до осуждения ее отцами V-го вселенского собора.
При изложении эсхатологии св. Григория Нисского, его предшественников и современников и непосредственно следующих, за ним греческих церковных писателей мы пользуемся изданием творений свв. отцов Migne ’a , за исключением тех случаев, когда имеется и нам доступно лучшее издание сочинений того или иного христианского автора. В тех же случаях, когда существует русский перевод всех или некоторых сочинений того или иного писателя, нами приводятся цитаты и выдержки и из русского перевода. Наши источники могут быть представлены в таком виде:
Х
А. Подливные тексты:
1) F. X. Funk, Die apostolischen Väter, 2-te, verbesserte Auflage, Tübingen 1906.
2) Io. Car. Th. eques de Otto, Corpus apologetarum Christianorum saeculi secundi. Iustini philosophi et martyris opera, t. I, p. 1, Ienae MDCCCLXXVI.
3) — t. I, p. 2, Ienae MDCCCLXXV II.
4) — t. II, Ienae MDCCCLXXIX.
5) E. Schwarte, Athenagorae libellus pro Christianis oratio de resurrectione cadaverum, Leipzig 1891.
6) E. Schwartz, Tatiani oratio ad Graecos, Leipzig 1888
7) I. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca. T. VI: S. Theophilus Antiochenus.
8) I. P. Migne, Patrologiae cursus completus series graeca. T. VII: S. Irenaeus Lugdunensis.
9) G. N. Bonwetsch und H. Achelis, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Erster Band, Hälfte 1. 2: Hippolytus. Exegetische und homiletische Schriften, Leipzig 1897.
10) I. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca. T. X: Acta s. Hippolyti.
11) I. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca T. XVI, p. 3: Philosophumena.
12) Prof. Otto Stählin, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderten. Clemens Alexandrinus. Erster Band: Protrepticus und Paedagogus, Leipzig 1905.
13) — Zweiter Band: Stromata 1—6, Leipzig 1906.
14) — Dritter Band: Stromata 7—8, Excerpta ex Theodoto, Eclogae propheticae, Quis dives salvetur, Fragmente, Leipzig 1909.
15) J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca. T. VIII: Clemens Alexandrinus.
16) Prof P. Koetschau , Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderten. Qrigenes Werke.
XI
Erster Band: Die Schrift vom Martyrium, Buch I—IV gegen Celsus, Leipzig 1899.
17) — Origenes Werke. Zweiter Band: Buch V—VIII gegen Celsus. Die Schrift vom Gehet, Leipzig 1899.
18) — Origenes Werke. Fünfte Band: De principiis, Leipzig 1913.
19) Dr. E. Klostermann, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Origenes Werke. Dritter Band: Jeremiahomilien. Klageliederkommentar. Erklärung der Samuel—und Königsbücher, Leipzig 1901.
20) Dr. E. Preuschen, Die griechischen, christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Origenes Werke. Vierter Band: Der Johanneskommentar, Leipzig 1903.
21) J. P. Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca T. XI.
-
22) — XII
23) — XIII
24) — XIV
25) — XVII
)
Origenis Adamantii opera omnia
genuina et spuria.
26) — XX : Eusebii Pamphili Caesariensis ep . opera ominia .
27) J. Pitra, Analecta sacra, t. IV, Parisiis MDCCCLXXXIII.
28) J. P. Migne, Patrolgiae cursus completus, series graeca. T. ХVIII: S. Methodius (Eubulius) ep. et martyr.
29) Prof. G. N. Donwetsch, Methodius von Olympus, I: Schriften, Erlangen und Leipzig 1891.
30) Dr. W. H. van de Sande Bakhuyzen, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Vierter Band: Der Dialog des Adamantius Περὶ τῆς εἰς θεὸν ὀρθῆς πίσταως , Leipzig 1901.
31) J. Ρ. Migne, Patrologiae cursas completus, series graeca T. XXIX.
|
32) — XXX 33) — XXXI 34) — XXXII |
) |
S. Basilii Magni Caesariensis opera omnia, graece et latine. Alia autem opuscula, quae syriace nuper prodierunt, vide in serie latina. |
XII
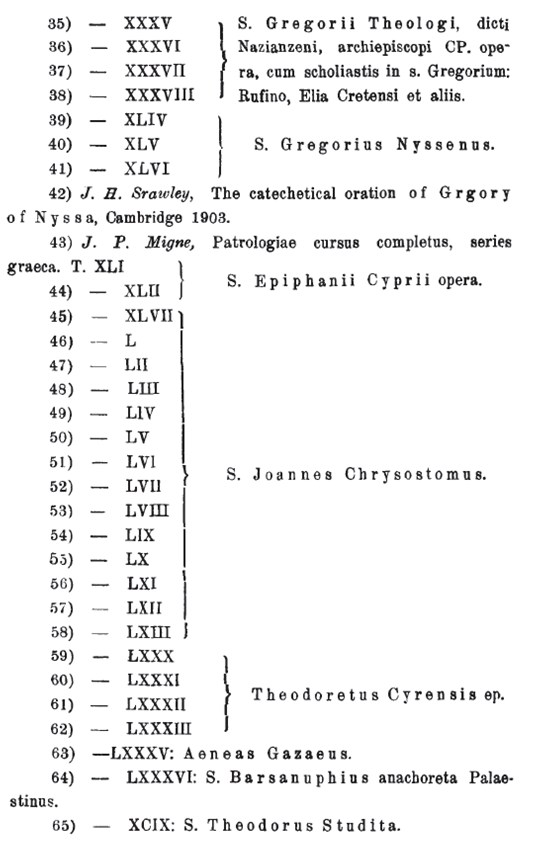
XIII
66) Cl. Salmasii opera. Nili Archiep. Thessalonicensis de primata papae Bomani libro duo. De purgatorio. 1645.
67) — I. P. Migne, Patrologiae cursus comletus, series graeca T. CIII: Ph оtius patr. CP.
68) — CXLVII: Nicephorus Callistus (continuatio).
69) — CXXI: Georgius Cedrenus.
70) J. D. Mansi, Amplissima coli, concil., t. IX, Parie— Leipzig 1901.
В. Русские переводы:
1) Свящ. П. Преображенский, Писания мужей апостольских, Москва 1862.
2) Прот. П. Преображенский, Сочинения древних христианских апологетов, С.-Петербург 1895.
3) Прот. П. Преображенский, Сочинения св. Иустина Философа и Мученика, Москва 1892.
4) Прот. П. Преображенский, Сочинения с в. Иринея, епископа Лионского С.-Петербург 1900.
5) Творения с в. Ипполита, епископа Римского. Вып. I, Казань 1898.
6) Творения св. Ипполита, епископа Римского. Вып. II, Казань 1899.
7) Н. Корсунский, Строматы, творение учителя церкви Климента Александрийского, Ярославль 1892.
8) Н. Корсунский, Педагог, творение учителя церкви Климента Александрийского, Ярославль 1890.
9) Н. Корсунский, Кто из богатых спасется и Увещание к эллинам, творения Климента Александрийского, Ярославль 1888.
10) Творения Оригена, учителя Александрийского. Вып. I: О началах, Казань 1899.
11) Против Цельса, апология христианства Оригена. Перевод с греческого с введением и примечаниями проф. Л. Писарева. Часть I, Казань 1912.
XIV
12) Н. Корсунский, Увещание к мученичеству, творение учителя церкви Оригена, золотая книжка первенствующих христиан, Ярославль 1886.
13) Сочинения Евсевия Памфила. Том I, Санкт-Петербург 1858.
14) Свящ. А. Дружинин, Творения св. Дионисия Великого, епископа Александрийского, Казань 1900.
15) Св. Мефодий, епископ и мученик, отец церкви ІІІ-го века. Полное собрание его творений, переведённых с греческого под редакцией проф. Е. Ловягина, С.-Петербург 1905.
16) Творения св. Василия Великого. Часть I, Св. Троицкая Сергиева Лавра 1900;
17) — Часть II, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1900;
18) — Часть IΙΙ, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1900;
19) — Часть IV, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1901;
20) — Часть V, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1901,
21) — Часть VI, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1901;
22) — Часть VII, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1902.
23) Творения св. Григория Богослова. Часть I, Москва 1889;
24) — Часть ΙΙ, Москва 1889;
25) — Часть IΙΙ, Москва 1889;
26) — Часть IV, Москва 1889;
27) — Часть V, Москва 1889;
28) — Часть VI, Москва 1889;
29) Творения св. Григория Нисского. Часть I, Москва 1861;
30) — Часть II, Москва 1862;
31) — Часть IΙΙ, Москва 1862;
32) — Часть IV, Москва 1862;
33) — Часть V, Москва 1863;
34) — Часть VI, Москва 1864;
35) — Часть VII, Москва 1868;
XV
36) — Часть VIII, Москва 1871.
37) Творения св. Епифания Кипрского. Часть I, Москва 1863;
38) — Часть II, Москва 1864;
39) — Часть IΙΙ, Москва 1872:
40) — Часть IV, Москва 1880;
41) — Часть V, Москва 1882;
42) Творения св. Иоанна Златоуста. T . I, кн. 1, С.-Петербург 1895,
43) — T . II, кн. 1, С.-Петербург 1896.
44) — T . II, кн. 2, С.-Петербург 1896;
45) — Т. IΙΙ, кн. 2, С.-Петербург 1897;
46) — T . IV, кн. 1, С.-Петербург 1898;
47) — T . IV, кн. 2, С.-Петербург 1898;
48) — T . V, кн. 1, С.-Петербург 1899;
49) — T . VI, кн. 2, С.-Петербург 1900.
50) — T . VII, кн. 1, С.-Петербург 1901;
51) — T . VII, кн. 2. С.-Петербург 1901;
52) — Т. VIII, кн. 1, С.-Петербург 1902;
53) — T . IX, кн. 1, С.-Петербург 1903;
54) — T . IX, кн. 2, С.-Петербург 1903;
55) — T . X, кн. 1, С.-Петербург 1904;
56) — T . X, кн. 2, С.-Петербург 1904;
57) — T . XI, кн. 1, С.-Петербург 1905;
58) — T . XI, кн. 2, С.-Петербург 1905;
59) — T . XII, кн. 1, С.-Петербург 1906.
60) Творения бл. Феодорита Кирского. Часть I, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1905;
61) — Часть IV, Сергиев Посад 1906;
62) — Часть V, Сергиев Посад 1907;
63) — Часть VI, Москва 1859;
64) — Часть VII, Москва 1861;
65) — Часть VIII, Сергиев Посад 1908.
68) Деяния вселенских соборов. T . V, изд. 3, Казань 1889.
XVI
67) Преподобных отцов Варсонофия и Иоанна руководство к духовной жизни. Москва, 1855.
68) Творения преп. Феодора Студита. Часть II, С.-Петербург 1867.
В предлагаемом исследовании приводятся соответствующие цитаты и выдержки из следующих сочинений св. Григория Нисского: 1) De anima et resurrectione, 2) De hominis opificio, 3) Oratio catechetica magna, 4) De infantibus qui praemature abripiuntur, 6) De Meletio episcopo, 7) In funere Pulcheriae, 8) In funere Placillae imp., 9. 10. 11) In Christi Resnrrectionem orat. I, III и IV, 12) In illud: Quando sibi subjecerit omnia, tunc ipse quoque filius subjicietur ei qui sibi subjecit omnia (l Cor. XV,28sqq.), 13) Adversus eos qui baptismum differunt, 14) De vita Moysis, 15) In psalmorum inscriptiones, 16)InEcelesiasten Solomonis, 17) In Canticum canticorum, 18) De oratione Dominica, 19—22) De beatitudinis orat. I, II, III и V, 23) In sextum psalmum, de octava, 24) In hexaemeron explicatio apologetica, 25) De perfecta Christiani forma, 26) De professione Christiana, 27. 28) De pauperibus amandis orat. 1 и II, 29) In suam ordinationem, 30) Adversus eos qui castigationes aegre ferunt, 31) Contra usurarios, 32) De virginitate, epistola exhortatoria ad frugi vitam, 33) Adversus Apollinarem, (Antirrheticus), 34—42) Contra Eunomium libri I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и X, 43) Quod non sint tres Dii, ad Ablabium, 44) Sermo adversus Arium et Sabellium и 45) Ep. I 1).
Кроме указанных сочинений, с именем св. Григория Нисского известны еще два слова на Пасху, которые также не лишены содержания эсхатологического характера. Одно из них, занимающее второе место среди пасхальных слов св. Григория, озаглавливается: De resurrectione Domini
1) В нашем сочинении приводятся две или три цитаты и из сочинений—De eo, quid sit, ad imaginem Dei et ad similitudinem и De vita S. Patris Ephraemi Syri, однако только в виде параллелей к цитатам из других творений, так как принадлежность указанных сочинений св. Григорию Нисскому весьма сомнительна.
ХVII
nostri I esu Christi, et quod nullo modo inter se contrarii evangelistae diversis modis memoriae prodiderint ea quae acciderunt in resurrectione Emmanuelis, а другое, занимающее пятое место в ряду пасхальных слов святителя Нисского, носит заглавие: In illustrem et. sanctam Domini Deique nostri re surrectionem. Однако, оба эти слова в науке не считаются принадлежащими св. Григорию Нисскому, почему ими мы и не пользуемся.
И в самом деле, патролог Фесслер, отрицая подлинность первого из них, говорит следующее: «второе слово на Пасху является прекрасным соглашением евангелистов по вопросу о времени воскресения Иисуса Христа и разных после этого Его явлениях. Но Комбефисий, следуя одному кодексу и по внутренним основаниям, приписал эту речь Исихию, пресвитеру Иерусалимскому, жившему в V веке, и это вполне справедливо» 1). Селье, отрицая принадлежность взятого слова на Пасху св. Григорию, приведенные основания развивает несколько определеннее. Он говорит, что Комбефисий приписал данное слово Исихию, пресвитеру Иерусалимскому, руководясь одним манускриптом, найденным в королевской библиотеке, над которым в заглавии стоит имя Исихия. Внутренние же основания, по которым нельзя признать за этим словом авторства Григория Нисского, по мнению Селье, заключаются в том, что в нем указывается не то время для воскресения Иисуса Христа, какое отмечается в его первом слове на Пасху2). И действительно, в определении времени, в какое воскрес Иисус Христос, т. наз. второе слово святителя Нисского на Пасху расходится с первым пасхальным словом последнего. По
1) I. Fessier, Institutiones Patrologiae, quas ad frequentlorem, utiliorem et faciliorem SS. Patrum lectionem promovendam (Oeniponte 1850), t. I, p. 615.
2) R. P. Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastique (Paris 1740), t. VIII, p. 351.
ХVIII
первому пасхальному слову св. Григория, воскресение Христово последовало в вечер субботы. Указывая на это время, св. Григорий Нисский говорит так: «Когда последовало воскресение? В вечер субботний,—провозглашает Матфей (28, 1). Итак, вот (самый) час воскресения по гласу Ангела. Вот предел пребывания Господа в сердце земли. Ведь, когда был уже глубокий вечер, начинавший собой ту ноль, за которой последовал первый из (после) субботних дней; тогда произошло землетрясение, тогда блистающий одеждами Ангел отвалил камень надгробный. А жены, вставшие незадолго до утра, когда уже появлялся дневной свет, так что показывалось и некоторое сияние восходящего солнца, возвещают уже совершившееся воскресение» 1). А по т. наз. второму пасхальному слову св. Григория, Христос восстал из гроба на рассвете, когда «ночь прошла настолько, что наступило время пения петухов, которые пением предвозвещают появление следующего дня» 2). Таким образом, из приведенных соображений ясно следует, что последнее пасхальное слово не может принадлежать св. Григорию Нисскому 3).
Что же касается т. наз. пятого пасхального слова св. Григория Нисского, то о нем Фесслер, ссылаясь на Селье, выражается таким образом; «пятое слово (на Пасху) изображает отдельные бесславные обстоятельства страданий Христа, чтобы вследствие этого в более ярком свете представить славу и величие Его воскресения. Но оно является, с одной стороны, пустым по содержанию, а с
1) In Chr. resurr. orat. I (Migne, ser. gr. (1863), t. XLVI) col. 613AB; p. пер. (Творения св. Григория Нисского, Москва 1871) ч. VIII, стр. 39—40.
2) In Chr. ressurr. orat. II (Mg. XLVI) col. 632В.
3) Prof. О. Bardenhewer, считая т. наз. второе пасхальное слово св. Григориянеподлинным (Geschichte der altkirchlichen Literatur (Freiburg im Breisgau 1912), Bd. III, S. 206), приписывал его авторство Севиру Антиохийскому (Ibid. ор. cit., Bd. III, S. 207; Patrologie (Freihurg im Breisgau 1910) Aufl. 3, S. 262).
XIX
другой,—относящимся к позднейшему времени» 1). А Селье, указав предмет этого слова, замечает, что характерной его чертой служит пустая декламация, и что оно, по своему стилю, не походит на проповеди св. Григория2). И такое мнение Фесслера и Селье должно быть признано справедливым. Взятое слово, действительно, по сравнению с проповедями святителя Нисского, отличается скудостью содержания, а своим стилем обнаруживает в авторе наклонность к той напыщенности, какой характеризуется церковное проповедничество в византийский период христианского просвещения. Итак, весьма естественно думать, что рассматриваемое слово на Пасху не может быть отнесено к числу произведений св. Григория Нисского; оно, весьма вероятно, появилось в более позднее время, чем в какое жил этот св. отец 3).
Проф. К. Холл в своей статье под заглавием: Ü ber die Gregor von Nyssa zugeschriebene Schrift «Adversus Arium et Sabellium »4) отвергает принадлежность св. Григорию Нисскому также сочинения: Sermo adversus Arium et Sabelliam . С таким мнением проф. К. Холла соглашается и проф. О. Барденхевер 5). Однако неподлинность данного сочинения в науке не считается прочно установленной: после указанной статьи проф. К. Холла Dr . theol . I. В. Aufhanser им пользуется, как произведением св. Григория Нисского6). И мы при изложении эсхатологии святителя Нисского не нашли особых препятствий к извлечению из него нескольких цитат, тем более, что его терми-
1) Op. cit., t. I, p. 615.
2) Op. cit., t. VIII, p. 352.
3) Проф. О. Барденхевер подлинность пятого пасхального слова считает весьма сомнительной (Geschichte, Bd. III, S. 206).
4) Этастатьяпомещенав Zeitschrift für Kirchengeschichte, Bd XXV (1904) S. 390—398.
5) Geschichte, Bd. III, S. 115. 201; Patrologie, Aufl. 3, S. 227. 260.
6) Die Heilslehre des hl. Gregor von Nyssa (München 1910), S. 113.157.
XX
нология и общее содержание не отличаются и от некоторых других сочинений св. Григория1)
Возбуждает некоторые сомнения в своей подлинности и третье пасхальное слово св. Григория Нисского, составленное, по-видимому, на основании трактата Афинагора— Περὶ άναστάσεως τῶν νεκρῶν . Однако, проф. О. Барденхевер 2) и другие позднейшие и новейшие (западные) ученые продолжают цитовать его, как произведение святителя Нисского3). Их примеру следуем и мы, цитуя данное пасхальное слово св. Григория в соответствующих местах своего сочинения 4).
1) Стр. ниже 385. 387 и друг.
2) Geschichte, Bd. III, S. 206,
3) Dr. Fr. Hilt, Des heil. Gregor von Nyssa Lehre vom Menschen systematisch dargestellt (Köln 1890), S. 41. 225. 226. 306; Dr. Fr. Diekamp, Die Gotteslehre des heiligen Gregor von Nyssa (Münster 1896) Th. 1, S. 43. 57. 64. 88. 240; Dr. I. B. Aufhauser, op. cit., S. 108. 157.
4) Сочинения, сомнительные по своей подлинности, приписываемые некоторым из предшественников и современников св. Григория Нисского, отмечаются в своем месте.
Вступительная часть.
Раскрытие эсхатологических истин в древнегреческой христианской литературе до времени св. Григория Нисского.
I. Эсхатология апостольских мужей.
Эсхатология апостольских мужей в истории христианской литературы является первым опытом раскрытия откровенного учения о конечных судьбах человечества и мира вообще.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности.
1. Ὁ αἰὼν ὁ ἐρχόμενος.
Апостольских мужей весьма занимал вопрос о будущем мире, который они рассматривали, как грядущий мировой эон, другой мир, будущее мировое время и т. под. Св. Поликарп, епископ Смирнский († 155), учил, что мы наследуем будущий мир (τὸν μέλλοντα), если угодим Богу в нынешнем веке (ἐν τῷ νῦν αἰῶνι)1). В другом месте своего послания к филиппийцам он замечал, что святые люди не любили настоящего века (τὸν νῦν αἰώνα)2). Ерм в своем «Пастыре» довольно часто противополагает этот
1) Ep. Polyc. ad Philip. V, 2 (F. X. Funk, Die apostolischen Väter, 2 te, verbesserte Auflage, Tübingen 1906, S. 111); p. пер. (Свящ. П. Преображенский, Писания мужей апостольских, Москва 1862), стр. 444.
2) Ibid. IX, 2 (Funk, ор. cit., S. 113); р. пер., стр. 447.
1
2
эон (ὁ αἰὼν οὗτος) 1) с его страстями и пороками или этот мир (οὗτος ὁ κόσμος) 2) грядущему эону (ὁ αἰὼν ὁ ἐπερχόμενος), в котором живут Божьи избранники 3), или тому эону (τῷ αἰώνι ἐκείνῳ)4), который является для праведников летом, а для грешников—зимой 5), тогда как настоящий эон одинаково для тех и других бывает зимой 6). «Возненавидим заблуждение настоящего времени,—так говорит автор послания, известного с именем св. апостола Варнавы,—дабы мы были возлюблены в будущем (εἰς τὸν μέλλοντα)» 7). «Праведник ходит в этом мире (ἐν τούτῳ τῷ κόσμω) и ожидает святого эона (τὸν ἅγιον αἰῶνα)» 7). Время настоящего мира автор данного послания определяет, как καιρὸς τοῦ ἀνομου 9), как καιρὸς τοῦ νῦν τῆς ἀνομίας 1θ), причем прибавляет, что Бог уже даровал нам начала будущего (τῶν μελλόντων ἀπαρχάς) u), a с течением времени, прекратив существование настоящего мира, Он нам откроет начало восьмого дня (ἀρχὴν ἡμέρας ὀγδοης), т.-е. другого мира (ἄλλου κόσμου ἀρχήν) 12). Автор т. наз. второго послания Климента
1) Vis. I, 1, 8 (Funk, ор. cit., S. 145); р. пер., стр. 225; ibid. III, 6, 5. 6 (Funk, op. cit., S. 155); p. пер., стр. 241; Mand. IX, 4 (Funk. op. cit., S. 176); p. пер., стр. 268; ibid. XI, 8 (Funk, op. cit, S. 180); p. пер., стр. 274; ibid. XII, 1, 2 (Funk, op. cit., S. 182); p. пер., стр. 277; ibid. XII, 6,5 (Funk, op. cit., S. 186); p. пер., стр. 281; Sim. III, 1, 2. 3 (Funk, op. cit., S. 189); p. пер., стр. 285; ibid. V, 3, 6 (Funk, op. cit., S. 193); p. пер., стр. 290; ibid. VI, 1, 4 (Funk, op. cit., S. 196); p. пер., стр. 295; ibid. VI, 2, 3 (Funk, op. cit., S. 197); p. пер., стр. 296; ibid. VI, 3, 3 (Funk, op. cit., S. 198η p. пер., стр. 298; ibid. VII, 2 (Funk, op. cit., S. 201); p. пер., стр. 301.
2) Vis. IV, 3, 2 (Funk, op. cit., S. 162); p. пер., стр. 251; Sim. V, 5, 2 (Funk, op. cit., S. 194); p. пер., стр. 292.
3) Vis. IV, 3, 5 (Funk, op. cit., S. 163); p. пер., стр. 251; Sim. IV, 2, 8 (Funk. op. cit., S. 189. 190); p. пер., стр. 286.
4) Sim. IV, 3, 4 (Funk, op. cit., S. 189. 190); p. пер., стр. 286.
5) Ibid. IV, 2 (Funk, op. cit., S. 191); p. пер., стр. 286.
6) Ibid. III, 2, 3 (Funk, op. cit., S. 189); p. пер., стр. 285.
7) Ep. Barn. IV, 1 (Funk, op. cit., S. 11); p. пер., стр. 38.
8) Ibid. X, 11 (Funk, op. cit., S. 21); p. пер., стр. 57.
9) Ibid. XV. 5 (Funk, op. cit., S. 27); p. пер., стр. 68.
10) Ibid. XVIII, 2 (Funk, op. cit., S. 29); p. пер., стр. 72'.
11) Ibid. I, 7 (Funk, op. cit, S. 9); p. пер., стр. 34.
12) Ibid. XV, 8 (Funk, op. cit., S. 27); p. пер., стр. 68.
3
ккоринфянамэтотмир (οὗτος ὁ αἰών) ибудущий (ὁ μέλλων) считаетдвумяврагами— δύο ἐχθροί (cp. 2 Кор. 4, 4; Гал. 1, 4; Иак. 4, 4; Ио. 5, 19). «Этот (οὗτος) (век),—говорит он,— проповедует прелюбодеяние, разврат, сребролюбие и обман, а тот (ἐκεῖνος) отказывается от них. Следовательно, мы не можем быть друзьями их обоих (τῶν δύο φύλοιεἶναι); нам следует этот (οὗτος) (век) оставить и воспользоваться тем (ἐκείνῳ)» 1). Мы должны избегать «жительства этого мира (τὴν παροικίαν τοῦ κόσμου τούτου)» 2). Автор т. наз. второго послания Климента к коринфянам противополагает между собой ἡ ἐπιδημία Эр ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ 3), ὁ νῦν βίος 4), οἱ νῦν χρόνοι 5) и βίος ὁ μέλλων 6), μακάριος χρόνος, ἀλύπητος αἰὼν 7). В таком же смысле трактует о царстве этого мира (τοῦ αἰῶνος τούτου) и св. Игнатий, епископ Антиохийский († 107) 8).
В то время как наименование будущего мира у мужей апостольских— αἰὼνὁ μέλλων указывает исключительно на религиозно-этический его момент, другие названия будущего мира у них оттеняют его космически—физический характер. На последний характер будущего мира, главным образом, указывают рассуждения мужей апостольских о нем, как об οὐρανός или чаще— οὐρανοί . Ούρανὁς служит местом жительства Самого Бога), Который на нем господствует 10). По убеждению Ерма, человек, думающий о праведном и неуклонно к нему стремящийся, пользуется на небесах (ἐν τοῖς οὐρανοῖς) благоволением Господа во всех
1) 2 Сlent. VI, 3—5 (Funk, ор. cit., S. 71); р. пер., стр. 174.
2) Ibid. V, 1 (Funk, ор. cit, S. 71); p. пер., стр. 173 ср. ibid. VI, 6 (Funk, op. cit., S. 71); p. пер., стр. 174.
3) Ibid. V, 5 (Funk, op. cit., S. 71); p. пер., стр. 173.
4) Ibid. XX, 2 (Funk, op. cit., S. 79).
5) Ibid. XIX, 4 (Funk, op. cit., S. 78).
6) Ibid. XX, 4 (Funk, op. cit., S. 79).
7) Ibid. XIX, 4 (Funk, op. cit., S. 78).
8) Rom. VI, 1 (Funk, op. cit., S. 96); p. пер, стр, 406.
9) Did. VIII, 2 (Funk, op. cit., S. 5); p. пер. (K. Попова, Учение двенадцати апостолов, изд. 2-ое исправленное, Киев 1885), стр. 33.
10) Diogn. X, 7 (Funk, ор. cit., S. 141).
4
делах 1). Автор послания к Диогнету замечает, что на небе живут праведники 2), чти их на нем ожидает нетление 3), потому что там Бог обещал свое царство любящим Его 4). Ἐπουράνια или ἑπουράνιοι вместе с ἐπίγεια составляют вселенную, которая покорена Христом 5). Под ἐπουράνια или ἐπουράνιοι в собственном смысле разумеется ангельский мир в своих разнообразных чинах 6). Кроме земных и небесных существ, в состав вселенной, по представлению апостольских мужей, входят также еще подземные существа. Св. Игнатий пишет, что в то время, когда Христос страдал, на Него смотрели не только земные и небесные существа, но также и преисподния (ὑποχθόνιοι) 7). Св. Климент († 100) также упоминает об аде (ᾄδης) 8), который, по воззрению апостольских мужей, служит местом пребывания грешных существ.
2. Учение о будущей участи людей.
Жизнь человека, по представлению апостольских мужей, по причине «беззаконной и нечестивой зависти» диавола оканчивается смертью 9). После смерти каждый человек занимает соответствующее его нравственному достоинству место на том свете.
1) Vis. I, 1, 8 (Funk, ор. cit., 145); р. пер, стр. 225.
2) Diogn. V, 9 (Funk, ор. cit., S. 137).
3) Ibid. VI, 8 (Funk, op. cit., S. 138).
4) Ibid. X, 2 (Funk, op. cit , S. 141).
5) Ep. Polyc. ad. Philip. II, 1 (Funk, op. cit., S. 110); p. пер;, стр. 442 cp. Ign., Eph. XIII, 2 (Funk, op. cit., S. 84); p. пер., стр. 382; Trall. V, 1. 2 (Funk, op. cit., S. 91); p. пер., стр. 398; Smyrn. VI, 1 (Funk, op. cit., S. 103); p. пер., стр. 420.
6) Bp. Ign. ad Trall. V, 2 (Funk, op. cit., S. 92); p. пер., стр. 398; Smyrn. VI, 1 (Funk, op. cit., S. 103); p. пер., стр. 420 cp. Mart. Polyc. XIV, 1 (Funk, op. cit, S. 120—121).
7) Ep. ad Trall. IX, 1 (Funk, op. cit, S. 92); p. пер.. стр. 339.
8) 1 Clem. IV, 12 (Funk, op. cit., S. 35); p. пер, стр. 106; ibid. LI. 4 ( Funk, op. cit., S. 61); p. пер. , стр. 151; Ep. Polyc. ad Philip. I. 2 (Funk, op. cit, S. 109); p. пер., стр. 441 cp. 2 Clem. V, 4 (Funk, op. cit., S. 71); p. пер., стр. 173.
9) 1 Clem. III, 4 (Funk, op. cit., S. 35); p. пер., стр. 105.
5
А. Участь праведников на том свете.
Уже апостольским мужам была известна идея непосредственного загробного воздаяния. Они полагали, что мученики немедленно после своей кончины удостаиваются на том свете определенного места. Апостол Петр,—так думал св. Климент,—после своей мученической кончины «отошел в подобающее место славы (εἰς τὸν ὀφειλόμενον τόπον τῆς δὁξης)»1), а апостол Павел, оставивши земной мир, «перешел в святое место (εἰς τὸν ἅγιον τόπον)»2). Люди, достигшие совершенства в любви, по благодати Божьей владеют «местом благочестивых (χῶρον εὐσεβῶν)»3). По замечанию св. Игнатия, каждый человек должен получить свое собственное место (τὸν ἴδιον τόπον)4). По словам св. Поликарпа, такие мученики, как св. Игнатий, Зосима, Руф, апостол Павел и другие находятся «в подобающем им месте (εἰς τὸν ὀφείλομενον αἰτοῖς τόπον) у Господа, с Которым они страдали» 5). Это последнее место имеет в виду и автор послания, известного с именем ап. Варнавы, когда говорит, что желающий достигнуть «определенного места (τὸν ὡρισμένον τόπον)» «должен стремиться к нему посредством своих дел» 6).
Так как мученики, по учению св. Поликарпа, непосредственно после своей смерти отходят к Господу (παρὰ τῷ Κυρίῳ)7), то местом их загробного пребывания может служить только небо. И действительно, Ерм видел открытое небо (ὁ οὐρανός), откуда сходила раньше принятая туда Рода 8), которая ему сказала: «Я взята сюда» 9), т.-е. на
1) Ibid, V, 4 (Funk, ор. cit, S. 36); p. пер., стр. 107.
2) Ibid. V, 7 (Funk, ор. cit., S. 36); p. пер., стр. 107.
3) Ibid, b, 3 (Funk, op. cit., S. 60); p. пер., 150.
4) Ep. ad Magn. V, 1 (Funk, op. cit, S. 87); p. пер. стр. 399.
5) Ep. Polyc. ad. Philip. IX, 2 (Funk, op cit., S. 113); p. пер., стр. 447.
6) .Ep. Barn. XIX. 1 (Funk, op. cit., S. 29); p. пер., стр. 72.
7) Ep. Polyc. ad Philip. IX, 2 (Funk, op. cit., S. 113); p. пер., стр. 447.
8) Vis. I, 1, 4 (Funk, op. cit, S. 144); p. пер., стр. 224.
9) Ibid. I, 1, 5 (Fun , op. cit., S. 144); p, пер., стр. 224.
6
небо. В том же видении Ерму было открыто, что праведный человек помышляет только о праведном, за что он имеет на небесах (ἐν τοῖς οὐρανοῖς) благоволение Господа во всяком деле 1).
Пребывание мучеников после смерти в определенном месте на небе является для них заслуженной наградой. По словам св. Климента, апостол Павел после своей мученической кончины получил награду за терпение (ὑπομονῆς βραβεῖον ἐδειξεν)2) и приобрел благородную славу за свою веру (τὸ γενναῖον τῆς πίστεως αὐτοῦ κλέος ἔλαβεν)3). В другом месте тот же св. отец говорит о женщинах, которые, пройдя строгое ристалище веры, получили славную награду (ἔλαβον γέρας γενναῖον)4), которые, претерпев мучения, наследовали славу и честь (δόξαν καὶ τιμὴν ἐκληρονόμησαν)5). О св. Поликарпе говорится, что он в своем мученичестве увенчался венком нетления (ἐστεφανωμένον τὸν τῆς ἀφθαρσίας στέφανον)6).
Из сказанного видно, что праведники, по учению апостольских мужей, непосредственно7) после своей смерти удостаиваются небесного блаженства. Апостольские мужи, конечно, не дают обстоятельного решения вопроса, в чем состоит это блаженство. Так как сущность небесного блаженства для нас непостижима, то они пытаются лишь приблизить ее к человеческому представлению. Св. Климент Римский приглашает нас постоянно обращаться к Богу, дабы нам сделаться участниками великих и славных Его обетований. При этом он прибавляет, что ухо
1) Ibid. I, 1, 8 (Funk, ор. cit., S. 145); p. пер., стр. 225.
2) 1 Clem. V, 5 (Funk, op. cit., S. 36); p. пер., стр. 107.
3) Ibid. V, 6 (Funk, op, cit., S. 36); p. пер., стр. 107.
4) Ibid. VI, 2 (Funk. op. cit., S. 36); p. пер., стр. 108.
5) Ibid. XLV, 8 (Funk, op. cit., S. 58); p. пер, стр. 146.
6) Martyr. Polyc. XVII, 1 (Funk, op. cit., S. 122) cp. ibid. XIX, 2 (Funk, op. cit., S. 122—123).
7) Cp. ep. Polyc. ad. Philip. IX, 2 (Funk, op. cit, S. 113); p. пер., стр. 447.
7
не слышало и на сердце человеку не приходило то, что Бог приготовил для надеющихся на Него (cp. 1 Кор. 2,9) 1) «Как блаженны и чудны дары Божьи, возлюбленные,—так говорит святитель Римский несколько ниже.—Жизнь в бессмертии, сияние в правде, истина в свободе, вера в надежде, воздержание в святости: все это доступно нашему разумению. Какие же (дары) еще приготовляются для ожидающих? Творец и Отец веков, Всесвятый, Он Сам знает их величие и красоту (τὴν ποσότητα καὶ τὴν καλλονήν). Итак, употребим все усилия быть в числе надеющихся на Него, дабы участвовать в обетованных дарах» 2). «Знайте, братья, что странствование нашей плоти в этом мире мало и кратковременно, а обещание Христово велико и удивительно; это—покой будущего царства и вечной жизни (ἀνάπαυοις τῆς μελλούσης βασιλείας καὶ ζωῆς αἰωνίου)» 3). «Исполняя волю Христа, мы найдем покой (ἀνάπαυσιν)» 4). «Не найти его тем, которые привносят страх человеческий, предпочитая здешнее наслаждение будущему обетованию. Они не знают, какую муку имеет в себе здешнее наслаждение и какую сладость—будущее обетование» 5). Автор послания, известного с именем апостола Варнавы, говорит, что сущность небесного блаженства праведников состоит в созерцании (ἰδεῖν) ими Христа 6). Св. Игнатий также полагал сущность небесного блаженства в непосредственном созерцании Бога, когда учил, что нам следует жить так, чтобы мы были храмом Божьим и чтобы Бог был в нас, как Он и действительно есть и как Он явится некогда пред нашим лицом (δπερ καὶ
1) 1 Clem. ΧΧXIV, 7—8 (Funk, op. cit, S. 51—52): p. пер., стр. 135 cp. 2 Clem. XI, 7 (Funk, op. cit., S. 74); p. пер., стр. 179 сн. ibid. XIV, 5 (Funk, op. cit., S. 76).
2) 1 Clem. XXXV, 1—4 (Funk, op. cit., S. 52); p. пер., стр. 135—136.
3) 2 Clem. V, 5 (Funk, op. cit., S. 71); p. пер., стр. 173.
4) Ibid. VI, 7 (Funk, op. cit., S. 72); p. пер., стр. 174.
5) Ibid. X, 3 (Funk, орcit., S. 72); p. пер., стр. 178.
6) Ep. Barn. VII, 11 (Funk, op. cit., S. 18); p. пер., стр. 49.
8
уыешт καὶ φανήσεται πρὸ προσώπου ἡμῶν) 1). Ерму было показано, что люди простые, добрые и милосердные обитают с Сыном Божьим (ср. Ио. 12, 26; 14, 3; 17, 24) 2). О других праведниках Ерм пишет, что они будут иметь цену в очах Божьих и что их место будет среди ангелов (ὁ τόπος αὐτών μετὰ τῶν ἀγγέλων ἐστίν), если они до конца пребудут в служении Господу 3) В другом месте Ерм увещевает своих читателей «делать правду, стоять твердо и не быть двоедушными», дабы их «переселение было со святыми ангелами (ἡ πάροδος μετὰ τῶν ἀγγελων τῶν ἁγίων)1 *).
В. Участь грешников на том свете.
Подобно праведникам, и грешники после своей смерти получают на том свете соответствующее их нравственному достоинству место (ἔκαστος εἰς τὸν ἴδιον τό ? ον μέλλει χωρεῖν)5).
Это место у апостольских мужей называется— ἅδης . По словам св. Климента, некогда снизошли во ад (εἰς ἀδου) Дафан и Авирон за свое возмущение против Моисея 6). Болезни ада (τὰς ὠδῖνας τοῦ ᾄδου), по замечанию св. Поликарпа, разрушил Христос после Своего воскресения (ср. Дн. 2, 24)7). Кроме наименования— ᾄδης , апостольские мужи месту загробного пребывания грешников усвояют еще названия— γέεννα πυρός , в которую диавол имеет власть ввергнуть душу и тело человека (ср. Мф. 10, 28; Лук. 12, 4. 5)8), συνοχή , из которого грешник не выйдет до тех пор, пока не уплатит последнего кодранта (ср. Мф. 5,25.
1) Ep. Ign. ad Eph. XV, 3 (Funk. op. cit., S. 84); p. пер., стр. 383.
2) Sim. IX, 24, 4 (Funk, op. cit., S. 230); p. пер., стр. 336—337.
3) Ibid. IX, 27, 3 (Funk, op. cit., S. 232); p. пер., стр. 338.
4) Vis. II, 2, 7 (Funk, op, cit., S. 148); p. пер, стр. 231; Sim. IX, 2 (Funk, op. cit., S. 230); p. пер., стр. 337.
5) Ep. Ign. ad Magn. V, 1 (Funk, op. cit, S. 87); p. пер.. стр, 389.
6) 1 Clem. IV, 12 (Funk, op. cit., S. 35); p. пер., стр. 106; ibid. LI, 4 (Funk, op. cit., S. 61); p. пер., стр. 151.
7) Ep. Polyc. ad Philip. I, 2 (Funk, op. cit., S. 109); p. пер., стр. 441.
8) 2 Clem. V, 4 (Funk, op. cit., S. 71); p. пер., стр. 173.
9
26; Лук. 12, 58. 59) 1), и δεσμωτήριον, в которую отдают себя отрекающиеся от Господа 2).
Нисходя после своей смерти во ад, грешники, по представлению апостольских мужей, подвергаются там разного рода наказаниям. Кто злым учением разрушает веру Божью, за которую распят Иисус Христос, тот, по словам св. Игнатия, пойдет в неугасимый огонь (εἰς τὸ πῦρ τὸ ἀσ ? εστον), а также и тот, кто его слушает 3). Вот почему о смирнских, мучениках я говорится, что они чрез один час (διὰ μιᾶς ὥρας) освободились от вечного наказания (τὴν αἰώνιον κόλασιν)4). По рассуждению Ерма, грешники и язычники будут преданы огню. Грешники будут преданы огню за то, что они согрешили и не раскаялись в своих грехах, а язычники—за то, что они не узнали своего Творца 5). В другом месте Ерм замечает, что грешники, если они пребудут в своих делах, будут преданы тем женщинам, которые лишат их жизни 6). «Путь тьмы,—пишет автор послания, известного с именем апостола Варнавы,—искривлен и исполнен проклятия, потому что он есть путь вечной смерти с наказанием (ὁδός γὰρ ἐστιν θανάτου αἰωνίου μετὰ τιμωρίας)»7) Автор т. наз. второго послания Климента замечает, что «нас ничто не избавит от вечного наказания (ἐκ τῆς αἰωνίου κολάσεως)», если мы пренебрежением Божьими заповедями8), потому что «о тех, которые не сохранили пе-
1) Did. I, 5 (Funk, ор. cit., S. 2); p. пер., стр. 26 — 27.
2) Herm. Sim. IX, 28, 8 (Funk, op. cit., S. 233); p. пер., стр. 339.
3) Ep. ad Eph. XVI, 2 (Funk, Op. cit., S. 86); p. пер, стр. 383.
4) Martyr. Polyc. II, 3 (Funk, op. cit., S. 116).
5) Sim. IV, 4 (Funk, op. cit., S. 190); p. пер., стр. 286.
6) Ibid. IX, 20, 4 (Funk, op. cit., S. 228); p. пер., стр. 334; ibid. IX. 21,4, (Funk, op. cit., У. 228); p. пер., стр. 335; ibid. IX, 22, 4 (Funk, op. cit., S. 229); p. пер., стр. 336; ibid. IX, 26, 6. δ (Funk, op. cit., S. 23); p. пер., стр. 338.
7) Ep. XX, 1 (Funk op. cit., S. 30); p. пер., стр. 74 cp. Herm, Sim VI, 3, 2 (Funk, op. cit., S. 193); p. пер., стр. 296, гдеупоминаетсяὁ ἀγγελος τῆς τιμωρίας.
8) 2 Clem. VI, 7 (Funk, op. cit., S. 72); p. пер., стр. 174.
10 —
чати (т.-е. крещения), сказано: «червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они в позор всякой плоти» (Ис. 66, 24; Мк. 9, 44. 46. 48)1) В другом месте тот же автор говорит, что «согрешившие и отрицавшиеся Иисуса делами или словами наказываются страшными муками и неугасимым огнем (κολάζονται δειναῖς βασάνοις πυρὶ ἀσβέστῳῶ »2).
Относительно адских мучений Ерм утверждал, что они не для всех грешников оказываются одинаковыми. По его мнению, те люди, которые, не зная Бога, совершают здесь на земле зло, предназначаются на том свете к смерти, а те, которые познали Господа и видели чудные Его дела, если делают зло, будут вдвое наказаны (δισςῶς κολασθήσονται)3).
Что касается вечности адских наказаний, то она так ясно и так часто признается апостольскими мужами, что приписывать им мнение о конце их не приходится. Кроме приведенных выше, можно еще указать и некоторые другие выражения апостольских мужей, подтверждающие их учение о вечности будущих наказаний. Так, Ерм утверждал, что смерть, которая ожидает грешников на том свете, «имеет вечную погибель (ἀπώλειαν αἰώνιον)»4). «Те,—замечает автор «Пастыря»,—которые поддадутся злой похоти и не воспротивятся ей, умрут навсегда (ἀποθανοῦνται εἰς τέλος)»5).
1) Ibid. VII, 6 (Funk, op. cit., S. 72); p. пер., стр. 175—176 cp. ibid. ХVII, 5 (Funk, op. cit., S. 77).
2) Ibid. ХVЛ, 7 (Funk, op. cit., S. 78).
3) Sim. IX, 18, 2 (Funk, op. cit., S. 226); p. пер., стр. 333.
4) Ibid. VI, 2, 4 (Funk, op. cit., S. 197); p. пер., стр. 297 cp. ibid. VIII, 6, 4 (Funk, op. cit., S. 207); p. пер., стр. 309; ibid. IX, 18, 2 (Funk, op. cit., S. 226); p. пер., стр. 333.
5) Mand. ΧΙΙ, 2, 3 (Funk, op. cit., S. 182); p. пер., стр. 277.
11
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще.
I. Учение о втором пришествии Христа.
После смерти как праведники, так и грешники, однако, еще не достигают своей окончательной участи. Эта их участь определится только после второго пришествия Христа.
Время второго пришествия Христа апостольским мужам представлялось делом недалекого будущего. Как, древесный плод в короткое время достигает зрелости, так, по убеждению св. Климента, быстро и внезапно (ταχὺ καὶ ἐξαίφνης) совершится поля Божья. Согласно свидетельству Св. Писания (ср. Авв. 2, 3; Малах. 3, 1 сн. Евр. 10, 37), «скоро придет, и не замедлит, и внезапно придет в храм Свой Господь и Святый, Которого вы ожидаете» 1). По Ерму, башня, т.-е. Церковь Христова, уже скоро будет окончена (ταχὺ ἐποικοδομηθήσεται)2). По его мнению, однако, она не получит своего завершения до тех пор, пока не придет Господин башни и не испытает, правильно ли она построена 3). Несколько ниже Ерм в своем «Пастыре» замечает, что он уже видит Господина башни грядущим4) и что башне уже немного недостает до окончания (λείπει τῷ πόργῳ ἕτι μικρὸν οἰκοδομηθῆναι)5). По мнению св. Игнатия, все в мире имеет конец (ἔχει τέλος)6), и уже наступили последние времена (ἐσχατοι καιροί)7). «Господь, по словам автора послания, известного с именем апостола Варнавы, сократил времена и дни для того, чтобы Возлюблен-
1) 1 Clem. ХXIII, 5 (Funk, ор. cit., S. 47); р. пер., 126.
2) Vis. III, 8, 9 (Funk, ор. cit., S. 157); р. пер., стр. 243.
3) Sim. IX, 5, 2 (Funk, ор. cit., S. 214); p. пер., стр. 318.
4) Ibid. IX, 6, 1 (Funk, ор. cit., S. 215); p. пер., стр. 316.
5) Ibid. IX, 9, 4 (Funk, op. cit., S. 218); p. пер., стр. 323.
6) Ep. ad Magn. V, 1 (Funk, op. cit., S. 87); p. пер., стр. 389.
7) Ibid, ad Eph. XI, 1 (Funk, op. cit., S. 83); p. пер., стр. 381.
12
ный Его ускорил Своим пришествием к Своему наследию» (ср. Мф. 24, 6. 22) *) «Близок день, в который все погибнет с нечестивым. Близок Господь (ἐγγὺς ὁ Κύριος) и награда Его» (ср. Филип. 4, 5; 1 Кор. 16,22; Иак. 5,9; Ап. 1, 30; 22, 10; Ис. 40, 10)2). В другом месте своего послания тот же автор высказывает свое убеждение в том, что уже начались последние дни. Он замечает, что Бог «совершил в нас второе творение в конце времен (ἐπ ’ ἐσχάτων)»3), и увещевает своих читателей, чтобы они были внимательны к последним дням (ταῖς ἑσχάταις ἡμέραις)4), так как «последнее искушение уже приблизилось (τὸ τέλειον σκάνδαλον ἤγγικεν)»5).
Второму пришествию Христа, по учению апостольских мужей, будут предшествовать известные события. «В последние дни (ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις) по словам автора Διδαχή τῶν δώδεκα ἀποστόλων , умножатся лжепророки (ср. Мф. 24, 11 и дал.; 1 Тим. 4, 1; 2 Петр. 3, 3; Иуд. 18) и губители (ср. 2 Петр. 2, 12), овцы обратятся в волков (ср. M ф. 24, 10) и любовь превратится в ненависть, потому что, когда усилится неправда (ср. Мф. 24, 12), то будут ненавидеть друг друга, преследовать и предавать,—и тогда явится искуситель мира (ὁ κοσμοπλανής =Антихрист, ср. 2 Ио. 7; Ап. 12, 9), подобный (ώς) Сыну Божью (ср. 2 Солун. 2. 4), и совершит знамения и чудеса (ср. Мф. 24, 24; 2 Солун. 2,9; Ап. 13, 2. 13) и земля будет предана в его руки, и совершит беззакония (ср. 2 Солун. 2, 4), каких никогда не было от века (ср. Me . 24, 21). Тогда человеческая тварь пойдет в огонь испытания (ср. Зах. 13, 8. 9; 1 Петр. 4, 12), и многие соблазнятся и погибнут (ср. Мф. 24, 10); пребывшие же в своей вере будут спасены от его проклятия (ср. Иак. 5, 11)» 6)
1) Ep. Barn. IV, 3 (Funk, ор. cit., S. 11—12); p. пер., стр. 38.
2) Ibid. XXI, 2 (Funk, op. cit., S. 31); p. пер., стр. 75—76.
3) Ibid. VI, 13 (Funk, op. cit., S. 16); p. пер., стр. 46.
4) Ibid. VI, 9 (Funk, op. cit., S. 12); p. пер., стр. 39.
5) Ibid. IV, 3 (Funk, op. cit., S. 11); p. пер., стр. 38.
6) Did. XVI, 2-5 (Funk, op. cit., S. S); p. пер., стр. 40.
13
«Наступающее великое гонение (θλῖψις ἡ ἐρχόμενη ἡ μεγάλη)» было известно и Ерму1). Он созерцал его под образом ужасного зверя, могущего истребить народы 2). Кроме указанных, апостольским мужам были известны и другие признаки второго пришествия Христа. «Тогда, по представлению автора Διδαχή , явятся знамения истины (ср. Мф. 24, 3. 30): во-первых, знамение отверстия на небе; потом, знамение трубного звука (ср. 1 Кор. 15, 52; 1 Солун. 4, 11; Мф. 24, 31) и третье—воскресение мертвых... Тогда мир увидит Господа, грядущего на облаках небесных» (ср. Мф. 24, 30; 26, 64) 3).
Второе пришествие Христа апостольские мужи, представляли себе, в противоположность первому, славным. Во время второго пришествия, по словам автора послания, известного с именем апостола Варнавы, иудеи увидят Христа одетым в длинную красную одежду и будут говорить: «не Тот ли это, Которого некогда мы уничижили, пронзили, подвергли осмеянию и распяли? Поистине это Тот, Который тогда назвал Себя Сыном Божьим»4). «И узрят славу Его» (Ис. 66,18),—замечает автор т. наз. второго послания Климента,—и силу неверные, и удивятся, увидевши царство мира в Иисусе, и скажут: «Увы нам, что Ты был, а мы не знали и не уверовали и не послушали пресвитеров, возвещавших нам о нашем спасении» 5).
Некоторые из апостольских мужей, придерживаясь хилиастических воззрений, полагали, что Христос, придя во второй раз, воскресит умерших святых и вместе
1) Vis. ΙΙ, 2, 7 (Funk, ор. cit, S. 148); р. пер., стр. 231 ср. ibid. ΙΙ, 3, 4 (Funk, ор. cit., S. 149); р. пер., стр. 232.
2) Ibid. IV, 1—3 (Funk, ор. cit, S. 160—163); p. пер., стр. 247—254.
3) Did. XVI, 6, 8 (Funk, op. cit., S. 8); p. пер., стр. 40.
4) Ep. Barn. VII, 9 (Funk, op. cit., S. 18); p. пер., стр. 49.
5) 2 Clem. XVII, 5 (Funk, op. cit., S. 77).
14
с ними в течение 1000 лет будет царствовать на земле 1). Это будущее тысячелетнее царство Папий, епископ Иерапольский (ок. 150), представляет в таких выражениях. «Придут дни, когда будут расти виноградные деревья, и на каждом будет по 10000 лоз, на каждой лозе по 10000 веток, на каждой ветке по 10000 прутьев, на каждом пруте по 10000 кистей и на каждой кисти по 10000 Ягодин и каждая выжатая Ягодина даст по 25 метрет вина. И когда кто-либо из святых возьмется за кисть, то другая (кисть) возопиет: «я лучшая кисть, возьми меня; чрез меня благослови Господа». Подобным образом и зерно пшеничное родит 10000 колосьев и каждый колос будет иметь по 10000 зерен и каждое зерно даст по 10 фунтов чистой муки: и прочия плодовые деревья, семена и травы будут производить в соответственной сему мере, и все животные, пользуясь пищей, получаемой от земли, будут мирны и согласны между собой и в совершенной покорности людям»2). Равным образом и автор послания, известного с именем апостола Варнавы, пишет, что мы некогда «будем жить, господствуя над землей (ζήσομεν κατακυριεύοντες τῆς γῆς)» и над дикими зверями, рыбами и небесными птицами, если станем настолько совершенными, что удостоимся быть наследниками завета Господня 3).
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых.
В своих творениях апостольские мужи сравнительно много уделяют места учению о будущем воскресении
1) Papias, Hieron., De viris illustr., cap. ХVIII, 18—20 (Hieronymus liber de viris inlustribus von E. C. Richardson, Leipzig 1896, S. 19) cp. Did. XVI, 7 (Funk, op. cit., S. 8); p. пер., стр. 40, автор которого, основываясь на выражении Св. Писания: «приидет Господь.. и вси святии с ним” (Зах. 14, 5), допускал будущее воскресение пить умерших праведников.
2) Papiae fragm. I (Funk, op. cit., S. 125—126); p. пер. (Прот. П. Преображенский, Сочинения св. Иринея, епископа Лионского, С.-Петербург 1900), стр. 518.
3) Ep. Barn. VI, 17—19 (Funk, ор. cit., S. 16); р. пер., стр. 46—47.
15
мертвых. Они полагают, что его наступление в известное время не должно подлежать сомнению. Св. Климент пишет, что «Господь постоянно показывает нам будущее воскресение, начатком которого Он сделал Господа Иисуса Христа, воскресив Его из мертвых» (ср. 1 Кор. 15, 20. 23; Кол. 1, 18). В качестве доказательства возможности воскресения святитель Римский указывает на такие аналогии, как на смену дня и ночи, тление семени и произрастание из него плодов 1), а также на сказание о баснословном фениксе, который чрез каждые пятьсот лет воскресает из своего собственного праха 2). Наконец, для доказательства действительности, будущего воскресения мертвых он ссылается на свидетельства Св. Писания (Пс. 27, 7; 3, 6; Иов. 19, 25—26) 3). Св. Игнатий указывает на воскресение Иисуса Христа, как на образ нашего будущего воскресения 4). По его словам, страдания Христа— наше воскресение 5). Надеясь на будущее воскресение из мертвых, св. Игнатий охотно носит на себе узы, этот духовный жемчуг, в котором он желает воскреснуть 6). Имея надежду на воскресение во Христе, он охотно идет на смерть 7). Св. Поликарп пишет, что Бог, воскресивший Христа из мертвых, воскресит и нас (ср. 1 Кор. 6, 14; 2 Кор. 4, 14; Рим. 8, 11), если мы будем исполнять Его волю 8). По мнению автора послания, известного с именем апостола Варнавы, Христос приходил для того, «чтобы упразднить смерть, показать воскресение из
1) 1 Clem. XXIV (Funk, ор. cit., S. 47); p. пер., стр. 126—127.
2) Ibid. XXV (Funk, op. cit., S. 47—48); p. пер., стр. 127—128.
3) Ibid. XXVI (Funk, op. cit., S. 48); p. пер., стр. 128 cp. ibid. L, 4. (Funk, op. cit., S. 60); p. пер., 150.
4) Ep. ad Trall. IX, 2 (Funk, op. cit., S. 92); p. пер., стр. 399—400.
5) Ep. ad Smyrn. V, 3 (Funk, op. jit., S. 103); p. пер., стр. 420.
6) Ep. ad Eph. XI, 2 (Funk, op. cit, S. 83); p. пер., стр. 381.
7) Ep. ad Rom. IV, 3 (Funk, op. cit, S. 95); p. пер., стр. 405.
8) Ep. ad Philip. II, 2 (Funk, op. cit., S. 106); p. пер., стр. 442 cp. bid. V, 2 (Funk, op. cit., S. 107); p. пер., стр, 444.
16 -
мертвых» «и, приготовляя для Себя новый народ, в течение Своей земной жизни показать, что Он, совершив воскресение, будет Судьей» 1). Автор данного послания полагает, что будущее воскресение мертвых является даже необходимым, потому что оно, по его мнению, требуется идеей справедливого воздаяния2). «Никто из вас не должен говорить,—так наставляет своих читателей автор т. наз. второго послания Климента,—что эта плоть не будет судима и не воскреснет. Знайте: в чем вы спасены, в нем прозрели, если не во плоти? Поэтому, нам должно хранить плоть, как храм Божий, потому что как вы призваны во плоти, так и на суд придете во плоти же. Как Христос Господь, спасший нас, хотя прежде Он был духом, стал плотью и, таким образом, призвал нас, так и мы получим награду в этой плоти»3). Если праведники в этом мире испытывают бедствия, то «все же они соберут бессмертный плод воскресения (τὸν ἀθάνατον τῆς ἀναστάσεως καρπὸν τρυγήσουσιν)»4).
Так твердо верили апостольские мужи в будущее воскресение мертвых.
3. Учение о всеобщем суде.
Главной целью второго пришествия Христа является всеобщий суд. Учение о всеобщем суде нашло свое довольно обстоятельное выражение в творениях апостольских мужей. Тут ясно указывается на будущий суд, как несомненный факт мировой истории, на личность Иисуса Христа, как будущего Судью всех людей, а также и на некоторые обстоятельства совершения будущего суда.
По словам св. Климента, Господь праведен в Своем суде 5), и мы должны оставить нечистые стремления
1) Ер. Barn. V, 6—7 (Funk, ор. cit., S. 14); р. пер., стр. 42.
2) Ibid. XXI, 1 (Funk, ор. cit., S. 31); p. пер., стр. 75.
3) 2 Clem. IX, 1—5 (Funk, ор, cit., S. 73); p. пер., стр. 177.
4) Ibid. XIX, 3 (Funk, op. cit., S. 78).
5) 1 Clem. ХХVII, 1 (Funk, op. cit., S. 48); p. пер., стр. 129.
17
к худым делам, чтобы Его милосердие сохранило нас от будущего суда 1). Ерм в своем «Пастыре» предлагает взирать на грядущий суд 2). Он полагает, что участь праведников и грешников в будущем веке будет весьма различной3). Вместе с тем он часто говорит о заключительном испытании башни, т.-е. церкви, ее Господином4) и о конечном воздаянии каждому члену Церкви по заслугам 5). По представлению св. Игнатия, подлежат суду также и «небесные существа, слава ангелов и видимые и невидимые власти», если они не веруют в кровь Христову6). По убеждению св. Поликарпа, Господь придет в качестве Судьи живых и мертвых7), и каждый из нас предстанет пред судилищем Христовым и каждый даст за себя ответ (ср. Рим. 14, 10. 12; 2 Кор. 5, 10) 8). Человека, отрицающего будущий суд, святитель Смирнский называет первенцем сатаны9). По воззрению автора послания, известного с именем апостола Варнавы, Господь еще во время Своей земной жизни дал доказательство того, что Он, воскресив людей из мертвых, произведет над ними суд10), что Он будет судить живых и мертвых (ср. Дн. 10, 42; 2 Тим. 4, 1; 1 Петр. 4, 5)11), что Он, наконец, будет судить всех без лицеприятия (ср. Рим. 2, 11; Гал. 2, 6; 1 Петр. 1, 17)12). Грешники не устоят на суде (ср. Пс. 1,5) 13). Поэтому, христиане должны
1) Ibid. XXVIII, 1 (Funk, ор. cit., S. 48); p. пер., стр. 130.
2) Vis. III, 9, 5 (Funk, op. cit., S. 158); p. пер., стр. 244.
3) Sim. IV, 2—4 (Funk, op. cit., S. 189—190); p. пер., стр. 286.
4) Ibid. IX, 5, 2. 6. 7 (Funk, op. cit., S. 214—215); p. пер., стр. 318—319.
5) Ibid. IX (Funk, op. cit., S. 211—236); p. пер., стр. 313—343.
6) Ep. ad Smyrn. VI, І (Funk, op. cit., S. 113); p. пер., стр. 420.
7) Ep. ad Philip. II, 1 (Funk, op. cit., S. 110); p. пер., стр. 442.
8) Ibid. VI, 2 (Funk, op. cit., S. 112); p. пер., стр. 445.
9) Ibid. VII, 1 (Funk, op. cit., S. 112); p. пер., стр. 446.
10) Ep. Batn. V, 7 (Funk, op. cit., S. 14); p. пер., стр. 42.
11) Ibid. VII, 2 (Funk, op. cit., S. 17); p. пер., стр. 47.
12) Ibid. IV, 12 (Funk, op. cit., S. 13); p. пер., стр. 40.
13) Ibid. XI, 7 (Funk, op. cit., S. 22); p. пер., стр. 59.
18
прилежно изучать, чего требует Господь, и выполнять последнее, дабы достигнуть спасения в день суда1). Они должны днем и ночью помнить о дне суда 2). Автор т. наз. второго послания Климента говорит, что мы «должны думать об Иисусе Христе, как о Боге и Судьи живых и мертвых (ὡς περὶ κριτοῦ ζώντων καὶ νεκρῶν)»3), что «уже наступает день суда (ἐρχεται ἤδη ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως)»4), причем «тот день суда (ῆ ἡμέρα ἐκείνη τῆς κρίσεως)», когда окажутся на виду проводившие нечестивую жизнь среди нас и поступавшие вопреки заповедям Иисуса Христа» 5). Тогда будет судима и воскресшая наша плоть 6). Так как «суд Божий приводит в смятение дух, не имеющий праведности, и повергает (его) в узы»7), то, поэтому, по рассуждению того же автора, боязнь будущего суда (φοβούμενος τῆν κρίσιν τῆν μέλλουσαν) служит немалым побуждением к праведной жизни 8). Неудивительно после этого, что откровенное учение о будущем суде,—неизвестное язычникам, в том числе и проконсулу, допрашивавшему св. Поликарпа на суде над ним,—считалось во время апостольских мужей весьма важным христианским учением9).
4. Учение о конечной судьбе мира.
Апостольские мужи твердо верили, что некогда Бог «изменит небеса и горы, холмы и моря и все уравняется для избранных Его (μεθιστάνει τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὰ ὄρη καὶ τοὺς βουνοὺς καὶ τὰς θαλάσσας , καὶ πάντα ὁμαλὰ γίνεται τοῖς ἐκλεκτοῖς αὐτοῦ)
1) Ibid. ΧΧῆ 6 (Funk, op. cit., S. 31); р. пер., стр. 76.
2) Ibid. XIX, 10 (Funk, op. cit., S. 30); p. пер., стр. 73.
3) 2 Clem. I, 1 (Funk, op. cit., S. 69).
4) Ibid. XVI, 3 (Funk, op. cit, S. 77).
5) Ibid. ХVII, 6 (Funk, op. cit., S. 77).
6) Μὴ λεγέτω τις ὑμῶν, ὅτι αὐτὴ ἡ σὰρξ οὐ κρίνεται οὐδὲ ἀνίσταται. Ibid. IX, 1, (Funk, op. cit., S. 73): p. пер., стр. 177.
7) Ibid. XX, 4 (Funk, op. cit., S. 79).
8) Ibid. ХVIII, 2 (Funk, op. cit., S. 78).
9) Martyr. Polyc. XI, 2 (Funk, op. cit., S. 119).
19 —
(ср. Пс. 45, 3; Ис. 40, 3 и дал.; 1 Кор. 13, 2)» 1) Они также интересовались и тем средством, с помощью которого нынешний мир прекратит свое существование. Ерм видел зверя, на голове которого было несколько цветов. Один из этих цветов—черный означал мир, в котором мы живем, а другой—огненно-кровавый указывал на то, что этот мир погибнет чрез огонь и кровь2). «Знайте,—так обращается к своим читателям автор т. наз. второго послания Климента,—что наступает уже день суда, как «пещь огненная» (ср. Мал. 4, 1; 2 Петр. 2, 9; 3, 7), и расплавятся некоторые из небес, и вся земля (будет), как свинец, расплавляющийся в огне» (ср. Ис. 34, 4; 2 Петр. 3, 10—11) 3).
Таково эсхатологическое учение апостольских мужей. Как видим, оно, будучи в истории христианской письменности первым опытом раскрытия откровенного учения о конечных судьбах человечества и мира вообще, отличается естественной краткостью и простотой. Это скорее перечень эсхатологических истин, чем их раскрытие, развитие и обоснование.
1) Herm., Vis. I, 3, 4 (Funk, ор. cit., S. 147); p. пер., стр. 227.
2) Ibid. IV, 3 (Funk, op. cit., S. 162—163); p. пер., стр. 251.
3) Ἔρχεται ἤδη ἡ ἡμέρα τῆς κρίσεως ὡς κλίβανος καιόμενος, καὶ τακήσονταί τινες τῶν οὐρανῶν καὶ πᾶσα ἡ γῆ ὡς μόλιβος ἐπὶ, πυρὶ τηκόμενος. 2 Clem. XVI, 3 (Funk, op. cit., S. 77).
20
II. ЭсхатологияхристианскихапологетовІІ-говека.
Христианские апологеты II -го века, защищая от нападений как иудеев, так и язычников св. истины нашей веры, естественно, должны были наталкиваться и на эсхатологические вопросы. Так как их читателями были люди преимущественно образованные, то, поэтому, христианские истины вообще и эсхатологические в частности они должны были раскрывать в своих сочинениях гораздо полнее и обстоятельнее, чем это делали апостольские мужи. Неудивительно после этого, что в творениях христианских апологетов 11-го века мы уже не находим той простоты эсхатологических размышлений, какую мы видели у апостольских мужей.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности.
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души.
По учению христианского апологета II -го века, антиохийского епископа Феофила († ок. 183 г.), человек создан по своей природе ни смертным, ни бессмертным. И это потому, что Творец, создавши человека бессмертным, сделал бы его Богом, а сотворивши его смертным, Он Сам оказался бы виновником его смерти1). По словам
1) Ad Autol., lib. II, 27 (Migne, ser. gr., (1857), t. VI, 368) col. 1093B—1096A; p. пер. (Прот. П. Преображенский, Сочинения древних христианских апологетов, С.-Петербург 1895), стр. 159.
21
св. Феофила, человек подпал смерти только впоследствии, именно через нарушение заповеди, данной нашим прародителям в раю 1). «Ева, по выражению св. Иустина Мученика († ок. 165 г.), принявши слово змия, произвела неповиновение и смерть (παρακοὴν καὶ θάνατον ἔτεκε)»2).
Однако, смерть не является для человека злом. Напротив, она для него служит великим благодеянием. По рассуждению св. Феофила, как сосуд, оказавшийся по изготовлении с известным недостатком, переливается или переделывается, дабы он стал новым и исправным, так бывает и с человеком во время смерти, потому что тогда он в известном смысле разрушается, чтобы во время воскресения явиться здоровым, т.-е., чистым, праведным и бессмертным 3).
По представлению большинства христианских апологетов II-го века, смерть, простирая свое действие на тело человека, в то же время оставляет вне сферы своего влияния его душу. Бессмертие человеческой души является для христианских апологетов взятого времени несомненным. Св. Иустин имеет обыкновение называть душу человека не иначе, как ἀθάνατος 4). Он решительно не хочет согласиться с той мыслью, что души умирают ( ἀλλὰ μὴν οὐδὲ ἀποθνήσκειν φημὶ πάσας τὰς ψυχὰς ἐγώ), потому что это, по его мнению, было бы весьма выгодно для людей дурной жизни5). Напротив, он утверждает, что души и после смерти людей сохраняют чувство (καὶ μετὰ θάνατον ἐν αἰσθήσει εἰσὶν αἰ ψυχαί)6). Афинагор († ок. 182 г.) высшую составную
1) Ibid., lib. II, 25 (Mg. VI, 336) col. 1092А; p. пер., стр. 158.
2) Dial, cum Tryph. 100 (lo. Car. Th. eques de Otto, Iustini philosophi et martyris opera, Ienae MDCCCLXXVII, t. I, p. 2, p. 358); p. пер. (Прот. П. Преображенский, Сочинения св. Иустина Философа и Мученика, Москва 1892), стр. 295.
3) Ad Autol., lib. II, 26 (Mg. VI, 367) col. 1093A; p. пер., стр. 159.
4) Dial, cum Tryph. 4 (Otto, op. cit., p. 18); p. пер., стр. 140.
5) Ibid. 5 (Otto, op. cit , p. 24); p. пер., стр. 142—143.
6) Apol. I, 18 (Io. Car. Th. eques de Otto, Iustini philosophi et martyris opera, Ienae MDCCCLXXVI, t. I, p. 1, p. 58); p. пер., стр. 49.
— 22
часть человеческой природы называет— ψυχὴ ἀθάνατος 1) и замечает, что Бог создал человека из бессмертной души и тела (ἐκ ψυχῆς ἀθανάτου καὶ σώματος)2).
Желая убедить язычников в истине христианского учения о бессмертии души, св. Иустин Философ указывал на некоторые их обычаи, как, например, вызывание человеческих душ, а также на их писателей, каковы— Эмпедокл, Пифагор, Платон, Сократ и друг.3), которые, по его мнению, заимствовали свои изречения о бессмертии души у Моисея и других пророков4). Но главным образом большинство христианских апологетов ІІ-го века доказывают свое учение о бессмертии человеческих душ на основании Св. Писания. По замечанию автора Cohortatio ad gentiles, святые мужи, вдохновляемые свыше, с полной уверенностью и взаимным согласием учат о бессмертии человеческой души 5). Св. Иустин Мученик полагает, что сказанного Моисею из купины: «Я Сый, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова, и Бог отцов твоих» вполне достаточно для того, чтобы признать существование этих святых предков Моисея и после их телесной смерти6). Существование душ после смерти людей, по убеждению св. Мученика, ясно следует и из того обстоятельства, что аэндорская волшебница, по требованию Саула, вызвала душу Самуила7). Св. Феофил Антиохийский приводит в качестве доказательства бессмертия души рассказ книги Бытия о создании первого человека. Бог, рассуждает он, со-
1) De res. mort. 13 (E. Schwartz, Athenagorae libellus pro Christianis oratio de resurrectione cadaverum, Leipzig 1891, S. 63); p. пер., стр. 107 Legat, pro christ. 27 (Schwartz, op. cit., S. 36); p. пер., стр. 83,
2) De res. mort. 13 (Schwartz, op. cit., S. 63); p. пер., стр. 107.
3) Apol. I, 18 (Otto, op. cit., p. 58); p. пер., стр. 48—49.
4) Ibid. I. 44 (Otto, op. cit., p. 122—124); p. пер., стр. 74.
5) Pseudo-Iust., Cohort. ad gent. 8 (lo. Car. Th. eques de Otto, Iustini philosophi et martyris opera, Ienae MDCCCLXXIX, t. ІI, 40); p_ пер., стр. 411—412.
6) Apol. I, 63 (Otto, op. cit, p. 174): p. пер., стр. 96.
7) Dial. cum. Tryph. 105 (Otto, op. cit., p. 376); p. пер., стр. 303.
— 23
здал человека из земной персти и вдунул в его лицо дыхание жизни, так что последний стал «живой душой (ψυχὴ ξῶσα)» (Быт. 2, 6—7). «Поэтому,—так заканчивает свою речь святитель Антиохийский,—душа названа бессмертной (ἀθάνατος ἡ ψυχὴ ὠνόμασται)»1).
Признавая бессмертие человеческой души, св. Иустин Мученик, тем не менее, полагал, что она бессмертна не потому, что ее такова природа. Напротив, по его мнению, человеческая душа, как получившая начало своего бытия, может некогда и прекратить свое существование 2). Она существует не потому, что обладает жизнью по своей природе, а лишь по той причине, что Бог желает, чтобы она в известное время обладала жизнью. Отсюда ясно, что человеческая душа может и прекратить свое существование, если это будет угодно Богу3).
Впрочем, не все христианские апологеты ІІ-го века одинаково высказывались относительно бессмертия души. В данном случае составляет исключение апологет Татиан († ок. 182), который, считая человеческую душу частью вещественного духа, проникающего всю вселенную, и, следовательно, сложной субстанцией, полагал, что она, как тесно связанная с своим телом, не может существовать без него. Отсюда, она умирает вместе с телом и снова оживает лишь с его воскресением. Однако, в человеке, кроме тела и души, по воззрению Татиана, есть еще Божественный Дух, который, соединяясь с его душой, может сохранять последней, если она по своему нравственному состоянию способна пребывать с ним в общении, известное бытие и после разложения ее тела. «Душа сама по себе,—так рассуждает Татиан, — не бессмертна, но смертна. Впрочем, она может и не умирать Душа, не знающая истины, умирает и разрушается вместе с телом, а после при конце мира воскре-
1) Ad Autol., lib. II. 19 (Mg. VI, 363) col. 1084A; p. пер., стр. 154.
2) Dial, cum Tryph. 5 (Otto, op. cit., p. 22—24); p. пер., стр, 142.
3) Ibid. 6 (Otto, op. cit., p. 29—30); p. пер., стр. 144.
24 —
снет вместе с телом... Но если она просвещена познанием Бога, то не умирает, хотя и разрушается на время. Сама по себе она есть не что иное, как тьма, и нет в ней ничего светлого. К этому относятся слова: «тьма не объяла света» (Ио. 1, 5), потому что не душа сохранила дух, но сама им сохранена, и свет объял тьму. Слово есть Божественный свет, а тьма—душа, чуждая ведения. Поэтому, если она живет одна, то уклоняется к веществу и умирает вместе с телом; когда же она бывает в соединении с Божественным Духом, то не лишается помощи, но восходит туда, куда возводит ее дух, потому что жилище духа на небе, а душа имеет земное происхождение» 1).
2. Учение о будущей участи людей.
Души умерших людей, по учению христианских апологетов ІІ-го века, удостаиваются на том свете различной участи. В то время как праведные души наслаждаются там блаженством, грешные—подвергаются наказанию.
А. Участь праведников на том свете.
По представлению св. Феофила Антиохийского, блаженное состояние праведников на том свете так велико и разнообразно, что его никакая мысль не может постигнуть и никакой язык передать. Св. Феофил учит, что Бог тем людям, которые постоянно через дела ищут нетления, дарует вечную жизнь, радость, мир, покой и множество благ, которых ни глаз не видел, ни ухо не слышало и которые не приходили человеку на сердце (ср. 1 Кор. 2, 9) 2). По мнению Афинагора, здесь на земле мы
1) Orat. adv. Graec. 13 (E. Schwartz, Tatiani oratio ad Graecos, Leipzig 1888, S. 14); p. пер., стр. 22 cp. ibid. 7 (Schwartz, op. cit., S. 7); p. пер., стр. 16; ibid. 12 (Schwartz, op. cit., S. 12—13); p. пер., стр. 21—22; ibid. 14 (Schwartz, op. cit., S. 14); p. пер., стр. 23.
2) Ad Autol., ibid. I, 14 (Mg. VI, 346) col. 1045B; p. пер., стр. 137—138.
25 —
не можем претерпеть никакого зла, которое можно было бы сравнить с благами, какими наградит нас на том свете Великий Судья за кроткую, человеколюбивую и скромную жизнь1).
Сознавая, что человек не может точно представить себе будущую блаженную участь праведников, христианские апологеты II-го века, тем не менее, старались приблизить ее к нашему пониманию. Св. Иустин Мученик полагал, что люди, если «они по своим делам окажутся достойными Его (Бога) назначения, удостоятся жить с Ним и царствовать е Ним, ставши свободными от тления и страдания, потому что как Он в начале создал нас,... так, думаем, тех, которые избрали угодное Ему, Он удостоит за это избрание нетления и сожития с Собой (ἀθφαροίας καὶ συνουσίας)»2).—На указанных моментах блаженной участи праведников в загробном мире—нетлении и пребывании с Богом—св. Философ останавливается в своих творениях довольно часто. Он говорит, что проповеданное апостолами всему миру о Христе служит радостью для ожидающих обещанного им нетления (ἀθφαραίαν)3). Если люди и ангелы изберут в настоящей жизни угодное Богу, то Он,—пишет св. Иустин в другом своем сочинении,—сохранит их нетленными и свободными от наказания (ἀθφάρτοὺς καὶ ἀτιμωρήτοὺς)4). Если люди,— так замечает св. Мученик несколько ниже,—исполнят заповеди, данные им Богом, то они, подобно Богу, станут бесстрастными и бессмертными и удостоятся названия детей Божьих (Θεῷ ὁμοίως ἀπαθεῖς καὶ ἀθάνατοι ... υἱοὶ αὐτοῦ καλεῖσθαι)5).—Говоря же о том, почему христиане на допросах не отказываются от своих религиозных убеждений,
1) Legat, pro christ. 12 (Schwartz, op. cit., S. 13); p. пер., стр. 64.
2) Apol. I, 10 (Otto, op. cit., p. 32); p. пер., стр. 39.
3) Ibid. I, 42 (Otto, op. cit.. p. 118); p. пер., стр. 72.
4) Dlal. cum Tryph. 88 (Otto, op. cit., p. 322); p. пер., стр. 279.
5) Ibid. 124 (Otto, op. cit., p. 446—448); p. пер., стр. 333.
26
он пишет: «Мы желаем вечной и чистой жизни, мы стремимся к пребыванию с Богом (τῆς μετὰ Θεοῦ διαγωγῆς)»1). В другом месте св. Иустин замечает о полной уверенности христиан в том, что «добродетельные и жившие подобно Христу будут пребывать вместе с Богом в бесстрастии (ἐν ἀπαθείᾳ συγγενέσθαι τῷ Θεῷ)»2); что претерпевшие мучение за Христа «отходят к Отцу и небесному Царю (πρὸς τὸν Πατέρα καὶ βασιλέα τῶν οὐρανῶν πορεύεσθαι)»2). Равным образом и апологет Афинагор утверждает, что «мы, оставив настоящую, будем жить другой жизнью, лучшей здешней, небесной, а не земной, потому что будем пребывать у Бога и с Богом (μετὰ Θεοῦ καὶ σὺν Θεῷ), неизменными и бесстрастными душой» 4).
Говоря о будущей блаженной участи праведников, апологеты II-го века, однако, мало уделяют внимания определению потусторонних мест их пребывания. Впрочем, если они иногда и касаются этого вопроса, то высказываются в данном случае большей частью неопределенно. Св. Феофил говорит в своих творениях о невидимом небе (οὐρανὸς ὁ ἀόρατος), соответственно которому видимое нами небо названо твердью (στερέωμα) (ср. Быт. 1, 8)5), и о рае (ὁ παράδεισος), но только о последнем он трактует сравнительно довольно обстоятельно. Так, прежде всего, он решительно утверждает, что рай существовал на этой земле, потому что об этом, по его мнению, свидетельствует Св. Писание: «и насадил Бог рай в Эдеме на востоке» (Быт. 2, 8) 6). Далее, св. Феофил учит, что человек, очистившись от своих грехов и исправившись, снова возвратится в рай, из которого он был изгнан,
1) Apol. I, 8 (Otto, ор. cit., р. 26); р. пер., стр. 37.
2) Ibid. II, 1 (Otto, ор. cit., р. 196); р. пер., стр. 105.
3) Ibid. ΙΙ, 2 (Otto, ор. cit., р. 202); р. пер., стр. 108.
41 Legat, pro christ. 31 (Schwartz, op. cit., S. 42); p. пер., стр. 88.
5) Ad Autol., lib. II, 13 (Mg. VI, 359) col, 1073B; p. пер., стр. 150.
6) Ibid., lib. II, 24 (Mg. VI, 366) col. 1089B; p. пер., стр. 157.
— 27
—и это произойдет после воскресения и суда 1). Наконец, святитель Антиохийский приводит одно выражение Сивиллы, где говорится, что «почитающие истинного и веяного Бога получат в наследие жизнь и будут вечно обитать в прекрасном райском саду и вкушать сладкий хлеб с звездного неба»2). Св. Иустин Мученик учит, что души благочестивых людей после смерти пребывают в ,.лучшей стране (ἐν κρείττονι χώρῳ)» сравнительно с душами грешников 3).
Что касается вопроса, непосредственно ли после смерти, или значительно позже души умерших праведников достигают блаженства, то он у апологетов ІІ-го века, можно сказать, даже не решается. Исключение и данном случае составляет лишь св. Иустин Философ, который, по-видимому, допускал непосредственное загробное воздаяние для мучеников4). Что же касается той мысли, что души умерших праведников вообще непосредственно после смерти удостаиваются небесного блаженства, то он ее решительно отвергал. «Если вы, писал он, встретитесь с такими людьми, которые называются христианами... и думают, что их души тотчас после смерти берутся на небо, то не считайте их христианами (ἅμα τῷ ἀποθνήσκειν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἀναλαμβάνεσθαι εἰς τὸν οὐρανὸν , μὴ ὑπολάβητε αὐτοῦς Χριστιανούς)»5). Св. Философ, придерживаясь хилиастических воззрений, учил, как мы уже видели, что души обыкновенных праведников после их смерти находятся «в лучшей стране» невидимого места—ада (ᾄδης)6). Равным образом и апологет Татиан, предполагая временное разрушение душ праведников вместе с их телами,
1) Ibid., lib. Π, 26 (Mg. VI, 367) col. 1093A; p. пер., стр. 159.
2) ibid, lib. II, 36 (Mg. VI, 377) col. 1116AB; p. пер., стр. 168.
3) Dial. cum. Tryph. 5 (Otto, op. cit., p. 24); p. пер., стр. 143.
4) Cp. Apol. II, 2 (Otto, op. cit., p. 202); p. пер., стр. 108.
5) Dial, cum Tryph. 80 (Otto, op. cit., p. 290); p. пер., стр. 265.
6) Dial, cum Tryph. 99 (Otto, op cit., p. 354); p. пер., стр. 294.
28
уже по одному этому не мог допустить наступления их блаженства непосредственно после смерти.
В. Участь грешников на том свете.
Христианские апологеты II-го века в своих творениях уделяют сравнительно немало внимания и будущей участи грешников. По воззрению св. Иустина Мученика и св. Феофила Антиохийского2), о будущих наказаниях грешников имели представление еще язычники, заимствовав его, как полагает св. Философ, у ветхозаветных пророков 3). Впрочем, по мнению св. Иустина, язычники извратила учение пророков о будущих наказаниях, предполагая, что эти последние будут назначены судом Радаманта и Миноса и продолжатся только тысячу лет 4). Не так думали христиане. Они, по словам св. Мученика, полагали, что наказания на том свете будут назначены грешникам Христом, что они будут простирать свое действие па их души и тела и продолжатся вечно 5). Учение христиан о будущих наказаниях, по убеждению св. Иустина, не является пустыми словами. В противном случае,—говорит св. Философ,—нет Бога, а если и существует, то Он не заботится о людях, а также добродетель и порок— ничто, и законодатели без нужды наказывают тех людей, которые нарушают их справедливые предписания6).
Касаясь вопроса о сущности будущих наказаний, христианские апологеты взятого времени единогласно решают его в том смысле, что грешники на том свете будут
1) Apol. I, 8 (Otto, ор. cit, р. 26); р. пер., стр. 37.
2) Ad Autol., lib. ΙΙ, 37 (Mg. VI, 377—378) col. 1116BC -1117AB; p. пер., стр. 168—169.
3) Apol. I, 41 (Otto, op. cit., p. 122—124); p. пер., стр. 74 cp. Pseudo-Iust., Cohort. ad gent. 27 (Otto, op. cit., p. 90-92); p. пер., стр. 435—436.
4) Apol. I, 8 (Otto, op. cit., p. 26-28); p. пер., стр. 37—38.
5) Ibid. (Otto, op. cit., p. 26-?8); p. пер., стр. 37.
6) Ibid. H, 9 (Otto, op. cit., p. 222—224); p. пер., стр. 114.
— 29
пребывать в огне. Св. Философ, полагая сущность потусторонних наказаний грешников в указанном смысле, часто говорит в своих сочинениях относительно αἰωνία διὰ πυρὸς καταδίκη1), κόλασις διὰ πυρὸς αἰωνία2), ἐκπύρωσις ἐπὶ κολάσει τῶν ἀσεβῶν3), αἰώνιον πῦρ4), ἄπαυστον πῦρ5), о том, что Бог предаст грешников вечному наказанию огнем (εἰς κόλασιν αἰώνιον πυρός)6) или в осуждение неугасимым огнем (ἐπὶ τὴν καταδίκην τοῦ ἀσβεστοῦ πυρὸς)7) и т. под. Татиан пишет, что неверующие будут преданы на съедение вечному огню (πυρὸς αἰωνίου βορᾷ)8), а Афинагор замечает, что нас, если мы увлечемся грехом, постигнет худшая сравнительно с настоящей жизнь в огненных мучениях (διὰ πυρὸς)9). Св. Феофил Антиохийский приводит выражение Сивиллы, по смыслу которого неверующих постигнет пламень горящего огня (αἰθομένοιο πυρὸς σέλας), в котором они будут пребывать вечно10).
Полагая сущность наказаний грешников в огненных мучениях, св. Иустин Философ также учил об определенном месте, в котором они происходят. Он полагал, что злые и нечестивые души на том свете находятся в худшем (ἐν χείρονι) месте11) ада. Этому месту св. Философ усвояет название γέεννα или ᾄδης в собственном смысле. Геенна, говорит он, это—место (ἡ γέεννά
1) Ibid. ῆ 12 (Otto, op. cit., p. 36); p. пер., стр. 40.
2) Ibid. I. 45 (Otto, op. cit., p. 128); p. пер., стр. 76.
3) Ibid. I, 57 (Otto, op. cit., p. 154); p. пер., стр. 88.
4) Ibid. I, 17 (Otto, op. cit., p. 56); p. пер., стр. 48; ibid. II, 1 (Otto, op. cit., p. 198); p. пер., стр. 105; ibid. ΙΙ, 2 (Otto, op. cit., p. 198); p. пер., стр. 106; ibid. ΙΙ, 7 (Otto, op. cit., p. 218); p. пер., стр. 112; ibid. II, 8 (Otto, op. cit., p. 222); p. пер., стр. 113; ibid. II, 9 (Otto, op. cit., p. 222); p. пер., стр. 114.
5) Dial. cum Tryph. 130 (Otto, op. cit., p. 464); p. пер., стр. 341.
6) Ibid. 117 (Otto, op. cit., p. 420); p. пер., стр. 320.
7) Ibid. 120 (Otto, op. cit., p. 432); p. пер., стр. 326.
8) Orat. adv. Graec. 17 (Schwartz, op. cit., S. 18); p. пер., стр. 26.
9) Legat, pro christ. 31 (Schwartz, op. cit., S. 42); p. пер., стр. 88.
10) Ad Autol., lib. II, 36 (Mg. VI, 377) col. 1116А; p. пер., стр. 168;
11) Dial. cum Tryph. 5 (Otto, op. cit., p. 24); p. пер., стр. 143.
30
ἐστι τόπος), где будут наказаны жившие нечестиво и не верившие, что сбудется то, чему научил людей Бог через Христа1) Автор Cohortatio ad gentiles ведет речь о τιμωρία ἐν ἀὸου2), а также трактует о покаянии, откладывание которого здесь на земле причиняет страшные мучения в аду (ἐν ᾷ δου)3).
Что касается вопроса, непосредственно ли после смерти, или позже души умерших грешников подвергаются адским мучениям, то для его решения мы находим у христианских апологетов II-го века противоречивые данные. Если в одних местах своих творений св. Иустин, Мученик трактует относительно τιμωρία μετὰ θάνατον4) и о том, что души злодеев сохраняют непосредственно после смерти (μετὰ θάνατον) способность ощущения и подвергаются наказаниям 5), то в других случаях наказания грешников через огонь он ставит в связь со вторым пришествием Христа и всеобщим воскресением мертвых 6). Апологет Татиан полагал, что неверующие будут преданы вечному огню в день кончины мира (ἐν ἡμέρα συντελείας)7). Объединяя эти суждения христианских апологетов II-го века, можно согласиться с одним западным исследователем 8), что все они, кроме Татиана, учили, что адские мучения грешников начнутся непосредственно после их телесной смерти, хотя свое окончательное утверждение и завершение они получат только после всеобщего суда.
Не определяя ясно времени, когда начинаются адские наказания грешников на том свете, христианские аполо-
1) Apol. I, 19 (Otto, ор. cit., p. 62); p. пер., стр. 50.
2) Pseudo-Iust., Cohort. ad gent 27 (Otto, op. cit., p. 94); p. пер., стр. 435.
3) Ibid. 35 (Otto, op. cit., p. 114); p. пер., стр. 444.
4) Apol. I, 44 (Otto, op. cit., p. 124); p. пер., стр. 74.
5) Ibid. I, 20 (Otto, op. cit., p. 64); p. пер., стр. 51.
6) Ibid. I, 52 (Otto, op. cit., p. 140); p. пер., стр. 82.
7) Orat. adv. Oraec. 17 (Schwartz, op. cit, S. 18); p. пер., стр. 26.
8) Prof, Atzberget, Geschichte der christlichen Eschatologie innerhalb der vornicänischen Zeit (Freiburg im Breisgau 1896), S. 146.
31
геты II-го века зато определенно высказываются в пользу той мысли, что эти наказания продолжатся в бесконечную вечность. Эта мысль заключается почти во всех тех их выражениях, которые мы уже приводили. Она также вытекает и из тех соображений автора Cohortatio ad gentiles, по смыслу которых покаяние и аду является запоздалым1) Та же мысль следует и из выражения св. Иустина, по которому телесные члены преступников в аду будут пожираемы нервом и неугасимым огнем, оставаясь, впрочем, всегда в своем целом виде2).
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще.
1 Учение о втором пришествии Христа.
Переходя к раскрытию учения христианских апологетов II-го века о втором пришествии Христа, мы вступаем в самый центр решения ими вопроса о будущей судьбе праведников и грешников и мира вообще.
На втором пришествии Христа св. Иустин Философ останавливается в своих творениях довольно часто. Он говорит о нем, как о чем-то ожидаемом. Мы, ставшие почитателями Бога и праведными через веру во Христа,— так говорит св. Мученик,—ожидаем второго Его пришествия 3). В противоположность первому пришествию, когда Мессия, по изображению св. Иустина, явился, как ἄτιμος4), ἀει -
1) Pseudo-Iust., Cohort. ad gent. 35 (Otto, op. cit., p. 114); p. пер., стр. 444.
2) DiaI. cum. Tryph. 130 (Otto, op. cit., p. 464); p. пер., стр. 341.
3) Ibid. 52 (Otto, op. cit., p. 178); p. пер., стр. 215.
4) Ibid. 14 (Otto, op. cit., p. 54); p. пер., стр. 156; ibid. 32 (Otto, op. cit., p. 106); p. пер., стр. 181; ibid. 49 (Otto, op. cit., p. 166); p. пер., стр. 209; ibid. 110 (Otto, op. cit., p. 388); p. пер., стр. 308.
32 —
δής1), ἄδοξος 2), παθητός 3) и θνητός 4), во второй раз Христос придет, как— ἔνδοξος 5), μετὰ δὁξης 6) и ἐν δόξῃ 7). Во второй раз Христос придет с неба ( ἐξ οὐρανῶν) 8), будет видим, согласно с свидетельством пророка Даниила, грядущим на облаках небесных ( υἱὸς ἀνθρώπου ἔρχεται ἐπάνω τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ) 9) и в сопровождении Своих ангелов ( οἰ ἄγγελοι αὐτοῦ σὺν αὐτῷ) 10).
Св. Иустин, защищая истину второго пришествия Христа, имея в виду иудеев, приводит доказательства ее из ветхозаветных пророчеств. Он неоднократно отмечает в своих творениях то обстоятельство, что ветхозаветные пророки предсказали второе пришествие Христа11). По мнению св. Мученика, все те изречения ветхозаветных проро-
1) Ibid. 14 (Otto, ор. cit., p. 54); p. пер., стр. 156; ibid. 49 (Otto, op. cit., p. 166); p. пер., стр. 209.
2) Ibid. 32 (Otto, op. cit., p. 106); p. пер., стр. 181; ibid. 110 (Otto, op. cit., p. 388); p. пер., стр. 308.
3) Ibid. 49 (Otto, op. cit., 166); p. пер., стр. 209; ibid. 110 (Otto, op. cit., p. 388); p. пер., стр. 308.
4) Ibid. 14 (Otto, op. cit., p. 54); p. пер., стр. 156.
5) Ibid. 31 (Otto, op. cit., p. 102); p. пер., стр. 179; ibid. 32 (Otto, op. cit., p. 106); p. пер., стр. 181; ibid. 35 (Otto, op. cit., p. 122); p. пер., стр. 189; ibid. 49 (Otto, op. cit., p. 166); p. пер., стр. 209; ibid. 86 (Otto, op. cit., p. 310); p. пер, стр. 274.
6) Apol. I, 50 (Otto, op. cit., 134); p. пер, стр. 79; ibid. 51 (Otto. op. cit., p. 138); p. пер., стр. 81; ibid. 52 (Otto, op. cit., p. 140); p. пер., стр. 82; Dial. cum. Tryph. 34 (Otto, op. cit., p. 112); p. пер., стр. 185; ibid. 39 (Otto, op. cit., p. 134); p. пер., стр. 195; ibid. 110 (Otto, op. cit. p. 388); p. пер., стр. 308.
7) Ibid. 14 (Otto, op. cit., p. 54); p. пер., стр. 156; ibid. 49 (Otto, op. cit, p. 166); p. пер., стр. 209.
8) Apol. I, 51 (Otto, op. cit., p. 133); p. пер., стр. 81; ibid. 52 (Otto, op. cit., p. 140); p. пер., стр. 82; Dial. cum Tryph. 49 (Otto, op. cit., p. 166); p. пер., стр. 209; ibid. 110 (Otto, op. cit., p. 390); p. пер., стр. 308.
9) Apol. I, 51 (Otto, op. cit., p. 138); p. пер., 81; Dial. cum Tryph. 14 (Otto, op. cit., p. 54); p. пер., стр. 156; ibid. 31 (Otto, op. cit., p. 102), p. пер.. стр. 179.
10) Apol. I, 51 (Otto, op. cit., p 133); p. пер., стр. 81; ibid. 52 (Otto op. cit., p. 140); p. пер., стр. 82; Dial. cum Tryph. 31 (Otto, op. cit., p. 102); p. пер., стр. 179.
11) Apol. I, 52 (Otto, op. cit., p. 140); p. пер., стр. 82; Dial. cum Tryph. 14 (Otto, op. cit., p. 54); p. пер., стр. 156; ibid. 31 (Otto, op. cit, p. 102); p. пер., стр. 179; ibid. 110 (Otto, op. cit., p, 388); p. пер., стр. 308.
33 —
ков, в которых трактуется о славе Мессии, Царя и Судьи, как еще не исполнившиеся, указывают на второе пришествие Христа, при этом ручательством за то, что они действительно исполнятся, служат события, происшедшие согласно бывшим о них раньше предсказаниям1). На второе пришествие Христа, по воззрению св. Философа, указывают— Ис. 53,12; 52,13—53,82); Дн. 7,9—283); Ис. 55, 3—134); 61,2 — 205); Пс. 109, 1—76); Зах. 2, 6; 12, 10—12; Ис. 63, 17; 64, 11 7). Уже в пророчестве патриарха Иакова о своем сыне Иуде св. Иустин находит указание на второе пришествие Христа. Он полагает, что слова—«Он будет чаяние народов» символически указывали на то, что будет два пришествия Христа 8). Таинственное указание на двоякое пришествие Христа св. Мученик видит также в священном обычае иудеев, по которому во дни поста одного из двух козлов отпускали на свободу, а другого приносили в жертву. Первое пришествие, по его представлению, было в то время, когда старцы и священники еврейского народа вывели Христа, как отпущенного козла, за город и умертвили, а второе—произойдет тогда, когда иудеи увидят Сына Божия на том месте Иерусалима, на котором они Его обесчестили9). Наконец, св. Философ видит символическое указание на двоякое пришествие Христа в поведении Моисея и Иисуса Навина во время сражения. Первый из последних, оставаясь во время сражения с распростертыми руками на холме до самого вечера, стал прообразом распятого Христа, а второй, называясь Иисусом, предводи-
1) Apol. I, 52 (Otto, ор. cit., p. 13S—440); p. пер., стр. 81—82.
2) Ibid. I, 50 (Otto, ορ. cit., p. 134—136); p. пер., стр. 79—30»
3) Diaf. cum Tryph. 31 (Otto, op. cit., p. 102—106); p. пер., 179 —181.
4) Ibid. 14 (Otto, op. cit., p. 52—54); p. пер., стр. 155—156.
5) Ibid. 31 (Otto, op. cit., p. 112—114); p. пер., стр. 185—186.
6) Ibid. 32 (Otto, op. cit., p. 110—112); p. пер., стр. 183.
7) Apol. I, 52 (Otto, op. cit., p. 140—142); p. пер., стр. 83.
8) Dial. cum Tryph. 52 (Otto, op. cit., p. 178); p. пер., стр. 215.
9) Ibid. 40 (Otto, op. cit, p. 136—138); p. пер., стр. 190; ibid. ΙΙΙ (Otto, op. cit., p. 392—394); p. пер., стр. 310.
— 34
тельствовал в сражении и привел Израиля к победе 1).— Имея в виду язычников, автор Cohortatio ad gentiles указывает на книги Сивиллы, в которых она, движимая могущественным вдохновением, ясно и открыто предсказывает о втором пришествии Спасителя и о всех делах, какие Он совершит в это время2).
Подобно тому, как первому пришествию Христа «предшествовал вестник, т.-е. бывший в Илии Дух Божий, Который действовал в пророке Иоанне», так и пред вторым пришествием Сына Божия, по учению св. Иустина, явится его предтеча—Илия. Это явление «пред великим и страшным днем Господним» Илии, по мнению св. Философа, было предсказано еще ветхозаветным пророком (Мал. 4, 5). И Спаситель,—замечает св. Мученик несколько ниже,—«сказал, что явится Илия, и мы знаем, что это исполнится, когда Господь наш Иисус Христос со славой придет с небес» 3).—Вторым предвестником будущего пришествия Христова, по выражению св. Иустина, будет ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας , который, по свидетельству пророка Даниила (7, 25 ср. 2 Солун. 2, 8), будет господствовать на земле καιρός , καιροὶ καὶ ὕμισυ καιροῦ , причем под καιρός , вопреки пониманию иудеев, не следует разуметь периода времени в сто лет 4). Ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας , по| представлению св. Философа, будет вместе с тем ὁ τῆς ἀποστασίας ἄνθρωπος , позволяющим себе дерзновенные выступления как против Христа, так и Его последователей5).
Касаясь вопроса о времени второго пришествия Христа, св. Иустин, не высказываясь определенно, полагал, что оно наступит в недалеком будущем. По его
1) Ibid. 111 (Otto, ор. cit., p. 392—394); p. пер., стр. 310.
2) Pseudo-Iust., Cohort. ad gent. 38 (Otto, op. cit., p. 124); p. пер., стр. 449.
3) Dial. cum Tryph. 49 (Otto, op. cit., p. 166); p. пер., стр. 209.
4) Ibid. 32 (Otto, op. cit., p. 108); p. пер., стр. 182.
ä) Ibid. 110 (Otto, op. cit., 390); p. пер., стр. 308.
— 35
мнению, предваряющий второе пришествие Христа ὁ ἄνθρωπος τῆς ἀνομίας «уже стоит при дверях (ἤδη ἐπὶ θύραις ὄντος)»1) Увещевая иудеев покаяться до будущего пришествия Христа, св. Философ замечает, что для их обращения остается краткое время (βραχὺς ὑμῖν περιλείπεται προσηλόσεως χρόνος)2).
Говоря, наконец, о месте второго пришествия Сына Божия, св. Иустин вполне ясно утверждает, что верующие ожидают будущего явления Христа во Иерусалиме (τῶν τὸν Χριστόν ἐν Ἱερουσαλὴμ φανὴσεσθαι προσδοκώντων)3). Здесь, во Иерусалиме, по убеждению св. Философа, иудеи узнают Того, Кого они обесчестили и Кто стал жертвой за всех кающихся грешников 4). Здесь Христос откроет Свое тысячелетнее царство 5) и снова будет есть и пить с Своими учениками (τοῖς μαθηταὶς αὐτοῦ συμπιεῖν πάλιν καὶ συμφαγείν)6).
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых.
Царство, которое Христос откроет во время Своего второго пришествия во Иерусалиме, по учению св. Иустина, как мы сказали, будет существовать тысячу лет. После его окончания, по мнению св. Мученика, произойдет всеобщее воскресение мертвых7). «Мы,—пишет св. Философ,—надеемся снова получить умершие и обратившиеся в землю наши тела, утверждая, что нет ничего невозможного для Бога» 8). «Мы верим,—замечает апологет Татиан,—что по окончании всего будет воскресение тел»9). Бог «воскресит твое тело»,—так пишет св. Феофил Автолику 10).
1) Ibid. 32 (Otto, ор. cit., p. 108); p. пер., стр. 182.
2) Ibid. 28 (Otto, ор. cit., p. 94); p. пер., стр. 176.
3) Ibid. 85 (Otto, op. cit, p. 310); p. пер., стр. 273 -274.
4) Ibid. 40 (Otto. op. cit., p. 136); p. пер., стр. 196.
5) Ibid. 81 (Otto, op. cit., p. 292); p. пер., стр. 236.
6) Ibid. 51 (Otto, op. cit., p. 174); p. пер., стр. 213.
7) Ibid. 81 (Otto, op. cit., p. 294—296); p. пер., стр. 267.
8) Apol. I, 18 (Otto, op. cit., p. 58—30); p. пер., стр. 49.
9) Orat. adv. Graec. 6 (Schwartz, op. cit., p. 6); p. пер., стр. 15.
10) Ad Autol., lib. I, 7 (Mg. VI, 342) col. 1036В; p. пер., стр. 267.
— 36
Истину будущего воскресения мертвых, по свидетельству христианских апологетов ІІ-го века, признавали в их время иудеи 1), но далеко не все язычники 2). Особенно отрицательно к ней относились гностики 3). Не признавая воскресения мертвых, они старались всячески доказать его невозможность. Естественно, на долю апологетов II-го века выпадала нелегкая задача—опровергнуть доводы противников воскресения мертвых и доказать действительность последнего.
Во время богословской деятельности христианских апологетов взятого времени противники воскресения мертвых отвергали последнее в силу того соображения, что всякая вещь обращается в то, из него она произошла, так что сверх этого даже Сам Бог ничего больше не может сделать. Св. Иустин Философ в опровержение данного соображения указывал на то, что подобное представление о могуществе Бога недостойно Его4), потому что для Него нет ничего невозможного 3). И в самом деле, если Бог может произвести из человеческого семени целого человека, чему мы не поверили бы, если бы в этом нас не убеждала действительность, то Он может также воскресить и разложившиеся в земле, как это бывает с обычными семенами, человеческие тела 6). Воскресение мертвых, конечно, невозможно для самой природы и для людей 7). Однако, оно возможно для Христа, Который во время Своего второго пришествия «воскресит
1) Dial, cum Tryph. 45 Otto, op. cit., p. 148—150); p. пер., стр. 202—203.
2) Pseudo-Iust., Cohort. ad gent. 27 (Otto, op. cit., p. 91); p, пер., стр. 435; Theoph, Ad Autol.,lib. 1, 13 (Mg. VI, 445) col. 1041C; p. пер., стр. 186.
3) Dial, cum Tryph. 80 (Otto, op. cit., p. 291); p. пер., стр. 265.
4) Apol. I, 19 (Otto, op. cit., p. 62); p. пер., стр. 50.
5) Ibid. I, 18 (Otto. op. cit., p. 60); p. пер., стр. 49.
6) Ibid. I, 19 (Otto, op. cit., p. 62); p. пер., стр. 49—50.
7) Ibid. I, 19 (Otto, op. cit., p. 62); p. пер., стр. 50.
— 37
тела всех бывших людей ( τὰ σώματα ἀναγερεῖ πάντων τῶν γενομένων ἀνθρώπων)» 1). Как в течение Своей земной жизни Христос исцелял слепых, глухих и хромых и воскрешал мертвых', так, несомненно, Он во время Своего второго пришествия воскресит исполняющих Его заповеди 2). Он сделает то, что смерть во время Его второго пришествия «будет попрана и совершенно потеряет всякую силу над иерующими в Него и благоугодно живущими»3).
Однако, рассмотренным недоумением все основания и возражения противников воскресения мертвых не исчерпывались. Их во времена апологетов ІІ-го века было так много, что последние вынуждались посвящать им целые отдельные трактаты или уделять более или менее внимания в своих сочинениях вообще.
В этом отношении замечательно сочинение св. Иустина Мученика — περὶ ἀναστάσεως . Здесь он опровергает четыре возражения противников воскресения мертвых и указывает три основания для последнего.
Противники воскресения мертвых думали, что оно, прежде всего, невозможно по той причине, что человеческое тело может воскреснуть или с некоторыми своими членами или со всеми. Но ни то, ни другое недопустимо по той причине, что в первом случае мы должны будем согласиться с той мыслью, что Бог бессилен, потому, что Он одни части человеческого тела может сохранить а других—нет, а во втором случае мы должны будем признать, что принадлежность человеческому телу после его воскресения из мертвых некоторых частей или членов является нелепостью, так как тогда, по словам Спасителя, наше тело будет свободно от некоторых
1) Ibid. I. 52 (Otto, ор. cit., p. 140); p. пер., стр. 82.
2) Dial, cum Tryph. 69 (Otto, op. cit., p. 250); p. пер., стр. 249.
3) Ibid. 45 (Otto, op. cit., p. 150); p. пер., стр. 203.
— 38 —
функций (Мф. 22, 30)1) - Опровергая настоящее возражение противников, св. Иустин полагает, что человеческие тела после всеобщего воскресения мертвых, действительно, будут обладать всеми своими составными частями и членами, но некоторые из последних прекратят свою деятельность. В той мысли, что во время всеобщего воскресения мертвых восстанут человеческие тела в совокупности всех своих составных частей, нас, по мнению св. Философа, удостоверяет то обстоятельство, что Христос Спаситель во время Своей земной жизни исцелял слепых, хромых и проч. 2), т.-е. возводил их к одному типу целостной человеческой природы. Что же касается того, что некоторые органы человеческих тел, например, половые, после всеобщего воскресения прекратят свое функционирование, то и в этом нет ничего удивительного, потому что и во время настоящей жизни как люди, так и некоторые животные воздерживаются или по собственному желанию или по природе от половых сношений. Кроме того, Иисус Христос родился от Девы и Сам жил девственно 3).—Далее, противники всеобщего воскресения мертвых говорили, что оно невозможно по той причине, что человеческое тело, разложившееся на свои составные части, не может возвратиться в свое прежнее состояние. Но для Всемогущего Бога, Который создал из ничего первого человека и ежедневно производит из незначительных капель влаги живые существа, по воззрению св. Иустина, нет ничего невозможного 4). Кроме того, составные части разложившегося человеческого тела, как это было известно и Платону с Эпикуром и стоикам, не уничтожаются. Естественно, поэтому, Бог может снова их объединить, и сообщить разложившемуся человеческому телу его преж-
1) De resurr. 2 (Otto, ор. cit., p. 2l4—215); p. пер., стр. 470—471.
2) Ibid. 4 (Otto, op. cit., p. 222); p. пер., стр. 473.
3) Ibid. 3 (Otto, op. cit., p. 216—222); p. пер., стр. 471—473.
4) Ibid. 5 (Otto, op. cit., p. 224—226); p. пер, стр. 472—474.
39 —
ний вид1).—Затем, считали всеобщее воскресение мертвых невозможным потому, что человеческое тело недостойно воскресения, так как оно 1) по своей сущности является землей и 2) исполнено всякого греха, так что даже принуждает к последнему вместе с собой и душу.-Но, если Бог создал человека, состоящего из души и тела, по Своему образу и подобию, то,—полагает св. Философ,— человеческое тело не может быть признано недостойным воскресения. Напротив, в очах Бога, создавшего тело человека и все для него необходимое, оно имеет большую цену. Что касается греховности человеческого тела, то источник греха лежит не в нем, а в душе, находящейся в общении с ним, и тело человека может грешить только тогда, когда оно находится в общении с своей душой. В противном случае, если мы признаем, что только человеческое тело греховно, то должны будем допустить, что Спаситель приходил на землю ради него одного, соответственно Своим словам: «Я не пришел призвать праведных, но грешников» (Мк. 2, 17) 2).—Наконец, противники всеобщего воскресения говорили, что оно не будет иметь места в мировой истории потому, что Св. Писание ясно нигде не говорит о будущем воскресении человеческого тела.—Но Бог, по мнению св. Иустина, создавший с большой заботливостью человеческое тело, удостоенное Им чести, преимущественной пред другими Его творениями, не может оставить его навсегда разрушившимся. Кроме того, Он, призвавши к спасению человека, этим самым призвал к спасению и его тело, потому что одна душа без тела не составляет человека. И достижение спасения как душой, так и телом вполне справедливо, потому что они вместе очищаются от грехов и упражняются в добродетели. Да и ничего не было бы удивительного,—замечает св. Философ,—если бы Бог
1) Ibid. 6 (Otto, ор. cit., p. 228—232); p. пер., стр. 475—477.
2) Ibid. 7 (Otto, ор. cit., p. 232—236); p. пер., стр. 477—478.
— 40
сохранил бессмертной одну только душу человека, как составляющую частицу Его Самого, а ее тела не воскресил 1).
Устранив возражения противников воскресения мертвых, св. Иустин приводит свои основания для последнего. По его мнению, доказательства будущего воскресения мертвых дал Сам Христос, когда Он во время Своей земной жизни исцелял и воскрешал мертвых и когда Он, наконец, Сам умер и воскрес 2). Далее, доказательством будущего воскресения человеческих тел, а не душ, служит то обстоятельство, что воскреснуть может, только то, что умирает; души же бессмертны. Наконец, замечает св. Мученик, что бессмертие души признавали еще древние философы. Поэтому, Христос ничего не возвестил бы нам нового, если бы Он учил о духовном воскресении. Наоборот, Он даровал нам неслыханную надежду Своей проповедью о воскресении человеческого тела 3).
Кроме рассмотренного сочинения св. Иустина, во II-м веке в защиту христианского учения о воскресении мертвых был написан другой трактат апологетом Афинагором— περὶ ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν . В данном сочинении этот апологет доказывает возможность и необходимость будущего всеобщего воскресения мертвых.
По мнению Афинагора, противники воскресения мертвых для отрицания последнего имели бы основание только в том случае, если бы они могли доказать, что Бог не может или не желает воскресить мертвых 4). Но сделать этого они не могут. И действительно, если Бог мог создать человеческие тела из ничего, то Он, по воззрению Афинагора, еще гораздо с большей легкостью будет в состоянии их воссоздать 5). Что же касается желания Божья
1) Ibid. 8 (Otto, ор. cit., p. 236—240); p. пер., стр. 479—481.
2) Ibid. 9 (Otto, op. cit., p. 242—214); p. пер., стр. 481—482.
3) Ibid. 10 (Otto, op. cit, p. 244—248); p. пер., стр. 482—483.
4) De resurr. mort. 2 (Schwartz, op. cit., S. 50); p. пер., стр. 94.
5) Ibid. 3 (Schwartz, op. cit., S. 51); p. пер., стр. 95.
41
воскресить людей, то и для него нет никаких препятствий, потому что оно не противоречит достоинству Бога. И в самом деле, если не было недостойным Бога создать человека, то тем более не будет недостойно Его воскресить последнего1). Однако, говорят, что воскресение людей невозможно g о той причине, что человеческие тела часто поедаются животными, а через них людьми, вследствие чего одни и те же части известного человеческого тела будто бы должны стать принадлежностью многих воскресших тел 2). Но в основе этой аргументации противников всеобщего воскресения мертвых, по убеждению Афинагора, лежит смешение ограниченного человеческого знания с беспредельной мудростью и всемогуществом Создателя и Распорядителя вселенной, Который назначил для каждого живого существа соответствующую его природе пищу. Поэтому, не каждое вещество может субстанциально объединяться со всяким телом3). Противное природе известного тела никогда субстанциально не соединится с последним, потому что оно не составляет сродной и соответствующей ему пищи4). Само собой понятно, что человеческое тело, не предназначенное в пищу как животных, так и других людей, не может объединяться субстанциально с ними 5). Ясно, что оно, если случайно и попадет в пищу животных или людей, то обязательно последними будет извержено 6).— Равным образом Афинагор считает несостоятельным и то соображение противников воскресения мертвых, по которому Бог будто бы так же не может воскресить разложившегося человеческого тела, как горшечник или ваятель не могут возобновить своих произведений, если они разобьются
1) Ibid. 10 (Schwartz, οp. cit., S. 58—59); p. пер., стр. 102—103.
2) Ibid. 4 (Schwartz, op. cit., S. 52); p. пер., стр. 96—97.
3) Ibid. 5 (Schwartz, op. cit., S. 52—53); p. пер., стр. 97.
4) Ibid. 6 (Schwartz, op. cit., S. 54—55); p. пер., стр. 98—99.
5) Ibid. 8 (Schwartz, op. cit., S. 56—57); p. пер., стр. 100—101.
6) Ibid, 6 (Schwartz, op. cit., S. 54); p. пер., стр. 98.
—42 —
или обветшают от времени. По мнению Афинагора, ошибка людей, придерживающихся данного соображения, заключается в том, что они считают силы Бога и людей одинаковыми1).
Установив через опровержение рассмотренных возражений противников всеобщего воскресения мертвых возможность последнего, апологет Афинагор старается доказать и его будущую необходимость. С этой целью он приводит несколько аргументов2).—Прежде всего, он доказывает необходимость будущего воскресения мертвых, исходя из цели создания человека. По его мнению, человек создан для собственной жизни, причем эта его жизнь, как жизнь существа, носящего в себе образ Самого Творца и обладающего разумом, должна продолжаться вечно. Так как природу человека составляют душа и тело, то ясно, что если последнее разрушается через смерть, то оно должно воскреснуть 3).—Далее, Афинагор доказывает необходимость будущего воскресения мертвых, исходя из представления о природе человека, рассматривая, впрочем, это доказательство в связи с указанным выше 4). Он отмечает то обстоятельство, что человек состоит из души и тела. Как душа, так и тело созданы друг для друга. Между действиями души человека и отправлениями его тела существует полное согласие. Поэтому, ясно, что и их последняя цепь должна быть одинаковой. Отсюда, так как человек создан для вечной жизни, то должна вечно существовать не только его душа, но и тело 5).—Затем, Афинагор выводит необходимость всеобщего воскресения мертвых из понятия о суде и воздаянии. Признавая действие в мире Провидения, он полагает, что
1) Ibid. 9 (Schwartz, ор. cit., S. 57—58); p. пер., стр. 101—102.
2) Ibid. 11 (Schwartz, ор, cit., S. 60); p. пер., стр. 1Ω4.
3) Ibid. 12 (Schwartz, op. cit., S. 62—63); p. пер., стр. 106—107; ibid. 13. (Schwartz, op. cit., S. 63—64); p. пер., стр. 107.
4) Ibid. 14 (Schwartz, op. cit., S. 64—65); p. пер., стр. 108.
5) Ibid. 15 (Schwartz, op. cit., S. βδ—67); p. пер., стр. 109—110».
— 43 —
Его правосудие должно простирать свое действие на всего человека, именно, как на состоящего из души и тела» Так как душа и тело человека часто не получают воздаяния в этом мире, а также непосредственно и после его смерти, потому что тогда телесная человеческая природа разрушается, то необходимо должна последняя для. получения заслуженного ею воздаяния воскреснуть 1). Этого требует справедливость, потому что не одна душа чело века во время его земной жизни участвует в совершении добродетели или порока, но также вместе с ней и ее тело2). Заповеди Божьи даны не одной только душе человека, а целому человеку, т.-е. состоящему из души и тела 3).—Наконец, по мнению Афинагора, необходимость будущего воскресения мертвых следует и из представления о последнем назначении человека. Таким назначением человека будет награждение или наказание его. Если же, как мы уже видели, природу человека составляют душа и тело, то, само собой понятно, что одна душа без своего тела не может достигнуть ни полной награды, ни наказания. Отсюда следует, что для того, чтобы человек достиг своего последнего назначения, необходимо воскресение его тела4).
Не посвящая учению о всеобщем воскресении мертвых специальных трактатов, апологеты—Татиан и св. Феофил Антиохийский касаются его в своих сочинениях общего характера. По мнению Татиана, в возможности воскресения мертвых нас удостоверяет уже факт рождения людей. «Хотя вы (отрицающие воскресение) назовете нас пустословами и болтунами, но для нас,—говорит Татиан,
1) Ibid. 18 (Schwartz, ор. cit., S. 70—71); p. пер., стр. 113—114.
2) Ibid. 20 (Schwartz, op. cit., S. 73); p. пер., стр. 116; ibid. 21 (Schwartz, op. cit., S. 73—75); p. пер., стр. 116—117; ibid. 22 (Schwartz, op. cit., S. 75—76); p. пер., стр. 117 —118.
3) Ibid. 23 (Schwartz, op. cit., S. 76—77); p. пер., стр. 118—119.
4) Ibid. 24 (Schwartz, op. cit., S. 77—78); p. пер, стр. 119—120; ibid. 25 (Schwartz, op. cit., S. 78—79); p. пер., стр. 120—121.
44 —
—это не важно, потому что мы веруем (в истину воскресения) вследствие вот каких оснований. Как я, не существуя прежде рождения, не знал, кто я был, а только пребывал в сущности плотского вещества, а когда я, не имевший прежде бытия, родился, то самым рождением удостоверился в своем существовании; таким же точно образом я родившийся, через смерть перестав существовать и быть видимым, опять буду существовать подобно тому, как некогда меня не было, а потом я родился». Апологет Татиан полагает, что ничто не может воспрепятствовать нашему будущему воскресению из мертвых. «Пусть огонь истребит мое тело, но мир,—так апологет продолжает свою речь далее,—примет это вещество, рассеявшееся подобно пару; пусть я погибну в реках или морях, пусть я буду растерзан зверями, но я сохранюсь в сокровищнице богатого Господа. Слабый и безбожный человек не знает того, что хранится, а Царь-Бог, когда захочет, восстановит в прежнее состояние сущность, которая видима для Него одного» 1).—По мнению св. Феофила, возможность будущего воскресения мертвых не может быть отрицаема после того, как Бог создал первого человека из ничего и нас постоянно производит из незначительной влажной сущности, которая некогда и сама не существовала2). Кроме того, по воззрению святителя Антиохийского, уже в настоящем мире Бог дает нам много доказательств возможности будущего воскресения мертвых. В этом отношении заслуживает внимания— прекращение и восстановление времен года, дней и ночей, возобновление растений, произрастание деревьев из семян и плодов, которые, прежде чем произрасти, должны сгнить, ежемесячное исчезновение и появление луны на небе,
1) Orat adv. Graec. 6 (Schwartz, op. cit., S. 6—7); p. пер., стр. lö—16.
2) Ad Autol., lib. I, 8 (Mg. VI, 344) col. 1037A; p. пер., стр. 133.
— 45 —
возвращение телесного здоровья, красоты и сил человеку после тяжелой болезни и т. под.1)
Признавая будущее воскресение мертвых, христианские апологеты ІІ-го века в то же время не сомневаются в той мысли, что тела у воскресших людей по своей материальной сущности, по своим составным частям и членам, а также по форме и фигуре будут совершенно тожественными с их настоящими телами. Такое тожество воскресших тел с настоящими признает св. Иустин Мученик, когда он говорит, что люди ἐν τοῖς αὐτοῖς σώμασι снова будут соединены с душами 2), или когда он полагает, что воскреснет ὁλόκληρον τὸ σῶμα и будет иметь τὰ μόρια αὐτοῦ πάντα 3), что воскреснет то, что подлежит смерти 4). Афинагор разделяет ту же точку зрения на воскресшие тела людей, какой придерживается и св. Иустин, когда говорит, что воскресшие тела снова составятся из своих собственных частей (τῶν ἀνισταμένων σωμάτων ἐκ τῶν οἰχείων μερῶν πάλιν συνισταμένων)5), или когда отмечает, что в будущем воскреснут те же самые люди 6).
Хотя воскресшие человеческие тела по своей материальной сущности, по мнению христианских апологетов II-го века, окажутся вполне тожественными с настоящими, однако, сравнительно с последними, они будут гораздо совершеннее. Как мы уже знаем, по учению св. Иустина, воскресшие тела будут свободны от половых отправле-
1) Ibid. 13 (Mg. VI, 345-346) col. 1044А—С; р. пер., стр. 136—137; ibid., lib. ΙΙ, 14 (Mg. VI, 359—360) col. 1076A—С; р. пер., стр. 136—137; Ibid., lib. II, 14 (Mg. VI, 359—360) col, 1076А—C; p. пер., стр. 150—151; ibid. 15 (Mg. VI, 360—361) col. 1076C—1077AB; p. пер., стр. 151.
2) Apol. I, 8 (Otto, op. cit., p. 26); p. пер., стр. 37.
3) De resurr. 3 (Otto, op. cit., p. 216); p. пер., стр. 471.
4) Ibid. 9 (Otto, op. cit., p. 242—244); p. пер., стр. 481—482; ibid. 10 (Otto, op. cit., p. 244—246); p. пер., стр. 482—484.
5) De resurr. mort. 7 (Schwartz, op. cit., S. 55); p. пер., стр. 99.
6) Ibid. 2 (Schwartz, op. cit., S. 50); p. пер., стр. 94; ibid. 8 (Schwartz, Op. Cit., S. 57); p. пер., стр. 101; Δεῖ πάντως γενέσθαι τῶν... διαλυθέντων σωμάτων ἀνάστασιν καὶ τοὺς αὐτοὺς ἀνθρώπους αὐοτῆναι πάλιν. Ibid. 25 (Schwartz, . op. cit., S 78); p. пер., стр. 121.
— 46
ний1) и каких бы то ни было недостатков 2). Они не будут подлежать смерти, тлению и страданиям3); наоборот, человеческое тело после всеобщего воскресения мертвых, по замечанию Татиана, будет бессмертным 4). Афинагор говорит, что некогда мы будем пребывать у Бога и с Богом, неизменными и бесстрастными душой, не как телесные существа, хотя и будем иметь тело, но как небесные духовные существа 5). Бог,—так рассуждает Афинагор в другом своем сочинении,—может тленное изменить в нетленное (τὸ φθαρτὸν μεταβαλεῖν εἰς ἀφθαρσίαν)6), и Он некогда дарует душе нетленное и бесстрастное тело (ἀφθάρτῳ καὶ ἀπαθεῖ (σώματι) συζῶσα (ἡ ψυχή)7), которое не будет иметь нужды в питательных веществах 8).
По учению христианских апологетов ІІ-го века, будущее воскресение мертвых, распространит свое действие на всех умерших людей. Только один Иустин Мученик, как сторонник хилиастических воззрений, иногда говорит о воскресении лишь праведников9). Впрочем, и он гораздо чаще ведет речь о всеобщем воскресении мертвых 10). Апологет же Афинагор считает нужным отметить участие в будущем воскресении и новорожденных детей11).
1) De resurr. 3 (Otto, ор. cit., p. 216—222); p. пер., стр. 471—473.
2) Ibid. 4 (Otto, op. cit., p. 222); p. пер., стр 473; Dial, cum Tryph. 69 (Otto, op. cit., p. 250); p. пер., стр. 249.
3) Dial, cum Tryph. 69 (Otto, op. cit., p. 250); p. пер., стр. 249.
4) Orat. adv. Graec. 25 (Schwartz, op. cit., S. 27); p. пер., стр. 33.
5) Μετὰ Θεοῦ καὶ σὺν Θεῷ ἀκλινεῖς καὶ ἀπαθεῖς τὴν ψυχὴν οὐκ ὡς σάρκες κἂν ἔχωμεν, ἀλλ’ ὡς οὐράνιον πνεῦμα μένωμεν. Legat, pro christ., 31 (Schwartz, op. cit., S. 42); p. пер, стр. 88.
6) De resurr. mort. 3 (Schwartz, op. cit, S. 51); p. пер., стр. 96.
7) Ibid. 10 (Schwartz, op. cit., S. 59); p. пер., стр. 103.
8) Ibid. 7 (Schwartz, op. cit., S. 55); p. пер., стр. 99.
9) Dial, cum Tryph. 69 (Otto, op. cit., p. 250); p. пер., стр. 249; ibid. 45 (Otto, op. cit., p. 150); p. пер., стр. 203.
10) Ibid. 81 (Otto, op. cit., p. 296); p. пер., стр., 267; ibid. 117 (Otto, op. cit., p. 210); p. пер., стр. 320; Apul. I, 52 (Otto, op. cit., p. 420); p. пер., стр. 85 и друг. м.
11) De resurr. mort. 14 (Schwartz, op. cit., S. 65); p. пер., стр. 108.
47
Считая будущее воскресение мертвых всеобщим, христианские апологеты ІІ-го века придают ему большое этическое значение. По их мнению, вера в будущее всеобщее воскресение мертвых является одним из основных мотивов в христианской добродетельной жизни. И это потому, что воскресшие люди получат награду или наказание соответственно тому, что они сделали доброго или худого во время своей земной жизни1). Ясно, что люди, верующие в будущее воскресение мертвых, во время настоящей земной жизни будут всячески стараться избегать даже самого малого греха. Наоборот, отрицающие воскресение мертвых не станут воздерживаться от греховных мыслей и действий2). И в самом деле, если человеческая природа некогда прекратит свое существование, то нет нужды не дозволять ей предаваться худым действиям, так как упражнение в добродетели тогда является излишним. Наоборот, если она некогда воскреснет, тогда добродетельная жизнь на земле имеет свой смысл и значение 3).
3. Учение о всеобщем суде.
В тесной связи с всеобщим воскресением мертвых, по учению христианских апологетов II-го века, находится будущий мировой суд. Татиан думает, что всеобщее воскресение мертвых исключительно произойдет с целью восстановления людей для суда4).
Идея будущего суда, по свидетельству апологетов ІІ-го века, была известна еще язычникам. Они верили, что будущий суд над людьми произведут Минос и Ра-
1) Ibid. 18 (Schwartz, ор. cit., S. 71); p. пер., стр. 114.
2) Athenag., Legat, pro christ. 36 (Schwartz, op cit., S. 46); p. пер., стр. 91.
3) Ibid., De resurr. mort. 15 (Schwartz, op. cit., S. 66 — 67); p. пер., стр. 110; Iust., De resurr. 10 (Otto, op. cit., p. 248); p. пер., стр. 483—484.
4) Orat. adv. Graec. 6 (Schwartz, op. cit., S. 6); p. пер., стр. 15.
— 48
дамант1). Идею этого суда, по мнению автора Cohortatio ad gentiles , языческие поэты и философы заимствовали у Моисея и других ветхозаветных пророков2). Последним обстоятельством и объясняется то, почему некоторые из них возвышались до представления, что Бог может произвести над людьми суд 3), и вообще часто согласовались в своих суждениях о Боге и суде с свидетельствами пророков4).
Христианские апологеты ІІ-го века, рассуждая в своих творениях о будущем суде над людьми, не дают точного определения времени его наступления. Несомненно, что ἡμερα κρίσεως5) или μεγάλη ἡμερα τῆς κρίσεως6), по их учению, находится в прямой зависимости от времени и продолжительности второго пришествия Христа. Само собой понятно, если со вторым пришествием Христа откроется па земле тысячелетнее царство, то мировой суд произойдет только после его окончания7). Татиан, касаясь вопроса о времени будущего суда, говорит, что он наступит после συντέλεια τῶν ὅλων 8) или после разрушения настоящего мира 9).
Определяя субъект мирового суда, христианские апологеты взятого времени единогласно признают, что всеобщий суд будет делом Самого Бога, Который, по их мнению, является, с одной стороны, Творцом и Отцом, а с
1) Iust., Apol. I, 8 (Otto, ор. cit., p. 26); p. пер., стр. 37; Athenag., Legat, pro christ. 12 (Schwartz, op. cit., S. 13); p. пер., стр. 64-, Tatian, Orat. adv. Graec. 6 (Schwartz, op. cit., S. 6); p. пер., стр. 15.
2) Pseudo-Iust., Cohort. art gent. 14 (Otto, op. cit., S. 58); p. пер., стр. 419; ibid. 27 (Otto, op. cit., p. 94); p. пер., стр. 435.
3) Pseudo-Iust., De monarch. 3 (Otto, op. cit., p. 136—140); p. пер., стр. 458—459.
4) Theoph, Art Autol., lib. II. 8 (Mg VI, 354) col. 1064 A; p. пер.. стр. 145.
5) Inst., Dial. cum Tryph. 33 (Otto, op. cit., p. 128); p. пер., стр. 192.
6) Ibid. 118 (Otto, op. cit., p. 422); p. пер., стр. 321.
7) Ibid. 81 (Otto, op. cit, p. 292); p. пер., стр. 267.
8) Orat. adv. Graec. 6 (Schwartz, op. cit., S. 6); p. пер., стр 15
9) ibid 12 (Schwartz, op. cit., S. 13); p. пер., стр. 22.
— 49 —
другой,—Судьей и Воздаятелем всех людей 1). Он произведет, впрочем, мировой суд не лично, а через Иисуса Христа 2). Поэтому, Судьей мирового суда будет также и Христос 3).
Касаясь вопроса относительно объекта мирового суда, христианские апологеты II -го века полагают, что последнему будут подлежать все люди. По их мнению, Христос произведет суд над всем человеческим родом (τῆν κρίσιν τοῦ παντὸς ἀνθρωπείυο γένους ποιήσεται)4). Он будет Судьей всех (πάντων) людей5), т.-е. всех живых и умерших (κριτὴς ζώντων καὶ νεκρῶν ἀπάντων αὐτὸς οὗτος ὁ Χριστός)6). Только новорожденные дети, по мнению Афинагора, как не совершившие ничего ни худого, ни доброго, будут свободны от будущего суда 7). Ясно, этот суд будет всеобщим, потому что на него явятся все когда-либо жившие в мире люди, за исключением новорожденных младенцев.
Кроме данного основания, будущий мировой суд мы должны считать всеобщим еще и потому, что на него, по мнению апологетов II-го века, явятся люди в гармоническом единении своих обеих составных частей, т.-е. с душой и телом 8), и будут судимы за все де-
1) Ibid. 6 (Schwartz, ор. cit, S.6); p. пер., стр. 15; ibid. 18 (Schwartz, ор. cit., S. 20); p. пер., стр. 27; ibid. 25 (Schwartz, op. cit., S. 27); p. пер., стр. 33: Iust., Dial, cum Tryph. 96 (Otto, op. cit., p. 348); p. пер., стр. 291; Apol. I, 44 (Otto, op. cit., p. 124); p. пер., стр. 75; Pseudo-Iust., De monarch. 3 (Otto, op. cit., p. 136); p. пер., стр. 458; Athenag., Legat, pro, christ. 12 (Schwartz, op. cit., S. 13); p. пер., стр. 64; Theoph., Ad AutoI., lib. I, 3 (Mg. VI, 339) col. 1028 C; p. пер., стр. 130.
2) Iust., Dial, cum Tryph. 58 (Otto, op. cit., p. 202); p. пер., стр. 227-
3) Ibid. 47 (Otto, op. cit., p. 160); p. пер., стр. 207; Apol. 1, 8 (Otto, op. cit., p. 26); p. пер., стр. 37.
4) Apol. I, 53 (Otto, op. cit., p. 142); p. пер., стр. 83.
5) Dial, cum Tryph. 36 (Otto, op. cit., p. 126); p. пер., стр. 189.
6) Ibid. 118 (Otto, op. cit., p. 422); p. пер., стр. 321.
7) De resurr. mort. 14 (Schwartz, op. cit., S. 65); p. пер., стр. 108.
8) Ibid. 18 (Schwartz, op. cit., S. 71); p. пер., стр. 113—114 cp. Pseudo-Iust., Cohort., ad gent. 27 (Otto, op. cit., p. 94) p. пер., стр. 435.
50
ла1) и мысли2), которые имели место в их земной жизни 3).
Будущий мировой суд христианские апологеты II-го века представляют себе не иначе, как только справедливым. И это потому, что на нем каждый человек, соответственно своим заслугам, получит награду или наказание 4), при этом как для своей души, так и для тела 5).
Из представления о всеобщем суде, как справедливом воздаянии, апологетам II -го века открывалось его большое этическое значение. И в самом деле, если некогда будет произведен Богом над всем человеческим родом суд, и каждый человек во время его получит справедливое воздаяние, то несомненно, что добродетель и порок—не пустые слова6). Естественно, поэтому, люди, признающие, вместе с будущим воскресением, всеобщий суд, как справедливое воздаяние, по мнению автора Cohortatio ad gentiles, будут стремиться к исповеданию истины 7), так как только отрицающие будущий суд могут предаваться дурным действиям 8), руководясь в
1) Athenag., De resurr. mort. 18 (Schwartz, op. cit., S. 70); p. пер., стр. 113.
2) Ibid., Legat, pro christ. 32 (Schwartz, op. cit., S. 43); p. пер., стр. 88.
3) Ibid. 12 (Schwartz, op. cit., S. 14); p. пер., стр. 64.
4) Ἐκαστον ἐπ’ αἰωνίαν κόλασιν ἢ σωτηρίαν κατ’ ἀξίαν τῶν πράξεων πορεύεσθει. Iust ., Apol . I, 12 ( Otto , op . cit ., p . 36); p . пер., стр. 40 cp . ibid . 43 ( Otto , op . cit ., p . 118—120); p . пер., стр. 72; ibid . 44 ( Otto , op . cit ., p . 124); p . пер., стр. 75; Theoph ., Ad Autol ., lib . I . 14 ( Mg . VI , 346) col . 1045; p . пер., стр. 137.
5) Λέγω συναμφότερον τὸν ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος ἄνθρωπον... γίνεσθαι πάντων τῶν πεπραγμένων ὑπόδικον τὴν τε ἐπὶ τούτοις δέχεσθαι τιμὴν ἢ τιμωριαν... κατὰ τοῦ συναμφοτέρου μέρει τὴν ἐπὶ τοῖς εἰργασμένοις δίκην ὴ δικαία κρίσις. Athenag ., De resurr.mort . 18 (Schwartz , op . cit ., S . 70); p . пер., стр. 113.
6) Iust .. Apol . II, 9 (Otto, op. cit., p. 222—224); p. пер., стр. 114.
7) Pseudo-Iust., Cohort. ad gent. 14 (Otto, op. cit, p. 58); p. пер., стр. 419.
8) Athenag., Legat, pro christ. 36 (Schwartz, op. cit., S. 46); p. пер., стр. 91.
— 51
своей жизни правилом—«будем есть и пить, потому что утром умрем» 1)
4. Учение о конечной судьбе мира.
Христианские апологеты II-го века не оставили без внимания и вопроса о конечной судьбе настоящего мира. По их мнению, этот мир некогда прекратит свое существование. Последнюю мысль высказывает св. Иустин Мученик, когда говорит о смешении и разложении всего мира (σύγχυσις καὶ κατάλυσις τοῦ παντὸς κόσμου)2). Татиан прямо говорит, что настоящий мир прекратит свое существование через разложение (ὁ κόσμος πέρας λαβῶν ἀναλυθῆ)3), причем оно произойдет не в разные времена, а только однажды 4). В других местах он говорил о συντέλεια τῶν ὅλων 5), ἡμέρα συντελείας6) и т. под.
Касаясь вопроса, каким образом настоящий мир прекратит свое существование, апологеты II-го века полагали, что он сгорит в огне. По их мнению, о будущем сожжении мира через огонь возвестили еще ветхозаветные пророки—Моисей (Втор. 32, 22) 7), Исаия (30, 28. 30) и Малахия (4, 1) 8). Это учение о сожжении мира через огонь было известно Сивилле и Истаспу 6), но особенно придерживалась его стоическая философия 10). Правда, последняя, по замечанию апологетов, в своем учении о сожжении мира через огонь в некоторых пунктах отступала от хри-
1) Ibid.. De resurr. mort. 19. (Schwartz, op. cit., S. 71—72); p. пер., стр. 114—115.
2) Apol. II, 7 (Otto, op. cit., p. 216); p. пер., стр. 111.
3) Orat. adv. Graec. 12 (Schwartz, op. cit., p. 13); p. пер., стр. 22.
4) Ἄλυτον εἶναι τὸν κόσμον, ἐγὼ δὲ λυόμενον ἐκπύρωσιν ἀποβαίνειν κατὰ καιρούς, ἐγὢ δὲ εἰσάπαξ... Ibid. 25 (Schwartz, op. cit., S. 27); р. пер., стр. 33.
5) Ibid. 6 (Schwartz, op. cit., S. 6); p. пер., стр. 15.
6) Ibid. 17 (Schwartz, op. cit., S. 18); p. пер., стр. 26.
7) Iust., Apol. I, 60 (Otto, op. cit., p. 162); p. пер., стр. 91.
8) Theoph., Ad Autol., lib. II, 38 (Mg. VI, 378) col. 1117C; p. пер., стр. 170.
9) Iust., Apol. I, 20 (Otto, op. cit., p. 64); p. пер., стр. 50.
10) Athenag., Legat, pro christ. 19 (Schwartz, op. cit., S. 21); p. пер., стр. 71; Iust., Apol. I, 20 (Otto, op. cit., p. 66); p. пер., стр. 50.
— 52
стианского учения. Прежде всего, стоические философы думали, что сожжение мира чрез огонь будет повторяться через известные периоды времени, тогда как христиане признают только однократное миросожжение 1). Затем, они полагали, что миросожжение будет происходить по закону превращения одной вещи в другую, между тем как христиане признают, что сожжение мира через огонь будет произведено Богом и явится справедливым его наказанием 2). Наконец, некоторые из стоических философов были убеждены в том, что во время миросожжения и Сам Бог разрешится в огонь (εἰς πῦρ ἀναλύεσθαι), тогда как христиане считают Бога нетленным 3).
Уча о прекращении настоящего мира через огонь, христианские апологеты ІІ-го века, однако, не допускают его полного уничтожения. По мнению св. Иустина Философа, нынешний мир, прекратив свое существование, примет лишь новую лучшую форму. Св. мученик пишет, что Отец через Христа намеревается обновить небо и землю (τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν ὁ Πατὴρ μέλλει καινουργεῖν)4), и называет облако в пустыне прообразом другого нового неба (ἄλλου οὐρανοῦ καινοῦ τρόπον)5).
Так учили христианские апологеты ІІ-го века о конечной судьбе как каждого человека в отдельности, так и всех людей вообще. Несомненно, что главным вопросом, ими раскрытым, является учение о всеобщем воскресении мертвых, особенно о тожестве воскресших тел с настоящими—даже по органам, за исключением их функций.
1) Tatian., Orat. adv. Graec. 3 (Schwartz, op. cit., S. 3); p. пер., стр. 13; ibid. 6 (Schwartz, op. cit., S. в); p. пер., стр. 15; ibid. 25 (Schwartz, op. cit., S. 27); p. пер., стр. 33.
2) Iust., Apol. II, 7 (Otto, op. cit., p. 216—220); p. пер., стр. 111—112.
3) Ibid., Apol. I, 20 (Otto, op. cit., p. 64); p. пер., стр, 50.
4) Dial, cum Tryph. 113 (Otto, op. cit., p. 404); p. пер., стр. 314.
5) Ibid. 131 (Otto, op. cit., p. 470); p. пер., стр. 344.
53
III. Эсхатология св. Иринея Лионского.
Кроме христианских апологетов, во ΙΙ -м веке откровенное учение о конечных судьбах человечества и мира вообще раскрывали христианские полемисты. В этом отношении заслуживают особого внимания эсхатологические воззрения младшего современника апологетов — св. Иринея, епископа Лионского († ок. 202 г.), который их высказывал в борьбе с ересями своего времени.
1. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности.
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души.
Человек, по представлению св. Иринея, состоит из души и тела 1). Он по своей природе смертен ( natura mortalis)2). Только в то время, когда его тело находится в гармоническом единении с душой, он предохраняется от смерти, потому что тогда душа сообщает жизнь своему телу3). Ясно, если душа оставляет человеческое тело, то оно умирает. По словам святителя Лионского, смерть человеческого тела состоит в том, что оно «теряет
1) Homo est temperatio animae et carnis. Contra haeres., lib. IV, praef. 4 (Migne, ser. gr., (1857), t. VII, 228) col. 975B; p. пер. (Прот. П. Преображенский, Сочинения св. Иринея, епископа Лионского, С,-Петербург 1900), стр. 318 ср. ibid., lib. V, cap. XX, 1 (Mg. VII, 317) col. 1177В; р. пер., стр. 488.
В совершенном или облагодатствованном человеке живет еще сверхфизический принцип—дух; через него человек принимает участие в божественной жизни (Ibid., lib. V, cap. VI, 1 (Mg. VII, 299—300) col. 1136D-1137A-C; p. пер., стр. 455—457; ibid., lib. V, cap. IX, 1 (Mg. VII, 302) col. 1144A-C; p. пер., стр. 462).
2) Ibid., lib. V, cap. III, 1 (Mg. VII, 295) col. 1129А; p. пер. 451.
3) Ibid., lib. II, cap. XXXIII, 4 (Mg.VII, 168) col. 833В; p. пер., стр. 213.
— 54 —
жизненную силу, становится бездушным и неподвижным и разлагается на свои составные части»1)
По убеждению св. Иринея, причиной телесной смерти человека является грех наших прародителей. Наше тело,—пишет святитель Лионский,—временно разрушается по причине «бывшего в начале непослушания (διὰ τὴν ἀπ ’ ἀρχῆς γενομένην παρακοήν)»2). Все мы,—замечает он в другом месте,—умираем в Адаме (ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες ἀποθνήσκομεν)ä). Хотя человеческая смерть есть следствие прародительского греха, тем не менее она, по мнению св. Иринея, не может быть рассматриваема, как величайшее мировое зло. Наоборот, она является для человека делом Божьего милосердия. По воззрению святителя Лионского, Бог распространил на людей смерть именно с той целью, чтобы вместе с их жизнью положить конец также и их грехам, дабы они со временем снова стали жить для Бога4).
Простирая свое действие на тело человека, смерть в то же время не касается его души. Сказав о том, что тело человека в известное время теряет свою жизненную силу и разлагается на свои составные части, св. Ириней замечает, что этого не бывает с душой5). Желая доказать, вопреки мнению гностиков, действительность будущего воскресения плоти, святитель Лионский указывает на 1 Кор. 15, 53 и 2 Кор. 5, 4, причем поясняет, что под выражениями в данных свидетельствах св. апостола— «тленное» и «смертное» можно подразумевать только тело, но не душу, потому что она не подлежит смерти (οὐ γὰρ ἡ ψυχὴ θνητόν)6). Впрочем, св. Ириней не считал человеческую душу бессмертной по своей природе. По его мнению, все сотворенное Богом существует только до тех
1) Ibid., lib. V, cap. VII, 1 (Mg. VII, 300) col. 1140B; p. пер., стр. 458.
2) Fragm. XII (Mg. VII, 343) col. 1236A; p. пер., стр. 534.
3) Contra haeres., lib. V, cap. XII, 3 (Mg. VII, 306) col. 1154A; p. пер., стр. 469.
4) Ibid., lib. V, cap. XXIII, 6 (Mg. VII, 222) col. 964AB; p. пер., стр. 310.
5) Ibid., lib. V, cap, VII, 1 (Mg. VII, 300) col. 1140B; p. пер., стр. 458.
6) Ibid., lib. V, cap. ΧΙΠ, 3 (Mg. VII, 309) col. 1159A; p. пер., стр. 473.
— 55
пор, пока это угодно Богу1). Поэтому, и человеческие души, некогда не существовавшие, будут продолжать свое бытие лишь до тех пор, пока захочет Бог, чтобы они существовали2).
2. Участь души непосредственно после смерти человека.
Признавая существование человеческих душ после разложения на составные части принадлежащего каждой из них тела, св. Ириней, тем не менее, не допускал переселения их в другие тела. По его глубокому убеждению, учение некоторых языческих философов о переселении душ должно быть признано несостоятельным по той простой причине, что они ничего не помнят из того, что с ними было до переселения в известное тело 3).
Все возражения, выставляемые защитниками учения о переселении душ против данного аргумента, св. Ириней считал недостаточными. Прежде всего, по его мнению, то воззрение языческих философов, по которому душа при входе в новые тела будто бы принимает от демона напиток из чаши забвения, почему и не помнит ничего из своей прежней жизни, не заслуживает внимания потому, что душа, не забывшая о демоне, чаше и вступлении в новую жизнь, должна помнить и. знать и о всем остальном4).—Далее, не более основательно и то мнение, что душе будто бы причиняет забвение тело, с которым она вступает в гармоническое единение. И это по той причине, что душа не забывает о том, что она видела во сне или во время размышления, когда ее тело бывает в состоянии покоя. Потом, если бы тело было причиной заб-
1) Ibid., lib. H, cap. XXXIV, 3 (Mg. VII, 168) col. 836A; p. пер., стр. 214.
2) Ibid., lib. II, cap. XXXIV, 4 (Mg. VII, 169) col. 837A; p. пер., стр. 215.
3) Ibid., lib. II, cap. XXXIII, 1 (Mg. VII, 167) col. 830C—831 A; p. пер., стр. 211.
4) Ibid., lib. H, cap. XXXIII, 2 (Mg. VII. 167) col. 831 B—832A; p. пер., стр. 211—212.
56
вения, то душа, находясь в общении с ним, не помнила бы того, что она некогда узнала при помощи зрения или слуха. Наконец, пророки, находясь в обыкновенном состоянии духа, помнили и сообщали другим то, что им открывалось в духовных видениях1).
Считая данное свое соображение, направленное против учения о переселении душ, неопровержимым, св. Ириней полагал, что в последнем учении решительно нет даже никакой нужды. По его мнению, каждый человек получает от Бога как тело, так и душу. И в этом нет ничего удивительного, потому что Бог не настолько беден, чтобы Он не мог даровать каждому человеческому телу особой души и особого характера (ἰδίαν ψυχὴν καὶ ἴδιον χαρακτῆρα)
Наконец, св. Ириней видел ясное доказательство той мысли, что человеческие души после разложения их тел продолжают существовать самостоятельно и не переходят из тела в тело, в евангельской притче о богатом и Лазаре. По смыслу этой притчи, человеческие души не только продолжают свое существование после разложения их тел, не переходя из тела в тело, «но и сохраняют тот же характер тела, какой они имели в соединении с ним, и помнят дела, какие совершали здесь л какие теперь уже перестали совершать» 3).
Притча Спасителя о богатом и Лазаре, по мнению св. Иринея, вместе с тем дает основание думать, что человеческие души непосредственно после разложения их тел, не переходя в другие тела, получают соответствующие их достоинству места для своего пребывания. «Ка-
1) Ibid., lib. ΙΙ, cap. ХХXIII, 3 (Mg. VII, 167) col. 832АВ; p. пер., стр. 212.
2) Ibid., lib. II, cap. ХХXIII, 5 (Mg. VII, 168) col. 833BC—834A; p. пер., стр. 213.
3) Ibid., lib. II, cap. XXXIV, 1 (Mg. VII, 163) col. 834C-835A; p. пер., стр. 212—214.
— 57
ждый класс душ,— говорит святитель Лионский,— получает достойное жилище еще прежде суда (dignam habitationem unamquamque gentem percipere etiam ante judicium)»1) Эти жилища всех умерших людей, по воззрению св. Иринея, находятся в «преисподних местах земли (in inferioribus terrae)». Как «Господь соблюл закон мертвых (legem mortuorum), чтобы быть первородным из мертвых, и пробыл до третьего дня в преисподних местах земли», а потом воскрес из мертвых и вознесся к Отцу, так и души людей, как Его учеников, «пойдут в невидимое место, назначенное им от Бога, и там пробудут до воскресения (αἰ ψυχαὶ ἀπέρχονται εἰς (invisibilem) τὸν τόπον τὸν ὡρισμένον αὐταῖς ἀπὸ τοῦ Θεοῦ , κἀκεῖ μέχρι τῆς ἀναστάσεως φοιτὼσι) в ожидании Его (Господа)» 2).
Из всеобщего закона, по которому души умерших людей получают после своей смерти местопребывание в «преисподних местах земли», св. Ириней, по-видимому, исключал только мучеников. «Церковь, по словам святителя Лионского, на всяком месте, по своей любви к Богу, во всякое время посылает к Отцу множество мучеников (multitudinem martyrum in omni tempore praemittit ad Patrem)», между тем как еретики ничего подобного не могут показать у себя и считают это даже ненужным3).
Однако, если души умерших праведников до всеобщего воскресения мертвых пребывают в преисподний, то спрашивается, какое значение имеет сошествие Христа во ад. Св. Ириней, устраняя создающееся таким образом недоумение, утверждал, что Христос сходил в преисподнюю лишь с целью «благовествовать Свое спасение
1) Ibid., lib. II, cap. XXXIV, 1 (Mg. VII, 169) col. 835B; p пер., стр. 214.
2) Ibid., lib. V, cap. ΧΧΧῆ 2 (Mg. VII, 331) col. 1209BC—1210A; p. пер., стр. 513—514.
3) Ibid., lib. IV, cap. XXXIII. 9 (Mg. VII, 272) col. 1O78A; p. пер., стр. 409 cp. ibid., lib. IV, cap. XXXI, 3 (Mg. VII, 269) col. 1070B; p. пер., стр. 402.
58
(evangelizare salutem quae est ab eo)»1), чтобы «Своими очами видеть состояние почивших от трудов» 2). «Господь,— говорит святитель Лионский в другом месте,—нисшел в преисподняя, благовествуй и здесь о Своем пришествии и объявляя отпущение грехов верующим в Него (evangelizantem et illis adventum suum , remissione peccatorum existente his , qui credunt in eum)», т.-е. праведникам пророкам и патриархам, которым, как и нам, Он отпустил грехи (remisit peccata)3). Ясно, что св. Ириней все значение сошествия Христа во ад к находящимся там душам умерших праведников исчерпывал возвещением последним прощения грехов, без немедленного освобождения их из уз преисподней.
Определяя места пребывания умерших праведников в преисподней, св. Ириней останавливал свое внимание на рае и «недре Авраама». Особенно подробно он учит о рае (παράδεισος). Он говорит, что в раю Бог некогда поместил первого человека 4), который был удален из него после своего грехопадения 5). Рай, по представлению святителя Лионского, приготовлен для праведных и духоносных людей. В этот рай некогда был восхищен св. апостол Павел, где он слышал речи, которых не может передать человек в своем настоящем состоянии. В нем будут пребывать умершие праведники до скончания мира 6). У поминая же о «недре Авраама (sinus Abrahamae)»,
1) Ibid., lib. III, cap. XX, 4 (Mg. VII. 214) col. 945A; p. пер., стр. 297.
2) Так понимает Гарвей текст латинского перевода id quod erat inoperatum conditionis. Ibid., lib. IV, cap. XXII, 1 (Mg. VII, 259) col. 1047A; p. пер., стр. 381, прим. 260.
3) Ibid., lib. IV, cap. XXXII, 2 (Mg. VII, 264) col. 1058BC; p. пер., стр. 391.
4) Ibid., lib. V, cap. V. 1 (Mg. VII, 298) col. 1135A; p. пер., стр. 454; ibid., lib. V, cap. XXIII, 1 (Mg. VII, 320) col. 1184C; p. пер., стр. 494.
5) Ibid., lib. III, cap. XXIII, 6 (Mg. VII, 222) col. 964A; p. пер., стр. 310.
6) Ibid., lib. V, cap. V, 1 (Mg. VII, 298) col. 1135B; p. пер., стр. 454; ibid., lib. If, cap. XXX, 7 (Mg. VII, 162), col. 818C—819A; p. пер., стр. 202.
59 —
св. Ириней лишь замечал, что на нем после своей смерти покоился Лазарь 1)
Св. Ириней в своих творениях не дает надлежащего представления о состоянии душ умерших праведников в раю и на «недре Авраама», находящихся в «преисподних местах земли». Несомненно лишь то, что они, по учению святителя Лионского, пребывая до воскресения их тел в указанных потусторонних местах, духовно совершенствуются. По крайней мере, по воззрению св. Иринея, они в этих местах продолжают познавать «вещи творения». «Из вещей творения,—пишет святитель Лионский,— некоторые подлежат только Богу, а некоторые—доступны и нашему познанию... Что мудреного, если и из того, что мы ищем в Писаниях, что всецело духовно, нечто, по милости Божьей, мы уясняем себе, а иное предоставляем Богу, и это не только в нынешнем веке, но и в будущем (οὐ μόνον αἰῶνι ἐν τῷ νυνί , ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλλοντι), дабы таким образом Бог всегда учил, а человек всегда (sem реr) научался от Бога»2).
Что касается мест загробного пребывания грешников, то их св. Ириней называет «преисподней (apud inferos)» 3), очевидно, в собственном смысле, «геенной (gehenna)», которую Господь (Мф. 25,41) наименовал вечным огнем4), или «огненной геенной (in ignem gehenna)» 5) и, наконец, «подземным тартаром ( sub terra Tartarus)»6).
1) Ibid., lib. II, cap. XXXIV, 1 (Mg. VI, 168) col. 834C-835A; p. пер., стр. 213—214.
2) Ibid., lib. II, cap. XXVIII, 3 (Mg. VII, 156) col. 805C—806A; p. пер., стр. 191.
3) ibid., lib. ΙΙ, cap. XXIV, 4 (Mg. VII, 151) col. 794B; p. nep, стр. 181; ibid., lib. IV, cap. XXVI, 2 (Mg. VII, 262) col. 1054A; p, пер., стр. 388.
4) Ibid., lib. V, cap. XXXV, 2 (Mg. VII, 336) col. 1220B; p. пер., стр. 525.
5) Ibid., lib. II, cap. XXXII, 1 (Mg. VII, 165) col. 826B; p. пер., стр. 207.
6) Ibid., lib. ΙΙ, cap. VI, 3 (Mg. VII, 122) col. 725C: p. пер., стр. 124.
60 —
Переходя после смерти в известное место своего потустороннего пребывания в преисподней, грешники, по представлению св. Иринея, с одной стороны, лишаются всех благ (omnia bona)1), а с другой,—подвергаются наказаниям также положительного характера.
Лишение всех благ на том свете, по мнению св. Иринея, является для грешников вполне естественным, потому что Бог тех людей, которые здесь на земле своевольно отступают от Него, подвергнет в загробном мире избранному ими самими отлучению от Себя. «Разлучение же с Богом, по словам святителя Лионского, есть смерть, а отчуждение от Бога есть лишение всех благ, какие имеются у Него (χωρισμὸς Θεοῦ ἀποβολὴ πάντων τῶν παρ αὐτοῦ ἀγαθών)2). Христос непокорным Богу,—пишет св. Ириней в другом месте, —«принос вечную гибель, отлучая их от жизни (sempiternum attulit perditionem, abscindens eos a vita)»3). Они «не наследуют грядущего века жизни (venturum vitae non haereditabunt saeculum)»4). Измышляющие другого Бога сравнительно с Тем, Который дал обетование Аврааму, останутся вне царства Божия и не наследуют нетления (extra regnum Dei sunt, etexhaeredes sunt ab incorruptela)5). Те, которые исполняют волю диавола, лишаются славы Божьей (gloria Dei) и не будут иметь возможности ожидать чего-либо другого, кроме смерти (quid, aliud sperare, vel exspectare potest, qui talis est, nisi mortem) 6).
Касаясь вопроса о будущих наказаниях грешников положительного характера, св. Ириней полагал, что они, прежде всего, будут состоять в пребывании грешников
1) Ibid, lib. IV, cap XXXIX, 4 (Mg. VII, 286) col. 1112A; p. пер. стр. 439.
2) Ibid., lib. V, cap. XXII, 2 (Mg. VII, 325) col. 1196B; p. пер., стр. 505.
3) Ibid., lib. IV, cap. XI, 4 (Mg. VII, 240) col. 1003C; p. пер., стр. 343.
4) Ibid., lib. III, cap. VII, 2 (Mg. VII, 182) col. 866A; p. пер.,стр. 234.
5) Ibid., lib. IV, cap. VIII, 1 (Mg. VII, 236) col. 993B; p. пер., стр. 334.
6) Ibid., lib. V, cap. XXII, 2 (Mg. VII, 320) col. 1183D—1184A; p. пер., стр. 493—494.
61
во тьме. Бог, по рассуждению святителя Лионского, послал в мир Своего Сына для того, чтобы Он неверующих в Него и избегающих Его света заключил во тьму ( in tenebras), которую они сами себе избирают 1). Далее, наказания грешников положительного характера, по воззрению св. Иринея, будут заключаться в их мучении «в венном огне (in ignem aeternum)» 2). Этот вечный огонь первоначально был приготовлен Богом для диавола, который сам согрешил и ввел в грех первых людей 3). После же грехопадения прародителей в нем находят свои мучения также и все грешные люди, особенно те из них, которые, не прибегая к покаянию, постоянно совершают злые дела4). Вся противобожеская сила, по представлению святителя Лионского, некогда объединится в Антихристе и вместе с ним будет брошена «в огненную печь (κατὰ τὸν κάμινον τοῦ πυρὸς)»5) или «в огненное озеро (in stagnum ignis)» 6). Как во дни Ноя произошел всемирный потоп, так и по наступлении дня Антихриста разразится над зем-
1) Ibid., lib. IV, cap. VI, 5 (Mg. VII, 234) col. 989A; p. пер., стр. 330.
2) Ibid., lib. I, cap. X, 1 (Mg. VII, 48) col. 551A; p. пер., стр. 50; ibid., lib. II, cap. XXVIII, 7 (Mg. VII, 158) col. 810B; p. пер., стр. 195; ibid., lib. II, cap. XXXII, 1 (Mg. VII, 165) col. 827A; p. пер., стр. 208; ibid., lib. III, cap. IV, 2 (Mg. VII, 178) col. 856A; p. пер., стр. 225; ibid., lib. III, cap. XXIII, 3 (Mg. VII, 321) col. 962AB; p. пер., стр. 308; ibid., lib. IV, cap. XXVII, 4 (Mg. VII, 265) col. 1060B; p. пер., стр. 393—394; Ibid., Jib. IV, cap. XXVIII, 1 (Mg. VII, 265) col. 1061C; p. пер., стр. 395; ibid., lib. IV, cap. XXVIII, 2 (Mg. VII, 266) col. 1062A; p. пер., стр. 396; ibid., lib. IV, cap. XL, 1 (Mg, VII, 286—287) col. 1112BC; p. пер., стр. 439; ibid., lib. IV, cap. XLI, 1 (Mg. VII, 288) col. І115А; p. пер., стр. 440; ibid., lib. V, cap. XXVI, 2 (Mg. VII, 324) col. 1195A; p. пер., стр. 503; ibid., lib. V, cap. XXVIII, 1 (Mg. VII, 326) col. 1198A; p. пер., стр. 506.
3) Ibid., lib. IV, cap. XL, 1 (Mg. VII, 286—287) col. 1112BC; p. пер., стр. 439; ibid., lib. IV, cap. XLI, 1 (Mg. VII, 288) col. 1115A; p. пер., стр. 440; ibid., lib. cap. XXVI, 2 (Mg. VII, 324) col. 1195A; p. пер., стр. 503.
4) Ibid., lib. III, cap. ХХIII, 3 (Mg. VII, 221) col. 962B; p. пер., стр. 308.
5) Ibid., lib. V. cap. XXIX, 2 (Mg. VII, 327) col. 1201C—12O2A; p. пер., стр. 509.
6) Ibid., lib. V, cap. XXX, 4 (Mg. VII, 330) col. 1207C; p. пер., стр. 512.
— 62 —
лей «огненный дождь (diluvium ignis)»1). Это наказание настолько будет страшным, что тому человеку, который ему подвергнется, по замечанию св. Иринея, лучше было бы не родиться 2).
Из постоянного наименования геенского огня вечным (aeternus ignis) следует, что св. Ириней Лионский не допускал мысли о прекращении некогда будущих наказаний грешников положительного характера. По его мнению, грешники на том свете также навсегда будут лишены и всех тех благ, которыми там будут наслаждаться праведники. Блага Божьи,—решительно утверждает св. Ириней,—вечны и бесконечны (αἰώνια καὶ ἀτελεύτητα); поэтому, и лишение их также вечно и бесконечно (διὰ τοῦτο καὶ ἡ στέρησις αὐτῶν αἰώνιος καὶ ἀτελεύτητος)»3).
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще.
1. Учение о втором пришествии Христа.
По воззрению св. Иринея Лионского, Иисус Христос пробудет на небе до времени исполнения всего, что возвестил Бог через пророков (ср. Дн. 3, 21)4), После этого Он снова придет на землю для совершения заключительных событий в истории человечества и мира вообще.
Второе пришествие Христа, по убеждению св. Иринея, было известно еще в Ветхом Завете. Уже пророки возвещали о двух пришествиях Христа. Они предсказывали о втором пришествии на землю Сына Божия, когда говори-
1) Ibid., lib. V, cap. XXIX, 2 (Mg. VII, 327—328) col. 1202A-C; р., пер., стр. 509.
2) Ibid., lib. IV, cap. XXVIII, 1 (Mg. VII, 265) col. 1061C; p. пер., стр. 395.
3) Ibid., lib. V, cap. XXVII, 2 (Mg. VII, 280) col. 1196C—1197A; p. пер., стр. 505.
4) Ibid., lib. III, cap. XII, 3 (Mg. VII, 194) col. 895B; p. пер., стр. 254.
63
ли, что Он придет на облаках (Дан. 7, 13), наводя день, который будет пламенным горнилом (Мал. 4, 1), потрясая землю словом Своих уст (Ис. 11, 4) и убивая нечестивых дыханием Своих уст, имея в руке лопату, очищая Свое гумно и собирая пшеницу в житницу, а солому сожигая неугасимым огнем (Мф. 3, 12) 1) Кроме данных пророческих предсказаний, на второе пришествие Христа, по мнению святителя Лионского, указывают еще— Зах. 12, 10 ср 8, 8; 2 Солун. 1, 6 — 8. 9. 102); Пс. 98, 1 ср. Мф. 24, 21 3).
Сравнивая второе пришествие Христа с первым, св. Ириней замечает, что оно будет во славе (in gloria4), во славе Отца (ia gloria Patris)5) и на облаках (super nubes)6). Христос во второй раз придет с ангельскими силами (cum angelis virtutis)7), чтобы прославиться во святых Своих (glorificari in sanctis suis)8). Он придет в том же самом теле, в котором пострадал во время Своего первого пришествия, но с тем различием, что оно тогда будет исполнено славы Отца (τὴν δόξαν ἀποκαλύπτων τοῦ Πατρός)9).
1) Ibid., lib. IV, cap. XXXIII, 1 (Mg. VII, 270) col. 1073А; p. пер., стр. 406.
2) Ibid., lib. IV, cap. XXXIII, 11 (Mg. VII, 273) col. 1079BC; p. пер., стр. 410—411.
3) Ibid., lib. IV, cap. XXXIII, 13 (Mg. VII, 274) col. 1082A; p. пер., стр. 413.
4) Ibid., lib. III, cap. IV, 2 (Mg. VII, 178) col. 856A; p. пер., стр. 225.
5) Ibid., lib. III, cap. XVI, 6 (Mg. VII, 206) col. 925C; p. пер., стр. 280; ibid., lib. IV, cap. XXVII, 2 (Mg. VII, 264) col. 1059A; p. пер., стр. 392; ibid., lib. V, cap. XXX, 4 (Mg. VII, 330) col. 1207C; p. пер., стр. 512.
6) Ibid., lib, III, cap. XIX, 2 (Mg. VII, 2J2) col. 941 A; p. пер., стр. 293; ibid., lib. IV, cap. XX. 11 (Mg. VII, 256) col. 1040B; p. пер., стр. 375; ibid., lib. IV, cap. XXXIII, 1 (Mg. XII, 271) col. 1075A; p. пер., стр. 406; ibld., lib. V, cap. XXX, 4 (Mg. VII, 330) col. 12O7C; p. пер., стр. 512.
7) Ibid., lib. IV, cap. ХХVII, 4 (Mg. VII, 265) col. 1061A; p. пер., стр. 394; ibid., lib, IV, cap. ХХХIII, 11 (Mg. VII, 273) col. 1079B; p. пер., стр. 410.
8) Ibid., lib. IV, cap. ХХXIII, 11 (Mg. VII, 273) col. 1079В; p. пер., стр. 411.
9) Ibid., lib. III, cap, XVI, 8 (Mg. VII, 207) col. 927C; p. пер., стр. 282.
— 64 —
Св. Ириней, сравнительно с другими отцами, дает более точное определение времени второго пришествия Христа на землю. По его мнению, во сколько дней был создан этот мир, столько тысячелетий он и просуществует. Если книга Бытия (2, 1. 2) повествует, что Бог совершил в шесть дней все Свои дела, а в седьмой—почил от них, то число происшедшего раньше служит пророчеством будущего. Если один день Господом рассматривается в качестве тысячелетия (Пс. 89, 4: 2 Петр. 3, 8), если в шесть дней создан мир, то ясно, что он окончит свое существование в шеститысячный год1). По окончании настоящего мира наступит седьмой день, день покоя, под которым святитель Лионский разумеет время земного царства славы 2). Отсюда ясно, что второе пришествие Христа, как имеющее своей главной целью — открытие земного царства славы, произойдет в конце шеститысячного года мировой истории3).
Кончине настоящего мира и второму пришествию Христа, по учению св. Иринея, будут предшествовать их явные признаки—это великая мировая скорбь и явление Антихриста.
Скорбь в мире, по воззрению св. Иринея, является необходимой для спасаемых. Через нее они очищаются от грехов и таким образом становятся годными для пира с Царем в Его земном царстве славы 4). Потому-то в конце настоящего мира и будет скорбь так велика, что подобной ей никогда не было в мире и не будет 5).
1) Ibid., lib. V, cap. ХХVIII, 3 (Mg. VII, 327) col. 1200AB; p. пер., стр. 507—508.
2) Ibid., lib., V, cap. XXX, 4 (Mg. VII, 330) col. 1208A; p. пер., стр. 512; ibid., lib V, cap. ХХXIII, 2 (Mg. VII, 332) col. 1212C; p. пер., стр. 517..
3) Ibid., lib. V, cap. XXX, 4 (Mg. VII, 330) col. 1207C—1208A; p. пер., стр. 512.
4) Ibid., lib. V, cap. XXVIII, 4 (Mg. VII, 327) col. 1200C; p. пер., стр. 508.
5) Ibid., lib. V, cap. XXIX, 1 (Mg. VII. 327) col. 1201C; p. пер., стр. 508.
— 65 —
Явлению в конце настоящего мира Антихриста св. Ириней уделяет довольно много внимания. Он останавливается как на его личности, так и на деятельности. Антихрист, по рассуждению святителя Лионского, получив всю силу диавола, придет, не как праведный и законный царь, покорный Богу, но как нечестивый, неправедный и беззаконный, как богоотступник, злодей и человекоубийца, как разбойник, заключающий в себе всякое отпадение от Бога. Он устранит всех идолов, чтобы убедить людей, что он сам есть Бог. Он превознесет себя, как идола, сосредоточившего в себе самом разнообразное заблуждение всех раньше существовавших идолов, дабы те, которые посредством разных мерзостей поклоняются диаволу, служили последнему через этого идола (ср. 2 Солун. 2, 4)1). Он, подобно льву, будет нападать на людей 2). Он, согласно свидетельству пророка Даниила (7 гл.), явится в качестве царя четвертого мирового царства, который превзойдет своими злыми делами всех до него бывших царей. Он произнесет хульные слова против Всевышнего Бога, истребит Его святых и задумает изменить времена и закон 3). Антихрист, по словам св. апостола Павла (2 Солун. 2, 3. 4), будет человеком греха, сыном погибели, противящимся и превозносящимся выше всего называемого Богом или святыней, так что он сядет в храме Божьем и будет выдавать себя за Бога4). Он придет во имя Христа (Ио. 5, 43) и явится тем неправедным судьей, о котором говорит Господь, что «он ни Бога не боялся, ни людей не стыдился» (Лук.
1) Ibid., lib. V, cap. XXV, 1 (Mg. VII, 322) col. 1189A; p. пер., стр. 498—499.
2) Ibid., lib. III, cap. XXIII, 7 (Mg. VII, 222) col. 964C; p. пер., стр. 310,
3) Ibid., lib. V, cap. XXV, 3 (Mg. VII, 322) col. 1190B, p. пер. стр. 500.
4) Ibid., lib. V, cap. XXV, 1 (Mg. VII, 322) col. 1189AB; p. пер. стр. 499.
66
18, 2 и дал.)1). Ему десять царей дадут силу и власть (Ап. 17, 12—13), чтобы он с помощью их преследовал св. церковь Христову 2). Он будет представлять собой поднявшееся из моря животное (Ап. 13, 1 и дал.), имя которого выражается числом 666.
Такое имя, по мнению св. Иринея, будет усвоено Антихристу по той причине, что в нем найдет свое восстановление все человеческое нечестие, какое когда-либо имело место в мире за время его шеститысячелетнего существования 3). Имя Антихриста будет соответствовать числу 666,—пишет в другом месте святитель Лионский,— так как в нем найдет свое выражение все зло, как существовавшее в мире до потопа, так и после него, и это потому, что число 600 заключает в себе все зло, истребленное в водах потопа, когда Ною было 600 лет, а число 66 соответствует изображению, поставленному Навуходоносором, которое имело в высоту 66 локтей, а в ширину 6 локтей и было воздвигнуто с тем, чтобы только ему одному поклонялись все люди. Ив-за этого изображения Анания, Азария и Мисаил, как не поклонившиеся ему, были брошены в огненную печь, чем они пророчески засвидетельствовали о том, что в конце мира произойдет сожжение праведников. Это изображение было предзнаменованием пришествия Антихриста, который также будет искать всеобщего поклонения. Таким образом, 600 лет жизни Ноя, при котором был потоп, вследствие уклонения людей от заповедей Божьих, и число локтей изображения, воздвигнутого Навуходоносором, из-за которого праведные люди были брошены в горящую печь, соответствуют числовому имени того, в ком восстано-
1) Ibid., lib. V, cap. XXV, 4 (Mg. VII, 323) col. 1191 A; p. пер., стр. 500.
2) Ibid., lib. V, cap. XXVI, 1 (Mg. VII, 323) col. 1192C; p. пер., стр. 502.
3) Ibid., lib. V, cap. XXVIII, 2 (Mg. VII, 326) col. 1199C; p. пер., стр. 507.
67
вится все шеститысячелетнее вероломство, неправда, нечестие, лжепророчество и обман, по причине которых разразится над землей огненный потоп 1). Наконец, по представлению св. Иринея, числовое имя 666, согласно с откровением св. апостола Иоанна Богослова (Ап. 13, 18), усвояется «поднявшемуся из моря животному» и по той причине, что оно, сообразно с греческим буквенным счислением, содержится в другом настоящем его имени 2). Конечно,—замечает святитель Лионский,—есть и другие имена, как, например, Ευανθας , Δατεινος , Τειταν , которые могут заключать в себе названное число. Но это свидетельствует лишь о том, что св. апостол не утверждал, что числовое имя 666 принадлежит исключительно Антихристу 3). Божественный Тайнозритель не открыл нам настоящего имени Антихриста, потому что оно недостойно быть возвещенным Святым Духом. Он сообщил нам только число его действительного имени, чтобы мы остерегались его, когда он придет. Он не открыл нам настоящего имени Антихриста по той причине, что «если бы оно было возвещено Им (Св. Духом), то, может быть, он пребывал бы долгое время». А теперь, так как «он был и нет его, и выйдет из бездны и пойдет в погибель» (Ап. 17, 8), как будто бы не существовал, то и имя его не возвещено, потому что имя несуществующего не возвещается» 4).
Антихрист, по мнению св. Иринея, опирающегося в данном случае на свидетельство пророка Иеремии (8, 16),
1) Ibid., lib. V, cap. XXIX, 2 (Mg. VII, 327—328) col. 1202А-С-1203А; р. пер., стр. 509.
2) Ibid., lib. V, cap. XXX, 1 (Mg. VII, 328) col. 1203B; p. пер., стр. 509—510.
3) Ibid., lib. V, cap. XXX, 1 (Mg. VII, 329-330) col. 1206A-C; p. пер., стр. 511—512.
4) Ibid., lib. V, cap. XXX, 4 (Mg. VII. 330) col. 1207B; p. пер., стр. 512.
68
произойдет из колена Данова 1). Он утвердит свой престол в иерусалимском храме 2) и будет царствовать в течение трех лет и шести месяцев, как об этом свидетельствует, по воззрению святителя Лионского, пророк Даниил (7, 25; 9, 27 ср. Ап. 12, 14; 11, 2. 3; 12, 6) 3).
Когда, таким образом, Антихрист все существующее в мире приведет в разрушение, тогда придет Господь с неба на облаках, во славе Отца, и пошлет его вместе с повинующимися ему в огненное озеро, а праведникам откроет времена царства славы4).
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых.
Господь наш Иисус Христос, по учению св. Иринея Лионского, придет второй раз на землю для того, чтобы ἀναστῆσαι πάσαν σάρκα πάσης ἀνθρωπότητος 5).
Из данного выражения св. Иринея следует, что воскресение мертвых, по его мнению, будет всеобщим. Эту мысль он высказывает и в других местах своих творений. Он решительно, между прочим, заявляет, что Христос снова придет ad resuscitandum universam carnem6). Во время Своего второго пришествия Он воскресит как праведных, которые войдут в Его царство, так и грешников7). Сын Божий, по представлению святителя Лионского, воскресит даже тех, которые не желают сво-
1) Ibid., lib. V, cap. XXX, 2 (Mg. VII, 329) col. 1205В; p. пер., стр. 512.
2) Ibid., lib. V, cap. XXX. 4 (Mg. VII, 330) col. 1207В; р. пер., стр. 512.
3) Ibid., lib. V, cap. XXV, 3 (Mg. VII, 323) col. 1190С; р. пер., стр. 500; ibid., lib. V, cap. XXV, 4 (Mg. VII, 323) col. 1191C; p. пер., стр. 501; ibid., lib. XXX, 4 (Mg. VII, 330) col. 1207B; p. пер., стр. 512,
4) Ibid, lib. V, cap. XXX, 4 (Mg. VII, 330) col. 1207BC; p. nept, стр. 512; ibid. lib. V, cap. XXX, 9 (Mg. VII, 327) col. 1201C—12O2A; p. пер., стр. 509.
5) Ibid., lib. I, cap. X, 1 (Mg. VII, 48) col. 549B; p. пер., стр. 50.
6) Ibid., lib. II. cap. XVI, 6 (Mg. VII, 206) col. 925C; p. пер., стр. 280-
7) Ibid., lib. IV, cap. XXII, 2 (Mg. VII, 259) col. 1047B; p. пер., стр. 381.
— 69
его собственного спасения, дабы они признали силу Того, Кто воскресит их из мертвых1).
Истина будущего воскресения мертвых во время богословской деятельности св. Иринея подвергалась сомнению и даже отрицанию со стороны гностиков. Они отвергали воскресение мертвых, так как полагали, что Бог не может даровать смертному бессмертия и тленному нетления, потому что все происшедшее возвращается в то, из чего оно произошло2). Кроме того, по их мнению, человеческое тело, как созданное из земли, не может участвовать в христианском спасении 3). Имея в виду данное отрицание истины будущего воскресения мертвых со стороны гностиков, святитель Лионский старается доказать возможность, необходимость и действительность последнего.
Возможность всеобщего воскресения мертвых, по учению св. Иринея, следует из того, что человеческие тела, хотя и распадаются на свои составные части, однако совершенно не уничтожаются. Земля, из которой образованы наши тела, приняв их обратно в свой состав, хранит их, как семя, смешиваемое с плодородной землей. Как семя, разложившись, истлевши и смешавшись с землей, снова произрастает в прекрасном виде, так и наши тела, преобразовавшись в горниле земли, воскреснут чистыми и нетленными4). Конечно, человеческое тело, будучи землей, не само собой воскреснет, но через силу Божью, которая воздвигнет его из мертвых 5). Наши тела,—замечает святитель Лионский в другом месте,— воскреснут не по своей субстанции, но через силу Божью
1) Ibid., lib I, cap. XXII, 1 (Mg. VII, 98) col. 670A; p. пер., стр. 85.
2) Ibid., lib. II, cap. XIV, 4 (Mg. VII, 134) col. 752A; p. пер., стр. 148.
3) Ibid., lib. I, cap. XXVII, 3 (Mg, VII, 106) col. 689A; p. пер., стр. 96; ibid., lib. V, cap. 1, 2 (Mg. VII, 292) col. 1122C; p. пер., стр. 447; ibid. lib. V, cap. II, 2 (Mg. VII, 293) col. 1124B; p. пер., стр. 449; ibid., lib. V, cap. XIX, 2 (Mg. VII, 316) col. 1176B; p. пер., стр. 487.
4) Fragm. XII (Mg. VII, 343) col. 1233B—1236А; p. пер., стр. 533—534.
5) Contra haeres., lib. V, cap. VII, 2 (Mg. VII, 301) col. 1140C; p. пер., стр. 459.
70
(ср. 1 Кор. 6, 14)1) Таким образом, воскресение умерших людей будет делом Самого Бога. Если так, то его возможность не подлежит сомнению, потому что Бог выше природы (φύσεως κρείττων ὁ Θεός). «У Него есть хотение, потому что Он благ, есть сила, потому что Он могущ, и исполнение, потому что Он богат и совершен» 2). Сила Божья, могущая воскресить умерших людей, по воззрению св. Иринея, несомненна, потому что ею они некогда были созданы 3). А благодать Божья, желающая воскресить умерших людей, видна из того, что Бог постоянно оживляет наши тела 4). Бог, по рассуждению святителя Лионского, оказался бы не благим, но завистливым и злым Богом, если бы Он не совершил воскресения умерших людей, когда Он может это сделать5). Если же гностики полагали, что человеческое тело не способно принять даруемую Богом жизнь, то св. Ириней утверждал, что такое мнение не заслуживает серьезного внимания. И это по той простой причине, что наше тело, как об этом свидетельствует постоянный опыт, принимает в себя жизнь в настоящем мире 6). Что человеческие тела не только могут принимать в себя жизнь, но и существовать так долго, как это угодно Богу, и что Бог, следовательно, может воскресить их к вечной жизни, в этом нас, по мнению св. Иринея, убеждает долголетие наших предков, восхищение на небо с телом Эноха, вознесение на небо в земном теле Илии, трехдневное пребывание Ионы во чреве кита и пребывание трех отроков в огнен-
1) Ibid., lib. V, cap. VI. 2 (Mg. VII, 300) col. 1139В; p. пер., стр. 457.
2) Ibid., lib. II, cap. XXIX, 2 (Mg. VII, 160) col. 813B-814A.; p. пер., стр. 197.
3) Ibid., lib. V. cap. IV, 1 (Mg. VII, 297) col. 1133B; p. пер., стр. 453.
4) Ibid., lib. V, cap. IV, 2 (Mg. VII, 297) col. 1133C; p. пер., стр. 453.
5) Ibid., lib.. V, cap. IV, 1 (Mg. VII, 297) col. 1133С; p. пер., стр. 453.
6) Ibid., lib. V, cap. III, 3 (Mg. VII, 296-297) col. 113JA-C—1132А-С; p. пер., стр. 452; ibid., lib. V, cap. IV, 2 (Mg. VII, 297) col. 1133C; p. пер., стр. 453.
71
ной печи1) Наконец, по воззрению святителя Лионского, воскресение человеческого тела даже необходимо, потому что его требует справедливость Божья. И в самом деле, если человеческое тело во время настоящей жизни вместе с своей душой участвует как в добрых, так и худых делах, то оно некогда может и должно воскреснуть для принятия награды или наказания 2).
Признавая полную возможность и необходимость воскресения умерших людей, св. Ириней твердо был убежден и в его действительности. По его мнению, относительно действительности будущего воскресения мертвых вполне ясно и определенно возвещали еще ветхозаветные пророки (Ис. 26, 19; 66, 13. 14; Иез. 37, 1 и дал. 12 и дал.; Ис. 65, 22) 3). Но особенно решительное доказательство нашего будущего воскресения дал Своими словом и делом Иисус Христос. Он, ссылаясь на Исх. 3, 6 (ср. Мф. 22, 31 и дал.), опровергал саддукеев, отрицавших воскресение мертвых 4). Он исцелял больных и воскрешал мертвых, показывая этим, что Он может некогда воскресить всех умерших людей 5). Христос, наконец, Сами, воскрес из мертвых, доказав этим то, что Он некогда воскресит и наши тела6). Ла и иначе быть не может. Ведь, если воскресла из мертвых Глава, то и остальное тело всего человечества также должно воскрес-
1) Ibid., lib. V, cap. V, 1 (Mg. VII, 298) col. 1134BC; p. пер., стр. 454; ibid., lib. V, cap. V, 2 (Mg. VII, 293—299) col. 1135C-D—1136A-C; p. пер., стр. 454—455.
2) Ibid., lib. II, cap. XXIX. I (Mg. VII, 159) col. 8I2C—813A; p. пер., стр. 197; ibid., lib. II, cap. XXIX, 2 (Mg. VII, 160) col. 813AB; p. пер.. стр. 197.
3) Ibid., lib. V, cap XV, 1 (Mg. VII, 311) col. 1163D-1164A-C; p. пер., стр. 477—478.
4) Ibid., lib. IV, cap. V. 2 (Mg. VII, 232) col. 984AB; p. пер., стр. 326—327.
5) Ibid., lib. V, cap. XII, 6 (Mg. VII, 307) col. 1155C—1156A; p. пер., стр. 470: ibid., lib. V, cap. XIII, 1 (Mg. VII, 308) col. 1156BC—1157A; p. пер., стр. 471.
6) Ibid., lib. V, cap. VII, 1 (Mg. VII, 300) col. 1139C; p. пер., стр. 458.
72 —
нуть1). Христос в настоящее время питает нас в таинстве св. Евхаристии Своим Телом и Кровью, чем дает нам видимое доказательство того, что Он некогда воскресит наши тела во славу Бога и Отца, Который смертное облекает бессмертием и тленному даром дает нетление, потому что «сила Божья совершается в немощи» (2 Кор. 12, 3)2). Каким образом,—пишет в одном месте святитель Лионский,—человеческая плоть, которая питается Телом и Кровью Христовыми, может подвергнуться нетлению и не принять участия в жизни! 3). Ясно, действительность будущего воскресения мертвых для св. Иринея не подлежала никакому сомнению.
Полагая, с одной стороны, что тело составляет существенную часть в человеке, а с другой,—что умершие люди воскреснут для того, чтобы воспринять заслуженную ими здесь на земле награду или наказание, св. Ириней учил о полном тожестве воскресших человеческих тел с настоящими. «Не иное,—пишет он,—есть то, что оживает, как не иное погибающее и не иное обретаемое... Что же, — спрашивает он, — умирает?—Телесное существо, которое теряет дыхание жизни и становится бездыханным и мертвым. Господь и пришел его оживотворить, дабы, как мы все в Адаме умираем, потому что мы душевны, так во Христе все ожили, потому что мы духовны...»4). «Все, вписанные в книгу жизни,—говорит святитель Лионский в другом месте,—воскреснут с своими собственными телами, с своими душами и духами, в которых они угодили Богу (ἀναστήσονται , ἴδια ἐχοντες σώματα , καὶ ἰδίας ἔχοντες ψυχάς , καὶ ἴδια πνεύματα , ἐν οἷς εὐηρέστησαν τῷ Θεῷ).
1) Ibid., lib. III, cap. XXIX, 3 (Mg. VII, 213) col. 941C; p. пер., стр. 294.
2) Ibid., lib., V, cap. II, 2 (Mg. VII, 293—294) col. 1124B-1125AB; p. пер., стр. 449; ibid., lib. V, cap. II, 3 (Mg. VII, 294) col. 1125B—1127AB; p. пер., стр. 449—450.
3) Ibid., lib. IV, cap. XVIII, 5 (Mg VII, 251) col. 1027B— 1O28A; p. пер., стр. 365.
4) Ibid., lib. V, cap. XII, 3 (Mg. VII, 306—307) col. 1153С-1154А; p. пер., стр. 468—469.
73
Достойные же наказания подвергнутся ему также с своими душами и телами, в которых они отступили от благости Божьей (ἐχοντες ἰδίας ψυχὰς καὶ ἴδια σώματα , ἐν οἷς ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς τοῦ Θεοῦ χάριτος)»1). Признавая, что человеческие души во время всеобщего воскресения получать свои тела во всей точности их составных частей 2), св. Ириней Лионский, однако, не исключает того, что последние будут обладать бессмертием и нетлением, потому что они ради достижения их secundum operationem Domini и воскресают3).
Св. Ириней, как мы видели, учил о будущем воскресении как праведников, так и грешников. Но он не признавал их одновременного воскресения. Он допускал сначала воскресение одних праведников 4) для вступления их в земное царство Христа, а затем, по окончании этого царства,—всеобщее воскресение6).
3. Земное царство Христа.
Праведные люди, по представлению св. Иринея Лионского, далеко не сразу достигают в загробной жизни полного блаженства, состоящего в уподоблении Богу или в нетлении. Напротив, они постепенно восходят к своему небесному Отцу. Одной из стадий этого их восхождения к своему Создателю является земное царство Христа, в которое они вступят после своего воскресения. Это царство по мнению св. Иринея, есть «начало нетления (principium ип-
1) Ibid., lib. ΙΙ, cap. ХХХIII, 5 (Mg. VII, 168) col. 834A; p. пер. стр. 213.
2) Fragm. ХIІ (Mg. VII, 343) col. 1236В; р. пер., стр. 534.
3) Contra haeres, lib. V, cap. Xl I, 3 (Mg. VII, 308—309) col. 1158АС; р. пер.. стр. 472.
4) Ibid., lib. V, cap. XXVI, 2 (Mg. VII, 324) col. 1194A; p. пер., стр. 503; ibid., lib. V, cap. XXXII, 2 (Mg. VII, 332) col. 1211C; p. пер., стр. 516; ibid., lib. V, cap. ХХХIII, 4 (Mg. VII, 333) col. 1214C; p. пер., стр. 519; ibid., lib. V, cap. XXXIV, 1 (Mg. VII, 334) col. 12158; p. пер., стр. 519; ibid., lib. V, cap. XXXV, 1 (Mg. VII, 335) col. 1218C; p. пер., стр. 523.
5) Ibid., lib. V, cap. XXXV, 2 (Mg. VII, 336) col. 1220A; p. пер., стр. 524.
74 —
corruptelae)» и через него «достойные постепенно привыкают воспринимать Бога (capere Deum)»1).
Рассуждая о данном царстве Христа, св. Ириней задаётся вопросом, почему Спаситель откроет Свое царство именно в этом мире. Настоящий вопрос он решает в том смысле, что справедливость требует, чтобы люди в том же мире, в каком они перенесли разные скорби и испытания, полупили также плоды своих страданий; в каком мире они претерпели смерть за любовь к Богу, в том же и ожили; наконец, в каком мире они были рабами, в том же и господствовали. Ясно, что и вся вселенная, согласно с учением св. апостола Павла (Рим. 8, 19—21), тогда должна будет возвратиться в свое первобытное состояние и беспрепятственно служить праведным2).
Указание на земное царство, в котором будут пребывать праведники, св. Ириней находит во многих местах Св. Писания, которые он понимает в буквальном смысле. Бог,—говорит он,— еще Аврааму дал обетование, по которому ему и его потомкам должна была принадлежать вся земля (Быт. 13, 14. 15. 17 ср. 15, 18). Однако, это не исполнилось при жизни Авраама. Поэтому, он, вместе с своим потомством, т.-е. с верующими, получит обетованную ему землю во время воскресения праведных. Это, по мнению св. Иринея, подтвердил Господь, когда Он назвал блаженными кротких потому, что они наследуют землю 3). Если Христос Спаситель сказал, что Он со Своими учениками будет пить новое вино в царстве своего Отца (Мф. 26, 29), то этим, по разумению святителя Лионского, Он ясно указал, во-первых, на наследование
1) Ibid., lib. V, cap. XXXII, 1 (Mg. VII, 331) col. 1210B; p. пер.. стр. 514.
2) Ibid., lib. V, cap. XXXII, 1 (Mg. VII, 331) col. 1210BC; p. пер., стр. 514—515.
3) Ibid., lib. V, cap. XXXII, 2 (Mg. VII, 331) col. 1210C—1211 A.-D; p. пер.. стр. 515—516.
75 —
земли, на которой они будут пить вино, а во-вторых, на телесное воскресение Его учеников1). Если Христос говорил о воздаянии нищим обильным ужином во время воскресения праведных (Лук. 14, 12—14) и о воздаянии во сто крат за лишения ради Него (Мф. 19, 20), то все это будет иметь место во время Его земного царства 2). Равным образом, и благословение, данное Исааком Иакову. (Быт. 27, 27—29), как не исполнившееся при жизни последнего, найдет свое осуществление в будущем земном царстве Христа3).
Изображая рассматриваемое царство Христа, св. Ириней Лионский отмечает, что основателем и вечным его царем будет Сам Спаситель. Но свидетельству св. евангелиста Луки (1, 32 и дал.), Он будет царствовать в доме Иакова во веки4), потому что царю Давиду Бог дал обетование, что от него произойдет вечный царь5). Весь Ветхий Завет изображает царство Христово 6). Специальным типом этого царства был царь Соломон в период своей праведной жизни7). Царство Христа вместе с тем является и царством Его Отца 8). От Него именно и Христос принял вечное царство во Израиле 9). Св. Ириней полагает, что земля во время данного царства Хри-
1) Ibid., lib. V, cap. XXXIII, 1 (Mg. VII, 332) col. 1212AB; p. пер.,. стр. 516—517.
2) Ibid, lib. V, cap. ХХXIII, 2 (Mg. VII, 332) col. 1212C; p. пер., стр. 517.
3) Ibid., lib. V, cap. XXXIII, 3 (Mg. VII, 332—333) col. 1213AB; p. пер., стр. 517—518.
4) Ibid., lib. III, cap. X, 2 (Mg. VII, 185) col. 873A; p. пер., стр. 240.
5) Ibid., lib. III, cap. X, 4 (Mg. VII, 187) col. 876A; p. пер., стр. 242; ibid., lib. III. cap. XXI, 9 (Mg. VII, 218) col. 954C; p. пер., стр. 303.
6) Ibid., lib. IV, cap. XXVI, 1 (Mg. VII, 262) col. 1053B; p. пер., стр. c87.
7) Ibid., lib. IV, cap. XXVII, 1 (Mg. VII, 262) col. 1057C; p. пер., стр. 391.
8) Ibid., lib. IV, cap. XXXIV, 3 (Mg. VII, 275) col. 1084C; p. пер., стр. 415.
9) Ibid., lib. III, cap. XII, 13 (Mg. V ΙΙ 199) col. 907B; p. пер., стр. 264.
76
стова проявит свое необыкновенное плодородие1), а животные—удивительную покорность людям (Ис. 11, 6—9; 65, 25) 2). Кроме того, святитель Лионский, ссылаясь на свидетельства Св. Писания, (Ис. 26, 19; 30, 26; 58, 14; Иез. 37, 12— 14; 28, 25. 26; Иер. 23, 7. 8; 31, 10—15; Дан. 7, 27; Лук. 12, 37; Ап. 20, 6), говорит, что тогда не будет иметь места ни мучение, ни скорбь, ни печаль, а только одна непрерывная радость о Господе3). Тогда земной Иерусалим будет воссоздан по образу горнего Иерусалима (ср. Ис. 54, 11— 14; 65, 18—23)4). Это земное царство Христа, но изображению святителя Лионского, с одной стороны, будет славным (Пс. 44, 3—8)5), а с другой,—мирным (ср. 3 Цар 19, 11 —12) 6).
Касаясь состояния граждан в земном царстве Христа, св. Ириней полагал, что они тогда paternaliter будут созерцать Бога7), обладать нетлением и свободой от страданий 8). Обладая же нетлением и упражняясь в созерцании Господа, они через это приобретут навык к восприятию славы Бога Отца9). Они тогда вместе с патриархами и про-
1) Ibid., lib. V, cap. ХХХІІІ, 3 (Mg. VII, 333) col. 1213BC-1214A; p пер., стр. 518; ibid., lib. V. cap. XXXIII, 4 (Mg. VII. 333) col. 1214AB; p. пер., стр. 518.
2) Ibid., lib. V, cap. ХХXIII, 4 (Mg. VII, 333) col. 1214A-C-1215A; p. пер., стр. 519.
3) Ibid., lib. V, cap. XXXIV, 1—3 (Mg. VII, 334) col. 1215BC-1216AC—1217А-С; p. пер., стр. 519—522.
4) ibid., lib. V, cap. ХХХIV, 4 (Mg. VII, 335) col. 1217C—1218A p. пер., стр. 522; ibid., lib. V, cap. XXXV, 2 (Mg. VII, 337) col. 1223AB; p. пер., стр. 524—525.
5) Ibid., lib. IV, cap. XXXIII, 11 (Mg.. VII, 273) col. 1080A; p. пер., стр. 411.
6) Ibid., lib. IV, cap. XX, 10 (Mg. VII, 255) col. 1039A; p. пер., стр. 374.
7) Ibid., lib. IV, cap. XX, 5 (Mg. VII, 254); col. 1035A; p. пер., стр. 371
8) Ibid., lib. IV, cap. XXIV, 2 (Mg. VII, 260) col. 1050B: p. пер., стр. 384.
9) Ibid., lib. V, cap. XXXV, 1 (Mg. VII, 355) col. 1218B; p. пер., стр. 523; ibid., lib. V, cap. XXXV, 2 (Mg. VII, 336) col. 1221 A; p. пер., стр. 525.
— 77
роками будут радоваться1) и, несмотря на то, что будут находиться на земле, перестанут умирать 2). Их состояние в земном царстве Христовом будет весьма возвышенным. Они в нем, как это уже следует и из сказанного раньше, будут царствовать 3). Они в нем найдут свое успокоение и будут участвовать в трапезе Божьей 4). Время земного царства Христова будет для его граждан истинной субботой, в которую они не будут делать ничего земного, но будут иметь приготовленную Богом трапезу, которая доставит им всякие яства 5). Они будут пользоваться плодами обновленной вселенной и вкушать яства, которые им приготовит Сам Господь 6). Они, наконец, будут наслаждаться в рассматриваемом царстве «обращением и общением со святыми ангелами и единением с духовными существами (cum sanctis angelis conversationem et communionem et, unitatem spiritalium in regno capient)»7).
В своих творениях Св. Ириней Лионский нигде точно не говорит, сколько времени продолжится земное царство Христа. Однако, на основании сказанного выше можно безошибочно утверждать, что он допускал его существование в течение тысячи лет.
Заканчивая обозрение представлений святителя Лионского о земном царстве Христа, необходимо отметить, что он
1) Ibid., lib. IV, cap. XXV, 3 (Mg. VII, 261) col. 1052A; p. пер. стр. 386.
2) Ibid., lib. V, cap. XXXVI, 2 (Mg. VII, 337) col. 1223C-1224A. p. пер., стр. 527.
3) Ibid., lib. V, cap. XXXIII, 3 (Mg. VII, 333) col. 1213B; p. пер., стр. 518; ibid., lib. V, cap. XXXV, 1 (Mg. VII, 335) col. 1218C; p. пер., стр. 523.
4) Ibid., lib. IV, cap. XVI, 1 (Mg. VII, 246) col. 1016A; p. пер., стр. 355.
5) Ibid., lib. V, cap. XXXIII, 2 (Mg. VII, 332) col. 1212CD; p. пер., стр. 517.
6) Ibid., lib. V, cap. XXXIV, 3(Mg. VII, 334) col. 1217BC; p. пер., стр. 522.
7) Ibid., lib. V, cap. XXXV, 1 (Mg. VII, 335) col. 1218C; p. пер., стр. 523.
— 78
был чужд тех грубо-хилиастических мечтаний, какие предносились иудеям и иудео-христианам. Св. Ириней, как мы видели, смотрел на земное царство Христа, как на одну из стадий постепенного восхождения праведных людей к Богу, общение с Которым, созерцание Которого и подобие Которому составляют высшую ступень небесного блаженства. Таким образом, по мнению св. Иринея, земное царство Христа является внутренне необходимым для человечества, для которого достижение небесного блаженства составляет последнюю цель существования в мире.
4. Учение о всеобщем суде.
По окончании земного царства Христова, по учению св. Иринея Лионского, наступит всеобщее воскресение мертвых и суд 1). Св. Ириней весьма часто говорит в своих творениях о будущем суде—его действительности, субъекте и объекте, его характере и результатах.
Наступление всеобщего суда и второе пришествие Христа именно с целью этого суда, по мнению святителя Лионского, предсказывали еще ветхозаветные пророки (Пс. 17, 8; 98, 1; Ис. 2, 17; 11, 4; 50, 8. 9; Дан. 7, 13; Мал. 4, 1) 2), а также об этом вполне ясно и определенно учат новозаветные священные писатели (ср. Мф. 3, 12; 25, 41; 2 Солун. 1, 9. 10: Ап. 20, 11—15) 3).
Св. Ириней отказывается от решения вопроса о времени открытия всеобщего суда. Он лишь замечает, что Бог назначил день, в который Он праведно будет судить
1) Ibid., lib. V, cap. XXXV, 2 (Mg. VII, 336) col. 1220A; p. пер., стр. 524.
2) Ibid., lib. IV, cap. XXXIII, 1 (Mg. VII, 270) col. 1073A; p. пер., стр. 406; ibid., lib. IV, cap. XXXIII, 13 (Mg. VII, 274) col. 1082AB; p. пер., стр. 413.
3) Ibid., lib. IV, cap. ХХХIII, 1 (Mg. VII, 270) col. 1073A; p. пер., стр. 406; ibid., lib. IV, cap. ХХХIII, 11 (Mg. VII, 273) col. 1079C; p. пер., стр. 410—411; ibid., lib. V, cap. XXXV, 2 (Mg. VII, 336) col. 1220B; p. пер., стр. 525.
79 —
мир через Иисуса Христа (Дн. 17, 31) 1). Определенное знание дня и часа суда, — замечает он в другом месте,— Христос предоставил Богу Отцу 2).
Обстоятельства времени требовали, чтобы св. Ириней Лионский остановил свое внимание на субъекте всеобщего суда. И действительно, этому вопросу он отводит довольно много места в своих творениях. Имея в виду заблуждения Маркиона, св. Ириней говорит, что судящий Бог не будет другим Богом сравнительно с Тем, Который призывает нас к спасению. Это будет Один и Тот же Бог, наш Творец и Отец, Который, как об этом свидетельствует св. Евангелист (Мф. 22, 14), призывает к спасению и судит 3). Что Один и Тот же Бог является нашим Отцом и Судьей, этому, по словам святителя Лионского, учит нас также притча о пшенице и плевелах (Мф. 13, 40—43) 4). Утверждение Маркиона, что один Бог судит, а другой спасает, св. Ириней считает несостоятельным и по существу. И в самом деле,— полагает он,—если судящий Бог вместе с тем не добр, чтобы награждать, кого следует, и наказывать, кто этого заслуживает, то Он окажется несправедливым и немудрым Судьей. Если же добрый Бог, будучи таковым, не испытывает тех, которых Он награждает, то Он окажется несправедливым, а Его доброта будет слабой, потому что она не может сопровождаться спасением, если ей не предшествует суд. Мнение Маркиона, по которому Бог разделяется на две части, из которых одна признается доброй, а другая —судящей, несостоятельно также пс той причине, что оно совершенно уничтожает Бога. И
1) Ibid., lib. III, cap. XII, 9 (Mg. VII, I97) col. 903A; p. пер., стр. 260.
2) Ibid., lib. ΙΙ, cap. XXVIII 7 (Mg. VII, 158) col. 810B; p. пер., стр. 195; ibid., lib. II, cap. XXVIII, 6 (Mg. VII, 158) col. 808C; p. пер., стр. 193.
3) Ibid., lib. IV, cap. XXXVI, 6 (Mg. VII, 208) col. 1096AB; p. пер., стр. 426.
4) Ibid., lib. IV, cap. XL, 2 (Mg. VII, 287) col. 1113АВ; p. пер., стр. 439—440.
— 80 —
это потому, что судящий Бог, если Он вместе с тем не добр, не может быть Богом. Равным образом, и добрый Бог, если Он не имеет судебной силы, не будет Богом. Каким образом,—спрашивает, далее, св. Ириней,—Бог может быть премудрым Отцом всех, если Он не обладает достоинством Судьи? Если же Бог премудр, то Он испытывает тех, кого награждает. Если же Он испытывает награждаемых Им, то Ему принадлежит достоинство Судьи. Отличительное же свойство Судьи—справедливость, которая требует судебного приговора. Этот же последний, совершаясь без нарушения правосудия, утверждается на премудрости. Отсюда, Бог Своей премудростью должен превосходить всякую человеческую и ангельскую мудрость, потому что Он—Господь, Судья Праведный и Владыка над всеми. Он вместе с тем благ, милосерд, терпелив и спасает тех, кто этого заслуживает. Его благость не лишена справедливости, а премудрость—безошибочна, потому что Он спасает, кого должно спасти, и подвергает суду достойных его. И правосудие Божье не жестоко, потому что ему предшествует благость Божья. Таким образом, Тот Бог, Который оказывает благодеяния как праведным, так и злым, будет также и судить последних 1).
Свой будущий суд Бог Отец, по воззрению св. Иринея, совершит не Сам лично, а через Иисуса Христа2), Который сойдет с небес в силе Отца и произведет над всеми людьми суд 3); Христос, поэтому, и называется Судьей живых и мертвых 4). Второе пришествие Христа в том только и имеет свой смысл и значение, что Он
1) Ibid., lib. III, cap. XXV, 2—4 (Mg. VII, 223—224) col. 968BC— 969AB; p. пер., стр. 314—315.
2) Ibid., lib. IΙΙ, cap. XII, 9 (Mg. VII, 197) col. 903A; p. пер., стр. 960.
3) Ibid., lib. III, cap. V, 3 (Mg. VII, 180) col. 860A; p. пер., стр. 228.
4) Ibid., lib. III, cap. XII, 7 (Mg. VII, 196) col. 900С; p. пер., стр. 258; ibid., lib. III, cap. XII, 13 (Mg. VII, 199) col. 907B; p. пер., стр. 264; ibid., lib. IV, cap. XX, 2 (Mg. VII, 253) col. 1033A; p. пер., стр. 369.
81 —
во время его произведет мировой суд (ср. Мф. 10, 35; 13, 30; 25, 33; Лук. 17, 34. 35)1)
Определяя объект мирового суда, св. Ириней полагал, что ему будет подлежать весь человеческий род, который даст ответ за все свои поступки. По его мнению, уже в Пс. 18, 7 указано, что никто не может избежать праведного суда Божья 2). Он простирается на всех людей и никого из них не обходит 3). Если Господь говорит, что люди дадут в день суда отчет за всякое праздное слово (Мф. 12, 36), то все ложные учителя, которые влагают праздные речи в уши людей, должны будут явиться на суд и дать отчет в том, что они напрасно наизмышляли и налгали на Бога4).
Будущий всеобщий суд св. Ириней характеризует, как праведный, потому что во время него Господь воздаст каждому человеку, соответственно его делам5). Праведникам Он дарует нетление и вечный покой, а грешников пошлет во тьму 6), Христос, по словам святителя Лионского, снова придет во славе Отца, чтобы показать всем, созданным Им людям, правило справедливого суда (regulam justi judicii)7). Те, которые отвергают предлагаемое им Богом благо и не совершают нравственно добрых дел, будут, как замечает св. Ириней в другом месте, преданы праведному суду Божью (justum judicium Dei) 8). Что будущий всеобщий суд будет справедливым,—
1) Ibid., lib. V, cap. ХХVII, 1 (Mg. VII, 325) col. 1195BC; p. пер., стр. 504.
2) Ibid., lib. IV, cap. ХХXIII, 13 (Mg. VII, 274) col. 1082A; p. пер., стр. 412—413.
3) Ibid., LIB. V, cap. XXIV, 2 (Mg. VII, 321) col. 1187B; p. пер., стр. 497.
4) Ibid., lib. II. cap. XIX, 2 (Mg. VII, 142) col. 772AB; p. пер., стр. 163
5) Ibid., lib. II, cap. XXII, 2 (Mg. ΥΠ, 147) col. 781 C; p. пер., стр. 172.
6) Ibid., lib. IV, cap. VI, 5 (Mg. VII, 234) col. 989A; p. пер., стр. 330.
7) Ibid., lib. III, cap. XVI, 6 (Mg. VII, 206) col. 925C; p. пер., стр 802
8) Ibid., lib. IV, cap. ХХХVII, 1 (Mg. VII, 281) col. 1100A; p. пер. стр. 429.
82
это ясно видно из того, что во время него Господь поступит с содомлянами снисходительнее, чем с теми, которые видели Его чудеса и слышали Его учение, но не уверовали в Него1). В данном случае Он будет руководиться тем соображением, что кому дано больше оснований для уверования в Него и для праведной жизни, с тех следует и больше требовать2).
Что касается следствий всеобщего суда, то ими будет отделение праведников от грешников, причем первых Христос пошлет в небесное царство, а вторых—в вечный огонь3).
5. Учение о конечной судьбе мира.
Судьба мира в его целом, по представлению св. Иринея, находится в прямой зависимости от нравственного состояния людей. Это ясно видно из того, что во время земного царства Христа мир будет иметь другой вид, совершенно отличный от настоящего. Так как земное царство Христово будет иметь временный характер, то, естественно, возникает вопрос относительно конечной участи мира.
По мнению святителя Лионского, настоящий мир некогда прекратит свое существование. Мысль о прекращении этого мира св. Ириней высказывает довольно часто, именно в тех случаях, когда он говорит о всеобщем consummatio4). Иногда, впрочем, он раскрывает ее специально.
1) Ibid., lib. IV, cap. XXXVI, 4 (Mg. VII, 279) col. 1093В; p. пер., стр. 424.
2) Ibid., lib. IV, cap. XXVII, 2 (Mg. VII, 264) col. 1059A; p. пер.. стр. 392; ibid., lib. IV, cap. XXXVI, 4 (Mg. VII, 279) col. 1093BC; p. пер., стр. 424.
4) Ibid., lib. IV, cap. XXXIII, 11 (Mg. VII, 273) col. 1079C; p. пер., стр. 410; ibid., lib. IV, cap. XL, 2 (Mg. VII, 287) col. 1112D—1113AB; p. пер., стр. 439—440; ibid., lib. V, cap. ΧΧλ‘11, 1 (Mg. VII, 325) col. 1195C; p. пер., стр. 504.
4) Ibid., lib. II, cap. XXII, 2 (Mg. VII, 147) col. 782A; p. пер., стр. 172; ibid., lib. IV, cap. XXXIV, 2 (Mg. VII, 275) col. 1084B; p. пер., стр. 415.
— 83 —
Как разрушился Иерусалим, так,—говорит св. епископ Лионский,—должен уничтожиться и образ всего мира (figuram mundi universi oporteat praeterire)1). Что касается вопроса, каким образом наш мир некогда прекратит свое существование, то можно думать, что св. Ириней полагал, что он сгорит через огонь2).
Высказывая свою уверенность в том, что настоящий мир некогда прекратит свое существование, св. Ириней Лионский в то же время старался показать, что он разумеет под его прекращением. По его мнению, исчезновение неба и земли, согласно с свидетельствами Св. Писания (Пс. 101, 26—28; Ис. 51, 6; 1 Кор. 7, 31), нужно понимать в смысле изменения их нынешней формы3). Ни субстанция, ни сущность творения,—говорит он в другом месте,—не уничтожатся, но только внешний вид (σχῆμα) этого мира прекратит свое существование 4).
Таким образом, когда уничтожится наружная форма настоящего мира, наступит новое небо и новая земля (Ис. 65, 17; Ап. 21, 1 и дал.), в которых будет пребывать обновившийся человек, всегда о новом беседующий с Богом (erit coelum novum et terra nova , in quibus novus perseverabit homo, seinper nova confabulans Deo). Этот порядок вещей, по свидетельству пророка Исаии (66,22), будет продолжаться без конца5).
1) Ibid., lib. IV, cap. IV, 3 (Mg. VII, 231) col. 982В; p. пер., стр. 325.
2) Ibid., lib. IV, cap. XX, 11 (Mg. VII, 206) col. 1041 A; p. пер., cтр. 376.
3) Ibid., lib. IV, cap. IV, 3 (Mg. VII, 230) соl. 980AB; p. пер., стр. 323—324.
4) Οὐ γὰρ ἡ ὑπόστασις οὐδὲ ἡ οὐσία τῆς κτίσεως (lat.: neque substantia neque materia conditionis) ἐξαφανίζεται... ἀλλὰ τὸ σχῆμα παράγει τοῦ κόσμου τούτου... Ibid., lib. V, cap. XXXVI, 1 (Mg. VII, 336) col. 1221В; p. пер., стр. 526.
5) Ibid., lib. V, cap. XXXVI, 1 (Mg. VII, 336-337) col. 1222B; p. пер., стр. 526.
84
IV. Эсхатология св. Ипполита Римского.
Над раскрытием откровенного учения о конечной судьбе человечества и мира вообще немало потрудился св. Ипполит, епископ Римский († ок. 236), ученик св. Иринея Лионского. К сожалению, многие из его творений до нашего времени не дошли или сохранились в отрывках. Вероятно, последним и обусловливается то обстоятельство, что эсхатологические воззрения св. Ипполита, заключающиеся в дошедших до нас его сочинениях, не во всех своих пунктах отличаются полной определенностью.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности.
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти, бессмертии души и ее участи на том свете.
По учению св. Ипполита, по причине первородного греха, человеческое тело через смерть на некоторое время разрушается 1) Что же касается души человека, то она остается бессмертной (ἀθάνατος). В последнем пункте, по замечанию святителя Римского, христианское учение вполне совпадает с учением Платона 2). В известном смысле о бессмертии человеческой души также учили Пифагор и Эмпедокл, потому что и они не допускали ее уничтожения после смерти человека, а лишь переселение в тела других людей или животных 3).
1) Lib. adv. Graec. 2 (Migne, sor. gr., (1857), t. X) col. 800B.
2) Ibid. (Mg. X) col. 800A.
3) Philosoph., lib. I, 2—3 (Migne, ser. gr.,) (1863), t. XVI, p. 3, 12—15) col. 3025A-D—3028AB.
85 —
При определении учения св. Ипполита об участи душ после разложения их тел мы, прежде всего, должны иметь дело с представлениями святителя Римского о различных потусторонних местах и царствах вообще.
Св. Ипполит разделял вселенную на небо, землю и преисподнюю (τὰ ἐπουράνια καὶ τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ καταχθόνια) 1). По его воззрению, небо было закрыто от людей до тех пор, пока на него не взошел Христос 2). С момента же вступления Христа на небо церковь, по мнению св. Ипполита, передала жизнь на небо3).—По учению святителя Римского, часть земли некогда была раем, в котором пал Адам, будучи вовлечен в заблуждение 4). Это свое учение св. Ипполит настойчиво направляет против тех, которые помещают рай на небе, причем замечает, что даже и теперь можно видеть остатки этого рая5). По-видимому, св. Ипполит предполагал, что наступит время, когда рай, в котором некогда жил Адам, снова будет восстановлен, дабы служить местом жительства уже не для одного только Адама, но и для всех праведников 6)—Но особенно подробно св. Ипполит останавливается на описании преисподней. Здесь, по его представлению, собираются души грешников и праведников. По описанию святителя Римского, преисподняя — это место хаоса, в котором нет
1) In Dan. II, 30 (Bonwetsch und Achelis, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Hippolytus (Leipzig 1897). Erster Band. Hälfte 1, S. 100); p. пер. (Творениясв. Ипполита, епископа Римского (Казань 1898) вып. I, стр. 66 ср. De Antichr. 26 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 18—19); p. пер. (Творения св. Ипполита, епископа Римского (Казань 1899) вып. ΙΙ, стр. 22.
2) Πρῶτος νῦν φαίνεται ταῖς δυνάμεσι ταῖς οὐρανίαις σὰρξ ἀναβαίνουσα. XX. Psalm 23 (24), 7 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. ῖ 47).
3) XXIII. Prov. 24, 54c (30, 19с) (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 165).
4) De Antichr. 64 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 44); p. пер. вып. II, стр. 44; Demonstr. adv. Iud. 2 (Mg. X) col. 788BC.
5) IV. Gen. 2, 8 идал. (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, 5. 52—53).
6) XVII. Prov. 11, 30 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 163).
86 —
света , а лишь постоянная тьма . Она служит хранилищем душ. В ней находится особое царство—это геенна (γέεννα) неугасимого огня, в которой, как думает св. Ипполит, в настоящее время еще никого нет, так как она приготовлена для тех из грешников, которые будут назначены для помещения в нее в день последнего суда. Но воззрению святителя Римского, в настоящее время в преисподней находятся и праведники. Однако, они помещаются не в том отделении, в котором находятся грешники. В преисподнюю, по рассуждению св. Ипполита, ведет особый путь, причем в дверях в нее стоит архангел с войском из ангелов, которые определяют человеческим душам временные наказания (πρόσκαιροι κολάσεις), по их заслугам. Через дверь, ведущую в преисподнюю, проходят и праведники, которые ангелами отводятся в место света, где обитают праведники с первобытных времен. Тут они охотно пребывают, наслаждаясь созерцанием видимых благ и радуясь в ожидании еще больших благ, причем предполагаемым лучшим будущим они обладают, как настоящим. Тут они свободны от всякого зла, находятся в общении с праведными отцами и ожидают будущего покоя и вечной жизни на небе. Место здешнего их пребывания св. Ипполит называет лоном Авраама (κόλπον Ἀβραάμ).—Что же касается грешников, то они, пройдя через дверь, ведущую в преисподнюю, отводятся ангелами наказания на левую сторону. Они не свободно идут в назначенное для них место, но влекутся силой и как бы заключаются в оковы. Ангелы наказания их низводят как бы в самую геенну. Здесь они предощущают самый ад и созерцают огонь. Тут они, подобно окоченелому от стужи, содрогаются и уже в известной мере испытывают ожидающее их наказание. Тут они видят множество отцов и праведников и, созерцая последних, испытывают мучение. И это потому, что в преисподней грешников и праведников разделяет большая пропасть, в виду которой первые не могут перейти
87 —
к последним, а последние к первым. Все это, по представлению святителя Римского, называется адом, в котором пребывают души всех умерших людей до будущего воскресения мертвых1).
К душам умерших людей, пребывавшим в аду, по словам св. Ипполита, сходил Своей душой Христос, когда Его Тело лежало во гробе, а божество было у Отца 2). В другом месте святитель Римский говорит, что Иоанн Креститель, претерпев смерть от Ирода, первый возвестил о Христе и тем, которые находились в аду. «Он и там сделался предтечей, знаменуя, что и туда имеет сойти Спаситель, чтобы избавить души святых от руки смерти» 3). Христос, по рассуждению св. Ипполита, «был объявлен царем небесных, земных и преисподних и судьей всех: небесных—потому, что Слово родилось из существа Отца прежде всего; земных—потому, что Он сделался также и человеком среди людей, преобразуя Собой Адама; наконец, преисподних—потому, что Он и к мертвым был причислен, благовествуй душам святых и побеждая смерть (Своей) смертью»4).
Как уже видно из сказанного, души умерших людей, не исключая и душ праведников, в настоящее время находятся в преисподней. И Христос, нужно предполагать, по мнению святителя Римского, сходил во ад не с целью вывести оттуда праведников, а лишь для того, чтобы возвестить им об ожидающем их некогда освобождении от уз ада. Что души не только грешников, но и праведников после разложения их тел находятся в преисподней, об этом св. Ипполит учит вполне
1) Ср. Lib. adv. Graec. 1—2 (Mg. X) col. 706A—800C.
2) In Luc. (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 268 — 269).
3) De Antichr. 45 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 29); p. пер. вып. II, стр. 31.
4) Ibid. 26 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 18—19); p. пер. вып. ΙΙ, стр. 22; In Dan. IV, 11 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 210); p. пер. вып. I, стр. 120.
88
ясно , когда говорит о пребывании ψυχῶν δικαίων ὑπὸ γῆν 1) или выражается : καταχθόνια ὠνόμασαν « πνεύματα » ταρταρούχων ἀγγέλων καὶ ψυχὰς δικαίων 2).
Впрочем, в дошедших до нас сочинениях св. Ипполита встречаются и такие выражения, которые с его обычным представлением об участи душ непосредственно после смерти людей не согласуются. Так, о пророке Исаии святитель Римский говорит: «ты умер в мире, но продолжаешь еще жить во Христе (ἐν Χριστῳ ζῆς)»3), а о пророках—Исаии, Иеремии, Данииле и Иоанне—он замечает: «вы умерли вместе со Христом, но будете жить в Боге (ἀλλὰ ζὴσεται ἐν Θεῷ)... Вы уже имеете венец жизни и нетления, определенный вам на небесах (ἔχετε ἤδη τὸν τῆς ζωῆς καὶ ἀφθαρσίας ἀποκείμενον ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς στέφανον)»4). Затем, когда он сравнивает церковь с кораблем на море, то пишет: «псифари, помещенные вверху на мачте,—это ряды пророков, мучеников и апостолов, покоящихся в царствии Христовом (εἰς βασιλείαν Χριστοῦ ἀναπαυόμεναι)»5).—На основании сейчас приведенных выражений нужно думать, что св. Ипполит для пророков, мучеников и апостолов делал исключение, предполагая, что они непосредственно после своей кончины удостоились блаженной жизни на небе.
Утверждая, что души умерших праведников до всеобщего воскресения мертвых пребывают в преисподней, св. Ипполит в то же время учил, что они на том свете
1) LIV. Prov. 21, 52—66 (30, 17—31) (Bonwetsch und Achelis, ор. cit., Hälfte 2, S. 178).
2) In Dan. II, 29 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 98) p. пер. вып. I, стр. 66.
3) De Antichr. 30 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 20); p. пер. вып. II, стр. 24.
4) Ibid. 31 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 20—21); p. пер. вып. ΙΙ, стр. 24.
5) Ibid. 59 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 40); p. пер. вып. II. стр. 40—41.
— 89
узнают многое из того, чего сейчас не знают. Теперь,— рассуждает святитель Римский,—Бог многое, например, из вопроса о происхождении Своего Сына, сохраняет при Себе, но Он намерен открыть это святым, которые будут достойны видеть Его Лицо. Теперь мы знаем о способе рождения Сына Божия лишь то, что об этом нам возвестил Сам Логос. А Он нам сообщил только то, что Слово рождено, но «умолчал о самом способе рождения, намереваясь открыть его в определенное время» 1). В другом своем сочинении св. Ипполит говорит, что добродетельные люди в качестве награды воспримут мудрость (τὴν σοφίαν) и упокоятся в лучшей части преисподней, т.-е. в передней подземной зале (ἐν τῷ ὑπερκοσμίω παστῳ)2). По Philosophumena ’м святителя Римского, верующий достигнет небесного царства (βασιλείαν οὐρανῶν) и будет в нем соучастником Бога (ὁμιλητὴς Θεοῦ) и сочленом Христа (συγκληρονόμος Χριστοῦ); он там не будет подвергаться ни страстным желаниям, ни страданиям, ни болезням3).
Св. Ипполит на вопросе о царствии небесном или царствии Христовом, как месте будущего пребывания праведников, останавливается в своих дошедших до нас творениях довольно часто, но трактует о последнем не вполне определенно. Поэтому, трудно сказать, что собственно разумеет этот святитель под указанным царством. По-видимому, св. Ипполит не чужд был и хилиастических представлений, когда выражал желание заняться решением вопроса, «каково будет славное и небесное царство святых (τίς ἡ τῶν ἁγίων ἔνδοξος καὶ ἐπουράνιος βασιλεία), царствующих вместе со Христом (τῶν συμβασιλευόντων τῷ
1) Contra haeres. Noet. 16 (Mg. X) col. 825BC; p. пер. вып. II, стр. 113—114.
2) IV. Prov. 4, 8 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 158).
3) PhiIosoph., lib. I, 34 (Mg. 16, p. 3, 545) col. 3454B.
90
Χριστῷ »1) Подобно тому, как иудейский праздник Пасхи предуказывал на пасхальный агнец, который был заклан в Лице Христа, так и праздник Пятидесятницы, по воззрению святителя Римского, предуказывает на небесное царство (τῶν οὐρανῶν βασιλείαν)2). Изъясняя сон Навуходоносора, св. Ипполит замечает, что после разных мировых царств, наконец, «Бог небесный воздвигнет царство, которое не поколеблется во веки; и (это) царство Его не будет передано другому народу: оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» 3). Царство, в котором Христос вместе со святыми будет господствовать, у св. Ипполита неоднократно называется неразрушимым и вечным (ἀκατάλυτον καὶ αἰώνιον)4). Это вечное царство (αὶώνιον βασίλειον)», по словам святителя Римского, «Судия и Царь Царей... отдаст Своим рабам пророкам, мученикам и всем боящимся Его» 5). Ученики Господа, ожидавшие времени своего спасения, по воззрению св. Ипполита, были призваны в царство, свободное от всех страданий, когда Христос сказал: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство» (Мф. 25, 84)6). Кажется, однако, что хилиастические представления св. Ипполита обнаруживаются в большей мере в том случае, когда он в благословении Исааком Иакова находит указание на будущее царство, в котором святые вместе со Христом будут царствовать и праздновать истинную субботу 7). Но
1) De Antichr. 5 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 7); p. пер. вып. ΙΙ, стр. 13.
2) In Elc. et Annam IV (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 122).
3) In Dan. II, 7 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 60); p. пер. вып. I, стр. 45—46.
4) Кромеуказанного места, см. ibid . IV, 10 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 208); p. пер. вып. I, стр. 119, ипримечание 3.
5) Ibid. IV, 14 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 222); p. пер. вып. I, стр. 125.
6) XXXIV. Gen. 49, 16 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 64).
7) VII. Ibid. 27 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 54).
— 91
особую симпатию к хилиастическим воззрениям святитель Римский, по-видимому, проявляет в следующих выражениях. «Первое пришествие нашего Господа во плоти (ἔνσαρκος)... совершилось, говорит он,... от Адама в 5500 году И так, чтобы наступила суббота, отдохновение (κατάπαυσις) святой день, в который почи Бог от всех дел Своих, яже сотвори, необходимо нужно, чтобы 6000 лет исполнились (πληρωθῆναι), потому что суббота есть образ и подобие (τύπος καὶ εἰκών) того имеющего открыться царства святых, когда они, как говорит Иоанн в Апокалипсисе, будут царствовать вместе со Христом, когда Он придет с небес. В самом деле, день Господень, яко тысяча лет (Пс. 89, 5; 2 Петр. 3, 8). Итак, если Бог сотворил все в шесть дней, то должны исполниться и 6000 лет. Но они еще не исполнились, когда говорит Иоанн: пять пало и един есть, т.-е. шестой, а другий еще не прииде (Ап. 17, 10), разумея под этим другим седьмой, в который и будет отдохновение (κατάπαυσις)... Таким образом, от рождества Христова нужно отсчитать 500 лет, остающиеся до исполнения 6000,—и тогда будет конец (τέ ? ος)». В течение последних 500 лет «будет проповедано евангелие всему миру, а затем, по истечении шестого дня (ἡμέρα = χίλιοι .), прекратится и настоящая жизнь» 2).
1) Рождение Христа в 5500 году от начала мира св. Ипполит доказывает экзегетическим путем. В Исх. 25, 10 содержится, говорит он, Божье повеление Моисею сделать ковчег длиной в 21/2 локтя, шириной в 11/2 локтя и высотой в 11/2 локтя; в данном случае в общем счете получается 51/2 локтей. В этом счете святитель Римский видит указание на 51/2 тысячелетий, по истечении которых Искупитель должен был воспринять от Пресвятой Девы Марии плоть. Далее, св. Ипполит обращает внимание на замечание евангелиста Иоанна, что был шестой час, когда Пилат осудил Иисуса (Ио. 19, 14); шестой же час означает половину дня. Если день Господень ранен 1000 лет, то, по рассуждению св. Ипполита, половина дня равна 500 годам (In Dan. IV, 24 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 244—246); p. пер. вып. I, стр. 133—134).
2) In Dan. IV, 23—24 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1 S. 240—248); p пер. вып. I, стр. 132— 134.
— 92 —
Однако, несмотря на последние рассуждения, св. Ипполит, по мнению одного западного исследователя1), не может считаться хилиастом в собственном смысле. Дело в том, что он в своих творениях нигде не говорит, что будущая суббота покоя продолжится 1000 лет. Он не учит, что ожидающее праведников царство Божье будет состоять в том, что Христос с живущими на земле будет царствовать 1000 лет. Наоборот, в своих сочинениях, как мы видели, он не один раз называет царство Божье вечным.
Что касается учения св. Ипполита о потусторонней участи грешников, то оно в значительной мере уже вытекает из изложенных выше его представлений об аде. Впрочем, святитель Римский в разных местах своих творений не уклонялся и от специальной трактации об участи грешников на том свете. Так, он улил, что неверующие и грешники не войдут в царство Божье и не будут вписаны и книгу жизни со свв. отцами и патриархами 2). Над ними будет иметь власть вторая смерть, которая есть «озеро огненное, горящее (ἡ λίμνη τοῦ πυρὸς τοῦ καιομένου)»3). Свои грехи, по словам св. Ипполита, они несут во ад 4), который никогда не перестанет принимать их души5). Ссылаясь на Пс. 77, 49, святитель Римский утверждал, что в аду находятся злые ангелы, которые, как исполнители божественного гнева, причиняют грешникам страдания6) Это— ἄγγελοι ταρταροῦχοι7) или ἄγγελοι κολασταί 8).—
1) Prof. L. Atzberger, op. cit.. S. 279—280.
2) Demonstr. adv. lud. 7 (Mg. X) col. 792CD.
3) De Antichr. 65 (Bonwestch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 45); p. пер. вып. II, стр. 45.
4) XIV. Prov. 7, 27 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 162).
5) XXI. Ibid. 24. 544 (30, 19d) (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 164).
6) XXIII. Psalm 77 (78), 49. (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 149).
7) In Dan. II, 29 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 98); p. пер. вып. I. стр. 66; Philosoph., lib. X, 34 (Mg. XVI, p. 3, 545) col. 3454B.
8) Lib. adv. Graec. 1 (Mg. X) col. 797B.
— 93 —
Определяя сущность потусторонних наказаний, св. Ипполит высказывается в том смысле, что они будут состоять в огненных мучениях1).—Касаясь вопроса о степени продолжительности будущих наказаний, св. Ипполит решительно учит о вечности последних. Он в разных местах своих творений говорит, что грешников ожидает вечный огонь и нескончаемые мучения (πῦρ τὸ αἰώνιον καὶ κολάσεις αἰ ἀκατάπαυαται)2), вечный и неугасимый огонь (ἄσβεστον καὶ ἀκοίμητον πῦρ)3), вечное наказание (ἡ αἰώνιος κόλασις)4) и т. д.— Св. Ипполит в своих творениях точно не определяет момента, с которого начинаются адские мучения грешников. По-видимому, большей частью он рассуждает об огненных мучениях грешников в аду в связи с будущим пришествием Христа и конечным судом5). Впрочем, в творениях святителя Римского есть и такие места, в которых он говорит о потусторонних наказаниях грешников, но не указывает времени, когда они наступят6). Одним словом, св. Ипполит поданному вопросу не высказывается вполне определенно.
1) De Antichr. 5 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 7). p. пер. вып. II, стр. 13; in Dan. IV, 12 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 214); p. пер. вып. I, стр. 122; XVII. Prov. 11, 30 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 183) идруг. м.
2) In Dan. IV, 12 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 214); p. пер. вып. I, стр. 122.
3) Ibid. IV, 58 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 334): p. пер . вып. I, стр. 168-
4) Ibid. IV, 56 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1; S. 328); p. пер. вып. I, стр. 165. 166; ibid . IV, 60 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 338); p. пер. вып. I, стр. 170.
5) Ibid. IV, 58 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 328); pпор. вып. 1, стр. 168; ibid . IV, 56 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 334); p. пер. вып. I, стр. 165—166.
6) Ibid. IV, 60 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 338); p. пер. вып. I, стр. 170; ibid . IV, 12 (Bonwetsch und AcIells, op. cit., Hälfte 1, S, 214); p. пер. вып. I, стр. 122 и друг. м.
— 94 —
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и
мира вообще.
1. Учение о втором пришествии Христа.
В своем сочинении «о Христе и Антихристе» св. Ипполит Римский говорит, что Христос «вознесся на небеса, воссел одесную Бога и Отца и снова при кончине мира имеет явиться в качестве Судьи (καὶ πάλιν ἐπὶ τῇ συντελεία τοῦ κόσμου κριτοῦ φανερουμένου)»1)
Второе пришествие Христа, по словам святителя Римского, указано в Писании2). Оно будет не таким, каким было первое3). Если первое пришествие Христа было лишенным чести (ἄτιμος), по причине Его уничижения (διὰ τὸ ἑξουθενηθῆναι), согласно пророчеству Исаии (53, 2—3), то второе будет во славе (ἐν δοξῃ), потому что некогда Христос «придет с небес с силой ангелов и славой Отчей» (ср. Ис. 33, 17; Дан. 7, 13 —14), «как Сын Бога и человека, как небесный Судья мира»4). В первый раз Христос приходил, как простой лишь человек (ὡς εὐτελής ἄνθρωπος μόνον); некогда же Он придет, как Судья всего мира. Тогда Он приходил спасти (σῶσαι) человека, теперь же придет для наказания всех грешных и нечестивых 5). Если в книге Бытия (49, 10) Христос называется чаянием языков, то это, по мнению св. Ипполита, указывает на второе пришествие Сына Божия с неба «в силе (ἐν δυνάμει)»6), когда те, которые не
1) De Antichr. 46 (Bontwstsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 29); p. пер . вып . ΙΙ , стр . 31.
2) Ibid. 44 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 28); p. пер. вып . II, стр. 30.
3) In Dan. IV. 18 (Bonwetsch und Achelis, op. cit, Hälfte 1,S. 232); p. пер . вып . 1, стр. 129.
4) De Antichr. 44 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 28); p. пер ., вып . ΙΙ, стр. 30; In Dan. IV, 10 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte, 1, S. 208); p. пер . вып . I, стр. 120.
5) In Dan. IV, 18 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte I, S. 232); p. пер . вып . I, стр. 129.
6) De Antichr. 9 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 10); p. пер . вып . II, стр. 15.
— 95
узнали Христа , как воплотившегося Сына Божия , узнают Его , как Судью , грядущего во славе ( ἐπιγνώσονται αὐτὸν κριτὴν ἐν δόξῃ παραγινόμενον) 1). В словах же Св. Писания: «Якоже молния исходит от восток и является до запад: тако будет пришествие Сына Человеческаго» (Мф. 24, 27) святитель Римский видит указание на то, что Христос во второй раз «придет видимым и осязаемым образом (εὐδὴλως καὶ προφανῶς), с силой и славой Отца Небеснаго» 2). «Небесный царь откроется тогда всем не в каком-либо чуждом образе, подобно тому, как Он был видим на горе Синайской, и не в столпе облачном, подобно тому, как Он был открыт на вершине горы (Евр. 8, 5; Исх. 25, 40; 39, 9. 10), но придет с силами и тьмой ангелов, как сущий во плоти Бог и человек (ἔνσαρκος θεὸς καὶ ἄνθρωπος)»3).
Так как св. Ипполит, как мы уже знаем, учил, что конец настоящего мира последует через 500 лет после рождения Христа от Пресв. Девы Марии, то ясно, что второе пришествие Сына Божья, по его представлению, должно было произойти сравнительно в скором времени, именно чрез несколько столетий после Его воплощения. Впрочем, касаясь вопроса о дне второго пришествия Христа, святитель Римский замечал, что о нем хотели узнать и ученики Господа, но «Он скрыл от них этот день, дабы заставить их,—а равно и всех нас,—позаботиться о будущем и ожидать небесного Жениха всякий день,— дабы они из-за промедления обещанного Господом, коснящу Ему, не впали в беспечность и, уснувши, не лишились вечной жизни» 4).
1) Serm. in Cant. (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 83).
2) In Dan. IV, 18 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1. S. 232); p. пер. вып. I, стр. 128—129.
3) Ibid. IV. 10 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1. S. 208); p. пер. вып. I, стр. 119—120.
4) Ibid. IV, 16 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 224); p. пер. вып. I, стр. 126.
— 96 —
Однако, скрыв от учеников и Своих последователей вообще день Своего второго пришествия, Господь в то же время указал те признаки, по которым всякий легко может узнать его1). Так, прежде всего, до второго пришествия Сына Божия, согласно с свидетельством Св. Писания (Мф. 24, 8. 14; Мк. 13, 7. 10), будет проповедано во всем мире—во свидетельство всем языком—евангелие2), дабы таким образом .умножилось число званных святых» 3). Далее, в начале последней седмицы настоящего мира явятся пророки Энох и Илия. «Они, одетые во вретища, в течение половины этой седмицы 4), т.-е. в продолжение 1260 дней, будут проповедывать, возвещая покаяние народу и всем язычникам»5). Они будут предтечами второго пришествия Христа, как св. Иоанн Креститель был предтечей Его первого пришествия 6). Явившись на землю, «они будут возвещать имеющее наступить явление Христа с небес, а также произведут знамения и чудеса, дабы хотя этим путем тронуть и обратить людей к раскаянию, в виду усилившегося их бесчестия и беззакония»7). Наконец, по истечении 1260 дней последней мировой седмицы
1) Ibid. IV, 17 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 226); p. пер. вып. I, стр. 126—127.
2) Ibid. IV, 17 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hällte 1, S. 230); p. пер. вып. I, стр. 128.
3) Ibid. IV, 24 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 246); p. пер. вып. I, стр. 134; ibld. IV, 22 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, 8. 240); p. пер. вып. I, стр. 132.
4) Половина данной седмицы=31/2 годам. Так как здесь берется за расчет лунный месяц в 30 дней, принятый в еврейском времясчислении, то 31/2 года, действительно, и равняются 1260 дням, как обозначает в данном случае и св. Ипполит (Творения св. Ипполита, еп. Римского. Изд. Казан. Дух. Академии. Вып. II (Казань 1899), примеч., стр. X).
5) De Antichr. 43 (Bonwetsch und Achelis, ор. cit., Hälfte 2, S. 27—28); p. пер. вып. ΙΙ, стр. 30.
6) Ibid. 44—46 (Bonwetsch. und Achelis, op. cit., Hälfte 2, 28—29); p. пер. вып. ΙΙ, стр. 30—31.
7) Ibid. 46 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 29—30); p. пер. вып. ΙΙ, стр. 31—32.
— 97
явится Антихрист, который умертвит пророков Эноха и Илию за то, что они не пожелают воздать ему славу1) Об Антихристе св. Ипполит трактует как в специальном о нем сочинении, так и в своем комментарии на книгу пророка Даниила. В сочинении «о Христе и Антихристе» святитель Римский на основании Св. Писания старается показать: «каково и откуда будет пришествие Антихриста, в какой определенный срок и время откроется беззаконник, откуда он будет и из какой народности, каково его имя, которое при помощи числа определяется в Писании, каким образом он произведет в людях обольщение, собравши их от конца земли, как воздвигнет он гонение и преследование против святых» и проч.2)—Вообще Антихрист проявит желание во всем уподобиться Сыну Божию. «Лев—Христос, лев и Антихрист; царь— Христос, царь,—хотя земной,—и Антихрист. Явился Спаситель, как Агнец (Ио. 12, 31;14, 30; 16, 11; Ап. 5, 6 и сл.); подобным же образом и тот покажется, как Агнец, хотя внутри будет оставаться волком. Обрезанным пришел Спаситель в мир, подобным же образом явится и тот. Послал Господь апостолов ко всем народам (Мф. 28, 19), подобным же образом пошлет и он своих лжепророков. Собрал Спаситель своих рассеянных овец (Ио. 11, 52), подобным же образом соберет и тот рассеянный иудейский народ. Дал Господь печать верующим в Него (Мф. 28, 19; Ап. 7, 2; 9, 4), подобным же образом даст и тот. В образе (ἐν σχὴματι) человека явился Господь (Ап. 16, 2; Филип. 2, 7), в образе (ἐν σχὴ ματι) человека придет и он. Воскресил и показал Спаситель Свою святую плоть, как храм (Ио. 2, 19); восстано-
1) Ibid. 47 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 30); p. пер. вып. II, стр. 32.
2) Ibid. 5 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 7); p. пер. вып. ΙΙ, стр. 13.
— 98 —
вит также и он каменный храм в Иерусалиме» 1). Как Христос произошел из колена Иуды, так и Антихрист имеет произойти из колена Дана (Быт. 49, 16—17; Вт. 33, 32; Иерем. 8, 16) 2). На его пришествие указал пророк Даниил (2, 31—35)3), а относительно его высокомерия и надменности свидетельствуют пророки—Исаия (10, 12—17; 14, 4—21) и Иезекииль (18, 2—II)4). Св. Ипполит, подобно св. Иринею5), подыскивает соответствующие числовому имени Антихриста—666—наименования, каковы, например, Титан (Τειτάν) Еванфас (Εὐάνθας) и Латинянин (Λατεῖνος)6). По словам святителя Римского, Антихрист «призовет к себе весь (иудейский) народ из всех стран, в которых он рассеян; он присвоит их себе, как своих собственных детей; возвестит им, что он восстановит страну и восставит их царство и храм,—и все это с той целью, чтобы они поклонились ему, как богу» 7). «Он присоединит к себе народ, всегда пребывающий неверным Богу, и, по его просьбам, начнет преследовать святых, как врагов и их противников» 8). «О гонении и притеснении, имеющих быть на церковь со стороны противника (ὐπὸ τοῦ ἀντικειμένου), говорил, по словам св. Иппо-
1) Ibid. 6 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 8); p. пер. вып. II, стр. 13—14.
2) Ibid. 14—15 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 11—12); p. пер. вып. II, стр. 16—17.
3) Ibid. 19 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 14—15); p. пер. вып. H, стр. 19.
4) Ibid. 16—18 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 12—14); p. пер. вып. II, стр. 17—19.
5) Стр. выше 67.
6) De Antichr. 50 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 34); p. пер. вып. II, стр. 35.
7) Ibid. 54 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 36); p. пер. вып. II, стр. 37; ibid . 52 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 35); p. пер. вып. II, стр. 36 и друг.
8) Ibid. 56 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 37); p. пер. nun. II, стр. 38; ibid . 50 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 33); p. пер. вып. ΙΙ, стр. 35; ibid . 58 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 38—39); p. пер. вып. II, стр. 39—40.
99
лита, также и Иоанн» (ср. Ап. 12, 1—6; 13—17) 1). Время, в продолжение которого будет царствовать Антихрист, святитель Римский, ссылаясь на Дан. 1, 27, исчисляет в три с половиной года2) или 1290 дней3).
Когда все указанные признаки будут налицо, тогда и наступит второе пришествие Христово. Тогда, согласно свидетельству пророка Даниила (7, 13—14), и придет Камень поразивший истукана и сокрушивший его, и низложивший всех царей и давший царство Вышнего святым 4). Тогда и явится с небес «Сын Божий, на Которого мы надеемся (2 Кор. 1, 10) и Который навлечет сожжение и праведный суд на всех тех, которые не уверовали в Него»5), а также уничтожит власть и силу «противника (ἀντικείμενον)» (—Антихриста)6). Вычисляя еще более точно день второго пришествия Христова, св. Ипполит обращает внимание на выражение пророка Даниила: «блажен, кто ожидает и достигнет тысячи трехсот тридцати пяти дней» (12, 12) и на основании него утверждает, что после падения Антихриста до пришествия Христа еще пройдет 45 дней полнейшего беззакония 7).
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых.
Со вторым пришествием Христа на землю находится в тесной хронологической связи воскресение мертвых. О
1) Ibid. 60 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 40—41); p. пер. вып. ΙΙ, стр. 41.
2) In Dan. IV, 14 (Bonwetsch und Achelis, op. cit, Hälfte I, S. 222); p. пер. вып. I, стр. 124.
3) Ibid. IV, 55 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 324); p. пер. вып. II, стр. 164.
4) De Antichr. 26 (Bonwetsch und Achelis, op. cit. , Hälfte 2, S. 18); p. пер. вып. I, стр. 22.
5) Ibid. 64 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 44); p. пер. вып. II, стр. 44.
6) In Dan. IV, 14 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 222); p. пер. вып. I, стр. 125.
7) Ibid. IV, 55 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 326); p. пер. вып. I, стр. 164.
— 100 —
будущем воскресении нашего чувственного тела, по словам св. Ипполита, учил еще Гераклит, считавший Бога причиной этого воскресения 1). Но ясное и определенное учение о воскресении мертвых содержится в Св. Писании (Дан. 12, 2; Ис. 26, 19; Ио. 5, 25; Еф. 5, 14; 1 Солун. 4, 13— 17; Ап. 20, 6)2). Сила воскрешать умерших дарована Иисусу Христу, Который, будучи воскресением и жизнью (ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή), Сам в третий день воскрес из мертвых 3) сделавшись таким образом начатком (ἀπαρχὴ) воскресения всех людей 4).
Христианское учение о воскресении мертвых св. Ипполит довольно обстоятельно изъясняет в своем трактате—Liber adversus Graecos. Здесь он говорит, что души умерших грешников остаются в аду до времени, когда Бог, воскресивши всех людей, снова соединит их с прежними телами. Если кто этому не верит,—замечает святитель Римский,—то пусть он научится не оставаться в данном случае неверным. Если мы принимаем учение Платона, что душа создана Богом и бессмертна, то мы должны также верить, что Бог в состояния составить человеческое тело из его элементов, снова оживить его и сделать бессмертным. Так как о Боге нельзя сказать, что Он одно может сделать, а другого нет, то мы должны верить, что Он сможет воскресить человеческое тело. Если последнее разлагается на свои составные части, то это еще не значит, что оно таким образом уничтожается. Принявши его остатки, земля хранит их. Они смешиваются с плодоносной землей и растворяются в цветы. Семя сеется голым зерном, а
1) Philosoph., lib. IX, 10 (Mg. ХVII. р. 3, 442-443) col. 3371 ВС.
2) De Antichr. 65—66 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 45—46); p. пер. вып. II, стр . 44—46.
3) Contra haers. Noet. (Mg. X) col. 823C; p. пер. вып. IL, стр . 115.
4) De Antichr. 46 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 29); p. пер. вып. II, стр. 31 cp. In Dan. IV, 11 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 214); p. пер. вып. I, стр. 122.
101 —
через всемогущее Божье слово оно растворяется и пышно вырастает из земли, однако не раньше, как успеет разложиться и смешаться с землей. Так мы удостоверены и относительно воскресения человеческих тел. Если последние, по причине первородного греха, на некоторое время и разрушаются, то они полагаются в землю как бы в плавильную печь, дабы снова восстановиться. Однако, не такими должны воскреснуть человеческие тела, какими они были раньше, но чистыми и нетленными. Каждому телу будет дарована его собственная душа. И когда последняя воспримет свое тело, то не опечалится, а возрадуется, потому что она, будучи сама чистой, станет пребывать и в чистом теле. Душа с радостью снова воспримет свое тело, потому что она в свое время с ним странствовала на земле, не испытывая от этого ничего вредного. Впрочем, это относится лишь к душам умерших праведников, так как грешные души воспримут свои тела, которые окажутся не свободными от страданий и болезней и чуждыми прославления 1).—В данном случае св. Ипполит ясно учит о всеобщем характере воскресения мертвых, тожестве воскресших тел с телами людей в момент их смерти и свойствах воскресших тел как добрых, так и злых. Подобные мысли святитель Римский высказывает и в своем комментарии на книгу пророка Даниила. Изъясняя выражение св. пророка: «мнози от спящих в земней персти восстанут, сии в жизнь вечную, а онии во укоризну и в стыдение вечное. И смыслящий просветятся аки светлость тверди, и от праведных многих аки звезды во веки, и еще» (12,2—3), св. Ипполит пишет: «кто же эти спящие в земней персти, как не тела людей, которые, восприняв свои души, восстанут (ἀναστήσονται)—одни чистыми (καθσρά), прозрачными (διαυγῆ) и светлыми (λάμποντα), аки светлость тверди, в воскрешение
1) Lib. adv. Graec. 2 (Mg. X) col. 800A—C.
— 102 —
живота; другие же с присущей им плотностью (αὐτάρκη)— для вечного наказания в воскрешение суда» 1). Подтверждение данных мыслей св. Ипполит находит в Св. Писании (1 Кор. 3, 15; Мф. 13, 43; Еф. й, 14: Ио. 5,25.29; Ис. 14,20— 21) 2).—Что касается свойств будущих воскресших тел, то о них св. Ипполит говорит и в своих Philosophumena ’х. Здесь он замечает, что правоверные некогда удостоятся вместе с душой также бессмертного и нетленного тела (ἀθάνατον τὸ σῶμα καὶ ἀφθαρτον ἅμα ψοχῇ)3). В другом своем сочинении святитель Римский говорит, что воскресшие праведники будут подобны ангелам; они будут пребывать в нетлении, бессмертии и неувядаемости. Они не будут расти, спать, голодать, утомляться, страдать, умирать, не окажутся пронизанными гвоздями и копьем, не будут потеть и истекать кровью. Такими свойствами уже теперь обладают ангелы и души, отделившиеся от своих тел, потому что они отличаются от тварей всего мира, видимых нами и подлежащих тлению4).
3. Учение о всеобщем суде.
Целью второго пришествия Сына Божия на землю является мировой суд. В виду этого св. Ипполит называет Христа судьей всех (κριτὴς πάντων): небесных, земных и преисподних 5), небесным Судьей мира (ἀπ ’ οὐρανῶν κριτὴς τῷ κόσμῳ)6), пришедшим с небес Судьей Судей и Царем
1) In Dan. IV, 56 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 326—328); p. пер. вып. I, стр. 165.
2) Ibid. IV, 56 (Bonwetsch und Achelis, op-cit., Häfte I, S. 328—330); p. пер. виа.І, стр. 165—166 cp. De Antichr. 65—66 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 45—46); p. пер. вып. II, стр. 44—45.
3) Philosoph., lib. X, 34 (Mg. XVI, p. 3, 544—515) col. 3451B.
4) Ex serm. de resurr. (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 254).
5) De Antlchr. 26 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 18—19); p. пер. вып. II, стр. 22.
6) In Dan. IV, 10 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte l, S. 210); p. пер. вып. I, стр. 120.
103 —
Царей ( ἀπ ’ οὐρανοῦ τοῦ κριτοῦ τῶν κριτῶν καὶ τοῦ βασιλέω ; τῶν βασιλέων) 1), Судьей живых и мертвых ( ζώντων καὶ νεκρῶν κριτής) 2) и проч . О будущем мировом суде святитель Римский довольно подробно рассуждает в своем трактате— Liber adversus Graecos . Здесь, между прочим, он замечает, что все,—как праведники, так и грешники,—будут приведены на суд, который произведет Бог Слово, так как Ему Отец «отдал весь суд» (Ио. 5, 22). Не Минос и Радамант произведут окончательный мировой суд, а Тот, Кого прославил Отец. Он произведет праведный суд воздавши каждому по заслугам, так что все люди, ангелы и демоны, явившиеся на Его суд, единогласно исповедают; «праведен суд Твой» (ср. Пс. 118, 137). И в самом деле, на этом суде будет обеспечено праведным вечное наслаждение, а злым—вечное наказание 3). Что на будущем суде каждому будет воздано по его заслугам, об этом св. Ипполит говорит и в своем комментарии на книгу пророка Даниила, когда замечает, что небесный Судья Судей после воскресения достойным дарует вечное царство (τὸ αἰώνιον βασίλειον), а для нечестивых вожжет вечный, неугасимый огонь (ἀσβεστον καὶ ἀκοίμητον πῦρ ἐξαφθῇ)4).
4. Учение о конечной судьбе мира.
Ожидаемый всеобщий суд будет служить гранью между настоящим миром с нынешней историей человечества и будущим миром с ожидаемой судьбой всей твари. В своем комментарии на книгу пророка Даниила св. Ип-
1) Ibid. IV, 14 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 222); p. пер. вып. I, стр. 115; ibid . IV, 24 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 248); p. пер. вып. I, стр. 135 cp. ibid . IV, 58 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte l, S. 334); p. пер. вып. I, стр. 168.
2) Contra haeres. Noefc. 18 (Mg. X) col. 829B; p. пер. вып. II, стр. 116.
3) Lib. adv. Graec. 3 ((Mg. X) col. 800CD—801AB.
4) In Dan. IV, 58 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 334); p. пер. вып. I. стр. 168; ibid . IV, 14 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 222); p. пер. вып. I, стр. 125.
— 104 —
полит ставит вопрос, что именно будет после воскресения (ὁποῖα τὰ μετὰ τὴν ἀνάστασιν)1), и тут же несколько ниже спешит заметить, что «это увидят только достойные»2). И только в трактате—Liber adversos Graecos он достаточно подробно изображает состояние грешников и праведников в другом мире. Первых там ожидает неугасимый, бесконечный огонь и огненный червь, который сам никогда не умирает и не разрушает человеческого тела, хотя и причиняет ему беспрестанное мучение. Там грешникам не доставляет никакого покоя сон, не облегчает их скорбей ночь и не освобождает от наказаний смерть. Что же касается праведников, то они в другом мире будут наслаждаться небесным царством, в котором нет ни сна, ни скорби, ни порчи, ни заботы, ни ночи, ни дня, ни солнца, ни луны, ни созвездия, ни восхода Ориона, ни блуждания звезд, ни недоступной земли, ни морского шума. Там праведники будут в состоянии перешагнуть самое море, если только оно будет течь. Там не будет более недоступно для людей небо, а также путь, ведущий к нему, не останется непроходимым. Там земля не будет невозделанной и исполненной для людей трудов, но украсится плодами. Там не будут рождаться звери, а также не будет увеличиваться число людей, но навсегда останется одно и то же число праведников вместе с ангелами и духами3).—Из сказанного видно, что переход из нынешнего мира в другой, по мнению св. Ипполита, предполагает не только религиозно-этическую, но и космически-физическую перемену. Эта последняя, по воззрению святителя Римского, совершится через сожжение (ἐκπύρωσις). Еще греческие философы—Эмпедокл и стоики—ожидали
1) Ibid. IV, 59 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 334); p. пер. вып. I, стр. 168.
2) Ibid. IV, 60 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 1, S. 338); p. пер. вып. I. стр. 169.
3) Lib. adv. Graec. 3 (Mg. X) col. 801BC.
— 105 —
такого мирового пожара1) Речь о будущем миросожжении св. Ипполит находит у псалмопевца (18, 7) 2). О том, каким образом весь мир будет истреблен огнем (τίς ἡ τοῦ σύμπαντος κόσμου ἐκπύρωσις)3), святитель Римский обещает говорить в своем сочинении «о Христе и Антихристе». Однако, трактация св. Ипполита по данному вопросу, не отличаясь ясностью и определенностью, носит лишь случайный характер.
Как видим, эсхатологические воззрения указанных христианских писателей еще не имеют характера вполне строгой системы. Все церковные писатели,—исключая апостольских мужей, эсхатология которых, как это мы уже отметили и выше, очень проста и безыскусственна,—касаются тех или иных эсхатологических вопросов, главным образом, с апологетическими или полемическими целями. Отсюда, естественно, они уделяют достаточно внимания только тем вопросам 4), которые в их время подвергались сомнению или отрицанию со стороны язычников или еретиков. При таком положении вещей, разумеется, у них не могло быть мысли о целой в полной мере обстоятельной системе эсхатологических воззрений. И только александрийская богословская школа, сообщив христианской эсхатологии новое, сравнительно с прежним, направление, в лице Оригена, дала научную эсхатологическую систему. Так как появление последней в известной степени было подготовлено воззрениями по эсхатологическим вопросам Климента Александрийского, то их изложение мы и предпошлем эсхатологической системе Оригена.
1) Philosoph., lib. 1, 3 (Mg. XVI, р. 3, 14—15) col. 3028В.
2) De Antichr. 64 (Bonwetsch und Achelis, op. cit., Hälfte 2, S. 44); p. пер. вып. II, стр. 44.
3) Ibid. 5 (Bonwetsch und Achelis, op. cit, Hälfte 2, S. 7); p. пер. вып. II, стр. 13.
4) Напр., о всеобщем воскресении мертвых.
106
V. Эсхатология Климента Александрийского.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности.
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души.
По учению Климента, пресвитера Александрийского, человек состоит из двух существенных частей. Высшая его составная часть называется душой (ἡ ψυχή), а низшая— телом (τὸ σῶμα)1). Они находятся между собой во взаимной связи, которая нарушается между ними только во время смерти человека (θάνατος — διάλυσις ὅντα τῶν πρὸς τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς δεσμών)2). Отсюда, человеческая смерть по своему существу есть χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος 3). Ее действительной причиной, по замечанию Климента, является грехопадение наших прародителей. Через грех, говорит он, Адам променял, хотя и не навсегда, свое бессмертие на смерть (ἑφ ’ οἷς θνητὸν ἀθανάτου βίον , ἀλλ ’ οὐκ εἰς τέλος , ἀνθυπηλλάξατο)4).
Трактуя о телесной смерти человека, Климент в то же время учит о бессмертии его души. Он полагает, что
1) Strom., lib. IV, cap. XXVI, 104 (Prof. Otto Stählin, Clemens Alexandrinus, Leipzig 1906, Bd. II, S. 321); p. пер. (Н. Корсунский, Строматы, творение учителя церкви Климента Александрийского, Ярославль 1892), стр. 504.
2) Ibid., lib. IV, cap. 111, 12 (Stahlin, op. cit., Bd. II, S. 254); p. пер., стр. 397.
3) Ibid., lib. VII, cap. XII, 71 (Stählin, op. cit., Leipzig 1909, Bd. III, S. 51); p. пер., стр. 8.’9.
4) Ibid., lib. II, cap. XIX; 98 (Stählin, op. cit., Bd. II, S, 167); p. пер., стр. 261.
- 107 —
последняя, отделившись от тела, продолжает свою самостоятельную жизнь. Бессмертие души признавали еще язычники. Это, по мнению пресвитера Александрийского, ясно следует из того, что Эпихарм и неизвестный лирический поэт говорят о награде и наказании людей после их смерти 1) Кроме того, Климент указывает на то, что Сократ высказывал надежду на другую жизнь после смерти2). Наконец, пресвитер Александрийский отмечает веру в бессмертие души Платона, который обнаружил ее в изображении будущей участи Аридея и его товарищей 3). По воззрению Климента, бессмертие человеческой души даже необходимо. И это потому, что ее смерть, как справедливо говорит Платон, была бы выгодной для людей дурной жизни4). Климент Александрийский не приводит доказательств бессмертия души из Св. Писания. Он лишь ограничивается одним замечанием, что о нем учат заповеди, написанные в священных книгах 5).
2. Учение о будущей участи людей:
А. Участь праведников на том свете.
В творениях Климента мы не находим каких-либо обстоятельных или определенных данных для изображения потусторонних мест пребывания умерших праведников. Касаясь вопроса о будущих местах пребывания праведных душ, он ограничивается преимущественно общими и краткими замечаниями. Так, в своем
1) Ibid., lib. IV, cap. XXVI, 167 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 322); p. пер., стр. 506.
2) Ibid., lib. V, cap. II, 14 (Stählin, op. cit, Bd. II, S. 335); p. пер., стр. 526.
3) Ibid., lib. V, cap. XIV, 92 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 386); p. пер., стр. 600.
4) Ibid., lib. IV, cap. VII, 44—45 (Stählin, op. cit., Bd. ΙΙ, S. 268; p. пер., стр. 419.
5) Ibidem.
— 108 —
«Педагоге» он говорит о том, что немногие достигают царствия Божия (τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ)1). Только свободные от излишних потребностей, по его мнению, наследуют царство Божие (βασιλείαν Θεοῦ)2). В другом месте он трактует о пути на небеса (ἡ εἰς οὐρανοὺς πορεία)3). В том же сочинении он замечает, что все люди имеют нужду в Иисусе Христе; в противном случае, они, оставшись без руководства, могут оказаться тяжкими грешниками и подпасть осуждению. Будучи же чистыми от плевел, они могут быть приняты в житницу Отца (εἰς τῆν πατρῷαν ἀποθὴκην)4). В своих «Строматах» пресвитер Александрийский пишет, что верные упокоятся, согласно с свидетельством Давида, на святой горе Божьей, т.-е. в вышней церкви (ἐν ὅρει ἀγίῳ Θεοῦ , τῇ ἀνωτάτω Ἐκκλησία), в которой соберутся любящие Бога 5). Те,—замечает Климент в другом месте,—которые говорят безбожные речи, не войдут в небесное царство (εἰς τῆν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν)6). Те,— пишет он в третьем месте, — которые возросли в истинном учении, достигают вечной жизни и воспаряют на небо (εἰς οὐρανόν)7). Уже поэт Эпихарм, по словам пресвитера Александрийского, учил, что тот, кто благочестив, по смерти не испытывает никакого зла, потому что его дух пребывает на небе ( κατ ’ οὐρανόν), Подобным же образом рассуждал и неизвестный лирический поэт,
1) Paed., lib. III, cap. VII, 37 (Stählin, op. cit., Leipzig 1905, Bd. I, S. 258); p. пер. (H. Корсунский, Педагог, творение учителя церкви Климента Александрийского, Ярославль 1890), стр. 282.
2) Ibid., lib. IΙΙ, cap. VII, 40 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 260); p. пер., стр. 284.
3) Ibid, lib. III, cap. VII, 39 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 259); p. пер., стр. 283.
4) ibid.. lib. I, cap. IX, 147 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 139); p. пер., стр. 84.
5) Strom., lib. VI, cap. XIV, 108 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 486); p. пер., стр. 727.
6) Ibid., lib. VII, cap. XVII, 106 (Stählin, op. cit., Bd. IΙΙ, S. 75); p. пер., стр. 898.
7) Ibid., lib. I, cap. 1, 4 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 5): p. пер., стр.
109 —
утверждая, что души благочестивых людей живут на небе ( ἐπουράνιοι νάουσι). Отсюда Климент заключает, что человеческая душа посылается не с неба на землю, а наоборот, т.-е. душа, избравшая лучшую жизнь ради Бога и правды, меняет землю на небо (οὐρανός)1). Я молюсь,—так продолжает пресвитер Александрийский свою речь далее,— чтобы дух Христов вознес меня в мой Иерусалим (εἰς τὴν Ἱερουσαλήμ τὴν ἐμὴν)2), в небесную церковь (ἡ οὐρανία Ἐκκλησία), отобразом которой служит земная церковь 3). Наконец, в своем сочинении «Какой богач спасется?» пресвитер Александрийский пишет, что победитель на ристалище жизни, несомненно, достоин высшего отечества (ἄνω πατρίδας), в которое он войдет в венке при громких восклицаниях ангелов 2). Напротив, «сонные и ленивые не могут наследовать царства Божия (ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ)»5). Для богатых, по замечанию Климента, наследие небесного царства (ἡ κληρονομία τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν) не является невозможным 6). Они через раздачу своего временного богатства получат вечное на небесах (αἰώνιον ἐν οὐρανοῖς); они таким образом купят себе небесное царство ( βασιλείαν οὐράνιον), чтобы жить на небесах (ἐν οὐρανοί ; οἰκῆσαι) и господствовать вместе с Богом (καὶ βασιλεῦεαι μετὰ Θεοῦ)7).
Касаясь блаженства, которым наслаждаются на небе умершие праведники, Климент Александрийский полагает, что оно чрезвычайно велико. Я приведу тебя,—говорит
1) Ibid., lib. IV, cap. XXVI, 167 (Stählin, op. cit, Bd. II, S. 322—323); p. пер., стр. 506.
2) Ibid., lib. IV, cap. XXVI. 172 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 324); p. пер. стр. 509.
3) Ibid., lib. IV, cap. VIII, 66 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 278); p. пер., стр. 433.
4) Quis div. salv. 3 (Stählin, op. cit., Bd. III, S. 162); р. пер. (H. Корсунский, Кто из богатых спасется и Увещание к эллинам, творения Климента Александрийского, Ярославль 1883), стр. 5.
5) Ibid. 21 (Stählin, ор. cit., Bd. III, S. 173); p. пер., стр. 21.
6 Ibid. 3 (Stählin, op. cit., Bd. III, S. 161); p. пер., стр. 4.
7) Ibid. 32 (Stählin, op. cit., Bd. III, S. 181); p. пер., стр. 33.
110 —
он человеку от имени Христа,— к невыразимым и неслыханным богатствам, которых ничей глаз не видел, о которых ничье ухо не слыхало и мысль не приходила ни одному человеку на сердце (1 Кор. 2, 9). Их Бог приготовил Своим святым и возлюбленным детям1). В настоящее время,—говорит Климент в своем «Педагоге» словами св. апостола Павла, —мы видим как бы сквозь тусклое зеркало, тогда же увидим лицом к лицу (1 Кор. 13,12). Это, по мнению пресвитера Александрийского, такое обещание, исполнение которого наступит только после смерти, потому что теперь его не могут никакой глаз видеть, никакое ухо слышать и никакое чувство воспринять. Во время настоящей жизни о небесных благах способно было услышать ухо только того, кто был восхищен на третье небо, где он вместе с тем получил повеление об этих благах никому не говорить 2).
Определяя сущность небесного блаженства, Климент Александрийский утверждал, что оно, прежде всего, состоит в вечном покое «Я введу тебя,—говорит он человеку от имени Христа,— в покой (εἰς ἀνάπαυσιν)»3). Концом человеческих желаний,—замечает он в «Педагоге»,—является вечный покой в Боге (ἡ αἴδιος ἀνάπαυσις ἐν τῷ Θεῷ)4). По мнению пресвитера Александрийского, надежда на этот покой (ἀνάπαυσις) нам дается уже при крещении 5), и он наступит, как следствие исполнения данных нам обетований и как последняя цель гносиса6).
1) Ibid. 23 (Stählin, ор. cit., Bd. III, S. 175); p. пер., стр. 23.
2) Paed., lib. I, cap. VI, 36—37 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 111 — 112); p. пер., стр. 34—35.
3) Ibid., lib. III, cap. XII, 85 (Stählin, op. cit.. Bd. I, S. 283); p. пер., стр. 326.
4) Ibid., lib. I, cap. XIII, 102 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 151); p. пер. стр, 106,
5) Ibid., lib. I, cap. VI, 45 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 116); p. пер., стр. 43.
6) Ibid., lib. Ι, cap. VI, 29 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 107); p. пер., стр. 28.
— 111
Если мы живем свято и праведно, то, по словам Климента, мы можем быть счастливыми уже здесь на земле. Но мы будем несравненно счастливее, оставивши настоящий мир, потому что тогда, вместо временного блаженства, мы будем наслаждаться вечным покоем (ἐν αἰώνι ἀναπαύεσθαι)1).—Однако, несомненно, что высшую ступень небесного блаженства Климент Александрийский полагал в созерцании Бога. Я покажу тебе,—заявляет он человеку от имени Христа,—лицо Бога, доброго Отца (Θεοῦ πατρος ἀγαθοῦ πρόσωπον)2). Сказавши о том, что богатый человек через раздачу своего имущества покупает себе небо, Климент прибавляет, что там он имеет возможность пребывать в лоне Отца, о котором возвестил нам Единородный Сын Божий 3). Святые души,—говорит пресвитер Александрийский в своих «Строматах»,—удостаиваются на том свете почестей и награды. Выражением их потустороннего существования, по мнению Климента, служит пребывание в вечном созерцании (τῇ θεωρία τῇ αἴδίῳ) Бога4).
Климент Александрийский полагал, что души умерших праведников на том свете не сразу достигают высшего блаженства. По его мнению, они постепенно переходят из низших мест своего пребывания в высшие 5). Только души исключительных праведников по переходе на тот свет немедленно получают в удел совершенное наследие (ἡ τελεία κληρονομία)6). Такими праведниками являются христианские гностики, которые после своей смер-
1) Strom., lib. V, cap. XIV, 122 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 409); p. пер., стр. 624.
2) Quis div. salv. 23 (Stählin, op. cit.. Bd. III, S. 175); p. пер., стр. 23,
3) Ibid. 37 (Stählin, op. cit., Bd. III, S. 183); p. пер., стр. 37.
4) Strom., lib. VII, cap. X, 56 (Stählin, op. cit., Bd. III, S. 41); p. пер., стр. 842.
5) Это следует из его учения об очищении грешных душ через загробные наказания, о нем речь будет ниже.
6) Strom., lib. VI, cap. XIV, 114 (Stählin, op. cit, Bd. II, S. 489); p. пер., стр. 733.
112
ти сразу достигают высших мест потустороннего пребывания. Истинный гностик, по представлению Климента, подобен ангелам. Он переходит на том свете εἰς τῆν πατρῴαν αὐλὴν ἐπὶ τῆν Κυριακὴν μονὴν 1). Хотя гностики достигают на небе сразу высокой степени блаженства, тем не менее и они, по воззрению пресвитера Александрийского, там меняют места своего блаженного пребывания. Души гностиков, рассуждает он, величием своего созерцания возвышаются над всяким видом святой жизни. В виду этого, им назначены для местопребывания блаженные жилища Самого Бога. Находясь в этих жилищах, они переходят из одного блаженного места в другие места, доставляющие им еще больше блаженства2).
Высказывая свои представления относительно будущей участи умерших праведников, Климент Александрийский в то же время учил, что их наслаждение небесными благами начнется непосредственно после смерти. Он полагал, что мы можем быть счастливыми при святой и праведной жизни уже здесь на земле, но будем гораздо счастливее по отшествии отсюда (μετὰ τὴν ἑνθένδε ἀπαλλαγῆν)3), потому что созерцание Бога лицом к лицу наступит для нас после ухода из здешней жизни (μετὰ τὴν ἑνθένδε ἀπαλλαγὴν 4). Но особенно восторженно трактует Климент об участии в небесных благах непосредственно после смерти христианских мучеников. С какими мужеством и радостью,—пишет пресвитер Александрийский и своих «Строматах»,—мученик стремится к соединению с Бо-
1) Ibid., lib. VII, cap. X, 57 (Stählin, ор. cit., Bd. III, S. 42); p. пер., стр. 843.
2) Ibid., lib. VII, cap. III, 13 (Stählin, op. cit., Bd. III, S. 10); p. пер., стр. 793.
3) Ibid., lib. V, cap. XIV, 122 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 409); p. пер., стр. 624.
4) Paed., lib. I, cap. VI, 37 (Stählin, op. cit, Bd. I, S. 112); p. пер., стр. 34.
113 —
гом, Которого он любит и за Которого он добровольно жертвует своим телом и своей жизнью! Его Христос приветствует такими словами: возлюбленный брат!» 1) Мученичество Климент рассматривает, как начало истинной жизни (τῆς ὄντως οὐσης ζωῆς ἀρχὴ)2). Мученики через свою смерть освобождаются от всех бедствий настоящей жизни и переходят к своему Господу. Этот их переход через мученичество в другую жизнь подобен переходу человека во время настоящей жизни из одного возраста в другой3).
В. Участь грешников на том свете.
Касаясь участи душ умерших грешников, Климент Александрийский утверждал, что они на том свете лишаются тех благ спасения, которых там удостаиваются умершие праведники. В этом смысле Климент их называет ἀσωστοι 1).
Они в загробном мире подвергаются наказаниям также положительного характера. Они там получают заслуженное наказание (τιμωρία), так как дурные привычки влекут на тот свет раскаяние, появляющееся вместе с наказанием (ἅμα τιμωρία). Наказанию также подлежит и начальник зла (ἄρχων τῆς κακίας)5). Праведникам, по словам Климента, Господь дарует вечную жизнь, а грешников ожидают наказания (κολάσεις)6). Неверующим ничего иного не остается, кроме суда и осуждения (κρίσις καὶ καταδίκη)7).
1) Strom, lib. IV, cap. IV, 14 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 254—255); p. пер., стр. 399.
2) Ibid., lib. IV, cap. VII, 44 (Stählin, op. cit, Bd. II, S. 268); p. пер., стр. 419.
3) Ibid., lib. IV, cap. XI, 79—80 (Stählin, op. cit, Bd. II, S. 283); p. пер., стр. 442.
4) Paed., lib. II, cap. I, 7 (Stählin, op. cit., Bd. I, 158); p. пер., стр. 118.
5) Cohort. ad gent., cap. X (Migne, ser. gr., (1857), t. VIII, 26) col. 204A; p. rep., стр. 147—148.
6) Ibid., cap. IX (Mg. VIII, 24) col. 193C; p. пер., стр. 142.
7) Ibid., cap. IX (Mg. VIII, 24) col. 196A; p. пер., стр. 142.
— 114 —
Если кто после крещения всецело предается порочной жизни, тот совершенно будет осужден Богом (κατεψήφισται παντάπασιν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ)1).
Считая наказания умерших грешников положительного характера неподлежащим сомнению фактом, Климент Александрийский полагал их сущность в огненных мучениях. Огнем (τῷ πυρὶ), говорит он, Господь устрашает людей. Тем людям, которые слушаются Его Он дарует свет (τὸ φῶς), а уклоняющимся от Него Он приготовил огонь (τὸ πῦρ)2). Этот огонь (τὸ πῦρ) приготовлен также диаволу и его ангелам (Мф. 25, 46) 3). Кого, — пишет пресвитер Александрийский в своем «Педагоге»,—не исцелит жезл, того истребит огонь (τὸ πῦρ)4). Чувственная любовь (ἔρως), по замечанию Климента в том же сочинении, ведет в неугасимый огонь (εἰς πῦρ ἀκατάπαυστον)5). Немилосердным и безжалостным, — говорит Климент в другом своем сочинении, - угрожает огонь и внешняя тьма (πῦρ καὶ σκότος τὸ ἐξώτερον)6), вечное огненное наказание (κόλασις ἔμπυρος αἰώνιος)7), собранный в одно место огонь (τὸ ἀθρουν)8). По замечанию пресвитера Александрийского, о страшных будущих наказаниях грешников через огонь имели представление уже язычники. Для подтверждения данной своей мысли он ссылается на Гераклита, который предсказывал грешникам разных классов мучения в огне 9).
1) Quis div. salv. 39 (Stählin, op. cit., Bd. III, S. 185); p. пер., стр. 39.
2) Cohort. ad gent., cap. I (Mg. VIII, 3) col. 64C; p. пер., стр. 66.
3) Ibid., cap. IX (Mg. VIII, 24) col. 193C; p. пер., стр. 142.
4) Paed., lib. I, cap. VII, 61 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 126); p. пер., стр. 64.
5) Ibid., lib. III, cap. XI, 80 (Stählin, op. cit, Bd. I, S. 282); p. пер., стр. 324.
6) Quis div. salv. 13 (Stählin, op. cit., Bd. III, S. 168); p. пер., стр. 13.
7) Ibid. 33 (Stählin, op. cit., Bd. III, S. 182); p. пер., стр. 34.
8) Ibid. 37 (Stählin, op. cit., Bd. III, S. 184); p. пер., стр. 38.
9) Cohort. ad gent, cap. ІІ (Mg. VIII, 6) col. 88A; p. пер., стр. 82.
115
Огненные мучения, являясь для умерших грешников наказанием, вместе с тем, по учению Климента Александрийского, имеют для них благодетельное значение. Дело в том, что они служат для душ умерших грешников средством очищения от грехов. Пресвитер Александрийский утверждает, что мысль об очищении через огонь тех, которые дурно жили здесь на земле, была известна еще Гераклиту *). Впрочем, по мнению Климента, уже во время земной жизни люди, согрешившие после крещения, имеют нужду в очищении 2), которое совершается через огонь. Этот огонь освящает не тело человека, а его душу. Под ним следует разуметь не обычный огонь, который все истребляет, но разумный, который проникает в душу, проходящую через огонь (Евр. 4, 12) 3). Климента, Александрийский говорит о духовной бане, как самой наилучшей, которая очищает душу (ср. Ис. 4, 4). Тот способ, каким происходит очищение в этой бане, он определяет, когда замечает: «В духе суда и в духе сожжения (ἐν πνεύματι κρίσεως καὶ ἐν πνεύματι καύσεως)»4). Данный способ очищения, по воззрению Климента, будет иметь место в загробной жизни умерших грешников. Истинный Гностик,—полагает пресвитер Александрийский,—сжалится над теми, которые после своей смерти будут терпеть наказания, и побудит их исповедать Его 5). Но для наследования блаженного жилища всякий
1) Strom., lib. V, cap. I, 9 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 331); p. пер.. стр. 531.
2) Ibid., lib. IV, cap. XXIV, 154 (Stählin, op. cit. Bd. II, S. 316); p. пер., стр. 495.
3) Φαμὲν δ’ ἡμεῖς ἀγιάζειν τὸ πῦρ οὐ τὰ κρέα, ἀλλὰ τὰς ἀμαρτωλους ψυχάς, πῦρ οὐ τὸ παμφάγον καὶ βάναυσον, ἀλλὰ τὸ φρόνιμον λέγοντες, τὸ «δακνούμενον διὰ ψυχῆς» τῆς διερχομένης τὸ πῦρ. Ibid., lib. VII, cap. VI, 31 (Stählin, Op. cit., Bd. III, S. 27); p. пер., стр. 817.
4) Paed., lib. Hl. cap. IX, 48 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 264); p. пер., стр. 391—392.
5) Strom., lib. VII. cap. XII, 77 (Stählin, op. cit, Bd. III, S. 55); p. пер., стр. 667.
116
верующий во Христа, оставив плоть, должен еще освободиться от всей грязи обременяющих его страстей 1). Последнее именно и совершается через огненные мучения. В них человеку, прежде всего, освобождается от всех своих пороков. Затем, он переходит в другое место, которое, хотя и лучше прежнего, однако является местом более тяжких мучений. Здесь человек мучится раскаянием во всех грехах, совершенных им после крещения, и испытывает за них стыд. Это составляет для верующего величайшее наказание2). Наконец, сознание греховности приводит человека к концу наказаний и к совершенству, научая его жизни с Богом. Он освобождается от всякого мучения и, взамен его, удостаивается награды и почестей 3).
Таким образом, по учению Климента, через адские мучения люди очищаются от своих грехов и достигают блаженства. Следовательно, по его мнению, некогда может наступить ἀποκατάστασις τῶν πάντων . По смыслу одного выражения пресвитера Александрийского, даже диавол, как обладающий свободной волей, не утратил способности к покаянию и исправлению, а потому он может возвратиться в свое первобытное состояние 4).
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще.
При таком взгляде на значение для душ умерших грешников огненных мучений, какой мы сейчас видели,
1) Ibid., lib. VI, cap. XIV, 109 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 486); p. пер., стр. 728.
2) Ibid., lib. VI, cap. XIV, 109 (Stählin, op. cit., Bd. ΙΙ, S. 486); p. пер., стр. 729.
3) Ibid., lib. VII, cap. X, 56 (Stählin, op. cit, Bd. III, S. 41); p. пер., стр. 842.
4) Ibid., lib. I, cap. XVII, 83 (Stählin, op. cit., Bd. H, S. 54); p. пер., стр. 91.
117 —
Климент Александрийский второе пришествие Христа и находящиеся в связи с ним другие мировые события должен был считать совершенно излишними. Но, придерживаясь в данном случае основ христианского предания, пресвитер Александрийский этого не делает, хотя, впрочем, каждому из последних мировых событий он уделяет очень мало внимания.
Касаясь вопроса о втором пришествии Сына Божия, Климент называет его «днем Христа», который он представляет себе чрезвычайно приятным1). Господь, по воззрению пресвитера Александрийского, придет во второй раз в Своей славе и с воинством (μετὰ τῆς αὐτοῦ δόξης καὶ στρατειᾶς)2).
Климент Александрийский не оставляет без внимания и вопроса о будущем всеобщем воскресении мертвых. Он полагает, что оно не должно подлежать сомнению 3). Оно, по его мнению, произойдет при трубном звуке (ἐν ἤχῳ σάλπιγγος)4), при последней трубе (ἐσχάτη σάλπιγγι)5). В «Строматах» Климент утверждает, что идея будущего воскресения мертвых с известными качествами была уже известна стоикам б). По замечанию пресвитера Александрийского, о будущем воскресении мертвых знал также Платон, когда говорил, что Зороастр, положенный в двенадцатый день после своей смерти на костер, снова ожил 7). У Климента из Св. Писания, можно сказать, не
1) Τὸ γάλα... ἔοικεν... ἡ πνευματικὴ τροφή, γλυκεῖα μὲν διὰ τὴν χάριν ὑπάρχουσα, τρόφιμος δὲ ὡς ζωή, λευκή δὲ ὡς ἡμέρα Χριστοῦ. Paed., lib. I, cap. VI, 40 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 114); p. пер., стр. 38.
2) Quis div. salv. 42 (Stählin, op. cit.. Bd. III, S. 191); p. пер., стр. 46.
3) Ibid. 42 (Stählin, op. cit., Bd. III, S. 189); p. пер., стр. 45.
4) Paed., lib. II, cap. IV, 41 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 182); p. пер., стр. 153.
6) Quis div. salv. 3 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 162); p. пер., стр. 5.
5) Strom, lib. V, cap. I, 9 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 332); p. пер., стр. 521.
6) Ibid., lib. V, стр. XIV, 103 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 395); p. пер., стр. 613.
118
приводятся доказательства ожидаемого воскресения мертвых. Только в одном месте делается намек на последнее в первом псалме (ст. 1—3) 1). Для. верующих всеобщее воскресение мертвых не нуждается в доказательствах, потому что они после воскресения (μετὰ τὴν ἀνάστασιν) надеются получить в полное обладание все те блага, в которые в настоящее время они лишь веруют 2).
Но учению пресвитера Александрийского, после воскресения наши тела станут нетленными, так как тогда тленное облечется в нетление (τὸ φθαρτὸν ἐπενδύσεται ἀφθαρσίαν)3). Тогда,—пишет Климент,—Господь облечет человеческое тело одеждой нетления и обнесет его святым и небесным украшением, т.-е. бессмертием (ἀθανασία)4). Кроме того, после всеобщего воскресения мертвых человеческие тела утратят свои некоторые особенности. Тогда» между прочим, у них уничтожится половое различие5).
В своих творениях Климент Александрийский касается и вопроса о всеобщем суде. Тио его мнению, определенное представление о всеобщем суде имели уже до-христианские язычники, которые полагали, что последнему суду будут подлежать все люди6). Что же касается самого Климента, то он учил, что нашим судьей будет Христос; при этом по той причине, что Он один только без греха7). Он сотворил мир и человека, который
1) Paed., lib. I, cap. X, 92 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 144); p. пер., стр. 91.
2) Ibid., lib. I, cap. VI, 29 (Stählin, op. cit., Bd. I. S. 107); p. пер., стр. 27—28.
3) Ibid, lib. II. cap. X, 100 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 217); p. пер., стр. 216.
4) Ibid., lib. III, cap. I, 3 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 237); p. пер., стр. 244.
5) Ἐν τῷ αἰῶνι τοὑτῳ γαμοῦσι καὶ γαμίσκονται, ἐν ῷ οὴ μόνῳ τὸ θήλυ τοῦ ὰῤῥενος διακρίνεται, ἐν ἐκείνῳ δὲ οὐκἑτι. Ibid, lib. I, cap. IV, 10 (Stählin, op. cit., Bd. I, s. 96); p. пер., стр. 10.
6) Strom., lib. V, cap. XIV, 120-123 (Stählin, op. cit, Bd. H, S. 407—409); p. пер., стр. 623—625.
7) Paed., lib. I, cap. II, 4 (Stählin, op. cit., Bd. 1, S. 91); p. пер.. стр. 4.
119 —
ожидает суда1). Пресвитер Александрийский просит о том, чтобы мы имели некогда не строгого Судью2).
Следствием всеобщего суда, по учению Климента, будет то, что истинно раскаявшихся людей ангелы примут в небесные обители, радостно ликуя, прославляя Бога, открывая им небо. Сам Христос тогда им выйдет навстречу, предлагая Свою десницу, раздавая без всякой тени постоянный свет, ведя их в лоно Отца, в вечную жизнь и в небесное царство (ὁδηγῶν εἰς τοὺς κόλπους τοῦ πατρός , εἰς τὴν αἰώνιον ζωήν , εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν)3). Тогда праведники наследуют небо, где они получат соответствующие их нравственному достоинству места пребывания. На три вида таких небесных жилищ, по представлению пресвитера Александрийского, косвенным образом указывают евангельские числа тридцать, шестьдесят и сто, обозначающие количество плодов, принесенных тем или другим упавшим на землю семенем (Мф. 13, 8) 4).
Наконец, Климент Александрийский в своих сочинениях касается вопроса о конечной судьбе мира вообще. По его мнению, этот мир некогда прекратит свое существование, и тогда настанет другой мир. Учение о прекращении и обновлении настоящего мира через огонь, по замечанию Климента, было известно уже языческим философам 5). Пресвитер Александрийский подробно не раскрывает, какова будет кончина настоящего мира и каков будет следую-
1) Ibid., lib. III, сар. XII, 100 (Stählin, ор. cit., Bd. I, S. 290); p. пер., стр. 338.
2) Ibid., lib. III, cap. XII, 101 (Stählin, op. cit., Bd. I, S, 291); p. пер., стр. 338.
3) Quis div. salv. 42 (Stählin, op. cit., Bd. III, S. 190); p. пер., стр. 45—48.
4) Strom., lib. VI, cap. XIV, 114 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 489); p. пер., стр. 733.
5) Ibid., lib. V, cap. I. 9 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 332); p. пер., стр. 522; ibid., lib. V, cap. XIV, 104-105 (Stählin, op. cit., Bd. II, S. 396); p. пер., стр. 613—614.
— 120 —
щий за ним мир. Он ограничивается лишь замечаниями о конце этого века (συντέλεια τοῦ αἰώνος)1) и о будущем веке ( ὁ μέλλων αἰών)2), который начнется с прекращением настоящего мира, т. е. со дня второго пришествия Христа на землю3).
1) Quis div. salv. 42 (Stählin, op. cit., Bd. ITT, S. 190); p. пер., стр. 45.
2) Paed., lib. III, cap. XI, 76 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 278); p. пер., стр. 316.
2) Ibid., lib. I, cap. VI, 29 (Stählin, op. cit., Bd. I, S. 107); p. пер., стр. 27.
121
VI. Эсхатология Оригена.
Те основные эсхатологические положения, какие высказал Климент Александрийский († ок. 215), нашли свое обстоятельное раскрытие в творениях его ученика—Оригена († ок. 254). Центральным пунктом эсхатологии Оригена служит ясно выраженное им учение о всеобщем апокатастасисе. Это учение в его творениях так основательно обставлено аргументами, что последние у позднейших поборников учения о всеобщем апокатастасисе составляют большей частью только повторение. Насколько при этом Ориген отступил в своих эсхатологических воззрениях от церковной традиции, это ясно открывается из систематического изложения его данного учения.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности.
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души.
Человек, по учению Оригена, состоит из тела, души и духа 1), Конечно, не может быть вопроса относительно смерти его духа. И действительно, в творениях Оригена мы находим рассуждения, касающиеся смерти лишь тела и души человека.
1) Ὁ ἄνθρωπος συνέστηκεν ἐκ σώματος καὶ ψυχῆς καὶ πνεύματος. De princ. lib . IV , 4 (11), 168 ( Prof . P . Koetschau , Origenes Werke , De prlncipiis , ( Leipzig 1913) Bd . V , S . 313); p . пер. (Творения Оригена, учителя Александрийского, Казань 1899) вып. I, стр. 327.
122
По мнению Оригена, смерть человеческого тела состоит и отделении его от души ( separatio corporis ah anima mors nominatur)1). Впрочем, этим сущность смерти человеческого тела, по воззрению катехета Александрийского, не исчерпывается. По его представлению, естественным следствием отделения человеческого тела от души является разложение (διαφθορά) его на свои составные части 2), которые, однако, совершенно не уничтожаются, но продолжают свое существование до общего воскресения мертвых 3).
Касаясь вопроса относительно смерти человеческой души, Ориген полагал ее сущность в отделении души от Бога (separatio animae а Deo mors appellatur)4). Признавая эту т. ск. духовную смерть человеческой души, Ориген в то же время со всей решительностью настаивал на бессмертии ее в смысле продолжения существования после телесной смерти человека. По его убеждению, веру в существование человеческих душ после их отделения от своих тел имеют, кроме христиан и иудеев, также язычники 5). Иудеи, говорит он, с самой ранней юности преподавали своим детям учение о бессмертии души и будущем воздаянии 6). Равным образом, по воззрению Оригена, учения об этих двух предметах придерживались также многие из языческих философов и еретиков 7). У них, с одной стороны, а в Божественном Откровении, с другой,—он и старается найти дока-
1) Coram, in ep. ad Rom., lib. VI. 6 (Migne, ser. gr., (1862), t. XIV, 575) col. 1068A.
2) Selec. in psalm. XV, 10 (Aligne, ser. gr., (1862) t. XII, 757); col. 1516B.
3) De princ., lib. III, cap. VI, S. 154 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 287); p. пер. вып. I. стр. 297.
4) Comm. in ep. ad Rom., lib. VI, 6 (Mg. XIV, 570) col. 1068A.
5) Contra Cels., lib. VII, cap. V, 696 (Prof. P. Koetschau , Origenes Werke. Buch V—VIII gegen Celsus. Die Schrift vom Gebet (Leipzig 1899) Bd. II. S. 156).
2) Ibid., lib. V, cap. XLII, 610 ( Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 46).
7) In Levit., hom. VII, 6 (Mg. XII, 227) col. 490A.
123
зательства, учения о бессмертии души 1). Особенное значение при решении вопроса о бессмертии души Ориген придает тому обстоятельству, что последняя обладает духовностью и богоподобием. Всякий ум, участвующий в интеллектуальном свете, без сомнения, говорит Ориген, должен быть одной природы со всяким другим умом, который подобным же образом участвует в интеллектуальном свете. Значит, если небесные силы участвуют в интеллектуальном свете, т.-е. в божественной природе, а вместе с ними и человеческие души, то небесные силы в души обладают одинаковой природой. Но небесные силы по своей природе нетленны и бессмертны. Отсюда, и субстанция человеческой души также бессмертна и нетленна (immortalis et incorrupta). Несомненно, продолжает Ориген, должна быть признана безбожной мысль, что душа, которая может вмещать в себе Бога, способна к субстанциальному разложению 2). Если человек, согласно с свидетельством Св. Писания, создан по образу и подобию Божью, то он не может подлежать субстанциальному тлению 3). Уже Пятокнижие, по словам Оригена, свидетельствует о бессмертии души, когда содержит в себе обещание Божье Моисею, что он приложится к своему народу (Втор. 31, 2). И действительно, нельзя присоединиться к тем людям, которых нигде нет. Естественно, поэтому, тот народ, к которому должен был приложиться после своей смерти Моисей, бессмертен по своей душе 4). Что касается Нового Завета, то здесь, по мнению Оригена, Бог
1) Contra Cels. IΙΙ, cap. XXII, 460 ( Koetschau , Origenes Werke, Die Schrift vom Martyrium. Buch l—IV gegen Celsus (Leipzig 1899) Bd. I. S. 218—219); p. пер. (Против Цельса. Апология христианства Оригена. Перевод с греческого с введением и примечаниями проф. Л. Писарева, Казань 1912) ч. 1, стр. 253.
2) De princ., lib. IV, 9(36), 194 (Koetschau, ор. cit., Bd. V, S. 362—363); p. пер. вып. I, стр. 383—384.
3) Ibid., lib. IV, 10(37), 194 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 363); p. пер. вып. I, стр. 384—385.
4) In Numer., hom. XXV, 1 (Mg. XII, 365) col. 763D.
124 —
еще яснее засвидетельствовал о бессмертии человеческой души, когда возвестил людям об ожидающих их наградах или наказаниях 1).
2. Участь души непосредственно после смерти человека.
Признавая бессмертие человеческих душ, Ориген, естественно, в своих творениях должен был ь коснуться вопроса относительно образа их существования в загробном мире. При решении данного вопроса, в виду широкого распространения в его время учения о переселении душ, он невольно должен был встретиться с этим последним учением.
В своих творениях Ориген решительно заявляет, что учение о переселении душ не является предметом веры христиан. Он трактует его, как учение последователей Платона2), Пифагора3), а также гностика Василида 4). Что же касается истинных христиан, то они, по его убеждению, не допускают веры в то, что души умерших людей переходят из одного тела в другое, при этом даже в тела неразумных животных 5). И это потому, что человеческая душа, по их разумению, как созданная по образу Божью, не может совершенно утратить своих стремлений и способностей и, вместо них, принять другие, свойственные неразумным животным 6). Ориген с осо-
1) Contra Cels., lib. IΙΙ, cap. LX, 487 (Koetechau, op. cit., Bd. I, S. 254—255); p. пер. ч. I, стр. 303—304.
2) Ibid., lib. I, cap. XIII, 331 ( Koetschau , op. cit., Bd. I, S. 66); p. пер. ч. I, стр. 26; ibid., lid. IV, cap. XVII, 512 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 286); p. пер. ч. I, стр. 352; ibid., lib. VII, cap. XXXII, 716 ( Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 182).
3) Ibid., lib. V, cap. XLIX, 615 ( Koetschau , op. cit., Bd. II, S. 53—54); ibid., lib. VII, cap. XXX, 761 ( Koetschau, op, cit., Bd. II, S. 245).
4) Comm. in ep. ad. Rom., lib. V, 1 (Mg. XIV, 549) col. 1015A.
5) Οὐδαμῶς μέντοι γε λέγοντες μετεναωμάτωσιν εἶναι ψυχῆς καὶ κατάπτωσιν αὑτῆς μέχρι τῶν ἀλογων ζώων... Contra Cels., lib. VIII, cap. XXX, 764 ( Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 245)
6) Ibid., lib. IV, cap. LXXXIII, 565—566 ( Koetschau, op. cit, Bd. II, S. 354—355); p. пер, ч. I, стр. 456.
125 —
бым ударением оттеняет ту мысль, что человеческие души не могут переходить в тела животных. По его мнению, учение о переселении душ (μετενοωράτωσις), стоит в противоречии с Св. Писанием и церковным преданием1). Особенно настойчиво он опровергает гностика Василида, который старался доказать данное учение, ссылаясь на свидетельство о нем будто бы св. апостола Павла (Рим. 7,10). Много внимания Ориген уделяет также вопросу, не перешла ли душа пророка Илии в тело св. Иоанна Крестителя. Последний вопрос, по его разумению, должен быть решен отрицательно. И это по той причине, что при решении его в положительном смысле мы должны будем допустить вечное существование телесного мира. Правда, полагает Ориген, последнее обстоятельство могло бы даже и не иметь места, именно в том случае, если бы наши души перестали грешить и, напротив, стали бы все более и более очищаться от своих прежних грехов. Но тогда возникает другое затруднение. Дело в том, что души, перестав грешить, не имели бы нужды переходить из тела в тело, а очистившись от своих прежних грехов, они даже совершенно исчезли бы из мира. Между тем, это противоречит Св. Писанию, которое учит о том, что во время второго пришествия Христа на землю в мире будет еще много смертных существ 2).
Отвергая учение о переселении душ, Ориген, согласно с церковным преданием, учил о том, что они, обладая собственной субстанцией и жизнью, непосредственно после ухода из настоящего мира получают воздаяние, соответствующее их заслугам. Одни из них тогда, по
1) Comm. In Matth., t. X, 20 (Migne, ser. gr., (1862), t. ХIII, 469) col. 888A.
2) Selec. in Matth., t. VII (Mg. XIII, 441—М 2) col. 833AB-834AB; ibid ., t. XIII (Mg. XIII, 567-563) col. 1085BC—1089A-C; Comm. in Io. I, 21, lib. VI, cap. X—XIV, 62—87 (Dr. E. Preuschen, Origenes Werke, Der Iohanneskommentar (Leipzig 1903) Bd. IV, S. 119—124).
126 —
учению Оригена, удостаиваются вечной жизни и блаженства, а другие—Подвергаются вечному огню и наказанию1) «Умирающие здесь обыкновенной смертью,—пишет Ориген в другом месте,—распределяются на основании дел, совершенных здесь на земле, так что признанные достойными т. наз. адской страны получают разные места, соответственно своим грехам» 2).
3. Определение потусторонних мест пребывания человеческих душ.
Двоякой участью душ непосредственно после телесной смерти людей определяется двоякий характер мест их потустороннего пребывания. В то время как праведные души, по учению Оригена, удостаиваются на том свете пребывания в блаженных жилищах, души умерших грешников наследуют там печальные места пребывания. В своих творениях Ориген весьма часто останавливается на изображении потустороннего мира, хотя это он и считает делом очень трудным3).
По его воззрению, земля, на которой мы живем в настоящее время, представляет собой мир, окруженный со всех сторон океаном. Кроме данного мира, по его убеждению, существует еще много других подобных миров, отделенных друг от друга также морем и, поэтому,
1) Об этом Ориген, в передаче Руфина, так говорит: Anima substantiam vitamque habens propriam, cum ex hoc mundo discesserit, pro suis meritis dispensabitur, sive vitae aeternae ac beatitudinis haereditate potitura, si hoc ei sua gesta praestiterint; sive, igni aeterno ac suppliciis mancipanda si in hoc eam scelerum culpa detorserit. Oe princ., praef., lib. I, 5, 48 (Koetschau, op. cit., Bd. V. S. 11— 12j; p. пер. вып. J, стр. 8.
2) Οἱ ἐντεῦθεν κατὰ τὸν κοινὸν θάνατον ἀποθνῇσκυντες ἐκ τῶν ἐνταῦθα παπραγμένων οἰκονομοῦνται, εἰ κριθεῖεν ἄξιοι τοῦ καλούμενου χωρίου ᾅδου, τόπων διαφόρων τυγχάνειν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν ἀμαρτημάτων. Ibid., lib. ΙV, 10(26 [23]); 185 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 337); p. пер. вып. I, стр. 358.
3) Ibid, lib. III, cap. III, 6, 82 (Koetschau, op. cit., B. V, S. 121); p. пер. вып. I, стр. 105.
127 —
нам совершенно недоступных и неизвестных. Эти миры и служат местом пребывания душ умерших людей. Отсюда вытекает представление Оригена о том, что «вся вообще вселенная состоит из небесного, вышенебесного, земного и преисподнего (coelestium , supercoelestium , terrenorum , infernorum)»1).
В своих творениях Ориген весьма часто говорит о многих небесах. Он точно не определяет их числа, потому что Св. Писание, по его разумению, не учит об определенном числе небес. Оно, по его мнению, не утверждает, что всех небес только семь2), хотя в книге Варуха и упоминается о семи мирах или небесах 3). Христос, говорит Ориген, поднялся выше всех небес (ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν), чтобы таким образом проложить Своим истинным последователям путь к тому, что выше всех небес (τὰ ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν), т.-е. к тому, что ἔξω σωμάτων 4). См. апостол Павел,—пишет Ориген в другом месте,—восхищен был на третье небо (εἰς τρίτον οὐρανὸν) и исследовал в это время небеса и то, что на них находится (οὐρανούς καὶ τά περὶ αὐτῶν)5). Св. апостол Петр, по мнению Оригена, получил от Господа ключи не одного неба, а многих (οὐχ ἐνὸς οὐρανου , ἀλλὰ πλειόνων) небес6) или, другими словами, целого царства небес (τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν)7). То обстоятельство, что во время
1) Ibid., lib. II, cap. III. 6. 83, (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 122); р. пер. вып. I, стр. 106 cp. ibid., lib., II, cap. III, 6, 82 ( Koetschau, op. cit.. Bd. V, S, 121); p. пер. выи. I, стр. 105.
2) Contra Cels., lib. VI, cap. XXI, 645 ( Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 91).
3) De princ., lib. II, cap. III, 6, 83 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 122—123); p. пер. вып. I, стр. 106.
4) Comm. in Io. VIII, 23, lib. XIX, cap. XX, 137 (Preuschen, op.cit., Bd. IV, S. 322).
5) Exhort, ad mart. XIII, 282—283 ( Koetschau , op. cit., Bd. I. S. 13);,p. пер. (H. Корсунский, Увещание к мученичеству, творение учителя церкви Оригена, золотая книжка первенствующих христиан, Ярославль 1886), стр. 20—21.
6) Comm. in Matth., t. XIV, 31 (Mg. XIII, 615) col. 1181А.
7) Ibid., t. XIV, 31 (Mg. XIII, 615) col. 1180В.
128 —
всеобщего суда избранные соберутся а summis coelorum usque ad terminos eorum (Мф. 24, 31), тоже дает Оригену основание допускать существование многих небес. По его мнению, человек, ведущий на земле совершенный образ жизни, удостаивается на том свете сначала пребывания на первом небе, затем на втором и, наконец, на третьем. После пребывания на третьем небе он переходит на многие небеса 1).
Признавая существование во вселенной многих небес, Ориген более или менее подробно останавливается только на первых трех небесах. Первое небо, по его представлению, находится в пространстве, лежащем между землей и твердью включительно, т.-е. неподвижной сферой звезд, известной у греков под именем ἀπλανῆ 2). Второе небо, по мнению Оригена, представляет собой находящуюся по ту сторону тверди небесную землю. Это та земля, которую Господь обещал в качестве наследия кротким и смиренным сердцем (M ф. 5, 5)3). Ее наследуют также те, которые очистятся от грехов через наказания 3). Наконец, третье небо, по учению Оригена, есть небесный свод второго неба или небесной земли. Это небо представляет собой в собственном смысле небо (coelum principaliter)5). На нем, по словам Спасителя, написаны имена святых 6). Сюда восходят души тех людей, которые узко здесь на земле всецело повиновались слову Божью и научи-
1) Ibid., ser. 51 ((Mg. XIII, 870) col. 1678D; Ibid., ser. 51 (Mg. XIII, 871) col. 1680CD.
2) De princ., lib. II, cap. III, 6, 83 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 124); p. пер. вып. I, стр. 106—107.
3) Ibid., lib. II, cap. III, 6, 83 ( Koetschau, op. cit.. Bd. V, S. 124); p. пер. вып. 1, стр. 107; ibid., lib. II, cap. III, 7, 84 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 126); p. пер. вып. I, стр. 109.
4) Ibid., lib. II, cap. III, 7, 84 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 126); p. пер. вып. I, стр. 109.
5) Ibidem.
6) Ibid., lib. II, cap. III, 6, 83 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. J24); p. пер. вып. I, стр. 107.
129 —
лись воспринимать премудрость Божью. Сюда переходят Также души, достигшие высшего совершенства на втором небе или небесной земле 1).
Кроме рассмотренных небес, Ориген довольно подробно говорит еще о рае, который, по его мнению, служит местом более или менее продолжительного пребывания праведников непосредственно после их смерти. Место этого рая и значение пребывания в нем Ориген определяет в следующих выражениях. «Я думаю,—так рассуждает Ориген в передаче Руфина, — что святые, выйдя из этой жизни, будут пребывать в некотором месте, находящемся на земле (in terra posito), которое Божественное Писание называет раем (paradisum)». Этот рай будет «местом учения, так оказать, аудиторией или школой душ (eruditionis loco et, ut ita dixerim, auditorio vel schola animarum), где они будут учиться всему тому, что видели, а также будут получать некоторые указания о последующем и будущем (de consequentibus et futuris), подобно тому как и, находясь в этой жизни, они воспринимали отчасти некоторые откровения о будущем, хотя как бы через зеркало и в форме загадок,—о том будущем, которое с полной ясностью открывается в своем месте и в свое время» 2). Считая рай местом временного пребывания душ умерших праведников и наслаждения их благами непосредственно после смерти, Ориген в другом месте своих сочинений определяет его, как δικαίων οἰκητήριον 3). Он говорит о райских благах 4), в сравнении с которыми страдания настоящего мира незначительны 5). Му-
1) Ibid., lib. ΙΙ, cap. III, 7, 84 (Koetschau, ор. cit, Bd. V, S. 126); p. пер. вып. I, стр. 109—110.
2) Ibid., lib. II, cap. XI. 6, 106 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 189—190); p. пер. вып. I, стр. 178.
3) Selec. in psalm. IX, 18 (Mg. XII, 587) col. 1189D.
4) Adnot, in Levit., cap. ХХІІI, 40 (Migne, ser. gr., (1857), t. XVII) col. 20C.
5) Exhort, ad mart. XLIX, 309 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 46); p. пер., стр. 68.
130
неников, по представлению Оригена, Христос вводит в рай, так что они не боятся ни херувима о огненным мечом, который не позволяет недостойным приближаться к древу жизни, ни адской змеи 1) Кто, говорит Ориген, достиг рая, тот не может быть низвергнутым в геенну 2).
Есть упоминание в творениях Оригена и о царствии небесном и лоне Авраама. Повинующиеся слову Божью и воспринявшие еще здесь на земле премудрость Божью, по мнению Оригена, удостоятся на том свете неба или царства небес (coeli vel coelorum regni)3). Объясняя же библейский рассказ о выходе евреев из Египта в смысле выхода души из тьмы этого мира и вступления ее в другой мир, катехет Александрийский говорит, что последний есть или лоно Авраама, или рай (vel sinus Abrahae , vel paradisus)4).
Противоположную сторону «небесного (coelestium)» во вселенной, по учению Оригена, занимает «преисподняя (infernorum)». Ее катехет Александрийский определяет, как χώρων ᾅδου 5). Это — κολαστῆριον τῶν ἀμαρτωλῶν 6). Жители этой адской страны называются καταχθόνιοι и состоят, с одной стороны, из демонов, а с другой,—из душ умерших грешников7). В аду, по мнению Оригена, существуют разные места, которые распределяются между грешниками,
1) Ibid, XXXVI, 298 (Koetschau, ор. cit., Bd. 1, S. 33—34); p. пер. стр. 47.
2) Comm. in ep. ad Rom., lib. IX, 41 (Mg. XIV, 664) col. 1244CD.
3) De princ., lib. II, cap. 111,7, 84 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 126); p. пер. вып. I, стр. 109.
4) In Numer., hom. XXVI, 4 (Mg. XII, 372) col. 776B.
5) De princ., lib. IV, 10(26,[23]), 185 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 337); p. пер. вып. I, стр. 358.
б) Selec. in psalm. IX, 18 (Mg. Xlf, 587) col. 11S9D.
7) Comm. in Io. I, 1, lib. I, cap. XXXI, 220 (Preuschen, op. cit. Bd. IV, S. 39).
131 —
соответственно степени их греховности ( τόπων διαφόρων τυγχάνειν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῶν ἀμαρτημάτων) 1).
Кроме ада, Ориген в своих творениях упоминает еще о геенне, как месте наказания (κολαοτήριον) грешников. По свидетельству св. Евангелия, говорит Ориген, геенна—это такое место наказания, где очищаются от своих грехов души умерших грешников 2). Ориген называет рассматриваемое место наказания и очищения грешников, соответственно новозаветному словоупотреблению, γέενναν τοῦ πυρὸς 3). За прелюбодеяние, как один из самых больших грехов, согласно Мф. 5, 22, обещается в загробном мире μεῖζόν τι κολαστίριον τῆς γεέννης τοῦ πυρός 4).
4. Учение о небесном блаженстве.
«Те люди, говорит Ориген, которые исполняют заповеди, будет ли это из любви к ним или из-за страха наказаний, могущих последовать за нарушение их, те получат награду»5). «Те люди,—пишет он в другом месте,—которые живут здесь на земле по слову (κατὰ λόγον) Христа, могут иметь надежду на получение на том свете славной награды»), «Великая награда ожидает на небе тех христиан, которые претерпят гонения за праведную жизнь»7). Через страдания в настоящей жизни «мы как бы покупаем блаженство (ὡσπερεὶ ὠνούμεθα τὴν μακαριότητα)8).
1) De princ., lib. IV, 10(26(23]), 185 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, 8. 337); p. пер. вып. I, стр. 358 cp. ibid., lib. II, cap. IX, 3, 98 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 167); p. пер. вып. I, стр. 153,
2) Contra Cels., lib. VI, cap. XXV, 649 ( Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 95).
3) Comm. in Matth., t. XIII, 25 (Mg. XIII, 604) col. 1161B.
4) In Ierem., hom. ХVIII, 15, 261 (Dr. E. Klostermann, Origenes Werke, Ieremiahomilien. Klageliederkommentar. Erklärung der Samuel—und Königsbücher (Leipzig 1901) Bd. Щ, S. 175).
5) In Gen., hom. VII, 4 (Mg. ΧΙΙ. 79) col. 201 B.
б) Contra Cels., lib. V, cap. Ll, 617 ( Koetschau, op. cit.. Bd. II, S. 55).
7) Exhort, ad mart. IV, 276 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 5); p. пер., стр. 7.
8) Ibid. II, 275 ( Koetschau , op. cit., Bd. I, S. 4); p. пер., стр. 5.
— 132 —
Согласно с Св. Писанием, Ориген называет блаженство, ожидающее на том свете праведных людей, общим именем— σωτηρία или salus. Он пишет, что нам Христом даруется спасение (salus, quae а Christo est)1).
Определяя сущность небесного блаженства, Ориген полагает, что оно, прежде всего, доставит человеческим душам, которые им будут наслаждаться, великую славу. Страдания нашего времени, которыми мы как бы покупаем блаженство (μακαριότης), не сравнимы, говорит Ориген, с будущей славой (τὴν μέλλοοσαν δόξαν), которая в нас откроется (ἀποκαλύπτεσθαι εἰς ἡμᾶς), а наша временная и незначительная печаль доставит нам вечную и безграничную славу2). Небесную славу (δίξαν οὐράνιον),—пишет Ориген в другом месте,—наследуют те люди, которые сами учатся божественной мудрости и других ей научают 3).
1) De princ., lib. I, cap. VI, l, 69 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 78);. p. пер. вып. I, стр. 66.
Сын Божий, по рассуждению Оригена, пожелал явиться на землю pro salute generis humani (Ibid., lib. IV, 4, (31 j 191 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S, 353); p. пер. вып. I, стр. 374). Человек возрождается через Бога к спасению (Id salutem) (Ibid., lib. I, cap. III, 5, 62 (Koestchaur ор. cit, Bd. V, S. ô4); p. пер. вып. I, стр. 46). Ориген считает предметом церковного учения веру в то, что некоторые из ангелов служат Богу при устроении спасения людей (salutem hominum) (Ibid., praef., lib. I, 10, 49 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 16); p. пер. вып. I, стр. 11). По его мнению, Св. Писание дано Богом для спасения людей (εἰς ἀνθρώπων σωτηρίαν) (Ibid., lib. IV, 4 (11), 168 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 313); p. пер. вып. I, стр. 327). Кроме того, Ориген, согласно с церковным учением, опровергает мнение, по которому люди, вследствие естественного устройства своей природы, достигают спасения или погибают (φύσει ἐκ κατασκευής σῳζομένας ἡ ἐκ κατασκευής ἀπολλυμένας) (Contra Cels., V, cap. LXI, 624 (Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 64). Напротив, по мнению катехета Александрийского, в свободной воле человека заключается причина его спасения (In Numer., hom. XII, 3 (Mg. XII, 316) col. 665A), Особенно, по воззрению Оригена, мы приобретаем для своих душ истинное спасение (τὴν ἀληθὴ σωτηρίαν) в тех случаях, когда желаем их погубить ради Христа, и именно мы его приобретаем через мученическую смерть (Exhort, ad mart. XII, 282 (Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 12); p. пер., стр. 19—20).
2) Exhort, ad mart. JI, 275 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 4); p. пер., стр. 5; Comm. in ep. ad Rom., lib. VII, 4 (Mg. XIV, 546) col. 1109A.
3) Expos, in prov., cap. III, 32 (Mg. XVII) col. 169D.
133
Через достижение блаженства, далее, по учению Оригена, души умерших праведников становятся подобными ангелам. Они, по его выражению, достигши совершенства (τελειωθέντας), будут ἰσάγγελοι . Мы знаем, пишет он, что праведные люди после воскресения мертвых будут подобны небесным ангелам (ὡς οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν)1) Созданный по образу Божью человек, — замечает Ориген в другом месте,—будет застольником ангелов (ὁμοέστιος ἀγγέλοις γένοιτο)2). Кто может следовать за Христом и вместе с Ним подниматься на небесные высоты, тот, по представлению катехета Александрийского, не будет больше человеком, но как бы ангелом Божьим ( tanquam angelus Dei)3).
Находясь на том свете в общении с ангелами и как бы уподобляясь им, души умерших праведников, затем, по учению Оригена, наслаждаются созерцанием духовных вещей. Мы, говорит Ориген, при постоянном воздействии на нас Отца, Сына и Святого Духа, возобновляемом на всех ступенях совершенства, некогда получим возможность созерцать святую и блаженную жизнь (intueri possumus sanctaoi ac beatam vitam)4), потому что целью существования разумных существ служит — ἡ τῶν νοητών καὶ ἀοράτων θεωρία 5) или просто — τὸ θεωρητικόν6) и ἡ θεωρία (καὶ ἡ ἐν αὐτῇ τῶν δικαίων καὶ μακαρίων πανὴγυρις)7). Мы, пишет Ориген, после борьбы и страданий во время настоящей жизни,
1) Contra Cels., lib. IV, cap. XXIX, 522 ( Koetschau , op, cit., Bd. I, S. 298); p. пер. ч. I, стр. 372.
2) Excer. In psalm. LXXII, 31 (Mg. XVII) col. 147C.
3) In Lev., hom. IX, 11 (Mg. XII, 244) col. 523D—524A.
4) De princ., lib. I, cap. III, 8, 64 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, 62); p. пер. вып. I, стр. 52.
5) Contra Cels., lib. III, cap. LVI, 484 ( Koetschau, op. cit., Bd. 1, S. 250); p. пер. ч. 1, стр. 298.
6) Comm. in Ио. I, 1, lib. I, cap. XVI, 91 (Preuschen, op. cit., Bd. IV, S.
7) Contra Cels., lib. VI, cap. LXI, 679 ( Koetschau, op. cit., Bd. II, S, 331).
134
надеемся достигнуть небесных высот, дабы там получить источники воды, которая, по учению Христа, течет в жизнь вечную, и потоки созерцаний (τῶν θεωρημάτων), которые находятся над небесами (ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν). Если мы там будем прославлять Господа, то Он не удалит нас с неба. Напротив, мы всегда там будем пребывать в созерцании невидимых вещей Божьих (ἀεὶ δὲ πρὸς τῇ θέᾳ ἐσόμεθα τῶν ἀοράτων τοῦ Θεοῦ) 1) Что особенно важно в данном случае,—это то, что тогда мы не будем более познавать божественных вещей через дела творения, но непосредственно, так сказать, лицом к лицу (1 Кор, 13, 12) 2). Созерцая на том свете духовные предметы, праведные души, по мнению Оригена, естественно, будут там пребывать в общении с Богом и созерцать Его. Велико и весьма желательно, говорит Ориген, блаженство (μακαριότης) 3), потому что оно находится у Бога (ἡ παρὰ Θεῷ μακαριότης) 4) и соединяет с Ним 5). Его сущность состоит в общении с Богом (ἡ Θεοῦ κοινωνία) и блаженной жизни с Ним (ἡ μακαρία μετὰ Θεοῦ) 6). Определяя сущность небесного блаженства, Ориген в одном месте своих творений, как передает Руфин, заявляет, что праведники на том свете будут созерцать лицом к лицу разумную духовную субстанцию (intuebitur rationabiles intellegibl lesque substantias facie ad faciem) или причину вещей (rerum causas) 7). Они будут питаться пищей, которая, по своей-
1) Ibid., lib. VI, cap. XX, 645 ( Koetschau , op. cit., Bd. II, S. 91).
2) Ibid., lib. VI, cap. XX, 645 ( Koetschau , op. cit., Bd. II, S. 91) cp. Schol. in cant. cant., cap. II, 3 (Mg. XVII) col. 261B.
3) Contra Cels., lib. III, cap. LIX, 487 ( Koetschau , op. cit., Bd. I, S. 254); p. пер. л. I, стр. 303.
4) Ibid., lib. III, cap. XLVII, 478 ( Koetschau , op. cit., Bd. I, S. 243); p. пер. ч. I, стр. 288.
5) Exhort. ad mart. III, 275 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 4); p. пер., стр. 6.
6) Contra Cels., lib. III, cap. LVI, 484 ( Koetschau , op. cit., Bd. I, S. 251); p. пер. л. ῆ стр. 298.
7) De princ., lib. ΙΙ, cap. XI; 7, 107 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 191); p. пер. вып. I, стр. 180.
135 —
сущности, является ни нем другим, как созерцанием и познанием Бога (theoria et intellectus Dei)1). Те, которые обладают чистым сердцем (οἱ καθαροὶ τῇ καρδία), по мнению Оригена, будут наслаждаться созерцанием и красотой (τῇ θέᾳ καὶ τῷ χάλλει) невидимого и неподлежащего изображению мира, а через это они приготовятся к созерцанию Бога (ὁρᾶσθαι τὸν Θεόν)2). Когда мы достигнем созерцания Бога, тогда, говорит катехет Александрийский, мы действительно будем наслаждаться самой добродетелью (ipsas vero virtutes), между тем как во время настоящей жизни праведник живет более в тени добродетели, нем в самой добродетели (magis in umbra virtutum, quam in ipsis virtutibus vivit)3). Увещевая к мученичеству, Ориген удивляется, почему мы медлим с освобождением от тела. Ведь, тогда, продолжает он, мы будем наслаждаться вместе с Иисусом Христом собственным блаженным покоем (τὴν οἰκείαν τῇ μακαριότητι), вполне созерцая Слово (ὅλως θεωροῦντες λόγον)4).
Наконец, по учению Оригена, сущность небесного блаженства будет состоять в возвращении душ умерших праведников к той чистоте и совершенству, с какими человек был создан сначала ( ad integrum et perfectuin , sicut ex initio factHs est homo), другими словами, в воссоздании в душах умерших праведников образа и подобия Божия (imaginem et similitudinem Dei) 6), Высшее благо (summum bonum), к которому стремится вся разумная природа и которое иначе называется конечной цепью (fi -
1) Ibid., lib. II, cap. XI, 7, 107 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 192); p. пер. вып. I, стр. 181.
2) Comm. in Io. VIII, 23, lib. XIX, cap. XXII, 146 (Preuschen, op. cit., Bd. IV, S. 323—324).
3) Comm. ep. ad Rom., lib. VI, 3 (Mg. XIV, 573) col. 1062A.
4) Exhort. ad mart. XLVII, 307 (Koetschan, op. cit., Bd. I, S. 43); p. пер., стр. 65.
5) De princ., lib. ΙΙ, cap. XI, 3, 105 ( Koetschau, op. cit, Bd. V, S, 186); p. пер. вып. I, стр. 173—174.
136 —
nis) всего, многие философы, по словам Оригена, полагают в возможном уподобления Богу (pro ut possibile est , similem fieri Deo). Это определение высшего блага, по мнению катехета Александрийского, они не столько изобрели сами, сколько заимствовали из Св. Писания, так как Моисей раньше всех указывает на него, повествуя о создании первого человека. И рече Бог, — пишет он,— сотворим человека по образу нашему и по подобию. R сотвори Бог человека,—продолжает он далее, — по образу Божию сотвори его (Быт. 1, 26. 27). Как видим, в последнем выражении Моисей умолчал о создании человека по подобию Божью. В последнем выражении, говорит Ориген, «он сказал: по образу Божию сотвори его, но умолчал о подобии». Этим, думает Ориген, он указывает на то, что человек получил достоинство образа Божия при первом творении. Что же касается совершенства подобия Божия, то его он получит в конце времен. И это потому, что данное подобие человек должен приобрести собственными усердными трудами через подражание Богу. Впрочем, по мнению Оригена, дает более ясное определение высшего блага св. апостол Иоанн, когда говорит: «Дети, мы еще не знаем, чем мы будем. Но если нам будет открыто о Спасителе, то, без сомнения, вы скажете: мы будем подобны Ему (similes Ei erimus)» (ср. Ио. 3, 2). Этими словами св. Апостол весьма определенно указывает на последнюю нашу участь, состоящую в подобии Богу, на которое нужно надеяться и которое будет распределено между душами умерших праведников, сообразно с совершенством их заслуг (similitudinem Dei sperandam, quae pro meritorum perfectione praestabitur). Наконец, по воззрению Оригена, Сам Господь указывает на то, что это подобие но только осуществится, но осуществится именно по его ходатайству, когда Он говорит: «Отче,... хощу, да идеже есмь Аз, и
— 137 —
тии будут со Мною. Как Я и Ты — одно, так да и тии в нас едино будут» (Ио. 17,24. 21). Эти слова,—так Ориген, в передаче Руфина, заканчивает данную свою речь,— показывают, что «самое подобие, если так молено сказать, совершенствуется и из подобия становится единством, несомненно, по той причине, что в совершении или в конце будет Бог все и во всем» 1).
Представляя себе таким образом сущность небесного блаженства, Ориген полагал, что всей его полноты души умерших праведников непосредственно после своего вступления в загробный мир 2) не могут достигнуть. Напротив, они овладевают им постепенно. Последнюю мысль Ориген раскрывает, когда объясняет, почему св. апостол Павел имел желание разрешитися и со Христом быти (Фил. 1, 23). Он, по мнению Оригена, был уверен в том, что, возвратившись ко Христу, он ясно узнает смысл всего, что делается на земле, а именно—о человеке, его душе, уме и духе, а также смысл и значение
1) Ipsa similitudo, si dici potest, proficere et ex simili unum iam fieri, pro eo sine dubio quod in consummatione vel fine omnia et in omnibus Deus est. Ibid., lib. III, cap. VI, 1, 152 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 280—281); p. пер. вып. I, стр. 290—292.
2) Участие душ умерших праведников в небесном блаженстве тотчас же после их смерти вполне согласно с учением Оригена о сошествии Христа во ад Своей душой (Contra Cels., lib. II, cap. XLIII, 419 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 166); p. пер. ч. I, стр. 178; In Matth, comm. ser. 132 (Mg. XIII, 922) col. 1780D; Comm. in Ио. XIII, 33, lib. XXXII, cap. XXX, 377 (Preuschen, op. cit., Bd. IV, S. 477); Comm. in ep. ad Rom., lib. I, 5 (Mg. XIV, 466) col. 850A cp. Comm. in. Io I, 26 идал., lib. VI, cap. XXXIV—XXXV, 170—174 (Preuschen, op. cit., Bd. IV, S. 143—144) ch. ibid. I, 7, lib. II, cap. XXXVII, 223—224 (Preuschen, op cit., Bd. IV, S. 95-96); In Luc., hom. IV (Mg. XIII, 937) col. 181 IC; In I Reg. XXVIII, hom. II (Mg. XII, 494—495) col. 1022B) с целью открыть двери ада (In I Reg. XXVIII, hom. II (Mg. XII, 497—498) col. 1P28AB) и вывести из него души умерших людей в рай (Comm. in Ио. I, 1, lib. I. cap. XXXI, 217—220 (Preuschen, op. cit., Bd. IV, S. 38—39); In Exod., hom. VI, 6 (Mg. XII, 149) col. 335CD—336AB), однако не все, a лишь воспринявшие Его проповедь (Contra Cels., lib. ΙΙ, cap. XLIII, 419 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 166); p. пер. ч. I, стр. 178).
— 138 —
обрядов и установлений Ветхого Завета, разные царства живых существ и их роды и виды, смысл и цепь всех вещей, суд божественного промысла о каждом отдельном существе и проч. Относительно всего этого умершие праведники, по воззрению Оригена, получат знание в раю, куда они, как мы уже знаем, идут непосредственно после своей смерти. Отсюда, они, имея более или менее зрелый ум, переходят в воздушное место (a ëris locum) и, так сказать, через обители различных мест (per locorum sin gulorum mansiones) достигают небесного царства (caelorum regna). В каждой из этих потусторонних стран, по представлению катехета Александрийского, умершие праведники, во-первых, видят то, что там делается, а во-вторых, узнают основание, почему это так делается. Они по порядку будут проходить небеса (coelos), следуя за прошедшим их Иисусом Христом Сыном Божьим, Который сказал: «Хощу, да идеже есмь Aas, и тии будут со мною» (Ио. 17, 24), и Который засвидетельствовал о многих обителях у Отца (Ио. 14, 2). Находясь в этих обителях, души умерших праведников узнают, в нем состоит сущность всего существующего и его причину. Наконец, они достигнут уразумения невидимого и сверхъестественного. Таким образом, по учению Оригена, на том свете «разумное существо постепенно будет возрастать, при этом не так, как оно возрастало в этой жизни, во плоти или в теле и душе, но так, что совершенный ум, с обогащенной мыслью и чувством, будет приближаться к совершенному знанию; при этом ум уже не будет испытывать препятствий со стороны этих телесных чувств, но, обогащенный умственными приращениями, всегда будет созерцать причины вещей с полной ясностью и, так, сказать, лицом к лицу» 1). Мысль о постепенном усвое-
1) Ita crescens per singula rationabilis natura, non sicut in carne vel corpore et anima in hac vita crescebat, sed mente ac sensu aucta ad perfectam scientiam mens iam perfecta perducitur, nequaquam iam ultra
139
нии небесного блаженства душами умерших праведников Ориген довольно подробно раскрывает также в другом месте. По его мнению, как на этой земле закон служил проводником ко Христу для тех, кто его принимал, дабы они могли с большей легкостью усвоить Его совершенное знание, так и умершие праведники наследуют небесную землю, которая научит их истинному и вечному закону, дабы они без всякого труда могли овладеть теми совершенными небесными установлениями, к которым уже ничего нельзя прибавить 1) Итак, по учению Оригена, души умерших праведников, очевидно, согласно с сказанным выше, после рая достигают небесной земли и того учения, которое на последней преподается, дабы, таким образом, приготовиться к восприятию лучших установлений. Сначала на небесной земле они научаются святыми силами, а затем Сам Христос наставляет тех, которые могут воспринять Его, как Премудрость. Он будет царствовать над ними до тех пор, пока не покорит их Отцу, покорившему Ему все, т.-е. до того времени, когда они станут способными принять Бога, Который будет для них все во всем (ср. 1 Кор. 15, 28) 2).
istis carnalibus sensibus impedita, sed intellectualibus incrementis aucta, semper ad purum et, ut ita dixerim, facie ad faciem rerum causas inspiciens. Ibid., lib. II, cap. XI, 5—7, 105—107 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 188—191); p. пер. вып. I, стр. 176—180.
1) Ibid., lib. IH, cap. VI, 8, 155 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 290); p. пер. вып. I, стр. 301.
2) Руфин данные рассуждения Оригена передает в таких выражениях: Itaque., paulatim proficientes et ascendentes modo et ordine perveniant primo ad terram illam, et eruditionem, quae in ea est, in qua ad meliora et illa, quibus iam addi nihil potest, instituta praeparentur. Post actores enim et procuratores Christus Dominus, qui est rex omnium, regnum ipse suscipiet, id est post eruditionem sanctarum virtutum eos, qui eum capere possunt secundum quod sapientia est, ipse Instruet, regnans in eis tandiu usquequo eos etiam Patri subiciat qui sibi subdidit omnia, id est ut, cum capaces Dei fuerint eifecti, sit eis Deus omnia in omnibus. Ibid., lib. III, cap. VI, 9, 155 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 290—291); p. пер. вып. I, стр. 301.
140
Свое учение о постепенном усвоении душами праведников небесного блаженства Ориген считал несомненным, так как оно, по его мнению, основывается на свидетельствах Св. Писания. Касаясь вопроса о выходе евреев из Египта, катехет Александрийский утверждал, что библейское повествование о нем указывает на переход души из человеческого тела в другой мир. Душа, продолжает Ориген далее, оставивши свое тело, переходит или на лоно Авраама, или в рай (vel sinus Abrahae vel paradisus), а также в другие места и обиталища, какие только известны Богу (si qua novit Deus esse alia loca, vel alias mansiones), дабы она, переходя из одного места в другое, наконец, присоединилась к тому течению, которое услаждает град Божий (ad flumen illud, quod laetificat civitatem Dei), достигла той участи, которая в качестве наследия была обещана отцам (intra ipsum sortem promissae patribus haereditatis) 1) Под разными местами, в которых были евреи во время своего пребывания в пустыне, Ориген разумеет различные страны, через которые после воскресения из мертвых будут проходить души, все более и более просвещаясь в них светом мудрости, пока они, наконец, не перейдут к Отцу светов (in unaquaque manвиопе illustrata sapientiae lumine usque ad ipsum perveniat luminum Patrem) 2).
Если Ориген полагал, что небесное блаженство душами умерших праведников усвояется постепенно, то отсюда уже следует, что он также учил о различных его степенях. И действительно, он ясно высказывает мысль, что Христос, соответственно заслугам, размещает людей в разных частях и жилищах неба 3). Только о душах мучеников Ориген постоянно выражается в том смысле, что они непосредственно после разлучения с
1) In Numer., hom. XXVI, 4 (Mg. ΧΙΙ, 372) col. 776BC.
2) Ibid., hom. ХХVII, 6 (Mg. XII, 377) col. 787AB.
3) Ibid., hom. ХVIII, 3 (Mg. XII, 385) col. 803D.
— 141 —
своим телом удостаиваются самого высшего небесного блаженства 1). Правда, ссылаясь на 1 Солун. 4, 16, по-видимому, он допускал, что и другие праведники непосредственно после своей смерти могут достигать высших степеней небесного блаженства2). Кто имеет чистое сердце, тот, говорит Ориген, если он оставит тело, тотчас удостоится созерцания (statim mereatur videre) ангелов, Святого Духа, Искупителя и Бога Отца. Наоборот, кто запятнал себя какой-либо нечистотой, тот, хотя и будет иметь возможность пребывать в том же месте, в каком будет находиться обладающий чистым сердцем, однако он не будет созерцать Бога 3). В то время как одни,— говорит катехет Александрийский в другом месте,—не имея наследия на земле, переходят на самое высшее небо, всегда пребывают в Господе (supergrediuntur summa coeli fastigia, et ibi semper in Domino) и во всем наслаждаются высшей радостью, другие, которые не заботятся о добродетельной жизни, достигнут лишь наследия земли (haereditatem terrae accipient) 4).
Впрочем, если Ориген и различал разные степени небесного блаженства, то он, тем не менее, не считал их навсегда устойчивыми. Допуская постепенное усвоение небесного блаженства душами умерших праведников, он полагал, что все они некогда получат одинаковую награду спасения (πᾶσι δίδοται ὁ ἴσος τῆς σωτηρίας μισθός)5) и будут сиять как бы одно солнце (λάμψουσιν οἱ πάντες ὡς εἰς ἥλιος)6).
1) Exhort. ad mart. I—III, 274—276 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 3—5); p. пер., стр. 3—7; ibid. XIII, 282-283 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 12—14); p. пер., стр. 20—21; ibid. XXXIX, 300 ( Koetschau, op. cit, Bd. I, S. 37); p. пер., стр. 51.
2) In ep. I ad Thess. (Mg. XIV, 694) col. 1302BC.
3) In Luc., hom. III (Mg. XIII, 935—936) col. 1809AB.
4) In Numer., hom. XXI, 1 (Mg. XII, 352) col. 738AB.
5) Comm. in Matth., t. XV, 36 (Mg. XIII, 706) col. 1360B.
6) Ibid., t. X, 2. 3 (Mg. XIII, 444) col. 840C.
142 —
5. Учение об адских мучениях.
Подобно тому, как небесное блаженство принадлежит душам умерших праведников, адские мучения, по учению Оригена, ожидают на том свете души умерших грешников1).
Сущность адских мучений Ориген, главным образом, полагал в вечном огне. По его мнению, душа человека, который вел на земле преступный образ жизни, на том свете будет предана вечному огню и наказаниям (igni aeterno ac suppliciis mancipanda)2). Имея в виду будущие наказания грешников, Ориген трактует относительно— ignis aeterni comminatio3). Свое учение о том, что люди обладают свободной волей, между прочим, он выводит из того, что на том свете праведникам обещается награда, а грешникам—вечный огонь (τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον)4). Ориген соглашается с мнением Цельса, что Христос угрожает тем людям, которые Его не почитают, веяным огнем (πῦρ αἰώνιον)5) и что христиане вместе с многими из язычников верят в вечные наказания (κολάσεις αἰώνιοι)6) или в совершенно вечные мучения (πάμπαν αἰώνια κακά)7). Мало того, он замечает, что учение о вечных наказаниях (κολάσεις αἰώνιοι) имеет сильное влияние на нравственную жизнь христиан 8). Такое значение адские мучения, по мнению Оригена, получают потому, что с ними, как с вечными наказаниями (κολάσεις αἰώνιοι), не могут сравняться
1) De princ., praef., lib. I, 57, 43 ( Koetschau, op. cit.. Bd, V, S. 12); p. пер. вып. I, стр. 8.
2) Ibidem.
3) Ibid., lib. II, cap. X, 4, 102 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 177); p. пер. вып. I. стр. 1G5.
4) Ibid., lib. Ht, cap. I. 6, 112 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 203); p. пер. вып. I, стр. 193.
5) Contra Cels., lib. VII, cap. IX, 700 ( Koetschau , op. cit., Bd. II, S. 161).
6) Ibid., lib. VIII, cap. XLVIII, 776 ( Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 262).
7) Ibid., lib. VIII, cap. XLIX, 778 ( Koetschau , op. cit., Bd. II, S. 264).
8) Ibid., lib. VIII, cap. XLVIII, 777 ( Koetschau , op. cit., Bd. II, S. 263).
143
все возможные бедствия настоящей жизни 1). Правда,—говорит катехет Александрийский в другом месте,—есть люди, которые, желая предаваться греховной жизни, скрывают, хотя и с трудом, свой страх пред вечными наказаниями (κολάσεις αἰώνιοι)2), Весьма часто Ориген говорит о том, что свое наказание на том свете грешники найдут в вечном огне (in ignem aeternum)3). Их, по его мнению, там ожидает вечный позор (αἰσχύνη αἰώνιος)4), вечная погибель (ἀπολεία αἰωνία)5). Иудеи, пишет Ориген, которые хулили Христа, окончательно погибнут (εἰς τέλος ὀλοθρεύονται)6). Принимая во внимание, что огненная геенна угрожает уже тому, кто назовет своего брата глупым (Мф. 5, 22), катехет Александрийский полагает, что более тяжких грешников, например, прелюбодеев, ожидает в загробном мире какое-то большее наказание, чем огненная геенна (μεῖζόν τι κολαστήριον τῆς γεέννης τοῦ πυρὸς)7).
Утверждая, что адские мучения будут состоять в вечном огне, Ориген, однако, не представлял себе последнего материальным. Напротив, он со всей решительностью защищал мысль, что адский огонь имеет чисто духовный характер. Ссылаясь на слова пророка Исаии: «ходите светом огня вашею и пламенем, еюже разжегосте» (50, 11), катехет Александрийский полагал, что у каждого человека есть собственный огонь, которым он наказывается (uniuscujusquae proprium esse ignem quo punitur), что «каждый
1) Ibid., lib. III, cap. LXXVIII, 499 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 269); p. пер. ч. I, стр. 325.
2) Ibid., lib. VI, cap. XXVI, 650 ( Koetschau, op. cit., Bd. ΙΙ, S. 96).
3) In Matth, comm. ser. 72 (Mg. XIII, 889) col. 1716B; In Lev., hom. XI, 3 (Mg. XII, 249) col. 535A; ibid., hom. XIV, (Mg. XII, 260) col. 557B; In Numer., hom. IX, 5 (Mg. XII, 298) col. 630C; Selec. in psalm., hom. II, 5 (Mg. XII, 688) col. 1385B; Comm. in ep. ad Rom., lib. II, 4 (Mg. XIV, 479) col. 878G идруг.
4) Exhort. ad mart. XXV, 289 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 22); p. пер., стр. 33.
5) Ëxpos. in Prover., cap. X, 24 (Mg. XVII) col. 188D.
6) Excer. in psalm. XXXVI, 22 (Mg. XVII) col. 132D.
7) Ia Ierem., hom. XIX, 15, 261 ( Koetschau , op. cit., Bd. III, S. 175).
144
грешник сам для себя зажигает пламя собственного огня , а не погружается в какой - то другой огонь , зажженный уже раньше кем - то иным или прежде него существовавший (unusquisque peccatorum flammam sibi ipse proprii ignis accendat, et non iu aliquem ignem, qui antea iam fuerit accensus ah alio vel ante ipsum substiterit, demergatur)» 1). Горючим материалом или пищей этого огня, по представлению Оригена, служат наши грехи, которые апостол Павел называет деревом, травой и соломой (I Кор. 3, 12). Подобно тому, как излишек в желудке трудно перевариваемой пищи производит во всем организме лихорадочный жар, который всегда прямо пропорционален количеству присутствующих в организме вредных, воспаляющих веществ, так, когда душа переполняется грехами, в ней вся сумма зла воспламеняется для наказания и возгорается для мук (effervescit ad supplicium atque inflammatur ad poenas). Ни один из наших грехов не проходит бесследно для души, но отображается на ней. Когда, таким образом, составленная целая цепь грехов и злодеяний во всем своем безобразии и наготе вдруг откроется внутренним очам нашей совести, тогда последняя сана будет преследовать, и бить себя своими собственными рожнами и сама она будет против себя свидетельствовать и обвинять себя ( tunc et ipsa conscientia propriis stimulis agitatur atque conpungitur et sui ipsa efficitur accusatrix et testis). Последнюю мысль, по мнению Оригена, подтверждает св. апостол Павел, когда говорит: «Между собою помыслом осуждающим или отвещающим, в день, егда судит Бог тайная человеком, по благовестию моему, Иисусом Христом» (Рим. 2, 15—16). «Из этих слов понятно,—так Руфин передает заключительные рассуждения Оригена по взятому вопросу,—что орудия мучения образуются вокруг самой субстанции души, именно из гибельных греховных настроений (ex quo intel-
1) De princ, lib. II, cap. X, 4, 102 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 177); p. пер. вып. 1, стр. 165.
145 —
ligitur quod circa ipsam animae substantiam tormenta quaedam ex ipsis peccatorum noxiis affectibus generantur)» 1). Чтобы лучше понять сущность и силу этих внутренних мучений через адский огонь, по воззрению Оригена, достаточно вспомнить, что люди, терзаемые сильными страстями, например, безумной любовью, ревностью, завистью, гневом или тяжкой скорбью, очень часто считают более желательной для себя смерть, чем перенесение мучений данного рода2). Особенно наглядно катехет Александрийский представляет сущность адских мучений через сравнение их с разными болезнями тела. Как вывихи различных членов тела причиняют ему самую невыносимую боль, а особенно хирургический процесс разобщения связи между известными членами тела через отнятие от него одного или многих из них, так, думает Ориген, душа должна испытывать самые невыносимые мучения вследствие одного только сознания своей разобщенности с Богом и с той гармонией, в которой она Богом была создана для доброго расположения и дел, а также вследствие сознания своего собственного внутреннего разлада, своего растерзанного на части беспорядочного состояния 3).
Адский огонь, в который идут отрекающиеся от Христа, по мнению Оригена, отличается от нашего обычного огня. Он, с одной стороны, согласно свидетельству пророка Исаии (66, 24), является верным (aeternus), а с другой, — невидимым (invisibilis), при этом обладающим свойством жечь невидимое (invisibilia comburat) 4). Его нематериальность обнаруживается также из того, что в нем горят бесы, видя людей исправляющимися5).
1) Ibid., lib. II, cap. X. 4, 102 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 177—178); p. пер. вып. I, стр. 165—166.
2) Ibid., lib. II, cap. X, 5, 102 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 178); p пер. вып. I, стр. 166.
3) Ibid., lib. H, cap. X, 5, 102 ( Koetschau, op. cit, Bd. V, S. 179); p. пер. вып. I, стр. 167.
4) In Matth, comm. ser. 72 (Mg. XIII, 889) col. 1716BC.
5) In Numer., hom. XXVII, 8 (Mg. XII. 378) col. 789D.
— 146
Весьма часто катехет Александрийский, ссылаясь на Втор. 4, 24, называет Самого Бога тем огнем, который истребляет грешников (ὁ Θεὸς πῦρ καταναλίσχον ἑστί ... τοῖς ἀμαρτωλοίς)1), который истребляет в них, как дерево, траву и солому, борющуюся с духом плоть2). Это тот огонь, который принес на землю Христос, дабы истребить τῆν κακίαν , ἐξιν οὖσαν ὑλικήν , ὡς χόρτον , καλάμην , τὰς μοχθηρὰς ἕξεις 3).
Полагая сущность адских мучений в духовном огне, Ориген смотрел на них, не только как на наказание грешников, но вместе с тем считал их средством врачевания нравственно испорченной природы последних. Сказавши о том, что адский огонь будет иметь чисто духовный характер, катехет Александрийский высказывает предположение, что, кроме огненных мучений, существуют еще другие, нам неизвестные, способы наказаний и другие источники мучений грешников, которые известны Тому, Кто является Врачом наших душ (qui est medicus animarum nostrarum). «Если, говорит Ориген, в передаче Руфина, для выздоровления тела от тех болезней, какие мы приобрели через пищу и питье, мы иногда считаем необходимым лечение при помощи более или менее сурового и жестокого средства, а иногда,—если этого требует качество болезни, — нуждаемся в мучительном применении железа (rigore ferri) и в болезненном отсечении членов, а если мера болезни превзойдет даже эти средства, то до крайности развившуюся болезнь выжигают даже огнем; то тем более должно думать, что Бог, этот наш Врач, желая истребить болезни наших душ, полученные ими вследствие различных грехов и
1) In Ierem., hom. II, 3, 139 (Klostermann, op. cit., Bd. III, S. 19); ibid., hom XVI, 6, 232 (Klostermann, op. cit., Bd. III, S. 138); Contra Cels., lib. IV, cap. XIII, 509 ( Koetschau, op. eit., Bd. I, S. 283); p. пер. Ч.І, стр. 347.
2) Expos, in Prover. ad cap. XIX, 12 (Mg. XVII) col. 208C.
3) Cp. Selec. in psalm. СХVII1, 140 (Mg. XII, 813) col. 1617C.
— 147 —
преступлений (medicum nostrum Deum volentem diluere vitia animarum nostrarum, quae ex peccatorum et scelerum diversitate collegerant), пользуется подобными же карательными средствами и, сверх того, даже прибегает к наказанию огнем тех, кто потерял здоровье души (insuper etiam ignis inferre supplicium his, qui sanitatem animae perdiderunt)» 1) « Бог,— так Руфин передает речь Оригена несколько ниже,— поступает с ( людьми), падшими и предавшимися грехам, точно так же, как врачи, дающие больным лекарства для того, чтобы лечением восстановить их здоровье. Доказательством этого служит повеление еще пророку Иеремии предложить всем народам чашу ярости Божьей, чтобы они ее выпили, обезумели и извергли (25, 15—16). Тут заключается также и угроза, что, если кто не захочет пить, тот и не очистится ( quia si qui noluerit bibere, non mundabitur). Отсюда, конечно, можно заключить, что ярость наказания Божия служит средством для очищения душ (ad purgationem proficiat animarum). Наказание посредством огня тоже нужно понимать и смысле врачебного средства ( pro adiutorio). Об этом учит Исаия, который так говорит об Израиле: «Отмыет Господь скверну дщерей сионских и кровь иерусалимску очистит от среды их духом суда и духом огня» (ср. Ис. 4, 4). О халдеях же он замечает так: «Имаши углие огненное: сяди на них, сии будут тебе помощь» (Ис. 47, 14—15). И в другом месте говорит: «Освятит Господь в пылающем огне». А пророк Малахия пишет: «Сядет (Господь), разваряя и очищая, и очистит сыны Иуды (Левиины)» (Мал. 3, 3)» 2).
Взгляд на будущие наказания грешников, как на средство очищения их испорченной природы, Ориген
1) In princ., lib. II, cap. X, 6,102—103 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 179—180); p. пер. вып. ΙΙ, стр. 167—168.
2) Ibid., lib. II, cap. X, 6, 103 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 180); p. пер. вып. I, стр. 168.
— 148 —
также высказывает и в других местах своих творений. Так, в своем сочинении «Против Цельса» он ясно говорит, что страдания и наказания, которые Бог назначает грешникам, служат врачебным средством (φάρμακα)1). По его мнению, огонь, которым наказываются грешники, имеет очистительный характер (καθαρίζων), а геенна, куда они отсылаются для наказания, является местом их очищения (κάθαρσιν τῶν τοιωνδὶ ψυχῶν)2). Он полагает, что грешники через ἐκπύρωσιν очищаются от своих грехов 3). Он допускает очистительный огонь (τὸ καθάρσιον πῦρ), который некогда уничтожит мир, дабы истребить в нем зло и обновить все существующее (ἐπὶ καθαιρέσει τῆς κακίας καὶ ἀνακαινώσει τοῦ παντὸς)4). Он думает, что Бог, так как Он является добрым Богом (Θεῷ ἀγαθῷ), истребит через огненные наказания грехи (ἀναλώσι τῷ πυρὶ τῶν κολάσεων τὴν κακίαν)5). В очистительном огне (τὸ πῦρ καθάρσιον),—пишет катехет Александрийский в другом месте, — люди найдут свое наказание, но вследствие пребывания в нем они станут святыми 6), потому что Бог таким образом истребит их злые дела 7).
Γ о представлению Оригена, через очистительный огонь на том свете должны пройти все люди, при чем его мучения не распространяют своего действия на совершенных праведников, а только на одних грешников. Все, пишет он, должны идти в огонь (veniendum est
1) Contra Cels, lib. III, cap. LXXV, 497 ( Koetschau , op. cit., Bd. I, S. 267); p. пер. ч. I, стр. 323.
2) Ibid., lib. VI, cap. XXV, 650 ( Koetschau , op. cit., Ed. II, S. 96).
3) ibid., lib. IV, cap. XII, 5C8 ( Koetschau , op. cit., Bd. I, S. 282);
p. пер. ч. I, стр. 346.
4) Ibid., lib. IV, cap. XXI, 515 ( Koetschau, op. cit., Bd. ῆ S. 291); p. пер. ч. I, стр. 360.
5) Ibid., lib. VI, cap. LXXII, 687 ( Koetschau, op. cit.. Bd. II, S. 142).
6) Ibid., lib. V, cap. XV-XVI, 588—589 ( Koetschau , op. cit., Bd. II, S. 16—17).
6) Ibid., lib. IV, cap. XIII, 509 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 283); p. пер. ч. I, стр. 347—348.
149 —
omnibus ad ignem), потому что существует Господь, Который очищает сынов Иуды (purgat filios Iudae) (Мал. 3, 3)1). Нас,—говорит Ориген в другом месте,—ожидает тот огонь, который приготовлен для грешников, и мы пойдем в тот огонь, который всякое дело в его сущности «испытает (probavit)» (1 Кор. 3, 13). В этот огонь мы должны идти все ( omnes nos venire necesse est ad illum ignem). Будет ли это Павел или Петр, — и они должны идти в этот огонь. Впрочем, они услышат следующее: «Если ты пойдешь через огонь, пламя не обожжет тебя» (Ис. 43, 2). Если какой-нибудь человек является подобным мне грешником, то он,—замечает катехет Александрийский, — также пойдет, подобно Петру и Павлу, в этот огонь, однако не пройдет через него так, как последние2). πῦρ καθάρσιον , — трактует Ориген в своем сочинении «Против Цельса»,—предназначается Богом для мира. Он служит огнем наказания и вместе с тем врачевания (δίκης ἅμα καὶ ἰατρείας). Он касается, но не обжигает тех людей, у которых нет ничего такого, что должно быть истреблено этим огнем. Он касается и обжигает тех людей, дела, слова и мысли которых представляют собой дрова, сено и солому 3).
Из учения Оригена о том, что адские мучения будут служить для грешников средством очищения, вытекает его представление о степени их продолжительности. И в самом деле, если загробные наказания будут иметь очистительный характер, то естественно ожидать, что они будут продолжаться лишь до тех пор, пока подвергающиеся им грешники не очистятся от всех своих грехов. Все наши грехи, полагает Ориген, должны быть уничтожены. И никто не выйдет из темницы своей виновности прежде, нем он уплатит последнюю полуш-
1) In Exod., hom. VI, 4 (Mg. ΧΙI, 148) col. 334D.
2) Selec. in psalm. XXXVI, hom. III, 1 (Mg. XII, 664) col. 1337B.
3) Contra Cels., lib. V, cap. XV, 588 ( Koetschau , op. cit. , Bd. II , S . 16).
150 —
ку1) Если кто-либо из людей, по мнению катехета Александрийского принесет с собой для будущего огня много добрых дел, а мало зла, то последнее, подобно свинцу, там быстро расплавится, и такой человек станет подобным чистому золоту. Если же кто-либо из людей туда принесет с собой много грехов, то они, подобно свинцу, будут гореть долго, именно до тех пор, пока совершенно не станет чистым находящееся в этом грешнике малое количество золота. Наконец, если какой-либо человек туда явится совершенно свинцовым, т.-е. очень грешным, то бывает с ним, согласно написанному: «Он, подобно свинцу, погрузится в глубину, в весьма большую воду» (ср. Исх. 15, 10)2). По воззрению Оригена, в течение настоящей жизни мы не можем достигнуть полного очищения от своих грехов. Да и в будущей жизни, по его представлению, не все люди сразу достигают совершенной чистоты. Только те из них, которые проявляют уже здесь на земле в данном отношении, большое усердие, к началу будущего века достигают надлежащего очищения, получая во время всеобщего воскресения свое совершенно свободное от грехов тело. Если же кто-либо из грешников усиленно не стремится к очищению от своих грехов, то он не достигнет его в будущем веке. Напротив, он во всей нечистоте перейдет из одного мирового времени в другое и только к началу третьего будущего века вполне очистите» от всех своих грехов3). Вообще нужно сказать, что Ориген время будущего очищения грешников считает продолжительным. Подобно тому, как наше тело, получившее раны в самое короткое время, требует очень продолжительного времени для своего выздоровления, так,
1) In Luc., hom. XXXV (Mg. ХIII, 974) соl. 1889В; ibid., hom. XXXV (Mg. XIII, 975) col. 1894A.
2) In Exod., hom. VI, 4 (Mg. XII, 148) col. 334D—335A.
3) In Lev., hom, VIII, 4 (Mg. XII, 230) col. 497AB.
— 151 —
—полагает катехет Александрийский,—и наша душа, израненная грехами в самое короткое время, должна весьма продолжительное время переносить мучения для достижения своего полного очищения1). Вполне точно, по мнению Оригена, только Христос знает, сколько времени Бог пожелает мучить грешников в огне, в котором они найдут свое очищение от грехов2). Впрочем, как бы ни были продолжительны огненные мучения, тем не менее они, по убеждению Оригена, прекратятся, когда грешники, освободившись от них, перейдут к Иисусу Христу3).
Считая адские мучения средством очищения нравственно-испорченной природы умерших грешников и полагая, что их продолжительность стоит в прямой зависимости от степени греховности того или иного грешника, Ориген, естественно, должен был признать мысль о том, что загробные наказания имеют временный характер. И действительно, он отрицал вечность адских мучений, потому что она, но его мнению, не совместима ни с понятием о Боге, как совершеннейшем Враче человеческих душ4), ни с понятием о врачуемом через адские наказания грешном человеке, как свободном существе, следовательно, всегда обладающем способностью к исправлению. По мнению Оригена, так как все разумные существа обладают свободной волей, то даже для тех из них, которые совершенно погрузились во зло, сделавши последнее как бы второй своей природой, не потеряна возможность исправления и возвращения в состояние перво-
1) In Ezech., hom. X, 4 (Mg. XIII, 394) col. 744AB.
2) Comm. in ep. ad Rom., lib. VIII, 12 (Mg. XIV, 640) col. 1198B.
3) In Lev., hom. XI, 3 (Mg. XII, 249) col. 535A.
4) De princ., lib. II, cap. X, 6, 102 ( Koetschau , op. cit, Bd. V, S. 179); p. пер. вып. I, стр. 167.
— 152 —
бытного совершенства, если не в настоящем или следующем веке, то, по крайней мере, в будущих веках1)
Однако, считая адские мучения временными, Ориген во многих местах своих сочинений, следуя языку Св. Писания, угрожает грешникам на том свете вечными (aeternus или αἰώνιος) наказаниями в огне или во тьме кромешной 2). Этим Ориген дал повод думать, что он при решении одного и того же вопроса высказывал противоречивые суждения. Но, чтобы устранить это видимое противоречие Оригена, достаточно обратить внимание на то, что учение Св. Писания о вечности адских мучений, по его мнению, допущено с воспитательной цепью.
По представлению Оригена, учение о загробных мучениях, с одной стороны, полезно (τὸ χρήσιμον), а с другой,— истинно (τὸ ἀληθὲς). Оно, по его мнению, вместе с тем ради большей пользы человека возвещается прикровенно (μετ ’ ἐπικρύψεως σομφερὄντως λέγεται)3). Св. Писание,—говорит катехет Александрийский в другом месте,—написано применительно к воззрениям большинства читателей. Оно трактует о страшных вещах в темных выражениях с цепью держать в страхе тех, которые через другие средства не могут выбраться из греховной тины 4). Как детям необходимо говорить о тех вещах, понимание которых соответствует их нежному возрасту, так, полагает Ориген, и тем людям, которых Св. Писание на-
1) Ibid., lib. I, cap. VI, 3, 70—71 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 84); p. пер. вып. I, стр. 70; ibid., lib. III, cap. I, 23(21), 136 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 241—242); p. пер. вып. I, стр. 245—246.
2) In Exod., hom. VIII, 6 (Mg. XII, 161) col. 361A; In Lev., hom. XIV. 4 (Mg. XII, 250) col. 537B; In Numer.. hom. IX, 5 (Mg. XII, 298) col. 630C; In lib. Ies. Nav., hom. VIII, 5 (Mg. XII, 416) col. 867BC; In Ierem., hom. XIX, 15, 260—261 (Klostermann, op. cit., Bd. III, S. 174—175); In Ezech., hom. X, 1 (Mg. XIII, 392) col. 741A; In Matth, comm. ser. 72 (Mg. XIII, 889) col. 1716B идруг.
3) Contra Cels., lib. III, 79, 499 ^ Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 270); p. пер. ч. I, стр. 327.
4) Ibid., lib. V, cap. XV, 583 (Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 16-17).
153 —
зывает «безумными мира», прежде всего, гораздо удобнее предлагать буквальное понимание и значение тех выражений, которые говорят о наказаниях, когда никакое другое средство с таким удобством не может побудить их к оставлению греховной жизни и к упражнению в добродетели, кроме страха и представления наказаний (φόβου καὶ φαντασίας τῶν κολάσεων)1). По убеждению Оригена, ясное учение о будущих мучениях грешников было бы вредным для нравственной жизни людей. Это, по его мнению, уже следует из того, что они «едва страхом вечного наказания (μόγις φόβῳ τῆς αἰωνίου κολάσεως)» предохраняются от греховной жизни2). Ясно, если само Св. Писание лишь с педагогической целью говорит о вечных мучениях грешников на том свете, а в действительности не допускает их вечности, то, естественно, и катехет Александрийский, допуская невечные мучения, мог в педагогических видах иногда угрожать вечными загробными наказаниями. И это Ориген мог делать тем более, что он полагал, что aeternitas (или αἰών) на языке Св. Писания иногда обозначает вечность, понимаемую в смысле лишь значительной продолжительности3).
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще.
Все разумно-свободные существа, по учению Оригена, найдут завершение своего религиозно-нравственного развития в тех будущих мировых событиях, которые группируются около второго пришествия Христа на землю.
1) Ibid, lib. V, cap. XVI, 589 (Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 17).
2) Contra Cels., lib. VI, cap. XXVI, 650 (Koetschau, op. cit, Bd. II, S. 96).
3) Comm. in ep. ad Rom., lib. VI. 5 (Mg. XIV. 574—575) col. 1066CD—11167A vgl. Prof. L. Atzberger, op. cit., S. 403—404.
— 154
1. Учение о втором пришествии Христа и опровержение хилиазма.
Второе пришествие Христово, по-видимому, мало занимало Оригена. Однако и его он не оставлял без своего внимания. Как ни мало оно требовалось основными принципами его эсхатологической системы, все-таки, он считал необходимым признать его неподлежащим сомнению будущим мировым явлением. Если в настоящее время,— рассуждал он,—Господь находится на небе, то, тем не менее, несмотря на это, Он снова придет (iterum veniet) на землю (ad terras)1) Уясняя смысл названия одной из книг Моисея «Второзаконием», катехет Александрийский пишет, что «как во Второзаконии законодательство излагается очевиднее и яснее, чем в книгах, написанных раньше, так и тем пришествием Спасителя, какое Он совершил в уничижении, приняв образ раба, указывается более славное и величественное Его второе пришествие во славе Отца 2).
Свидетельства о втором пришествии Христа Ориген старается найти в Св. Писании. По его мнению, библейские пророчества говорят о двух пришествиях Христа. В первый раз, по ним, Он приходил в уничиженном виде, чтобы через Свое поведение научить людей тому пути, который ведет к Богу. Что же касается второго пришествия Христа на землю, то оно, по свидетельству пророчеств, как их понимает Ориген, будет славным и исключительно божественным, так как в нем уже не будет соединена с Божеством человеческая немощность (τὴν б’ ἑτέραν ἔνδοξον καὶ μόνον θειοτέραν , οὐδὲν ἐπιπεπλεγ -
1) In Isaiam, hom. I, 5 (Mg. XIII, 108) col. 223D.
2) Ita et ab eo adventu Salvatoris, quem in humilitate conplevit, cum formam servi suscepit, clarior ille et gl oriosior secundus in gloria Patris. De princ., lib. IV, 13(25) 188 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 343); p. пер. вып. I, стр. 365.
155 —
μένον τῇ θειότητι ἔχουσαν ἀνθρωποπαθὲς) 1). По воззрению катехета Александрийского, уже в Быт. 49, 10 содержится указание на явление Христа в конце веков ( Christus in finem saeculorum advenisse) 2), когда все народы со страхом и трепетом ожидают Его, как Судью ( omnes gentes et populi Christum jüdiceni in pavore cordis et tremore conscientiae exspectabunt) 3). Особенно ясно, по воззрению Оригена, предсказано второе славное пришествие Христа в Пс. XLIV4). Наконец, по его представлению, на два пришествия (ἐπιδημίας) Сына Божия в мир указывает двукратное явление Христа в галилейской Кане во время первого Его пребывания на земле 5).
Касаясь характера второго пришествия Христа на землю, Ориген обыкновенно высказывается в том смысле, что оно, в противоположность Его первому пришествию, будет славным. В своем сочинении «О началах», как передает Руфин, он ясно говорит, что второе пришествие Сына Божия на землю будет более славным и величественным (clarior et gloriosior), чем первое 6). Во второй раз Спаситель явится в мир «во славе Отца Своего со святыми ангелами (venturus in Dei Patria cum sanctis angelis)» 7). Сам Господь,—пишет катехет Александрийский,—силу Своего славного пришествия (gloriosi adventus sui potentiam) сравнивал с молнией (fulguri), говоря: «Якоже молния исходит от восток и является до запад, тако будет при-
1) Contra Cels., lib. I, cap. LVI, 371 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 107; p. пер. ч. I, стр. 92.
2) In Genes., hom. XVII, 6 (Mg. XII, 108) col. 258C.
3) Ibid., hom. XVII, 6 (Mg. XII, 108) col. 259B.
4) Contra Cels., lib. I, cap. LVI, 371 ( Koetschau, op. cit., Bd. I, S. 107); p. пер. ч. I, стр. 92.
5) Comm. in Io. IV, 46, lib. ХIII, cap. LV II, 391 (Preuschen, op. cit., Bd. IV, S. 287).
6) De princ., lib. IV, 13(25) 188 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 343); p. пер. вып. І, стр. 365.
7) Ibid., lib. II, cap. VI, 3, 90 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 143); p пер. вып. I, стр. 130.
— 156 —
шествие Сына Человеческаго» (Мф. 24, 27)1) Во второе (secundum), именно славное (gloriosum), пришествие Христа, по убеждению Оригена, верит вся церковь (omnis ecclesia credit). В это пришествие тело Сына Божия будет таким, каково оно было, когда Он преобразился на горе пред тремя Своими учениками. Впрочем, тогда около Него окажутся не три человека, а соберутся все народы. Он сядет на престоле Своей славы (super sedem gloriae suae) и отделит добрых людей от злых 2). В одном месте своих творений Ориген высказывает предположение, что как первому пришествию Христа предшествовал глас вопиющего в пустыне, так и второе Его пришествие откроется гласом архангела и произойдет при звуках трубы 3).
Изъясняя свидетельства Св. Писания о втором пришествии Христа на землю, Ориген полагал, что последнее будет отличаться от первого еще тем, что оно произойдет не чувственно-видимым образом, а духовным. По его мнению, только к детям и несовершеннолетним можно быть снисходительным, если они шествие Господа на облаках небесных (Мф. 24, 30) понимают в буквальном смысле. Дело в том, что отдельные моменты этого великого акта мировой истории, как, например, ниспадение звезд с неба на землю, шествие Господа на облаках, собрание всех людей, видимое явление Искупителя, по представлению катехета Александрийского, при буквальном их понимании находятся между собой во внутреннем противоречии. Отсюда, само собой следует, полагает он, что их необходимо понимать лишь в духовном смысле ( in solo spiritali)4). Сын Божий,—пишет Ориген в другом
1) Ibid., lib. I, cap. V, 5, 68 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 77); p. пер. вып. I, стр. 63.
2) In Matth, comm. ser. 70 (Mg. ХIII, 886) col. 171 IB; ibid. 50 (Mg. XIII, 868) col. 1675BC идруг.
3) In ep. I ad These, fragm. (Mg. XIV, 694) col. 1302AB.
4) In Matth, comm. ser. 50 (Mg. XIII, 868) col. 1675C; ibid. 50 (Mg. XIII, 869—870) col. 1677A-D—1678A-D.
157
месте,—когда придет в Своей славе, не явится в каком-либо одном месте, но будет находиться в одно и то же время во всех местах. Вместе с тем Он будет созерцать всех людей, а также последние будут видеть Его, но не телесными своими очами, а духовными1). Итак, второе пришествие Христа на землю, по мнению Оригена, не будет чувственно-созерцаемым, но чисто духовным, не внешним, но внутренним.
В своих творениях Ориген не дает тонного определения времени второго пришествия Христа на землю. Он ограничивается в данном отношении только изображением знамений, которые будут предшествовать этому мировому акту. Но его убеждению, пред вторым пришествием Сына Божия на землю прекратят свое существование все религии, кроме христианской (πᾶσα μὲν θρησκεία καταλυθήσεται μόνη δὲ ἡ χριστιανῶν κρατῆσει)2). Тогда обратятся к истинной вере все народы включительно до иудеев 3), хотя Иерусалим и их царство не будут восстановлены 4). Несмотря, однако, на такое широкое распространение христианства, по мнению катехета Александрийского, пред вторым пришествием в мир Христа будет много грешников (πλῆθος ἀμαρτολῶν)5) Тогда в разных формах и с особой силой проявится антихристианское начало. Ориген знает, что в мире су-
1) Non in aliquo loco apparebit Filius Dei, cum venerit in gloria sua, in altero autem non apparebit... ubique futurus est et ipse in conspectn omnium erit ubique, et omnes ubique erunt in conspectu ipsius... ante oculos mentis eorum (sc. bonorum et malorum) erit manifestus, jam non fidei aut diligentiae alicujus inquisitione repertus, sed ipsius divinitatis suae manifestatione prol atus... Ibid. 70 (Mg. XIII, 887) col. 17I2BC.
2) Contra Cels., lib. VIII, cap. LXVIII, 793 ( Koetschau , op. cit., Bd. II, S. 285).
3) Cum plenitudo gentium subintraverit, tunc etiam omnis Israel qui per incredulitatis duritiam factus fuerat sicut lapis, salvabitur. In Exod., hom. VI, 9 (Mg. ХІI, 150) col. 337C.
4) Contra Cels., lib. IV, cap. XXII, 517 ( Koetschau , op. cit., Bd. I, S. 292); p. пер. ч. I, стр. 362.
5) Comm. in Matth., t. XIII, 1 (Mg. XIII, 568) col. 1089A.
158 —
ществует не только слово, истина, мудрость и добродетель Христа, но также и Антихриста1). Антихристианское начало, по его словам, имеет в мире разных носителей, которые представляют собой многих антихристов, хотя в собственном смысле существует только один Антихрист (generaliter unus est Antichristus)2). Этот последний именно придет в конце настоящего мира (Ἀντίχριστος ἔρχεται), тогда как многие другие антихристы уже теперь существуют в мире (ἀντίχριστοι πολλοί εἰσιν ἐν τῷ κόσμῳ)3). Личность и деятельность Антихриста, который явится пред вторым пришествием Христа на землю, по словам Оригена, изображает св. апостол Павел (2 Солун., гл. 2) и пророк Даниил (7, 26; 8, 23—25; 9, 27)4).—Кроме распространения среди всех народов христианства, с одной стороны, а с другой—приумножения среди них зла и явления Антихриста, Ориген, как это отчасти мы отметили я выше, указывает еще на то обстоятельство, что второму пришествию Христа в мир, подобно первому, будет предшествовать вестник. Вестником первого пришествия Сына Божия на земле был Иоанн Креститель. Катехет Александрийский не знает, явится ли пред вторым пришествием Спасителя в мир сам Иоанн Креститель или Илия5). Однако, на основании Мал. 4, 5—6, он склонен думать, что Илия Фесвитянин, который некогда вознесся на небо живым, способен более, чем кто-либо другой,
1) Puto, quia non solum est sermo Christus, est et sermo Antichristus; veritas Christus et simulata veritas Antichristus; sapientia Christus, et simulata sapientia Antichristus... Invenimus omnes virtutes esse Christum, et omnes simulatas virtutes Antichristum. In Matth, comm ser. 33 (Mg. XIII, 852) col. 1644D—1645A.
2) Ibid. 47 (Mg. XIII, 865) col. 1668D.
3) Contra Cels., lib. VI, cap. LXXIX, 692 ( Koetschau, op. cit., Bd. IL S. 150).
4) Ibid., lib. II, cap. L, 424—425 ( Koetschau, op. cit., Bb. I, S, 172— 173); p. пер. ч. I, стр. 186—188; ibid., lib. VI, cap. XLV—XLVI, 667—669 ( Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 116—119).
5) Comm. in Io. 1, 7, lib. II, cap. XXXVII, 224 (Preuschen, op. cit., Bd. IV, S. 96).
159 —
приготовить людей к славному пришествию Христа на землю 1) — Наконец, пред вторым пришествием Сына Божия в мир, по воззрению Оригена, истощится земная планета, следствием чего явится—голод, землетрясение, заразительные болезни, чем в свою очередь будут вызваны—раздоры, брани и войны. Злые духи при таких обстоятельствах будут стараться еще увеличить сумму всеобщих бедствий, в виду которых одни из людей обратятся к Богу с истинным раскаянием, а другие достигнут последней степени зла и ожесточения... Тогда внезапно наступит кончина мира2). Тогда именно и явится во всей Своей славе Господь во второй раз.
Само собой понятно, что хилиазм в эсхатологической системе Оригена должен был найти свое опровержение. Он не мог мириться с приверженностью катехета Александрийского к аллегоризму, а также с его учением о загробном врачевании душ умерших грешников через адские мучения. И действительно, Ориген решительно опровергал хилиастическое учение. «Некоторые,—так передаст рассуждения Оригена Руфин,—отвергая всякий труд уразумения (Писания), следуя (только) как бы поверхности буквы закона, угождая больше своему удовольствию и похоти и будучи учениками одной только буквы, думают, что обетования, как нужно ожидать, будут состоять в телесном наслаждении и роскоши; потому-то, главным образом, не следуя учению апостола Павла о воскресении духовного тела (1 Кор. 15, 44), после воскресения, они желают таких тел, которые никогда не были бы лишены способности есть, пить и делать все, что свойствен-
1) Comm. in Matth., t. XIII, 2 (Mg. XIII, 572) col. 1096В—1097A.
2) In Matth, comm. ser. 36 (Mg. XIII, 855) col. 1619CD—1650AB.
— 160 —
но плоти и крови. К этому они вполне последовательно прибавляют, что после воскресения будут и брак и даже рождение детей. Они воображают себе, что земной город Иерусалим тогда будет восстановлен... Они даже думают, что для служения их удовольствиям им даны будут иноплеменники, которые будут у них пахарями, строителями стен и которые восстановят разрушенный и падший их город. Они думают, что получат имения народов для своего употребления и будут владеть их богатствами... И это они стараются подтвердить пророческим авторитетом, именно обетованиями, написанными об Иерусалиме, в которых, например, говорится, что служащие Господу будут есть и пить, а грешники будут голодать и жаждать,—что праведники будут веселиться, а грешников будет мучить скорбь. Из Нового Завета они также приводят слова Спасителя, содержащие обетование ученикам о наслаждении вином: «не имам пиши отныне от сего плода лозного до дне тою, егда е пию с вами ново во царствии Отца Моею» (Мф. 26, 29). Прибавляют еще и то, что Спаситель называет блаженными тех, кто алчет и жаждет ныне, обещая им, что они насытятся (Мф. 5, 6), и приводят много других свидетельств из Писания, не зная, что их нужно понимать образно. Далее, они думают, что по образцу этой жизни, соответственно расположению достоинств или чинов, или преимуществам власти в этом мире, они будут тогда царями и князьями, подобно настоящим земным (царям и князьям),—думают на том основании, что в Евангелии сказано: «ты буди над пятию градов» (Лук. 19, 19).. Так думают те, которые, хотя веруют во Христа, но понимают Божественные Писания по-иудейски и в этих (обетованиях) не находят ничего, достойного божественных обетований. Но те, которые умозрение Писаний понимают по разуму апостолов, те, конечно, надеются, что святые будут есть, но — хлеб жизни, питающий душу пищей истины и
161
премудрости,— (хлеб жизни), который просветит ум и напоит его из чаши божественной премудрости, как говорить Божественное Писание: «Премудрость уготова свою трапезу, закла своя жертвенная и раствори в чаши вино свое», и громким голосом зовет: «обратитесь ко Мне, ешьте хлебы, которые Я приготовила для вас, и пийте вино, еже растворих вам» (Притч. 9, I — 5). Напитанный этой пищей премудрости, ум будет достигать чистоты и совершенства, с какими человек был создан сначала, и будет восстановлять в себе образ и подобие Божье»1) «Христиане, — пишет Ориген в другом своем сочинении —владеют истиной, которая могла возвысить и при поднять душу и ум человека, владеют сознанием, что они являются членами царства,—царства не земною (πολίτευμα), какое было у иудеев, но небесного (ἐν οὐρανοῖς)»2). «Мы утверждаем с полной решительностью, что их (иудейское) царство уже не будет восстановлено»3). Если Бог обещал исполнителям закона хорошую и обширную землю, где течет молоко и мед (Исх. 3, 8), то в данном случае, по мнению Оригена, не имелась в виду Иудея, потому что она была частью земли, проклятой за грехопадение наших прародителей. Иудея и Иерусалим, напротив, являются лишь тенями и символами той хорошей и обширной земли, которая находится на чистом небе, где существует небесный Иерусалим4).
1) De princ.. lib. II, cap. XI, 2—3, 104 ( Koetschau, op. cit.. Bd. V. S. 184—186); p. пер. вып. I, стр. 172 174 cp. Selec. in psalm. IV, 6 (Mg. XII, 570) col. 1169AB; Comm. in Matth, t. XVII, 35 (Mg. ХIII, 826-827) col. 1591A-C— 1596А.
2) Contra Cels, lib. II, cap. V, 390 ( Koetschau , op. cit., Bd. I, S. 132), p. пер. ч. I, стр. 12 β.
3) Ibid., lib. IV, cap. ХΧΙΙ, 516 ( Koetschau, op. cit, Bd. I, 8. 292); p. пер. ч. I, стр. 361.
4) Ibid., lib. VII, cap XXVIII—XXIX, 762—703 ( Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 243—244) cp. ibid., lib. V, LIX, 623 (Koetschau, op. cit, Bd. II,
162 —
Таким образом, Христос, по учению Оригена, придет во второй раз не с целью устроения земного царства, а для воскрешения людей из мертвых и суда над ними.
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых.
По воззрению Оригена, учение о воскресении мертвых имеет свое основание в церковном предании (in ecclesia praedicatur,., quia erit tempus resurrectionis mortuorum) 1) Всякий человек, принадлежащий к Церкви, должен верить в воскресение мертвых, о котором св. апостол Павел сказал, что кто его отрицает, тот также должен отвергать и воскресение Христа 2). По мнению Оригена, кто не имеет веры в воскресение мертвых, тот, хотя бы он признавал все остальное, что относится к церковному преданию, налагает пятно на божественное учение3).
Однако, несмотря на всю важность веры в воскресение мертвых, Ориген знал таких людей, которые ее не разделяли. В его время отрицали воскресение мертвых некоторые язычники и гностики4).
Имея в виду отрицающих воскресение мертвых, Ориген старался всячески доказать, как его возможность, так и действительность. По его мнению, возможность воскресения мертвых не может подлежать никакому сомнению, потому что оно будет совершено силой Божьей. Как горшечник из черепков разбитого сосуда может
S. 62—63) сн. ibid., lib. VI, cap. LXI, 679 (Koetschau, op. cit., Bd. H, S. 131-132); Libell. de orat. 27 (Mg. XI, 250) col. 517B.
*) De princ., praef., lib. I, 4—5, 48 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 11—12); p. пер. вып. I, стр. 8.
2) Designet ecclesiasticum virnm... etiam de mortuorum resurrectione fides, de qua sanctus apostolus faulus ita pronuntiat, quia si quis negat resurrectionem mortuorum, consequens est ut Christi resurrectionem negat.Ex lib. in ep. ad Tit. (Mg. XIV, 695) col. 1305B.
3) In Lev., hom. V, 10 (Mg. XII, 212) col. 461A-C.
4) Comm. in Io. IV, 46—53, lib. Х1И, cap. LX, 417—420 (Preuschen, op. cit., Bd. IV, S. 291—292).
163
снова приготовить какой угодно другой сосуд, так, рассуждает Ориген, и Бог, Который, подобно горшечнику, создал наши тела, может, если они разрушатся, их снова восстановить, причем в гораздо лучшем виде 1). Что Бог, действительно, некогда воскресит мертвых, об этом, по мнению катехета Александрийского, вполне ясно (Мф. 22, 23 и дал.) 2) или прикровенно (1 Петр. 2, 5; Еф. 2, 20; Ис. 54, 11 и дал.)3) учит Св. Писание. Между прочим, особенно важное указание на всеобщее воскресение мертвых Ориген видит в жезле Аарона, который дал ростки, почки, цветы и плоды. Он полагает, что человеческое тело, подобно жезлу, некогда снова оживет и будет обладать четырьмя свойствами, указанными в 1 Кор. 15, 42 — 44 4). Но самым решительным доказательством действительности нашего будущего воскресения, по воззрению Оригена, служат библейские рассказы о воскрешении мертвых и факт воскресения Христа 5). Впрочем, данные доказательства могут иметь значение только для христиан, но не для язычников.—Желая уверить последних в истине будущего воскресения мертвых, Ориген указывает на то, что мертвые воскресают, согласно разнообразным повествованиям и языческих писателей 6). По его убеждению, стоическое учение о периодически наступающем сожжении мира со всеми своими частностями, а также пифагорейское учение о переселении душ служат аналогиями учения о воскресении мертвых, хотя самый тер-
1) In Ierem. hom., XVIII, 4 (Klostermann, op. cit., Bd. 111, S. 154).
2) Comm. in Matth., t. XVII, 29 (Mg. XIIJ, 809) col. 1560C.
3) Contra Cels., lib. VIII, cap. XIX, 757 ( Koetschau , op. cit., Bd. II, S. 216—237).
4) In Numer., hom. IX, 8 (Mg. XII, 300) col. 633D—637A.
5) Contra Cels., lib. II, cap. LVIII, 431 ( Koetschau , op. cit., Bd. I, S. 181—182); p. пер. ч. I, стр. 200.
6) Ibid., lib. II, cap. XVI, 402 ( Koetschau, op. cit., Bd. 1, S. 145); p. пер. ч. I, стр. 146.
164 —
мин «воскресение» в этих философских рассуждениях отсутствует 1)
Будущее воскресение мертвых Ориген представлял себе всеобщим 2). Он считал большим заблуждением думать, что в некоторых местах Св. Писания, как, например, в Пс. 1, 5 заключается мысль, что нечестивые люди не воскреснут 3). Напротив, по его мнению, будущее воскресение распространит свое действие на всех людей4), не исключая и грешников 5).
Что касается сущности будущего воскресения, то ее Ориген полагал в том, что человеческое тело, которое не погибает навсегда после своей смерти, во время этого мирового акта снова будет призвано к жизни. В последний день, когда, по повелению Господа, зазвучит труба, тогда мертвые снова восстанут (mortui resurgant)6). Тогда море возвратит тех мертвецов, которых оно поглотило, а смерть и ад возвратят своих мертвецов (Ап. 20, 13) 7). В той мысли, что воскресение произойдет в их прежних телах, нас, по воззрению катехета Александрийского, удостоверяет многими способами Св. Писание 8).— Защищая истину будущего воскресения мертвых от нападений на нее еретиков, допускавших воскресение мертвых только в духовно нравственном смысле, Ориген полагал, «что им должно ответить следующим образом. Если они, — так передает рассуждения Оригена па взятому вопросу Руфин, — сами исповедуют, что воскресение мертвых существует, то пусть ответят нам, что
1) Ibid., lib. V, cap. ХХ-ХХІ, 592—594 (Koetschau, ор. cit, Bd. II, S. 21-23).
2) Cp. Fragm. ex lib. II, de resurr. (Mg. XI, 34) col. 93BC.
3) Selec. in psalm. I, 5 (Mg. XII, 532) col. 1092A.
4) Comm. ep. ad Rom., lib. V, 9 (Mg. XIV, 563) col. 1043AB. и дал.
5) Comm. in Matth., t. XIII, 17 (Mg. XIII, 594) col. 1140C—1141A.
6) Fragm. ex lib. II de resurr. (Mg. XI, 34) col. 93AB.
7) Ibid. (Mg. XI, 34) col. 94BC.
8) Ibid. (Mg. XI, 34) col. 93D-94A.
165
именно умерло? Не тело ли? Значит, для тела будет и воскресение (Nonne corpus ? Corporis ergo resurrectio fiet). Затем, пусть они скажут, нужно ли нам пользоваться телами, иди нет? Я думаю, что они не могут отрицать, что тело воскреснет, или что во время воскресения мы будем пользоваться телами (negare non posse quod corpus resurgat, vel quia in resurrectione corporibus utamur), так как апостол Павел говорит: «сеется тело душевное, во стаете тело духовное» (1 Кор. 15, 44). Итак, что же? Если верно, что нам должно пользоваться телами, и умершие тела, как проповедует (церковное учение), воскреснут, (ибо воскресает в собственном -смысле, говорят, только то, что умерло), то, без сомнения, эти тела воскреснут для того, чтобы мы снова облеклись в них через воскресение ( nulli dubium est idcirco ea resurgere, ut his iterum ex resurrectione induamur). Одно связано с другим: если тела воскресают, то воскресают, без сомнения, для того» чтобы служить нам одеждой. Если же нам необходимо быть в телах (а это, конечно, необходимо), то мы должны находиться не в иных телах, но именно в наших (ai necesse est nos esse iu corporibus, (sicut certe necesse est), non in aliis quam in nostris corporibus esse debemus)» 1). «Мы, верующие в воскресение тела, понимаем, что смерть произведет только изменение тела, субстанция же его, конечно, продолжает существовать, и она по воле Творца в свое время снова будет восстановлена к жизни» 2). «Воскресшим из мертвых не даются какие-либо новые тела, но они получают те же самые тела, какие они имели при жизни» 3).
1) De princ., lib. ΙΙ, cap. X, 1, 100—101 ( Koetschau, op. cit., Bd V, S. 173—174); p. пер. вып. I. стр. 161—162.
2) Ibid., lib. III, cap. VI, 5, 154 ( Koetschau, op. cit.. Bd. V, S. 287); p. пер. вып. I, стр. 297.
3) Non nova aliqua corpora resurgentibus a mortuis dentur, sed haec ipsa, quae viventes habuerant. Ibid., lib. III, cap. VI, 6, 154 ( Koetschau, op. cit;, Bd. V, S. 288); p. пер. вып. I, стр. 299.
166 —
Так мы можем представить себе сущность будущего воскресения мертвых, по учению Оригена, изложенному в его сочинениях, дошедших до нас в редакции Руфина. Не таково, конечно, было учение Оригена о сущности будущего воскресения мертвых на самом деле. Насколько можно судить даже на основании его сочинений, прошедших через редакцию Руфина, он далек был от мысли о полном тожестве воскресших тел с настоящими. Более того, он со всей решительностью указывал на известное различие между воскресшими и настоящими телами. Ни мы, говорил он, ни Божественное Писание не утверждаем, что умирающие в течение долгого времени люди снова выйдут из гробов и будут жить в своих прежних телах, не испытав никакого изменения к лучшему1). Сказав, что в момент всеобщего воскресения мы получим свои прежние тела, Ориген, как передает Руфин, прибавил, что они будут преобразованы из худших в лучшия (ex deterioribus in melius transformata recipiant) 2). По словам Оригена, только придерживающиеся буквального понимания Св. Писания могут утверждать, что во время всеобщего воскресения мы получим тела, совершенно похожие на настоящие не только по своему виду, но и по своим отправлениям, так что они будут способны есть, пить и производить детей 3). Против подобного представления о телах воскресших людей Ориген выставляет свое мнение, по которому сохраняющийся в разрушенных смертью человеческих телах т. наз. жизненный зародыш (ratio) во время всеобщего
1) Οὔτε ἡμεῖς οὔτε τὰ θεῖα γράμματα αὐταῖς φησι σαρξί, μηδεμίαν μεταβολὴν ἀνειληφυίαις τὴν ἐπὶ τὸ βέλτιον, ζήσεσθαι τοὺς πάλαι ἀποθανόντας, ἀπὸ τὴς γῆς ἀναδὑντας. Contra Cels., lib. V, cap. XVIII, 590 ( Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 19).
2) De princ., lib. III, cap. 6, 154 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 288); p. пер. вып. I, стр. 299.
3) Ibid., lib. II, cap. XI, 2, 104 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 184); p. пер. вып. I, стр. 172.
167
воскресения произведет из себя новое тело. Это тело будет отличаться от настоящего тела, ибо св. апостол Павел говорит: «Что ты сеешь, не будущее тело сеешь, но голое зерно» (1 Кор. 10, 37) 1). Признание различия между воскресшими и настоящими телами людей по их свойствам, по мнению катехета Александрийского, является даже необходимым, так как его будет требовать то место, в котором они будут пребывать после своего воскресения. Необходимо, пишет он, чтобы душа, находящаяся в телесных местах, обладала соответствующим телом. Подобно тому, как, например, если бы мы превратились в водяное животное и имели нужду жить в море, мы необходимо должны были бы обладать телом, свойственным рыбам, так и намеревающиеся наследовать небесное царство и жить в отличных от нынешнего местах необходимо должны пользоваться духовными телами (ἀναγκαίον χρῆσθαι σώμασι πνευματικούς) 2). Мы знаем, — заявляет Ориген в другом месте,—что душа, которая по своей природе бестелесна и невидима, не может пребывать в телесном месте, не имея тела, которое соответствовало бы свойству этого места. Поэтому, она освобождается от тела, которое прежде для ноя являлось необходимым, а потом стало лишним, и принимает, как одежду, лучшее, сравнительно с прежним, тело, дабы иметь возможность достигнуть чистого, эфирного, небесного жилища. Когда душа через рождение вступает в мир, то она сбрасывает с себя одеяние, в котором нуждалась во чреве матери. Но прежде, чем это сделать, она принимает другое тело, какое ей необходимо иметь во время земной жизни. После же воскресения мертвых она принимает небесное тело, согласно с свидетельством 2 Кор. 5, 1 и 1 Кор. 15, 53 3).
1) Fragm. ex lib. II de resurr.(Mg. XI, 34) col. 93BC cp. И. Страхова, Пессимистическое отрицание воскресения поздним язычеством (Богосл. Вести. 1913 г., ноябрь), стр. 605.
2) Selec. in psalm. I, 5 (Mg. XII, 534) col. 1093 CD.
3) Contra Cels., lib. VII, cap. ХХΧΙΙ, 716—717 ( Koetschau. op. cit., Bd. ΙΙ, S. 182—183).
168 —
Допуская, с одной стороны, различие между воскресшими и настоящими телами людей, Ориген, с другой стороны, старался установить между ними известную связь. Отрицая возможность воскресения наших настоящих тел, он допускал возможность воскресения тончайших тел. Четыре элемента, пишет он, как это известно философам и врачам, а именно—земля, вода, воздух и огонь входят в состав всех вещей, не исключая и человеческих тел, которым земля дает плоть, вода—разные влаги, воздух—дыхание, огонь—теплоту. И, поэтому, когда душа по воле Божьей слагает с себя свое изнемогшее и охладевшее тело, то оно разлагается на свои составные стихии, которые постепенно возвращаются к своей основной субстанции (ad matrices suas substantias) и смешиваются с ней. Тогда плоть и кости, разложившись, смешиваются с землей, воздух, служивший источником дыхания,—с атмосферным воздухом, разные влаги—с водой, а теплота поднимается вверх, в область эфира. И подобно тому, как частицы влитых в море молока и вина, хотя и в исчезают здесь, но расходятся по воде и с нею смешиваются, так что уже никогда не приходят в прежнее состояние, молока и вина, так и субстанция нашего тела и крови не исчезает и не уничтожается, хотя она уже никогда не станет тем, чем была раньше, никогда не возобновит прежнего состава своих элементов, так как уже никогда из них не будет ни мягкого тела, ни твердых костей, ни жидкой крови, ни взаимно переплетающихся нервов и жил 1). Кроме четырех перечисленных элементов в человеческом теле, по воззрению Оригена, имеется еще собственный облик (εἶδος). Катехет Але-
1) Sic substantiam carnis et sanguinis non perire quidem in urigi nalibus materiis, non tamen in antiquam redire compaginem, nec posse ex toto eadem esse quae fuerint. Cum autem ista dicantur, soliditas carnium. sanguinis liquor, crassitudo nervorurti, venarumque perplexio et ossium durities denegatur. Sentent, ex lib. de resurr. (Mg. XI, 36) col. 97BC.
169
ксандрийский отмечает то обстоятельство, что наши тела постоянно изменяют свой материальный субстрат (τὸ ὑλικόν υποκείμενον). По его мнению, не без основания многие сравнивают человеческое тело с потоком, потому что в нем совершается непрерывный обмен веществ, так что оно не остается одинаковым даже в течение двух дней. Поэтому, продолжает Ориген, если Петр или Павел нам кажутся всегда не только по душе, но и по телу Петром и Павлом, то это лишь потому, что их тела, испытывая постоянную смену элементов, никогда не теряют характеризующего их облика (τὸ εἶδος τὸ χαρακτηρίζον τὸ σῶμα). Этот именно облик, который вырисовывается более или менее, ясными чертами и оттенками на лице каждого из нас с самого детства, во время воскресения снова будет сообщен душе, хотя и в измененном к лучшему виде (ὁ ἐν τῇ ἀναστάσει περιτίθεται πάλιν τῇ ψυχῆ , ἐπὶ τὸ κρεῖττον μεταβάλλον)1). Облик каждого в будущей жизни сохраняется так же, как облик Господа, Моисея и Илии во время преображения, потому что они в этот момент, хотя имели другой вид, однако не иной, чем какой у них был до преображения (οὐχ ἕτερον ἐν τῇ μεταμορφώσει παρ ’ ὁ ἦν)2). Что человеческие тела обладают способностью воскресения, именно в таком виде, это, по мнению Оригена, становится понятным, если принять во внимание, что в каждом из них Богом заложена потенция (ratio) собственной субстанции. По представлению катехета Александрийского, уже во всяком семени творческой десницей Божьей заложен зародыш, заключающий в себе в зачаточной форме все вещества будущего организма. Поэтому, хотя, например, ни ствол дерева, ни ветви, ни листья, ни плоды не видны в семени дерева, тем не менее они предначертаны и потенциально существуют in ratione seminis, извест-
1) Selec. in psalm. I, 5 (Mg. XII, 534) col. 1093BC.
2) Ibid (Mg. XII, 534) col. 1096A.
170 —
ном у греков под именем σπερματιαμός . И подобно тому, как находящиеся в хлебном зерне, брошенном в землю, зачатки корня, стебля, листьев, мякины, остей, сгнивая, не уничтожаются, но, разложившись и смешавшись с необходимыми веществами, преобразуются в настоящее хлебное растение, имеющее корни, стебель, листья, ости, мякину, так что и здесь, таким образом, иное умирает, иное оживает (aliudque moritur , aliud resurgit), так и in ratione humanorum corporum заложены Творцом начала их воарождения (surgendi principia), которые как бы какие-нибудь семена (quasi ἐντεριώνη , id est seminarium mortuorum) во время человеческой смерти погребаются в земле, где они разлагаются и сгнивают, а во время суда, когда от архангельского гласа и последней трубы потрясется земля, они произрастут, но уже совершенно в ином виде, чем в каком они были посеяны1). Эту мысль, по воззрению Оригена, утверждает и св. апостол Павел, когда пишет: «Как воскреснут мертвии? В каком теле они придут? Безумный, что ты сеешь, не будущее тело сеешь, но голое зерно. Бог же дает ему тело, какое Он захочет» (1 Кор. 15, 35—38) 2). Таким образом, - так заканчивает катехет Александрийский раскрытие данной своей мысли, — нужно думать, и наши тела, как зерно, падают на землю. Но в них заложена та потенция (ratio), которая содержит телесную субстанцию. Эта именно сила, по слову Божью, поднимет из земли, обновит и восстановит умершие и разрушившиеся тела подобно тому, как сила (virtus), присущая пшеничному зерну, обновляет и восстановляет его в теле стебля и колоса, когда оно, будучи брошено в землю, разложится в ней и сгинет3).
Итак, Ориген устанавливает связь между воскресшими телами людей и настоящими на подобие той, какая,
1) Sentent, ex lib. de resurr.(Mg. XI, 36) col. 97D—98A.
2) Ibid. (Mg. XI, 36) col. 98A; De princ., lib. II, cap. X, 3, 101 ( Koetschau , op. cit.. Bd. V, S. 176), p. пер. вып. I, стр. 164.
3) De princ., lib. II, cap. X, 3, 101 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 176); p. пер. вып, I, стр. 164.
171 —
например, существует между выросшим колосом и зерном, из которого этот колос вырос.
Воскресшее тело, по учению Оригена, будет преобразовано; оно будет отличаться особенными свойствами. Наши тела после всеобщего воскресения мертвых будут духовными. Сказавши о том, что субстанция нашего тела некогда снова будет восстановлена к жизни, катехет Александрийский прибавляет, что тогда наше тело достигнет славы духовного тела ( in gloriam corporis proficiat spiritalis)1). Оно освободится от тления и смерти ( corruptionis et mortalitatis), изменив свое состояние бесчестия на состояние славы ( ab indignitate transmutat ad gloriam)2), а также оно окажется чистым от всех недостатков нравственного характера ( purgatum vitiis carnem ѳх resurrectione recipiet)3). Это одухотворение нашего тела через акт всеобщего воскресения будет состоять в том, что оно приобретет такие качества, что в нем прилично будет обитать всем святым и совершенным душам. Св. апостол Павел наше будущее тело называет нерукотворенной, вечной храминой (2 Кор. 5,1). Этим, по представлению Оригена, он показывает, что оно своей тонкостью, чистотой и славой будет превосходить нынешние тела, которые, хотя являются небесными и блестящими, однако рукотворенными и видимыми. И это по той причине, что наше будущее тело, как невидимое, будет вечным, а такие тела несравненно превосходят все те, какие мы видим как
1) Ibid.. lib. III, cap. VI, 5. 154. ( Koetschau, ор. cit., В. V, S. 287); p. пер. вып. I. стр. 297; Ibid., lib. II, cap. X, 1, 101 ( Koetschau. op. cit.. Bd. V, S. 174); p. пер. вып. I, стр. 162; ibid., lib. II, cap. X, 3, 101 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 175); p. пер. вып. I, стр. 163. 164.
2) Ibid., lib. II, cap. X, 1, 101 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 174); p. пер. вып. I, стр. 162.
3) In Lev., hom. XIII, 4 (Mg. XII, 230) col. 497A cp. nos eosdem futuros esse homines dicimus, licet non eodem statu, neque in iisdem passionibus (Fragm. ex lib. II de resurr. (Mg. XI, 34) col. 93A); Quod polluti et sordidi resurgamus, etiam cogitare piaculum est. In Luc., hom. XIV (Mg. XIII, 948) col. 1835A.
172
на земле, так и на небе. Отсюда,— полагает катехет Александрийский,—легко предположить, какой красотой (decor), каким великолепием (splendor) и каким блеском (fulgor) будет обладать наше будущее духовное тело1). Оно будет подобно воскресшему телу Иисуса Христа, которое имело эфирное, божественное свойство (αἰθέριον καὶ θείαν ποιότητα)2). Оно, согласно Мф. 22, 30, будет подобно телам небесных ангелов, потому что тогда оно приобретет эфирный, яркий свет (αἰθέρια καὶ εὐγοειδὲς φῶς)3). Все качества нашего воскресшего тела, по мнению Оригена, будут исчерпываться только тем, что оно будет блистать в невыразимой славе (inenarrabili gloria fulgebit)4). Это,—полагает Ориген, — значит, что нам будет дано тело, совершенно не похожее на настоящее, именно духовное тело, эфирное, не подлежащее ни зрению, ни осязанию, не имеющее никакой тяжести и веса и способное изменяться сообразно с местом, в котором оно будет пребывать ( alind nobis spirituale et aethereuro promittitur, quod nec tactui subjacet, nec oculis cernitur, nec pondere praegravatur, et pro locorum in quibus futurum est, varietate mutabitur)5). Духовность катехет Александрийский считает главным свойством воскресших человеческих тел. Об этом их свойстве он говорит в своих творениях очень часто, стараясь доказать его, главным образом, на основании посланий св. апостола Павла (1 Кор. 15 и 2 Кор. 5) 6). Теперь,—пишет Ориген в одном из своих творений,—мы видим глазами, слы-
1) De princ., lib. III, cap. VI. 4. 153—154 ( Koetschau , op. cit., Bd. V; S. 285); p. пер. вып. I, стр 295—296.
2) Contra Gels., lib. III, cap. XLI. 474 ( Koetschau , op. cit., Bd. I, S. 237); p. пер. ч. I, стр. 279.
3) Comm in Matth., t. XVII. 30 (Mg. XIII, 814) col. 1509A.
4) De princ., lib. III, cap. VI. 8.155 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 289) p. пер. выи. I, стр. 300.
5) Sent, ex lib. de resurr. (Mg. XI, 37) col. 98D.
6) Νῦν μὲν ἐκολλήθη τῷ ἐδάφει ἡ ψυχὴ καὶ γέγονε σάρξ ἐν δὲ τῇ ἀναστάσει κολίηθήσεται ἡ σὰρξ τῇ ψυχῇ, καὶ ἔσται ψυχὴ ἥτις κολληθεῖσα τῷ Κυρίῳ ἐν τῇ καθολικῇ ἀναστάσει γίνεται ἐν πνεῦμα, καὶ γίνεται τὸ σῶμα πνευματικόν. Selec. III psalm. СХVIII, 25 (Mg. XII, 799) col. 1592D cp. Contra Cels., lib. IV, cap.
173 —
шим ушами, действуем руками, ходим ногами, но в будущем мы всецело будем духовными (spirituali toti), потому что тогда в настоящем теле будет все глаз, все ухо, все деятельность, все движение. Господь,— говорит св. Апостол,—преобразите тело смирения нашего, яко быти ему сообразну телу славы Его (Фил. 3, 21)1). Наконец, Ориген, на основании Мф. 22, 30 и Мк. 12, 23, полагал, что человеческие тела после всеобщего воскресения утратят органы питания и вообще растительной жизни, различие возраста и пола, а вместе с этим и степени родства 2).
Однако, по убеждению Оригена, не все воскресшие тела людей будут одинаковыми. По его мнению, они будут различаться между собой, соответственно нравственному достоинству каждого человека. «Тем людям,— пишет катехет Александрийский.—кто заслужит получить наследие небесного царства, потенция (ratio), обновляющая тело, ив земного и душевного тела, по повелению Божью, восстановит духовное тело, способное обитать на небесах; тем же, кто заслужит преисподнюю, или отвержение, или даже бездну и мрак, будет дана слава и достоинство тела в соответствие с достоинством жизни и душ каждого (pro uniu scuiusque vitae atque animae dignitate etiam gloria corporis et dignitas dabitur)» 3). Однако, по мнению Оригена, даже у тех людей, которые должны быть осуждены на вечный огонь или мучения, воскресшее тело окажется нетленным, так что оно не будет разрушаться и распа-
LVII, 548 ( Koetschau , ор. cit., Bd. I, S. 330); р. пер. ч. I, стр. 420—421; bid.. lib. V, cap. XIX, 591 ( Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 20); ibid., lib. V, cap. XXII, 594 ( Koetschau, op. cit., Bd. II, S. 23).
1) Sent, ex lib. de resurr. (Mg. XI, 37) col. 98C.
2) Sent, ex lib. do resurr. (Mg. XI, 37) col. 98D; Exhort. ad mart. XVI, 284 ( Koetschau, op. cit., Rd. I, S. 15); p. пер., стр. 24; Comm. in Matth., t. XVII, 30 (Mg. ХIII, 813—814) col. 1568BC—156SA; ibid., t. XVII, 33 (Mg. XIII, 821—824) col. 1584B-D—1589A.
3) De princ., lib. II, cap. X, 3, 101—102 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 176); p. пер. вып I, стр. 164—165.
174 —
даться по причине претерпеваемых им мучений ( ita corpus incorruptum sit quod resurgit, ut ne suppliciis quidem corrumpi valeat ac dissolvi)1). Впрочем, Ориген, хотя и допускал различие воскресших человеческих тел, тем не менее он считал его временным. Он полагал, что когда все разумные души, очистившись через адские мучения от двоих грехов, достигнут своего первоначального состояния, тогда и природа нашего тела будет возведена в славу духовного тела ( tunc etiam natura huius corporis nostri in spiritalis corporis gloriam perducetur)2).
В тесной связи с представлением Оригена о различном достоинстве воскресших тел находится его учение о двояком воскресении мертвых. По его мнению, должно различать воскресение тех людей, которые наследуют после него вечный позор ( opprobrium aeternum), и восвресеяне тех, которые после него получат вечную жизнь во Христе Иисусе ( vitam aeternam in Christo lesu)3). Основание для такого двоякого воскресения мертвых катехет Александрийский находит в Ап. 20, 5. Он допускает, с одной стороны, воскресение праведников для спасения, а с другой—воскресение грешников для мучения. Он называет воскресение добрых первым, а воскресение злых— вторым. Первое воскресение, по его мнению, будет радостным, а второе—печальным, словом, достойным поведения и жизни грешника4).
Таково учение Оригена о всеобщем воскресении мертвых.
3. Учение о конечной судьбе мира.
В тесной временной связи со вторым пришествием Хряста и событиями, группирующимися около него, находит-
1) Ibidem.
2) Ibid., lib. III, cap. VЧ, β , 154 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 288); p. пер. вып. I, стр. 298.
3) Comm. in ep. ad Rom., lib. VI, 6 (Mg. XIV, 575) col. 10B7C.
4) In Isaiam, lib. XXVIII. (Mg. XIII, 105) col. 217C—218B.
175
ся кончина настоящего мира. «О кончине мира (de consummatione mundi), по мнению Оригена, в первый раз возвещает Иаков, когда он говорит своим сыновьям: «соберитеся ко мне, сыны Иакова, да возвещу вамв, что будет в последние дни» (Быт. 49, 1), или после дней последних (quid erit in novissimis diebus, vel post novissimos dies). Значит, если есть последние дни, или (время) после дней последних, то начавшиеся дни необходимо должны прекратиться (cessare dies necesse est qui coeperunt). Давид также говорит следующим образом: «Небеса погибнут, Ты же пребывавши, и вся, яко риза, обветшают и как покрывало, Ты переменишь их, и изменятся, Ты же тойжде еси, и лета Твоя не оскудеют» (Пс. 101, 27 — 28). Сам Господь и Спаситель наш также свидетельствует, что мир сотворен, когда говорит: «...небо и земля прейдут, словеса же Моя не прейдут» (Мф. 24, 35). Он указывает, что мир тленен и должен окончиться. Также и Апостол ясно указывает на конец мира, когда пишет: «суете бо тварь повинуся не волею, но за повинувшего ю на уповании, яко и сама тварь свободится от работы истления в свободу славы чада Божиих» (Рим. 8, 20—21), а также — когда еще говорит: «преходит образ мира сего» (1 Кор. 7, 31)»1) Имея в виду язычников, которые, трактуя о переселении душ, отвергали вместе с тем кончину мира, Ориген решительно заявляет, что о разрушении последнего свидетельствует Св. Писание 2).
Вопрос, каким образом настоящий мир некогда прекратит свое существование, Ориген решает точно так же, как и его предшественники. Он высказывает уверенность в том, что мир сгорит через огонь. В одном месте своих творений он ясно пишет, что доче-
1) De princ., lib. III, cap. V, 1, 148 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 271—272); p. пер. вып. I, стр. 281.
a) Comm. in Matth., t. XIII, 1 (Mg. XIII, 563) col. 1088AB; ibid., t. XIII, 1 (Mg. XIII, 569) col. 1089BC.
176
ри Лота некогда узнают о прекращении мира через огонь (de consummatione mundi, quae immineret per ignem); они услышат, что в конце мира земля и ее элементы будут истреблены в пламени огни (in fine saeculi terram et omnia elementa ignis ardore decoquenda); они, наконец, сами увидят огонь, пламя молнии и всеобщее опустошение (ignem, sulphureas flammas, cuncta vastari) 1). Опровергая мнение Цельса о том, что христиане от язычников наследовали свое ошибочное представление о периодически наступающем сожжении мира через огонь (ἐκπύρωσις), Ориген замечает, что греческие философы данное учение заимствовали у жившего гораздо раньше их Моисея 2). Христиане,—полагает катехет Александрийский.,—не приписывают сожжения мира через огонь (ἐκπύρωσις) движению небесных светил. Наоборот, они видят причину сожжения мира во зле (κακία), которое, достигнув возможного для себя предела, истребляется через огонь 3).
Утверждая кончину настоящего мира через огонь, Ориген, однако, не допускал субстанциального уничтожения последнего. Он лишь полагал, что этот мир изменится, приняв ивой новый вид. Такое представление о будущей кончине настоящего мира, по убеждению катехета Александрийского, подтверждает св. апостол Павел, когда говорит: «преходит образ мира сего» (1 Кор. 7. 31), а также и пророк Давид, когда пишет: «небеса погибнут, Ты же пребываеши, и вся, яко риза, обветшают, и, яко одежду, свиеши я, и изменятся» (Пс. 101, 27). «В самом деле,—так замечает Ориген, в передаче Руфина, относительно данных выражений Св. Писания.—если небеса изменятся, то, значит не погибнут, ибо что изменяется, то,
1) In Genes., hum. V, 4 (Mg. XII, 74) col. 191.
2) Contra Cels., lib. IV, cap. XI, 508 ( Koetschau, op. cit, Bd. 1, S. 28 —2321; p. пер. ч. I, стр. 344.
3) Contra Cels, lib. IV, cap. XII, 508 ( Koetschau , op. cit, Bd. I, S 282); p. пер. ч. I, стр. 346.
177
конечно, еще не погибает. И, если образ мира преходит, то это еще не означает совершенного уничтожения и погибели его материальной субстанции, но указывает только на некоторое изменение качества и преобразование его формы»1) «Эту же мысль, по мнению катехета Александрийского, без сомнения, выражает и Исаия, когда он говорит в форме пророчества, что будет небо ново и земля нова (66, 22)... Если же кто-нибудь допускает совершенное уничтожение материальной, т.-е. телесной, природы в том конечном состоянии бытия, то я совсем не в состоянии понять, каким же образом столько таких субстанций могут жить и существовать без тела, когда только природе Бога, т.-е. Отца, Сына и Святого Духа, принадлежит бытие без материальной субстанции и без всякой примеси телесности?»2).
Ио мы не представили бы правильно учения Оригена о конечной судьбе мира, если бы опустили из виду то обстоятельство, что он допускал не один конец мира, л целый ряд подобных описанному его окончаний. Дело в том, что катехет Александрийский полагал, что Бог проявляет Свое могущество в творении непрерывного ряда миров, причем настоящий мир, по его мнению, не является последним миром, а только предшественником новых будущих миров. Он служит лишь связью между прошлым и будущими мирами. «Мы верим, — так Руфин передает рассуждения Оригена,—что как после разрушения настоящего мира будет иной мир, так и прежде существования этого мира были иные миры ( post corruptionem huius erit alius mundus, ita et antequam hic esset, fuisse alios)... Что будет иной мир после этого мира, об этом
1) Si enim mutibuntur caeli, utique non perit quod mutatur; et si habb tus huius mundi transit, non omnimodis exterminatio vel perditio substantiae materialis ostenditur, sed immutatio quaedamfit qualitatis atquae habitus transformatio De princ, lib I, cap VI, 4, 70 (Koetschau, op. cit, Bd. V, S. 85); p. пер. вып. I. стр. 72.
2) Ibidem.
178 —
учит Исаии, говоря: «будет новое небо и новая земля, которые Я сотворю пребывать пред Моим лицом, говорит Господь» (66, 22). А что до этого мира уже были иные миры, это показывает Екклезиаст, говоря: «Что было, тожде есть, еже будет: и что было сотворенное, тожде имать сотворитися. И ничто же ново под солнцем. Иже возглаголет и речет: св. сие ново есть, уже бысть в вецех бывших прежде нас» (1, 9 —10). Эти свидетельства доказывают то и другое вместе, т.-е., что века были прежде (этого мира) и будут после (него). Однако не должно думать, что многие миры существуют вместе, но другие миры получают начало после этого мира ( non tamen putandum est plurea simul mundos esae, sed post hu nc iterum alium futurum)» 1). «И действительно,—пишет Ориген, в передаче Руфина, в другом месте,—не подлежит сомнению, что при конце этого мира будет великое разнообразие и различие, и это разнообразне, полагаемое нами в конце этого мира, послужит причиной и поводом новых различий в другом мире, имеющем быть после этого мира ( quae utique varietas in huius mundi fine depraeheusa causas rursum diversitatum alterius mundi pjst hunc futuri occasionesque praestabit ,)»2). Если некоторые полагают, что настоящий мир, так как в нем явился Искупитель, должен служить концом многих предшествующих миров, то катехет Александрийский старается со всей силой утвердить мысль, что после настоящего мира будут еще другие миры. «А что и после этого века (post hoc saec ulum), который, говорят, — так Руфин передает рассуждения Оригена. — сотворен в завершение других веков, будут еще иные последующие века (erant alia saecula supervenientia),—об этом ясно учит тот же Павел, говоря: «Да явит в вецех грядущих презелное богатство
1) Ibid., lib. 111, cap. V, 3, 149 (Koetschau, ор. cit., Bd. V, S. 272—273) p. пер. вып. 1, стр. 283.
1) Ibid., lib. II, cap. I, 3, 78 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 109) p. пер. вып. I, стр. 91.
179
благодати своея, благостынею на нас» (Еф. 2, 7). Он не сказал: «в грядущем веке», или: «в двух грядущих веках»; поэтому, я думаю, что свидетельством этого изречения указываются многие века»1).
Допуская после настоящего мира существование и смену многих других миров, Ориген, тем не менее, полагал, что материальная субстанция с прекращением каждого мира не уничтожается. Такое ее уничтожение возможно было бы лишь в том случае, если бы мы могли предположить, что все разумные существа обладают способностью существования без тел 2). Но подобное предположение, но мнению катехета Александрийского, не допустимо. «Если телесная природа уничтожится, то, — пишет Ориген, как передает Руфин, — кажется, ее нужно будет снова восстановить и создать во второй раз. Ведь возможно, что разумные существа, у которых никогда не отнимается способность свободного произволения, снова подвергнутся каким-либо возмущениям»..., за которыми, «без сомнения, снова последует то различие и разнообразие тел, которым всегда украшается мир, потому что мир не может состоять иначе, как только из различия и разнообразия; но это разнообразие никоим образом не может осуществиться без телесной материи» 3). Возможно, полагает Ориген, что сосуд, который на основании предшествующих причин был назначен Богом в нынешнем веке для почетного употребления, в будущем мире, если он будет жить более или менее нерадиво, станет сосудом бесчестии. Наоборот, кто, в силу предшествующих причин, предназначен быть в настоящем мире сосудом бесчестии, тот, если он исправится и очистит
1) Ibid., lib. II, cap. 111,5, 82 (Koetschau, ор. cit., Bd. V, S. 120); p. пер, вып. I, стр. 104.
2) Ibid., lib. II, cap. 111, 2, 80 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 115); p. пер. вып. I, стр. 98.
3) Ibid., lib. II, cap. III, 3, 81 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, 8. 118—119); p. пер. вып. I, стр. 101—102.
— 180 —
себя от всех греховных скверн, в будущем мире окажется почетным сосудом. Подобно тому, как предназначенные Богом быть в настоящем мире Израилем, если на самом деле не только не будут совершать дел, достойных истинного Израиля, но сверх этого обесславят своей жизнью израильский род, в будущем мире из избранных сосудов славы обратятся в негодные сосуды бесчестия, так, наоборот, те, которым в этом мире предназначено родиться и жить египтянами или идумеянами, если они совершат дела, достойные Израиля, и войдут в Церковь Христову,—те в будущем мире станут почетными сосудами1). Возможно,— пишет катехет Александрийский, в другом месте,—что многие из разумных существ, находящиеся в настоящее время на высших ступенях лестницы духовного мира, сохранят свое нравственное состояние не только во втором, но и в третьем и четвертом мирах. Другие же из них потеряют только незначительную часть своего нынешнего совершенства и положения. Наконец, третьи ниспадут в бездонную глубину зла. Бог же при устройстве новых миров с каждым из разумных существ поступит так, как этого будут требовать его заслуги. Отсюда, кто из разумных существ превзойдет всех остальных нечестием и совсем сравняется с землей, тот в другом мире будет диаволом, началом противления Господу, так что над ним будут насмехаться ангелы, потерявшие первоначальную добродетель 2).
4. Учение о всеобщем суде.
«В церковной проповеди, по словам Оригена, содержится учение о праведном суде Божьем»3). Это учение
1) Ibid., lib. III, cap. I, 21, 136 ( Koetschau, ор. cit.. Bd. V, S. 241); p. пер. вып. I, стр. 244-245.
2) Ibid., lib. III, cap. VI, 3, 153 ( Koetschau, op. cit., Bd. X, S. 285); p. пер. вып. I, стр. 295.
3) Ἐν τῷ κηρύγματι τῷ ἐκκλησιαστικῷ περιέρχεται ὁ περὶ κρίσεως δικαίας Θεοῦ Λόγος. Ibid ., lib . III, cap . I, 1, 108 ( Koetschau , op . cit ., Bd . V , S . 195); p . пер. вып. 1, стр. 184.
181
имеет весьма важное этическое значение, так как, по заявлению катехета Александрийского, даже еретики, в виду будущего суда, исправляют свою жизнь1).
Вопрос о времени наступления мирового суда Ориген решает в том смысле, что последний произойдет после кончины настоящего мира (καὶ ἐπιστήσεταί τι τέλος τῷ κόσμῳ καὶ μετὰ τὸ τέλος δικαία περὶ πάντων κρίσις)2).
Будущий мировой суд Ориген считал всеобщим в том смысле, что на него явится вся тварь. В день будущего суда, по его мнению, все племена и народы (omnes gentes et populi) с сердечным страхом и трепетом ожидают Христа, как Судью 3). Все люди,—говорит он в другом месте,—которые умрут от начала мира до самого его конца, сохраняются на последний день суда (ad hunc ultimum diem judicandi reserventur)4). И не только все люди, по представлению катехета Александрийского, будут судимы в последний день, но, согласно Рим. 2, 16, и вся тварь ( in die judicii non solum homo sed etiam universa conditio jadicetur 5).
Имея в виду Рим. 2 16 и Ио. 5, 22, Ориген полагал, что будущий мировой суд Бог произведет через Христа 6). Кроме того, по его воззрению, вместе с Царем царей будет участвовать в царствовании и суде также тот, кто пьет ту чашу, которую Христос испил до конца7). Наконец, по мнению катехета Александрийского будут присутствовать при мировом суде и все ангелы, которые приведут на этот суд людей, руководимых ими
1) In Levit., hom. VII, 6 (Mg. XII, 227) col. 490A.
2) Contra Cels., lib. IV, cap. IX, 507 ( Koetschau , op. cit, Bd. I, S. 280); p. пер. ι. I, стр. 343; Comm. in ep. ad Rom., lib. II, 4 (Mg. XIV, 479) col. 877D—878A.
3) In Genes., hom. XVII, 6 (Mg. XII, 108) 259B.
4) Comm. in ep. ad Rom., lib. II, 4 (Mg. XIV, 479) col. 877D—878A,
5) In Ezech., hom. IV, 1 (Mg. XIII. 370) col 697A.
6) Comm. in ep ad Rom., lib. II, 10 (Mg. XIV, 486-487) col. 894AB.
7) Exhort. ad mart. XXVIII, 291 (Koetschau, op. cit., Bd. I. S. 24); p. пер., стр 36.
182 —
в добродетельной жизни, дабы стало ясным, согрешили ли они по своему неведению или по беспечности своих покровителей 1).
Изображая будущий мировой суд, Ориген высказывал уверенность в том, что во время него будут судимы не только человеческие дела и слова, но также и мысли, потому что Бог знает все, что мы делаем, говорим и думаем2). Кто, — говорит катехет Александрийский в другом месте,—один только знает сердца людей и тайные их мысли, Тот лишь и может произвести над ними суд 3). Когда в Рим. 2, 15 говорится о том, что во время суда мысли людей будут взаимно друг друга обвинять или оправдывать, то здесь, по воззрению Оригена, разумеются не те мысли, которые тогда будут у людей, но которые они имеют в настоящее время. Все наши как добрые, так и дурные мысли,—продолжает катехет Александрийский,—оставляют на наших душах, как на воске, известные знаки, которые теперь составляют тайну наших сердец, а во время мирового суда вскроются Тем, Кто один только знает человеческие тайны 4).—Всеобщий суд будет справедливым, так как на нем Бог распределит между людьми награды и наказания, соответственно их достоинству. Производя мировой суд, Бог, по мнению Оригена, не может оказаться несправедливым, потому что наименованием Его Iudex указывается на то, что Он ничего не делает без суда. А где суд, там и справедливость, так как понятия iudex и iudieium происходят от понятия—iustitia 5). Жизнь, слово и расположение каждо-
1) In Numer., hom., XI, 4 (Mg. X(l, 307) col. 647BC; ibid., hom. XXIV, 3 (Mg. XII, 365) col. 762B.
2) Contra Cels, lib. IV, cap. LIII, 545 ( Koetschau , op. cit., Bd. I, S. 3261; p. пер. ч. I, стр. 414—415.
3) Comm. in ep. ad Rom., lib. II, 1 (Mg. XIV, 476) col. 872C.
4) Ibid., lib. II. 10 (Mg. XIV, 486—487) 894AB.
5) Quomodo iniustus putabitur, qui iudicat mundum, cum ipso nomine iudicis ostendatur nihil sine iudicio facere? Ubi autem iudieium
183 —
го, по словам катехета Александрийского, сделают то, что каждый будет судиться но заслугам ( ὁ ἐκαστου βίος καὶ λόγος καὶ διάθεσις ποιήσει προκριθῆναι ἐκάστου κατ ’ ἀξίαν ) 1). «Несомненно,—так передает рассуждения Оригена по данному вопросу Руфин,—что в день суда добрые будут отделены от злых и праведные от неправедных, и судом Божьим все будут распределены, сообразно с заслугами, по тем местам, каких они достойны ( singuli quique pro merito per ea loca, quibus digni sunt, distribuantur judicio Dei)»2).— Изображая будущий всеобщий суд, Ориген, наконец, полагал, что он, как и второе пришествие Христа на землю, произойдет не чувственно видимым образом, а исключительно духовным. По его убеждению, ни места, где явится будущий Судья, ни Его сидения во время суда нельзя понимать в буквальном смысле. Будущий суд совершится внутренним образом, именно через откровение Христа в душе человека, вследствие чего пробудится его совесть и все сокрытое в нем явится во свете3). По мнению катехета Александрийского, Св. Писание, если и изображает будущий суд в форме обычного человеческого суда, то лишь потому, что оно желает его представить наглядно4).
Непосредственным следствием всеобщего суда Божья, по воззрению Оригена, будет различная участь праведников и грешников. Во время этого суда первым Господь скажет: «Приидите благословеннии Отца Моего» и дал. ( Мф.
est constat esse iustitiam. A iustitia namque et iudex et iudieium nominatur. Ibid. lib. IΙΙ, 1 (Mg. XIV, 501) col. 923C.
1) Schol. in Cant. cant.. cap. VI. 7 (Mg. XVII) col. 277C.
2) De princ., lib. II, cap. IX, 8, 100 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 171 —172); p. пер. вып. I, стр. 159.
3) In Math. comm. ser. 70 (Mg. XIII, 887) col. 17—12BC.
4) Declarari videmus ex omnibus (scripturis) certissime futurum esse iudieium Dei; cujus species ut notior hominibus fieret, iudicandi forma ex his, quae inter homines geruntur, assumpta est. Comm. in ep. ad Rom, lib. IX, 41 (Mg, XIV, 662) col. 1241C.
— 184
25, 34), а вторым: «Идите проклятии в огонь вечный» (Мф. 25, 41)1). Впрочем, катехет Александрийский такое отделение праведников от грешников и тогда не считал вечным, так как, по его убеждению, и после воскресения мертвых будут иметь свою силу исправительные и очистительные средства 2).
5. Учение о всеобщем апокатастасисе.
Заключительным аккордом эсхатологических воззрений Оригена является его учение о всеобщем апокатастасисе. Это учение катехета Александрийского находится в тесной связи с его представлениями об адских мучениях, не как лишь о наказании, но как и о таком средстве, через которое последние очищаются от своих грехов. И в самом деле, если грешники на том свете через адские мучения мало по малу освобождаются от своих грехов, то естественно ожидать, что все они некогда станут нравственно вполне чистыми, следствием чего будет достижение ими небесного блаженства.
Помимо того, что учение о всеобщем апокатастасисе вполне естественно вытекает из воззрений Оригена на адские мучения, мы находим о нем в его творениях также специальные рассуждения.
Восстановление всех разумно-свободных существ в их первоначальное состояние и, следовательно, уничтожение зла, по воззрению катехета Александрийского, прежде всего, следует из метафизических оснований. Дело в том, что, по его взгляду, только добро существует в собственном смысле. Что же касается зла, то оно является
1) De princ., lib. IΙΙ, cap. 1, 6, 112 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 203); p. пер. вып. I, стр. 194—195.
2) Ego puto, quod et post resurrectionem ex mortuis indigeamus sacramento eluente nos atque purgante. Nemo enim absque sordibus resurgere poterit, nec ullam posse animam reperiri universis statim vitiis careat. In Luc., hom. XIV (Mg. ХIII, 948) col. 1836A.
185 —
лишь отсутствием добра. «Отступить от добра, по словам Оригена, обозначает не что иное, как сделать зло (effici in malo), потому что известно, что зло есть недостаток добра (certum namque est malum esse bono carere)»1). Возникая только в случае уклонения разумно-свободного существа от добра, зло, таким образом, в самом своем существе носит начало саморазложения и самоуничтожения2). Отсюда само собой следует, что добро некогда достигнет полного торжества над бессильным злом и охватит собой все существующее, так что злу нигде и пи в чем не останется места.
Мысль о будущем восстановлении всех разумно-свободных существ в их первобытное состояние, по мнению Оригена, далее, вытекает из психологических соображений. Зла,—рассуждает катехет Александрийский,— некогда совершенно не было и наступит время, когда его снова не будет, потому что семена добродетели не подлежат истреблению. В последнем нас, по воззрению Оригена, убеждает евангельский богач, который не погряз окончательно во зле и тот момент, когда он за свои грехи был осужден на адские мучения, так как в это именно время он еще испытывал сострадание к своим братьям, которое является прекрасным семенем добра 3). Если грех хулы на Святого Духа в нынешнем мировом эоне, согласно Мф. 12, 32, не прощается, то отсюда, по убеждению Оригена, еще не следует, что он не простится также и в будущих мировых эонах 4). Напротив, по его
1) De princ., lib. II, cap. IX, 2, 97 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 166); p. пер. вып. I, стр. 152.
2) Non enim decidentia de homine vitia ad aliquam aliam substantiam peccatorum congregantur, sed sibi abeunt, et in semetipsa resoluta evanescunt, atque in nihiIum rediguntur. In Cant. cant., lib. IV (Mg. XIII, 88) col. 186AB.
3) Expos, in Prover., cap. V, 14 (Mg. XVII) col. 173C.
4) Comm. in Io. VID. 21, lib. XIX, cap. XIV, 88—90 (Preuschen, cp. cit, Bd. IV, S. 314).
— 186
мнению, в этих последних Бог обратит богатство Своей благодати в милость, дабы люди, согрешившие и пребывающие в грехе хулы на Святого Духа в течение настоящего мирового эона и ему предшествующих, тогда таинственным способом приняли участие в спасении1)
Однако Ориген свое учение о всеобщем апокатастасисе преимущественно обосновывает на свидетельствах Св. Писания. Трактуя, например, de fine et consummatione mundi, катехет Александрийский высказывает свое убеждение в том, что благость Божья, согласно Пс. 109, 1 и 1 Кор. 15, 8, приводит через Иисуса Христа всю тварь к одной дели—покорению и подчинению всех врагов. Уясняя, в чем будет состоять данное покорение и подчинение врагов, он полагал, что это будет та же самая победа, которой достигли апостолы и все святые, последовавшие Христу. Это будет то самое спасение (salus), которое Христос дарует покорившимся Ему (ср. Ис. 61, 2)2). Те существа,—говорит Ориген в другом месте, — которые ниспали из своего первоначального блаженного состояния, находятся в распоряжении святых и блаженных чинов. Пользуясь их помощью и исправляясь под влиянием их спасительных наставлений, они «могут возвратиться и быть восстановленными в состоянне своего блаженства (redire ае restitui ad statum suae beatitudinis possint)». Из этих именно существ, по мнению катехета Александрийского, состоит человеческий род, который в будущем веке или в последующих веках, когда, по словам пророка Исаии, явится новое небо и новап земля (66, 22), будет восстановлен в то единство, как обещает Господь (restituetur in illam unitatem, quam
1) Libell. de orat. 27 (Mg. XI, 251) col. 520AB.
2) De princ, lib. I, cap. VI, I, 69 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 79; p. пер. вып. 1, стр. 65—66.
187
promittit Dominas), говоря к Богу Отцу о Своих учениках: «Не о сих молю токмо, но и о верующих словесе их ради в Мя, да вси едино будут, якоже Ты, Отче, во Мне, и Аз в Тебе, да и тии в нас едино будут» (Ио. 17, 20— 21), или: «Да будут едино, якоже Мы едино есмы. Аз в них, и Ты во Мне, да будут совершени во едино» (Ио. 17, 22—23). Это, по воззрению Оригена, подтверждает и апостол Павел, когда говорит: «Дондеже достигнем вси в соединение веры, в мужа совершенна, в меру возраста исполнения Христова» (Еф. 4,13)1) Христос, по мнению катехета Александрийского, in consummatione saeculi объединит в Себе Самом всех, покоренных Им Отцу и достигающих через Него к спасению. Вместе с ними и в них и Он Сам покорится Отцу, так как все существует в Нем, и Он есть глава всего, и в Нем— спасение и полнота наследующих спасение, согласно свидетельству св. апостола Павла: «Егда же покорит Ему всяческая, тогда и Сам Сын покорится Покоршему Ему всяческая» (1 Кор. 15, 28) 2). Определяя точнее смысл данного апостольского выражения, Ориген говорит, что рассуждение о Сыне, как о покоршемся Отцу, указывает на «совершенное восстановление всей твари». Подобным образом, полагает он, когда враги Божьи называются «покорившимися Сыну», то «под этим покорением разумеется спасение покорившихся и восстановление погибших» 3). Если Цельс считал невозможным, что некогда все люди будут следовать в своей жизни одному закону, то это Ориген опровергает со всей силой. По его мнению, ничего нет невозможного в том, что наступит время, когда все
1) Ibid., lib. I, cap. VI, 2, 70 (Koetschau, op. cit, Bd. V. S. 82); p. пер. вып. I, стр. 68—69.
2) Ibid., lib. III. cap. V, 6, 161 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 277); p. пер. вып. I, стр. 288.
3) Cum dicitur Filius Patri subiectus, perfecta universae creaturae restitutio declaratur, ita cum Filio Dei inimici dicuntur esso subiecti subiectorum salus in eo intellegatur et reparatio perditorum. Ibid., lib. III, cap. V, 7, 151 (Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 278). p. пер. вып. I, стр. 289.
188
разумные существа обратятся к одному закону. Несомненно, некогда Слово покорит Себе всю разумную природу и преобразит все души, сообщив им Свое совершенство, и это потому, что Слово могущественнее, чем все страдания и пороки души, и Его целительная сила по воле Божьей предлагается всем людям. В начале мира было одно лишь добро; поэтому, и в конце существования вещей совершенно не должно быть зла. Отсюда, концом всех вещей будет не что иное, как совершенное исчезновение всякого зла (τὸ τέλος τῶν πραγμάτων ἀναιρεθῆναί ἐστι τὴν κακίαν). Что зло, действительно, некогда прекратит свое существование, так что оно нигде больше уже не будет существовать, об этом прикровенно учили ветхозаветные пророки (Соф. 3, 7—13)1). Проведя аналогию между грехом и проказой, Ориген высказывает уверенность в том, что эта проказа не вечно будет существовать. Напротив, люди, одержимые ею, в конце мира возвратятся в свое прежнее состояние. Эго случится именно тогда, когда достигнут своего спасения как язычники, так и израильтяне и, таким образом, составится «одно стадо и один Пастырь» 2) Если евреи, на основании Иезек. 16, 55, думают, что Содом некогда возвратится в свое прежнее положение, то катехет Александрийский полагает, что и египетская земля не навсегда останется в своем пагубном положении. Это значит, что душа, подвергшаяся наказанию за содомский грех, после продолжительного времени наказания снова возвратится в свое прежнее состояние 3). Кромешная тьма, по представлению Оригена, может продолжать свое существование только до тех пор, пока находящиеся в ней грешники не станут достойными того состояния, из которого они некогда вышли 4).
1) Contra Cels., lib. VIII, cap. LXXII, 795—796 ( Koetschau , op. cit., Bd. II, S. 288—290).
2) In Numer., hom. VI, 4 (Mg. XII, 288) col. 611BC.
3) In Ezech., hom. X, 3 (Mg. XII’, 393—394) col. 743AB.
4) In Matth, comm. ser. 69 (Mg. XIII, 884) col. 1706D—1707A.
189
Кроме тех или других выражений Св. Писания, взятых в отдельности, всеобщий апокатастасис, по мнению Оригена, предполагается также учением о плодах искупления, совершенного Иисусом Христом. Дело в том, что Сын Божий приходил на землю для того, чтобы спасти все разумно-свободные существа. Отсюда, плоды искупления не могут простираться только на известную их часть. И это по той причине, что в последнем случае царство Христово оказалась бы неполным, так как значительная или даже большая часть разумно свободных существ была бы вне его. Иисус Христос, — так рассуждает Ориген, — сказал, что Он не будет пить вина в царстве Божьем до тех пор, пока Он его не станет пить вместе с нами (ср. Мф. 26, 29). Объясняя причину этого обстоятельства, Ориген полагает, что Сын Божий не может радоваться в то время, когда мы пребываем в грехах Напротив, только может скорбеть при виде наших грехов Тот, Кто Сам был язвен за наши беззакония (Ис. 53, 5). Вот почему не пьет Господь вина радости, не пьет от плода той лозы, о которой Он сказал: «Аз есмь лоза, вы же рождие» (Ио. 15, 5), «кровь Моя истинно есть пиво и плоть Моя истинно есть брашно» (Ио. 6, 65). Он не пьет и не радуется, и это будет продолжаться до тех пор, пока Он не совершит Своего дела. А это Его дело достигнет Своего завершения тогда, когда последний и самый тяжкий из всех грешников станет вполне чистым от своих грехов. Дело в том, что до того времени, пока последний грешник не покорится Сыну Божью, и Он не покорится Своему Отцу в нем, в котором еще не достигло совершенства Его дело. Согласно свидетельству св. апостола, мы все вместе составляем тело Христа, а каждый из нас в отдельности тот или иной член этого тела (1 Кор. 12, 27). Поэтому, если между нами будут хотя и немногие непокорившиеся Христу полной покорностью, то и Он не покорится Своему
190 —
Отцу. Когда же Сын Божий совершит Свое дело, другими словами, когда Он возведет к высшему совершенству всю тварь ( cum universam creaturam ad summam perfectionis adduxerit), тогда и Он Сам покорится Отцу в лице тех, кого Он покорил Себе и Отцу и в ком Он совершил возложенное на Него Отцом дело, да будет Бог всяческая во всех (1 Кор. 15, 28). Итак, в настоящее время Господь не пьет вина радости, потому что Он предстоит алтарю в качестве умилостивительной жертвы за наши грехи. Но Он снова будет пить его, когда Ему все покорятся и спасутся и когда, таким образом, разрушится самое царство смерти или греха ( cura subjecta et fuerint omnia, et salvatis omnibus, ac destructa morte peccati), так что более уже не нужно будет жертвы за грех. Тогда именно наступит время для радости и веселия, ибо отбежит болезнь, и печаль, и воздыхание (Ис. 35, 10).— Однако не один только Сын Божий не может испытывать полной радости, но и все наследовавшие Его царство, пока еще существуют грешники. Более того, они вместе со Христом скорбят о грешниках, ожидая их вступления в царство Божье. И сии вси, — говорит св. апостол Павел о ветхозаветных праведниках,—спослушествованы бывше верою, не прияша обетования, Богу лучшее что о нас предзревшу, да не без нас совершенство приимут (Евр. 11, 39—40). Эти слова св. апостола, по объяснению Оригена, обозначают, что Авраам, Исаак, Иаков, все пророки и все святые вообще ожидают нас грешников, чтобы мы вместе с ними участвовали в полном блаженстве, ко торым они без нас не обладают. Мнози суть ныне удове — говорит св. апостол Павел в другом месте,—едино же тело: не может же око рещи руце: не требе ми еси (1 Кор. 12, 20—21). Отсюда, заключает катехет Александрийский, что только тогда наступит полная радость в небесном царстве, когда в нем будет все тело, когда в нем не будет отсутствовать ни один член этого
191
тела, когда, согласно пророчеству Иезекииля, оживут все мертвые кости и соединятся в одно тело (Иезек. 37, 11). И, если всякий член царства Божья не может испытывать полной радости, когда в ней не участвуют другие его члены, то тем более не может иметь ее Господь, Который есть глава всего тела. Отче,—молился Он,—прослави Мя славою, юже имех у Тебе прежде мир не бысть (Ио. 17, 5). Он не желает принять прославления без Своего народа, который составляет Его тело. Он, как душа, желает жить в этом теле Своей Церкви, чтобы в нем все движения и дела совершались по Его воле. В настоящее время это Его желание еще не исполнилось, так как теперь все мы еще пребываем в грехах и только отчасти совершенны, почему только отчасти мы и можем называться членами и костьми тела Христова. Когда же произойдет всеобщее соединение членов с членами и костей с костьми, причем даже тех костей, которые, по словам пророка, рассыпаны во аде (Пс. 140, 7), тогда наступит и то высшее совершенство, владея которым всякий может сказать: «Живу не ктому аз, но живет во мне Христос» (Гал. 2, 20). «Тогда вся кости рекут: Господи, кто подобен Тебе» (Пс. 34, 10). Тогда именно и Господь будет нить вино вместе с нами, при этом новое вино, на новом небе и новой земле и с новым народом, который будет воспевать Ему новую песнь1). Ориген вполне соглашается с той мыслью, что в свободной воле разумных существ заложена сильная преграда к осуществлению такого полнейшего царства. Но вместе с тем он высказывает убеждение, что спасительная сила Христовых заслуг так бесконечно велика, что ее вполне достаточно для спасения не только настоящего и будущего, но и всех прошедших и будущих веков. Она спасительна не только для одного нашего человеческого
1) In Lev., hom. VII, 2 (Mg. XII, 221—222) col. 479A-D—481A-D.
192
рода, но и для всего разумно-свободного мира, для всех, по выражению св. апостола, аще земная, аще небесная (Кол. 1, 20)1). Итак, по мнению Оригена, па основании учения о плодах искупительного дела Христова необходимо предположить, что некогда наступит конец нынешнего несовершенного порядка вещей и будет существовать одно только добро, как это и было в первоначальном мире.
Если Ориген полагал, что зло некогда совершенно прекратит свое существование, то этим самым он должен был призвать восстановление в первоначальное со стояние не только всего человеческого рода, но и диавола. И действительно, на основании некоторых его выражений, можно думать, что и злые духи, по его мнению, в одном из будущих мировых эонов снова возвратятся в доброе состояние. Так, по его предположению, некогда прекратятся наказания злых духов. Он уверен в том, что Евангелие в конце времен будет проповедано всем народам, а также и ангелам, летающим в воздухе, потому что добрый Отец не оставляет тех, кто от Него отпал2). В другом месте Ориген говорит, что Иоанн и Христос проповедывали спасение людям, ангелам и прочим силам (hominibus et angelis et virtutibus caeteris), да о имени Иисусове всяко колено поклонится, небесных и земных и преисподних: и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос в славу Бога Отца (Фил. 2, 10—11)3). Когда св. апостол говорит, что некогда испразднится последний враг—смерть (1 Кор. 15, 26), то под смертью в данном случае Ориген разумеет диавола 4). Истребление последнего врага, конечно, нужно понимать не в том смысле, что погибнет его
1) Comm. in ep «id Rom., lib. V, 10 (Mg. XIV, 568) col. 1053AB.
2) Comm, in Io., lib. I, cap. XIII—XIV, 82—84 (Preuschen, op. cit., Bd. IV, 18—19).
3) In Luc, hom. XXIII (Mg. XIII, 961) col. 1864A.
4) Comm. In ep. ad Hom., lib. V, 7 (Mg. XIV, 560) col. 1036C— 1037A.
— 193 —
субстанция, созданная Богом, но в том, что погибнет расположение и враждебная воля, происшедшая не от Бога, но от него самого. Значит, он будет истреблен не в том смысле, что уже перестанет существовать, а в том, что не будет врагом и смертью, потому что нет ничего невозможного для Всемогущего и ничего неисцелимого для Творца» 1). Впрочем, Ориген, склоняясь к признанию будущего восстановления диавола в его первоначальное состояние, в то же время предоставлял окончательное решение данного вопроса читателям его творений. «Спрашивается, пишет он, могут ли некоторые из этих чинов, действующих под начальством диавола и повинующихся его злобе, когда-нибудь в будущие века обратиться к добру в виду того, что им все же присуща способность свободного произволения, или же постоянная и застарелая злоба, вследствие привычки, должна обратиться у них как бы в некоторую природу. Ты, читатель, должен исследовать (tu, qui legis, probato), действительно ли и эта часть (существ) совершенно не будет во внутренном разногласии с конечным единством и гармонией» 2).
Так учил Ориген о всеобщем апокатастасисе. Так он представлял себе последнюю страницу мировой истории.
_________
Эсхатологические воззрения Оригена в скором времени в истории христианской письменности нашли как своих приверженцев, так и противников.
Обыкновенно считают3) ближайшими последователями Оригена в области его эсхатологических воззрений св. Дионисия, епископа Александрийского († 265), св. Григория Чудотворца, епископа Кесарийского († 271), Памфила,
1) De princ., lib. III, cap. VI, 5, 154 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 288—287); p. пер. вып. I, стр. 297.
2) Ibid., lib. I, cap. VI, 3, 70 ( Koetschau , op. cit., Bd. V, S. 83—84); p. пер. вып. I, стр. 69.
3) Например, Prof. L. Atzberger, op. cit., S. 457—465.
— 194 —
пресвитера Кесарийского († 309), св. Лукиана, пресвитера Антиохийского († 312), Пиерия, Феогноста и друг. Однако необходимо заметить, что ни один из названных свв. отцов не оставил после себя целой стройной эсхатологической системы. Поэтому, если они и примыкали к Оригену, знаменитому катехету Александрийскому, в данной области богословских воззрений, то, как об этом можно судить на основании сохранившихся их сочинений или отрывков от последних, лишь в тех или иных пунктах. Так, например, св. Дионисий Александрийский, суля по сохранившимся у Евсевия Кесарийского отрывкам из его сочинений, был последователем Оригена лишь по борьбе с хилиазмом, которому он, можно сказать, нанес окончательный удар1).
Если эсхатологические воззрения Оригена имели немало приверженцев, при этом преимущественно среди александрийцев, то вместе с тем среди последних не трудно указать и их противников. К числу последних принадлежит, прежде всего, св. Петр, епископ Александрийский († 311), и св. Александр, епископ Александрийский († 326). Оба названные свв. отцы, не предлагая своей полной эсхатологической системы, касаются, главным образом, учения о будущем воскресении мертвых. Об учении св. Петра Але-
11 Hist, eccles., lib. III, cap. XXVIII, (Migne, ser. gr. (1857), t. XX, 100) col. 276A; p. пер. (Сочинения Евсевия Памфила, Санкт-петербург 1858), т. I, стр. 147; ibid., lib. VII, cap. XXIV (Mg. XX, 270—272) col. 692C—696A-C; p. пер. т. I, стр. 396—399.
Что касается других пунктов эсхатологического учения св. Дионисия, то в своем раскрытии их он стоит на почве церковного предания. Так, он говорит об Антихристе (Euseb., Hist, eccles., lib. VII, cap. XXV (Mg. XX, 275) col. 701C; p. пер., стр. 405 cp. Свящ. A. Дружинина, op. cit., стр. 27) и утверждает, что те люди, которые отрицают что Христос умер и воскрес и снова придет судить живых и мертвых, подлежат анафеме, а отвергающих будущее всеобщее воскресение он причисляет к мертвым (Pitra, Analecta sacra, t. IV (Parisiis MDСCCLXXXIII), p. 414; p. пер., стр. 60). По замечанию св. Дионисия Александрийского, Христос, согласно Пс. 81, 8, будет судить весь мир (Ibid., р. 416; р. пер. стр. 118).
195
ксандрийского можно судить по разным фрагментам его сочинений. Он, вопреки мнению Оригена, отмечает с особенной силой материальное тожество будущих воскресших тел с настоящими. По его воззрению, во время всеобщего воскресения мертвых смертное человеческое тело достигнет бессмертия, дабы оно, соединившись с своей душой, получило заслуженную им награду. Книги Св. Писания, как полагает этот святитель Александрийский, с достаточной ясностью свидетельствуют о том, что человеческие тела, именно те, которые в настоящее время наполняют собой землю, некогда, подобно семени, оживут. И это потому, что если бы воскресло и снова соединилось с душой не то тело, которое с ней разъединилось и было предано земле, то в таком случае ничего не было бы удивительного в факте воскресения. Более того, тогда даже нельзя было бы признать самого факта воскресения, потому что восстало бы не то, что упало, воскресло бы не то, что умерло, и обновилось бы не то, что устарело. Напротив, воскресение из мертвых будет подобно Перворожденному из мертвых. Это значит, что те человеческие тела, которые находятся в гробах, воскреснут подобно тому, как воскрес Христос с Своим телом. Если говорится в Св. Писании, что тело и кровь не могут наследовать царства Божия (1 Кор. 15, 50), то отсюда не следует, что они не воскреснут, потому что св. апостол не сказал, что они «не могут воскреснуть», а лишь — «не могут наследовать царства Божия». Что они царства Божия не могут наследовать, это, по рассуждению св. Петра Александрийского, вытекает, во-первых, из свойства тела подвергаться тлению, а во-вторых, следует из наклонности человека к дурной жизни. Поэтому, если тело человека должно наследовать царство Божие, то ему необходимо, прежде всего, приобрести нетление. Но его -человек не может приобрести до тех пор, пока он пребывает в грехах. Если же в Св. Писании говорится,
196 —
что мы все изменимся (1 Кор. 15, 51), то этим указывается не на что-либо другое, как на то, что мы достигнем такой славы и чести и станем так крепки и прочны, что наше тело будет иметь блеск эфира. Однако мы будем обладать не другими телами, но лишь теми, которые будут положены в гроб1) Если, наконец, пророк Иезекииль, по мнению святителя Александрийского, свидетельствует, что человеческие тела некогда будут обладать славой Святого Духа, бессмертием, нетлением и самым ясным блеском (ср. Иезек. 37, 6), то отсюда следует, что воскресение и состоит в изменении сущности человеческих тел, но в благодатном одеянии, вследствие чего, после устранения смерти и тления, наступит вечное бытие с славным участием в сущности Божьей (essentiae Dei) 2).
Однако, самым известным и сильным противником эсхатологических воззрений Оригена в рассматриваемую эпоху христианской письменности был св. Мефодий, епископ Олимпский († 311). Этот святитель старался опровергнуть Оригена во всех тех пунктах его эсхатологической системы, в которых он уклонился от церковного предания. Св. Мефодий отводит достаточно много внимания эсхатологической проблеме, так что на основания сохранившихся его творений сравнительно полная его эсхатологическая система в главных чертах может быть представлена таким образом.
1) Pitra, ор. cit., р. 423.
2) Ibid., ор. cit., р. 429.
На основании сохранившихся в отрывках сочинений св. Александра Александрийского мы не можем указать противооригенистических мыслей последнего. Можно лишь отметить некоторые общецерковные эсхатологические воззрения святителя Александрийского. Так, по его учению, воскресение мертвых во время смерти Господа было предобразом всеобщего воскресения мертвых в конце настоящего мира. Всеобщее воскресение мертвых, по замечанию этого св. отца, является частью вероучения апостольской церкви (Ep. XII, Migne, ser. gr. (1857), t. XVIII) col. 568C).
197
VII. Эсхатология св. Мефодия Олимпского.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности.
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души.
По учению св. Мефодия Олимпского, человек состоит из двух существенных частей—души и тела (ἄνθρωπος τὸ ἐκ ψυχῆς καὶ σώματος λέγεται συντεθέν)1). Тело человека смертно (σῶμα τὸ νεκρόν), а душа бессмертна (ἡ ψυχὴ ἀθάνατος)2). Бессмертие человеческой души св. Мефодий рассматривает в связи с разумностью человека и выводит то и другое из того обстоятельства, что человеческая душа создана по образу Божью 3). В данном случае он ссылается также на притчу о богатом и Лазаре (Лук. 16) и на Прем. 3, 14). Святитель Олимпский полагал, что также и человеческое тело, соответственно плану Творца, было создано бессмертным и свободным от всякого тления и болезни5). И
1) De resurr. , lib. I, cap. L, 3 (Ptof. G. N. Bonwetsch, Methodius von Olympus, Schriften (Erlangen und Leipzig 1891) I, S. 159—160).
2) Ibid., lib. I, LI, 5, 6 (Bonwetsch, op. cit, S. 162—163).
3) Ἐτεκτήνατο κατ’ εἰκόνα τῆς εἰκόνος ἑαυτοῦ τῆν ψυχὴν. Διὸ καὶ λογικὴ κα ἄθάνατός ἐστιν. Conv. decem virg., orat. VI, cap. 1 (Migne, ser. gr. (1857), t. ХVIII) col. 113В; p. пер. (Cв. Мефодий, епископ и мученик, отец церкви ІІІ-го века. Полное собрание его творений, переведенных с греческогопод редакцией проф. Е. Ловягина, С.-Петербург 1905), стр. 74.
4) De resurr., lib. I, cap. LII, 1 (Bonwetsch, op. cit., S. 163).
5) Ibid., lib I, cap. XXXIV, 2—4 (Bonwetsch, op. cit., S. 123—124).
198 —
только через зависть диавола вошла в мир смерть, которой, согласно Прем. 2, 24, человек стал подвергаться по своему телу 1)
Однако, по учению св. Мефодия, телесная смерть является для людей не только наказанием за грех, но вместе с тем и великим благодеянием, именно посредствующим моментом в процессе усвоения спасения. По воззрению святителя Олимпского, смерть простирает свое действие на телесную природу, чтобы, с одной стороны, через разрушение ее положить преграду в ней греху, который живет до самого гроба даже в лучшем христианине, а с другой,—через преобразование испорченного телесного состава исцелить в нем греховные язвы. «Пока тело живет, пока оно еще не умерло, до тех пор,— пишет св. отец,—по необходимости живет в нем грех и скрытые в нас его корни сохраняют свою силу, несмотря ни на какие наказания и обличения, какими они укрощаются. В противном случае, если бы грех из нас был совершенно (εἰλικρινώς) устранен, то мы после крещения не допускали бы никакого греха. Между тем, и после уверования, после того, как мы приступили к освященной воде, мы оказываемся повинными греху. Ведь, никто не может похвалиться, что он свободен от всякого греха, что он не допускает беззакония даже и в мысли. Ясно, что верой грех укрощается и усыпляется настолько, что он не приносит пагубных плодов, хотя и не истребляется с корнем. Теперь мы укрощаем отпрыски его, т.-е. худые мысли, дабы какой-нибудь корень горечи, поднимаясь вверх, не причинил нам скорби; не дозволяем путям и дыханиям зла выходить наружу, отсекая словом Божьим, как ножом, выходящие от корня отрасли. Но в будущем состоянии всякая мысль о зле уничтожится»2).
1) Ibid., lib. I, cap. XXXVI, 1—2 (Bonwetsch, op. cit., S. 127—128).
2) Ibid., lib. I, cap. XLI (Bonwetsch, op. cit., S. 138—141).
199
Грех, по мнению св. Мефодия, настолько глубоко проник во всю природу человека, что может быть устранен из нее лишь через разложение его тела
2. Учение о будущей участи людей.
Св. Мефодий Олимпский различал двоякую участь людей в загробном мире. В сохранившихся его сочинениях мы находим рассуждения, с одной стороны, о будущей участи праведников, а с другой,—грешников.
Св. Мефодий полагал, что праведники в загробном мире имеют местом своего жительства небо (οὐρανός) и приближаются к звездам, как чада света (καὶ πλησιάζειν τοῖς ἀστροις , ὡς φωτὸς τέκνα)2). Особенно много внимания св. отец уделяет девственницам. По его воззрению, девство служит спасительным средством, приводящим к нетлению и примирению с Богом3). Девица, сочетавшаяся Логосу, по замечанию св. Мефодия, приобретает никогда непрекращающееся приданое—венец нетления и богатство от Отца (τὸν τῆς ἀφθαρσίας στέφανον καὶ πλοῦτον παρὰ τοῦ πατρός)4). Те,—говорит святитель Олимпский в другом месте,—которые презирают тело, без страха спешат в тихую пристань нетления (εἰς τὸν τῆς ἀφθαρσίας εὔδιον ἀφόβως ἐνορμίζονται χῶρον)5). Им Господь обещает, что они наследуют небесное царство (τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν)6). По убеждению св. Мефодия, все усилия девственниц направляются к достижению небесного царства (βασιλείας οὐρανῶν)7). Этой награды, по мнению святителя Олимпского, достигают далеко не все праведники. По его представлению, Господь, согласно 1 Кор. 15, 41, не всем обещает одинаковые награды; одних
1) Conv. decem virg., orat. IX, cap. II (Mg. XVIII) col. 181AB; p. пер, стр . 115.
2) Ibid, orat. VІЦ, cap. X (Mg. XVIII) col. 153B; p. пер., стр. 97.
3) Ibid., orat. IV, cap. II (Mg. XVIII) col. 88C; p. пер., стр. 60.
4) Ibid., orat. VI, cap. V (Mg. XVIII) col. 120G; p. пер., стр. 78.
5) Ibid., orat. I, cap. II (Mg. XVIII) col. 41B; p. пер., стр. 32.
6) Ibid., orat. I, cap. I (Mg. XVIII) col. 37A; p. пер., стр. 29.
7) Ibid., orat. VIII, cap. IV (Mg. XVIII) col. 144B; p. пер., стр. 91.
— 200 —
Он ведет в небесное царство (ἐν βασιλεία τῶν οὐρανῶν), другим обещает наследие земли (κληρονομίαν γῆς), третьим— лицезрение Отца (ὄψεσθαι τὸν Πατέρα) и т. д. Впрочем, как бы ни были разнообразны виды небесного блаженства, в первую очередь войдет в покой новых веков, как бы в брачный чертог (ὥσπερ εἰς νυμφῶνα , τῆν ἀνάπαυαιν τῶν καινῶν ἀιώνων) святой лик девственниц, потому что они, как соблюдавшие в течение всей своей земной жизни целомудрие, принадлежат к мученикам1). Итак, девственницы прежде всех других вступают в лучшее место обетования (εἰς τὸν ἀμείνω τῆς ἐπαγγελίας χῶρον)2).
По учению св. Мефодия, блаженная участь непосредственно после смерти ожидает не всех вообще праведников, а только истинных девственниц. Души, девственно проводящие жизнь, по его словам, уже как бы в настоящем мире вращаются со Христом на небе, потому что они не увлекаются материальными и телесными стремлениями3). Отсюда (ἐντεύθεν), — говорит св. отец в другом месте,—они переходят во град блаженных (εἰς τῆν μακάριον πόλιν), на небеса (τοὺς οὐρανοὺς), где помещаются как бы в храме (ὥσπερ ἐν ναῷ)4). Они там торжествуют, увенчанные блестящими и неувядающими цветами мудрости, ликуют с Мздовоздателем Христом близ безначального и бесконечного Царя. Они там становятся свещеносицами неприступных светов и воспевают новую песнь в обществе архангелов, прославляя новую благодать церкви потому что сонм дев всегда следует за Господом и торжествует вместе с Ним, где бы Он ни был (ср. Ап. 7, 4) 5). Как только души девственниц оставляют
1) Ibid., orat. VII, cap. III (Mg. XVIII) col 128D; p. пер., стр. 82.
2) Ibid., orat. VII, cap. III (Mg. XVIII) col. 129A; p. пер., стр. 82.
3) Περιπλοῦσιν ἤδη μετὰ Χριστοῦ τὸν οὐρανόν, ὅτι μὴ κατεσπάσθησαν ὑπὸ τῶν ὑλικῶν καὶ σωματικὼν ῥευμάτων. Ibid., lib. IV, cap. II (Mg. XVIII) col. 89A; p. пер., стр. 60.
4) Ibid., orat. IV, cap. II (Mg. XVIII) col. 116A; p. пер., стр. 75.
5) Ibid., orat. VI, cap. V (Mg. XVIII) col. 1203—121А; p. пер., стр. 78.
— 201 —
мир, их, по замечанию св. Мефодия, с великой радостью встречают ангелы, дабы привести их туда, куда они до того времени стремились1). Когда души девственниц достигают данного места своего загробного пребывания, то в нем они, по представлению с в. отца, удостаиваются созерцания таких чудных блаженных красот, каких человек при условиях настоящей жизни не может себе представить. Там именно им открываются во всей своей полноте—правда, разумение, любовь, истина, благоразумне и другие плоды и цветы мудрости, которых здесь мы представляем себе лишь тень или образ. Ведь в настоящей жизни никто не может представить себе величины, формы или красоты правды, разумения или мира, тогда как в загробном мире они будут созерцаемы в Сущем (ἐν τ ῷ Ὄντι) (Исх. 3, 14)2).
Что же касается душ умерших праведников вообще, то в сохранившихся творениях св. Мефодия мы находим такие выражения, на основании которых можно думать, что они удостоятся блаженной участи только после всеобщего воскресения мертвых. Так, он говорит, что для всякого очевидно, что все то, о чем пророчествовал Исаия (60, 1—4), исполнится после воскресения (μετὰ τὴν ἑξανάστασιν). И это потому, что Святой Дух часто говорит не об известном иудейском городе, а поистине о небесном городе Иерусалиме (περὶ τῆς οὐρανουπόλεως καὶ μακαρίας Ἱερουσαλήμ). Этот Иерусалим он называет собранием душ (τὸ ἀθφροισμα τῶν ψυχῶν), которым Бог предоставит первое место в начале веселия новых веков (ἐν ἀρχῆ τῆς εὐφροσύνης τῶν καινών αἰώνων)3). В другом месте под упоминаемым Исаией (60, 1—4) Иерусалимом св. Мефодий разумеет церковь (ἡ Ἑκκλησία), в которой после воскресения (μετὰ τὴν ἀνάστασιν) отовсюду соберутся ее чада 4). Наконец, в
1) Ibid., orat. VIII, cap. II (Mg. XVIII) со1. 141А; р. пер., стр. 89—90.
2) Ibid., orat. VIII, cap. III (Mg. XVIII) col. 141B; p. пер., стр. 90.
3) Ibid., orat. IV. cap. V (Mg. XVIII) col. 93C—96A; p. пер., стр. 64.
4) Ibid. oral. VIII, cap. V (Mg. XVIII) col. 145BC; p. пер., стр. 93.
— 202 —
третьем месте святитель Олимпский высказывает мысль, что истина во всей своей отчетливости откроется после воскресения (μετ ’ ἀνάστασιν), когда мы лицом к лицу, а не загадочно и отчасти (ἀλλ ’ οὐ δι ’ αἰνιγμάτων καὶ ἐκ μέρους), будем созерцать святой шатер (τῆν ἀγίαν σκηνήν), небесный град (τὴν πόλιν τὴν ἐν οὐρανοῖς), художником и строителем которого является Сам Бог (Евр. 11, 10)1).
Таким образом, при решении вопроса о времени наступления блаженного состояния умерших праведников, св. Мефодий исходил из двух разных точек зрения. Касаясь загробной участи истинных девственниц, святитель Олимпский полагал, что для них блаженное состояние возможно непосредственно после их смерти. Имея же в виду всю совокупность праведников, он, придерживаясь хилиастических воззрений 2), допускал, что для них блаженство возможно только после всеобщего воскресения мертвых3).
При таком решении вопроса о времени наступления блаженного состояния умерших праведников вообще можно было бы ожидать, что св. Мефодий, подобно св. Иринею Лионскому, значение сошествия Христа во ад будет исчерпывать лишь возвещением находящимся там душам прощения грехов. Однако, как об этом можно судить на основании отрывка из его комментария на книгу Иова (38, 16), он полагал, что Христос, сойдя во ад, сказал узникам «выходите (ἐξέλθετε)», а находящимся во тьме—«покажитесь (ἀνακαλύφθητε)» (ср. Ис. 49, 9)4). Очевидно, в данном случае св. Мефодий хотел стоять всецело на почве церковного предания.
1) Ibid., orat. V, cap. VII (Mg. XVIII) col. 109C—112A; p. пер., стр. 72..
2) О них речь будет ниже.
3) Vgl. Prof. h. Atzberger, op. cit., S. 482.
4) In Iob fragm. (Bonwetsch, op. cit., S. 353).
— 203 —
Останавливаясь сравнительно подробно на загробной участи праведников, св. Мефодий почти оставляет без внимания будущую участь грешников. Впрочем, несомненно, что первым моментом их наказания, по мнению св. отца, является лишение их блаженного состояния праведников. По словам святителя Олимпского, душа и тело, запятнанные грехами, лишаются царства Христова (τῆς βασιλείας τοῦ Χριστοῦ)1) Вторым же т. ск. положительным моментом их печальной загробной участи является постоянное перенесение огненных мучений. По убеждению св. отца, все люди, которые не ведут чистого образа жизни, будут истреблены через огонь 2).
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще.
Св. Мефодий о заключительных событиях мировой истории говорит в своих до нас дошедших творениях сравнительно немного. Исключение в этом отношении представляет учение о всеобщем воскресении мертвых, которому он посвятил специальное сочинение.
1. Учение о втором пришествии и земном царстве Христа.
О втором пришествии Христа св. Мефодий говорит при объяснении притчи о десяти девах. По его мнению, замедление в данной притче жениха обнимает собой время до второго пришествия Христа (ὀ χρονισμός ἐστι πρὸ τῆς παρουσίας διάστημα τοῦ Χριστοῦ). Сон и дремота дев — удаление от жизни (ἡ ἐξοδος ἀπὸ τοῦ βίου). Полночь—царство Антихриста (ἡ βασιλεία τοῦ Ἀντιχρίστου). Призыв же: «вот жених идет, выходите навстречу Ему» (Мф. 25, 5) — это голос
1) De resurr., lib. I, cap. LXI, 2 (Bonwetsch, op. cit., S. 185).
2) Conv. decem virg., orat. X, cap. IV (Mg. XVIII) col. 200A; p. пер., стр. 125.
204 —
с неба и труба, при звуке которых святые после воскресения всех умерших выйдут на воздухе навстречу Господу 1),
Св. Мефодий, как об этом можно судить на основании его сохранившихся сочинений, с одной стороны, тяготея к эсхатологическим воззрениям св. Иринея Лионского, а с другой,—стараясь противопоставить свои эсхатологические воззрения эсхатологии Оригена, невольно склонялся к хилиастическому образу мыслей, хотя и в очень умеренной одухотворенной форме. Так, изъясняя Ап. 12, I—6, он понимал под упоминаемой там женщиной церковь, а под родившимся от нее младенцем—верующих2). Далее, пустыня, где было приготовлено Богом для этой женщины место, чтобы там ее питали 1260 дней, по мнению св. Мефодия, означает место, свободное от всякого зла и тления, для многих трудно достижимое, но богатое плодами, равнинами и цветами, доступными для святых, исполненное мудрости и производящее жизнь 3). Впрочем, свои хилиастические представления святитель Олимпский высказывает яснее, когда он аллегорически изъясняет праздник кущей (Лев. 23, 37—43)4). По его мнению, заслуживают порицания те иудеи, которые считают местом своего жительства земные случайные палатки и не представляют себе богатств будущих благ, потому что праздники кущей служат только прообразом воскресения нашей разложившейся в земле телесной кущи. Эту свою телесную кущу мы снова получим в седьмом тысячелетии бессмертной. Тогда,—продолжает св. отец,—мы устроим торжественный праздник возобновления нашей телесной кущи (σκηνοπηγία) в новом и непреходящем мире. На со-
1) Ibid., orat. VI, cap. IV (Mg. XVIII) col. 120A; p. пер, стр. 77.
2) Ibid. orat. VIII, cap. VII—IX (Mg. XVIII) col. 148CD—158A-C; p. пер., стр. 94—97.
3) Ibid., orat. VIII, cap. XI (Mg. XVIII) col. 153CD; p. пер., стр. 98.
4) Ibid., orat. IX, cap. I (Mg. XVIII) col. 176CD; p. пер., стр. 112.
— 205 —
вершение этого праздника в седьмом тысячелетии, когда настоящий мир достигнет своего усовершения, а Господь будет радоваться нам, по мнению св. Мефодия, уже указывало как то обстоятельство, что Бог в шесть дней сотворил небо и землю, а в седьмой «полил от всех дел Своих» (Быт.12, 1), так и то, что праздник кущей совершается в седьмом месяце, когда созревают плоды земли1). Выяснив значение сооружения кущей в отношении к воскресению наших тел, св. Мефодий говорит, что наша будущая судьба подобна судьбе иудеев, которые по выходе из Египта, прежде всего, достигли кущей, а выступив из последних, прибыли в землю обетования. И мы,—продолжает далее св. отец,— выбравшись из этой египетской жизни, достигнем, прежде всего, воскресения, этого истинного сооружения кущей. Достигнув же воскресения нашей телесной кущи и украсив ее плодами добродетелей, мы будем праздновать вместе со Христом в первый день воскресения тысячелетний покой (τὴν χιλιονταετηρίδα τῆς ἀναπαύσεως), т. наз. седьмой день (τὰς ἑπτὰ καλουμένας ἡμέρας), истинную субботу (τὰ σἀββατα τὰ ἀληθινά). Затем, следуя Иисусу, восшедшему на небо (Евр. 4,14), мы, подобно иудеям, вступим в землю обетования (εἰς τὴν γῆν τῆς ἐπαγγελίας), на небеса (τοὺς οὐρανοὺς), освободив свои телесные кущи от их прежних свойств и переменив после тысячи лет свой человеческий вид на ангельский. Отсюда, наконец, мы перейдем, совершив праздник воскресения, к высшим и превосходнейшим местам пребывания, поднимаясь мало-по-малу к жилищу Самого Бога, которое находится выше небес (εἰς τὸν οἶκον αὐτὸν ... τὸν ὑπὲρ τοὺς οὐρανοὺς τοῦ Θεοῦ)2).
1) Ibid., orat. IX, cap. I (Mg. ХVIII) col. 177AB; p. пер., стр. 113.
2) Ibid., orat. IX, cap. V (Mg. ХVIII) col. 189AB; p. пер., стр. 119—120.
206 —
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых.
Учению о будущем воскресении мертвых, как мы уже сказали, св. Мефодий отводил довольно много внимания. Его действительность, конечно, ему казалась несомненной. Это вытекает из некоторых его свидетельств, которые мы уже имели случай привести. Впрочем, к ним еще можно прибавить и некоторые другие. Так, святитель Олимпский полагал, что в притче о десяти девах пять светильников означают наша тело, которое душа будет носить, как факел, когда она в день воскресения (τῇ ἡμέρα τῆς ἀναστάσεως) выйдет навстречу своему Жениху1). Изъясняя ту же притчу, св. отец обращает внимание на то обстоятельство, что все девы, услышав приведенные выше слова призыва, встали. Это, по мнению св. Мефодия, указывает на то, что после того, как раздастся с неба известный глас, мертвые воскреснут (ср. 1 Солун. 4,15—16)2). Св. отец утверждает, что радость духовного восьмого дня (ὀγδοάδος) ручается за будущее воскресение мертвых 3). Он замечает, что доказательство будущего воскресения мертвых нужно видеть и в истории пророка Ионы4).
В сочинении— περὶ ἀναστάσεως все рассуждении св. Мефодия носят преимущественно полемический характер. В первой части его он старается представить и опровергнуть все возражения против возможности будущего воскресения мертвых. Ему были известны следующие возражения. Воскресение мертвых, говорили, невозможно, прежде всего, потому, что плоть для совершенного человека является лишней, ибо только после грехопадения человеческий род воспринял нынешние тела как одежду, сделанную Богом из кож животных (Быт. 3, 21). Далее, утверждали, что
1) Ibid, orat. VI, cap. III (Mg. XVIII) col 117В; р. пер., стр. 76.
2) Ibid, orat. VI, cap. ІV (Mg. ХVIII) col 120A Β; p. пер., стр. 77.
3) Ibid., orat. VII, cap. VI (Mg. XVIII) col. 133A; p. пер, стр. 85.
4) Do resurr., lib. II, cap. XXV, 3—10 (Bonwetsch, op. cit., S. 212—244).
— 207
наши тела не воскреснут потому, что они служат для душ узами, темницей, петлей, оковами и неизменной пыткой 1). -- Опровергая данные возражения, святитель Олимпский, ссылаясь на Быт. 2, 23 и Мф. 19, 4, утверждал, что наши прародители владели телами и до своего грехопадения, а потому их будущее воскресение возможно 2). Но допустим, рассуждал он, что люди получили свои тела только после грехопадения. Из такого предположения ясно, что душа могла согрешить и без тела. Следовательно, если ее тело воскреснет, ей не угрожает опасность поэтому именно оказаться виновной в грехе, быть в узах и оковах3). Ведь, если бы тело было узами, оковами и т. п. для души, то оно не могло бы считаться виновным в греховности души; наоборот, в нем необходимо было бы усматривать причину ее противоположного состояния4).—Затем, недоумевали, как могут воскреснуть наши прежние телесные члены, когда Христос сказал, что воскресшие будут подобны небесным ангелам (Мф. 22, 30). Кроме того, если умершие воскреснут в таком же виде, в каком они были на земле до своей смерти, то они и после воскресения должны будут иметь нужду в пище, питье и т. д. и, значит, не будут подобны ангелам 5).-Устраняя это возражение, св. Мефодий утверждал, что Спаситель, говоря, что воскресшие будут подобны ангелам, не имел в виду высказать мысль, что люди после воскресения, подобно ангелам, не будут обладать телом. И это потому, что человек никогда не может измениться настолько, чтобы он перестал быть человеком. Он не может принять даже вида (μορφή) ангела или кого-либо другого, равно как
1) Ibid., lib. I, cap. 1,4—б (Bonwetsch, ор. cit., S. 73—77).
2) Ibid., lib. 1, cap. XXXIX, ]—2 (Bonwetsch, op. cit., S. 134—135).
3) Ibid., lib. I, cap. XXIX cp. ХХXIII, 3; XXXXIX, 1, 5 (Bonwetsch, op. cit., S. 107—111. 122. 134—135. 136).
4) Ibid., lib. I, cap. XXXI cp. XXIX, 5; XXX, 4; XXXII, 4. 7. 8; LIV, 1 идал.; LVII, 3 (Bonwetsch, op. cit., S. 114—118. 109 — 110. 113. 120. 121. 166 ff. 176).
5) Ibid., lib. I, cap. VII (Bonwetsch, op. cit., S. 77).
— 208 —
и ангелы не могут переходить из одного «чина» в другой. И Христос приходил не для того, чтобы возвестить, что человеческая природа некогда примет другой вид, но лишь то, что она в известное время станет бессмертной, т. е. такой, какой она была до грехопадения наших прародителей2). С самого начала Бог благоволил создать человека, состоящего из души и тела, при этом обе его составные части бессмертными. Уже отсюда,—полагает св. отец,—должно заключать, что его тело не погибнет (οὐκ ἀπόλλυται τὸ σῶμα)3). Если бы Христос желал возвестить, что человеческие тела не воскреснут, то Он, несомненно, в данном случае согласился бы с саддукеями. Когда же Он говорит, что воскресшие будут подобны ангелам, то этим, не имея в виду сказать, что они совершенно освободятся от своих тел, Он лишь желал отметить, что они не будут ни выходить замуж, ни жениться. И это потому, что Он но сказал, что они будут ангелами, а лишь—подобными ангелам, «как ангелы (ὡς ἄγγελοι)», т.-е. увенчаются честью и славой мало меньшей, чем ангелы (Пс. 8, 6), и даже почти будут ангелами (καὶ ἐγγύς ὅντες τοῦ εἶναι ἄγγελοι)4). Ясно, отсюда,—полагал святитель Олимпский,—что на основании рассмотренного выражения Спасителя нельзя возражать против возможности будущего воскресения человеческих тел. По мнению св. Мефодия, самое понятие— ἀνάστασις указывает на восстановление. Но восстановление возможно лишь того, что подверглось разрушению (Амос. 9, 11). Разрушиться же может только тело, так как душа бессмертна. Следовательно, некогда воскреснет не душа человеческая, а тело5).—Наконец, полагали, что если, согласно с словами Спасителя, небо и земля прейдут (Мф. 24, 35 ср. Пс. 101, 27; Ис. 51, 6; 1 Кор. 7, 31), то также должны прейти и человеческие тела вместе с
1) Ibid., lib. I, cap. XLIX (Bonwetsch, op. cit, S. 156—159).
2) Ibid., lib. 1, cap. L (Bonwetsch, op. cit., S. 159—160).
3) Ibid, lib. I, cap. LI. 1—4 (Bonwetsch, op. cit, S. 160162).
4) Ibid., lib. I, cap. LI, 5—6 (Bonwetsch, op. cit., S. 162—103); ibid., lib. I, cap. LII—LIII (Bonwetsch, op. cit., S. 163—166).
209
теми элементами, из которых они были образованы 1).— Имея в виду данное возражение, св. Мефодий соглашается с тем, что наши тела некогда прекратят свое существование вместе с нынешними небом и землей. Однако это не значит, что они совершенно исчезнут. Напротив, они, как и небо с землей, примут другое, лучшее состояние. Одним словом, произойдет такое изменение с небом и землей, а равно и с нашим
телом, какое мы наблюдаем в том случае, когда ребенок становится юношей, юноша—мужчиной и т. дал., а это не будет препятствовать воскресению тел 2). Устраняя указанное возражение, святитель Олимпский сравнивает Бога, подвергающего человеческое тело через смерть разложению на его составные части, с художником, который расплавляет свое изображение, запятнанное злым человеком, с целью снова восстановить его в прежнем прекрасном состоянии. Как художник, желая, чтобы его запятнанное произведение было прекрасным, по необходимости разбивает его на части и переплавляет, дабы через это устранить из него все пятна, какие намеренно ему нанесены завистливой рукой, и это изображение снова возобновляет в его первоначальном виде, так, по рассуждению св. отца, и Бог, видя человека, Свое художественное произведение, намеренно поврежденным через грех его завистливым врагом, и не желая, по Своему человеколюбию, допустить, чтобы дело Его рук навсегда было опозорено через утрату бессмертия, разлагает телесную природу человека на ее составные части, дабы через преобразование ее устранить из нее все, что к ней примешалось позорного, и снова восстановить ее через акт воскресения (ср. Иерем. 18, 3. 6; Рим. 9, 20, 21)8). По Вт. 32, 39, наше тело портится и умирает, чтобы снова восстать и жить; рассыпается и терпит раны, чтобы снова собраться в одно целое и стать здоровым *). Вообще материальные
1) Ibid., lib. 1, cар. VIII (Bonwetsch, ор. cit., S. 77—78).
2) Ibid., lib. I, cap. XLVIII (Bonwetsch, op. cit., S. 155—156).
3) Ibid., lib. I, cap. XLIII, 2—4 (Bonwetsch, op. cit., S. 143—145).
4) Ibid., lib. I, cap. XLVI, 1 (Bonwetsch, op. cit., S. 149).
— 210 —
элементы не уничтожаются, а лишь через огонь очищаются и возобновляются 1).
Во второй части своего сочинения— περὶ ἀναστάσεως св. Мефодий устанавливает правильный смысл мест Св. Писания, приводимых противниками будущего воскресения мертвых в качестве подтверждения данного своего заблуждения, и точнее обосновывает свое учение по данному вопросу. Так, опровергая неправильное понимание противниками будущего воскресения человеческих тел Рим. 7, 24, он настойчиво утверждает, что в данном месте своего послания св. апостол Павел называет смертью не тело, а закон греха, поселившийся в нас после нарушения прародителями заповеди и постоянно обольщающий нашу душу к греховной смерти, которая, впрочем, не может продолжать своего существования в бесконечность, так как Христос навсегда освободил нас от нее 2). Если противники будущего воскресения мертвых утверждали, что наше тело не может воскреснуть по той причине, что оно постоянно изменяется, то святитель Олимпский, опровергая их, рассуждал так. Как можно сказать, что Бог создал нас из того, что постоянно изменяется, течет, как вода, и никогда не бывает тем же самым? Если, по мнению противников воскресения, наше тело бывает сегодня одним, а на десятый день—другим, то,— рассуждает св. отец,—не мать нас родила и воспитала, потому что ее, по теории противников воскресения, мы должны считать одной во время нашего рождения, другой— во время воспитания и третьей—в данное время. Тогда Господь не нас, но других, знал до создания (Иер. 1, 5); тогда не мы приняли крещение. Если души некогда получат другое духовное тело, то другие тела будут судимы или удостоятся спасения, но не те, которые грешили или вели
1) Ibid.. lib. 1, cap. XLVII—XLVIII (Bonwetsch, op. cit., S. 150—155).
2) Ibid., lib. II, cap. IX—XIV (Bonwetsch, op. cit., S. 208—222).
— 211
праведную жизнь. Между тем, св. апостол Павел учил (1 Кор. 15, 53), что именно настоящее наше тело удостоится нетления 1). Далее, имея в виду противников будущего воскресения человеческих тел, св. Мефодий разъясняет, что в послании св. апостола к коринфянам (2 Кор. 5, 1) под «земным нашим домом хижины», которая некогда разрушится, должно разуметь не наше нынешнее тело, но нашу настоящую кратковременную жизнь, а под нашим небесным жилищем (2 Кор. 5, 2)—бессмертие, в которое мы желаем облечься 2).—Затем, если св. апостол Павел учит, что плоть и кровь не могут наследовать царствия Божия (1 Кор. 15, 50), то св. отец полагает, что под плотью нужно разуметь иди материальную телесную сущность или безумное стремление души к постыдным удовольствиям, которые развращают душу 3).—Несколько ниже в той же второй части своего рассматриваемого сочинения св. Мефодий пишет: «если из капли малой и совершенно незначительной ни по влажности, ни по содержанию и плотности, как бы из ничего, происходит человек, то не с большим ли удобством из человека, уже существовавшего, человек снова может стать человеком? Ведь не так трудно снова устроить уже существовавшее и потом разрушившееся, как создать из ничего еще несуществовавшее. Если бы мы показали плодотворное семя, отделяемое от мужа само по себе, и представили тело умершего само по себе, то из которого из этих предметов, открыто лежащих пред вами, по мнению наблюдателей, может произойти человек? Из той ли капли совершенно ничтожной, или из того, что уже имеет вид, величину и лицо? Если та совершенная ничтожность только при изволении Божьем делается потом человеком, то тем более уже существующее и вполне образовавшееся при изволении Божьем может снова сделаться челове-
1) Ibid., lib. II, cap. VIII (Bonwetsch, op. cit., S. 203—207).
2) Ibid., lib. II, cap. XV—XVI (Bonwetsch, op.cit., S. 222—227).
3) Ibid., lib. II, cap. XVII — XIX (Bonwetsch, op.cit., S. 227—236).
— 212
ком”1). Если,—рассуждает святитель Олимпский,—многие животные, как, например, слоны и вороны, живут очень долго, если у израильского народа во время его странствования в пустыне остались здоровыми не только его тела, но, согласно Втор. 29, 5, сохранились и его одежды и обувь; то нельзя не верить, что Бог некогда воскресит наши тела, которые Он создал и обещает воссоздать 2). Указание на будущее воскресение, по мнению св. отца, содержится в книге Левит (23, 39), трактующей, между прочим, об установлении Моисеем праздника кущей3).— Потом, св. Мефодий опровергает то возражение, по которому будто бы наше тело, разложившееся после смерти на свои составные элементы, не может быть восстановлено из последних. Можно,—так рассуждает св. отец,— разнородные жидкости после их смешения снова выделить. Это возможно для людей, а тем более—для Бога, для Которого возможно даже для нас невозможное. С тонки зрения атомистов, как она ими защищается, воскресение мертвых не является чем-либо странным. Бог, приведший все субстанции в мировую систему, по их мнению, сможет некогда сообщить каждому телу его собственную форму 4).—Наконец, следует упомянуть, что святитель Олимпский, кроме рассмотренных мест Св. Писания, приводит и уясняет еще такие места, которые, как 1 Кор. 15, 535), 1 Солун. 4, 165), Ап. 20, 37) и друг., специально трактуют о будущем воскресении наших тел.
Наконец, в третьей части своего трактата— περὶ ἀναστάσεως св. Мефодий касается вопроса о материальном тожестве воскресших тел с настоящими. Это тожество он,
1) Ibid., lib. ІI, cap. XX, 7. 9 (Bonwetsch, ор. cit., S. 235. 235—236).
2) Ibid., lib. II, cap. XXII (Bonwetsch, op. cit., 8. 238).
3) Ibid., lib. II, cap. XXI (Bonwetsch, op. cit., S. 236).
4) Ibid., lib. II, cap. XXVI—XXX (Bonwetsch, op. cit., S. 244-249).
5) Ibid., lib. II, cap. ХVIII, 5 (Bonwetsch, op. cit., S. 230).
6) Ibid., lib. H, cap. XXI, 4 (Bonwetsch, op. cit., S. 237).
7) Ibid., lib. II, cap. XXVIII, 5 (Bonwetsch, op. cit., S. 246-247).
213 —
прежде всего, старается обосновать на свидетельствах Св. Писания (Дан. 12. 2; Пс. 67, 7. 29; 2 Макк. 7, 14 и дал.; Мф. 10, 28)1) Затем, решая взятый вопрос, он отвергает мнение Оригена, что для человеческой души воскреснет не то же самое тело, которое ей принадлежало во время ее земной жизни, а лишь индивидуальный его вид (εἶδος), характеризующий тело известного человека 2). Последнее мнение Оригена, по воззрению св. Мефодия, не состоятельно именно потому, что те основания, на которых оно опирается, не отличаются прочностью. Если Ориген для подтверждения этого своего мнения ссылается, между прочим, на явление Моисея и Илии во время преображения Господа на Фаворе, то этот аргумент, но убеждению святителя Олимпского, не убедителен уже по тому одному, что в это время ни Моисей, ни Илия еще не удостоились воскресения из мертвых, так как Первенцем из мертвых (Ап. 1, 5) является Иисус Христос. Многочисленные же случаи воскрешения мертвых, о которых рассказывается в Св. Писании (3 Цар. 17, 22; 4 Цар. 4, 35; Ио. 11, 44), не могут противоречит сказанному, потому что и все когда-либо воскрешенные также возвращались в этот мир с тем, чтобы снова умереть. Через воскрешение многочисленных умерших, а также через восхищение Эноха на небо (Быт. 5, 24) мы убеждаемся лишь в том, что наше тело способно к бессмертию3). Но допустим,—продолжает св. Мефодий,— что воскреснет не само человеческое тело, а только его индивидуальный вид. Тогда возникает другое затруднение, поскольку новое соединение того же самого телесного вида с душой является невозможным. И. это потому, что в процессе изменения индивидуальный вид тела уничто-
1) Ibid., lib. III, cap. I—II (Bonwetsch, ор. cit., S. 250—251).
2) Ibid., lib. III, cap. III, 4 (Bonwetsch, ор. cit., S. 252).
3) Ibid., lib. III, cap. V (Bonwetsch, op. cit., S. 252).
— 214 —
ясается, заменяясь другим, высшим, например, духовным. Это значит, что когда материальное тело изменится в духовное, то его первоначальный вид уничтожится, а воскреснет, хотя и подобный первому, однако уже другой вид. А если так, то нет самого воскресения, и надежда на него окажется тщетной. Если, по мнению Оригена, после воскресения нет никакой нужды в ногах, зубах и проч., то, по замечанию св. Мефодия, тогда не будет никакой нужды также и в том, чтобы воскресала форма1).—О тожестве воскресших тел с настоящими, по мнению святителя Олимпского, учит св. пророк Иезекииль, потому что нет никаких оснований видеть в 37 главе его книги речь о простом освобождении иудейского народа от какого-либо иноплеменного рабства2). Если Ориген обосновывает свое учение, что мы воскреснем в другом, сравнительно с настоящим, теле, на притче о пшеничном зерне, то св. Мефодий замечает, что он неправильно понимает последнюю. Как зерно как бы умирает, а в свое время снова оживает в лучшем виде, так таким же образом и умершие тела в известный день, по повелению Господа, воскреснут 3).—И Христос во время Своего преображения на Фаворе имел не другое, сравнительно с настоящим, тело4). Он не в другом теле воскрес и стал прославленным, но в теле Своего уничижения. Из этого мы должны заключить, что и мы в настоящем теле воскреснем и станем прославленными5). Какой вид мы должны были бы иметь после воскресения, если бы Бог уничтожил человеческий вид, который, однако, лучше вида всех животных)? Моисей не другой,
1) Ibid., lib, III, cap. VI—VII (Bonwetsch, op. cit., S. 258—262).
2) Ibid, lib. III, cap. IX (Bonwetsch, op. cit., S. 263—265).
3) Ibid., lib. III. cap. X (Bonwetsch, op. cit., S. 265—267).
4) Ibid., lib. III, cap. VII. 12. XIV, 6 (Bonwebch, op. cit., S. 262—271).
5) Ibid., lib. III, cap. XII—XIV (Bonwetsch, op. cit., S. 268—271).
6) Ibid., lib. III, cap. XV (Bonwetsch, op. cit., S. 271—272).
— 215 —
сравнительно с обычным, имел вид, когда его лицо приобрело сияние (Исх. 34, 29). Поэтому, и наше прославление не будет сопровождаться уничтожением тела, а лишь его изменением к более лучшему и славному, от тления к нетлению, дабы оно, свободное от всего нечистого, снова засияло 1). Наконец, св. Мефодий в третьей части рассматриваемого трактата еще отмечает противоречие, в которое впадает Ориген, с одной стороны, отрицая воскресение человеческих тел, а с другой,—усвояя душе тело непосредственно после смерти человека. Тут, по мнению святителя Олимпского, Ориген должен усмотреть вынужденную истину. И в самом деле, если душа имеет в аду тело, подобное настоящему, то необходимо признать, что у каждого из нас не только после смерти, но и по воскресении сохранится прежняя форма2).
Так мы можем представить рассуждения св. Мефодия по вопросам, связанным с учением о всеобщем воскресении мертвых.
В сохранившихся творениях св. Мефодия Олимпского мы не находим специальной трактации о будущем всеобщем суде. Этот святитель только как бы мимоходом замечает, что восстановление наших тел совершится в тот день, когда мы будем судимы3). В другом месте он говорит, что μετὰ ταύτην (т.-е. ἀγνείαν) не будет νόμον ἢ διδασκαλίαν ἑτέραν , ἀλλὰ κρίσιν καὶ πῦρ 4). Если мы здесь на земле терпим наказания за свои прежние грехи, то мы должны радоваться, потому что тогда в будущей жизни для нас окажется более легким суд5).
1) Ibid., lib. IΙΙ, cap. XVI (Bonwetsch, op. cit., S. 272—273).
2) Ibid., lib. III, cap. ХVIII (Bonwetsch, op. cit., S. 275—277).
3) Conv., orat. IX, cap. III (Mg. XVIII) col. 181BC; p. пер, стр. 115-116.
4) Ibid., orat., X, cap. IV (Mg. XVIII) col. 200A; p. пер., стр 125.
5) De dist. cib. II, 2 (Bonwetsch, op. cit., S. 291).
216
3. Учение о конечной судьбе мира.
Более подробно св. Мефодий трактует о конечной судьбе мира. Он полагает, что настоящий мир некогда прекратит свое существование через огонь 1). Впрочем, святитель Олимпский не допускал мысли, что все существующее в мире, например, земля, воздух и т, под., совершенно будет истреблено огнем. Напротив, он думал, что настоящий мир будет подвергнут сожжению с целью его очищения и обновления, но не окончательного истребления и полной погибели2). И это потому, что вся тварь, согласно с свидетельствами Св. Писания (ср. Ис. 52, 2; Рим. 8, 22 и дал.; Ис. 66, 22; 45, 18), обновившись для лучшего будущего, возрадуется о ладах Божьих, о которых в настоящее время она воздыхает, ожидая их освобождения от тления. Бог создал все, находящееся в мире, и самый мир с известной определенной цепью—для вечного бытия. Поэтому, небо и земля должны существовать и после данного мирового переворота 3). Если защитники окончательного истребления и полной погибели настоящего мира ссылаются на Мф. 24; 35 и Ис. 101, 27, то св. Мефодий возражает, что в других местах Св. Писания говорится лишь об изменении «образа» настоящего мира. Так, например, в 1 Кор. 7, 31 мы читаем: «преходит образ мифа сего», а не — «этот мир». Противоречия же в Св. Писании быть не может. Значит, оно имеет обыкновение иногда называть погибелью и изменение настоящего мира к лучшему, подобно тому как погибелью можно назвать превращение дитяти в совершенного мужа (ср. 1 Кор. 13, 11)4).
1) Conv. decem virg., orat. X, cap. IV (Mg. XVIII) col. 200A; p. пер., стр. 125.
2) Οὐκ ἀρεστόν δὲ οὐδ' ἐκεῖνο, τὸ λέγειν εἰς ἀρδην ἀπολεῖαθαι τὸ πᾶν, καὶ γῆν καὶ ἀέρα καὶ οὐρανὸν μὴ ἔσεσθαι. Ἐκπυρωθήσεται μὲν γὰρ πρὸς κάθαρσιν καὶ ἀνακαινισμὸν καταβασίῳ πᾶς κατακλυζόμενος ὁ κόσμος πυρί, οὐ μὴν εἰς ἀπώλειαν ἐλεύσεται παντελῆ καὶ φθοράν. De resurr., lib. I, cap. XLVII, 3 (Bonwetsch, op. Cit, S. 151—152).
3) Ibid., lib. I, cap. XLVII, 6—8 (Bonwetsch, op. cit, S. 153—155).
4) Ibid., lib. Ι, cap. XLVIII, 1—2 (Bonwetsch, op. cit., S. 155—156).
217
VIII. Эсхатология «Адамантия».
Кроме указанных отцов, эсхатологические представления Оригена нашли себе противника, правда косвенного, также и в лице Адамантия, которому приписывается диалог с гностиками под заглавием: Περὶ τῆς εἰς θεὸν ὀρθῆς πίστεως ,
В этом своем сочинении Адамантий останавливается, между прочим, на уяснении некоторых деталей притчи о богатом и Лазаре, касается вопроса о втором пришествии Христа и особенно обстоятельно трактует о будущем воскресении мертвых.
Маркионит Марк, пользуясь в своих целях притчей о богатом и Лазаре, утверждал, что Авраам, так как он имел возможность вести разговор с богатым, после своей смерти находился не в небесном царствии (οὐκ ἐν τῇ βασιλεία), а в аду (ἐν τῷ ᾅδῃ). Признавая последнее утверждение Марка неправильным, Адамантий в указанном своем трактате обращает внимание своего противника на то обстоятельство, что Авраам, по смыслу евангельской притчи, хотя и разговаривал с богатым, однако отделялся от него большой пропастью, именно расстоянием между небом и землей. Когда же Марк не удовлетворился таким рассуждением своего оппонента на том основании, что богатый, по словам притчи, поднявши глаза, увидел Авраама, между тем как никто не может с земли, не говоря уже об аде, смотреть на небо, то Адамантий заметил, что только телесные глаза видят
— 218
то, что близко находится, а духовные — простираются в беспредельность: Авраам же и богатый видели друг друга именно духовными глазами. И вообще,—замечает Адамантий, — Господь говорил в рассматриваемой притче о богатом и Лазаре с целью показать различие между праведными и неправедными. По словам Св. Писания, богатый в этой жизни воспринял доброе, а Лазарь—злое; добро же есть не что иное, как небесное царство, а зло— геенна или осуждение1).
Адамантий специально не останавливается на вопросе о втором пришествии Христа. Он, изъясняя Дан. 3, 24 и дал., лишь замечает, что на основании данного места в книге пророка Даниила нужно думать, что закон и пророки предсказали пришествие не двух Христов, а двоякое пришествие одного Христа, причем первое в уничижении, а второе во славе2). Когда ученики Иоанна, — говорит Адамантий несколько ниже,—не знали о двояком пришествии Христа, то он старался утвердить их в вере, что Христос не только уже пришел, но и снова придет 3). — Адамантий в приписываемом ему трактате ничего не говорит о цели второго пришествия Христа и не останавливается подробно на будущей судьбе грешников. Он только замечает, что Христос угрожал неверующим кромешной тьмой (Мф. 22, 13), а его апостол говорил о передаче грешника сатане (1 Кор. 5, 5) 4). Адамантий, хотя и не высказывал своих представлений о степени интенсивности будущих мучений грешников, тем не менее из поставленного им вопроса, что лучше: ослепить неверующих, бросить их во тьму кромешную
1) De rect. in Deum fid. II, cap. XI, 828 (Dr. W. H. van de Sande Bakhuyzen, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte. Der Dialog des Adamantius Περὶ τῆς εἰς θεὸν ὀρθῆς πίστεως , (Leipzig 1901), Bd. IV, S. 78).
2) Ibid. I, cap. XXV, 818—819 (Bakhuyzen, op. cit., Bd. IV, S. 48).
3) Ibid. I, cap. XXVI, 819 (Bakhuyzen, op. cit., Bd. IV, S. 50—52).
4) Ibid. II, cap. XXI, 832—833 (Bakhuyzen, op. cit., Bd. IV, S. 112).
— 219
или передать сатане—ясно видно, что она представлялась ему чрезвычайно большой1).
Так как главным пунктом разногласия между Адамантнем и его противниками было учение о воскресении мертвых2), то он в названном своем сочинении коснулся этого учения довольно подробно. В нем, по-видимому, на основании творений св. Мефодия Олимпского, он старается опровергнуть все возражения гностиков, направленные против церковного учения о воскресении мертвых. Так, прежде всего, вардесанит Марин утверждал, что мы после воскресения будем обладать не теми телами, какими сейчас владеем, на том основании, что человеческое тело не бывает одинаковым с детства до старости, во время которой оно теряет спою прежнюю субстанцию. Какое тело,—спрашивает Марин,—должно воскреснуть— дитяти, мужа или старика? Должно ли воскреснуть тело, изнуренное болезнями, юношеское или старческое?-Опровергая это возражение своего противника, Адамантий замечает, что всякая утраченная частица человеческого тела, в силу его изменчивости, снова восстановляется. Вместе с тем восстановляются и отпавшие у тела члены, а также исчезают и возможные на нем царапины. Из этого следует, что субстанция человеческого тела ни в каком случае не уничтожается, но всегда остается одной и той же 3). Если Марина смущало, каким образом может воскреснуть утраченная разными способами человеческая кровь, то Адамантий, успокаивая его, утверждал, что такая кровь, как не подлинная кровь жизни, при этом излишняя и вредная, воскресению не подлежит 4).—Далее, в качестве
1) Ibidem.
2) Ibid. III, сар. I, 834 (Bakhuyzen, ор. cit., Bd. IV, S. 116); ibid. V, cap. XIV, 858 (Bakhuyzen, op. cit., Bd. IV, S. 202).
2) Ibid. V, cap. XVI, 859—860 (Bakhuyzen, op. cit., Bd. IV, S. 202—208).
3) Ibid. V, cap. XVII, 860—861 (Bakhuyzen, op. cit., Bd. IV, S. 208—210).
220 —
аргумента против возможности воскресения мертвых Ma рин приводил то обстоятельство, что тело после смерти человека разлагается на четыре основных элемента, которые смешиваются с сродными им стихиями и, следовательно, не могут больше в своих прежних составных частях объединиться в одно целое, т.-е. человеческое тело. Опровергая в данном пункте своего противника, Адамантий говорит, что если бы аргументация последнего была справедлива, то люди, обладающие способностью разобщения смешанных жидкостей, например, вина и воды, оказались бы сильнее Бога, Который не мог бы восстановить человеческое тело из его элементов, несмотря на то, что они Им же были созданы 1). — Перенеся, затем, спор на почву библейских свидетельств, Марин, прежде всего, ссылался на Быт. 6, 3: «не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками (сими), потому что они плоть.» Но Адамантий, в виду этого возражения, остроумно замечал, что Дух Божий, если Он не остается в одних людях, по причине их греховности, то пребывает в других 2).—Далее Марин, ссылаясь на многие места Св. Писания, как, например, Пс. 55, 13; 41, 3; 56, 2; 114, 7; 15, 10, утверждал, что воскресение будет простираться только на душу человека. Устраняя это возражение, Ада мантий обратил внимание на то, что Св. Писание довольно часто, например, Быт. 46, 15. 27; Пс. 73, 19, под душой (ψυχὴ) разумеет всего человека, состоящего из души и тела 3).— Затем, на основании Рим. 7, 24 Марин полагал, что человеческое тело не может подлежать воскресению по той причине, что оно является для души узами и служит причиной всякого зла. Однако, если душа заключается в тело для наказания за грехи, то отсюда следует, что она
1) Ibid. V, cap. ХVIII, 861 (Bakhuyzen, ор. cit.. Bd. IV, S. 210-212).
2) Ibid. V, cap. XIX, 861—862 (Bakhuyzen, op. cit., Bd. IV. S. 212-214).
3) Ibid. V, cap. XX, 862 (Bakhuyzen, op, cit., Bd. IV, S. 214).
221
согрешила без тела, которое, поэтому, не является причиной греховности души1); следовательно, нет препятствий к его воскресению. Если св. апостол Павел в 1 Кор. 16, 50 говорит, что плоть и кровь не могут наследовать царствия Божия, то это также не значит, что наши тела некогда не воскреснут, ибо под плотью и кровью св. апостол разумеет постыдные безнравственные поступки людей, называя тех из них плотскими, которые помышляют о плотском, и тех духовными, которые совершают духовное (ср. Рим. 8, 4—6. 9; 1 Кор. 3, 2—3 и друг.)2). О воскресении человеческих тел, разложившихся во время смерти, св. апостол Павел ясно учит в 1 Кор. 15, 29—44. 51—53. Тожество воскресшего тела с настоящим, по мнению Адамантия, не отрицается через сравнение его с семенем, особенно, когда говорится: «Бог дает ему тело, какое хочет, и каждому семени свое тело». Как брошенное в землю семя вырастает таким же семенем, каким оно было раньше, так и преданный земле человек воскреснет, как тот же самый человек, а не как другой. Однако, как брошенное в землю семя вырастает в виде красивого стебля, а не голого зерна, так и человеческое тело во время воскресения подвергается известному изменению. Оно облекается в одежду славы, нетления и бессмертия, после чего освобождается от всех своих слабостей 3). — Первенцем из мертвых (Кол. 1, 18), первенцем из умерших (1 Кор. 15, 20) является Христос. Если в Св. Писании указываются случаи воскрешения мертвых до воскресения Христа, то это не противоречит сказанному, потому что все воскрешенные снова умерли, а
1) Ibid. V, cap. XXI, 862—863 (Bakhuyzen, ор. cit., Bd. IV, S. 214—218).
2) Ibid. V, cap. XXII, 863—864 (Bakhuyzen, op. cit., Bd. IV, S. 218—222),
3) Ibid. V, cap. XXIII—XXV, 864—865 (Bakhuyzen, op. cit., Bd. IV. S. 222—230).
222 —
Христос, воскресши из мертвых, больше уже не умирал (Рим. 6, 9). Поэтому, как от Адама ведет свое начало смерть, так от Христа — воскресение1). — Итак, по учению Адамантия, Бог некогда воскресит тело человека, причем его субстанция останется прежней, а свойства изменятся.
__________
Таковы были течения христианской эсхатологической мысли до начала IV века. Они по векам могут быть охарактеризованы таким образом. В первый век христианской письменности эсхатологические вопросы не столько раскрываются и обосновываются, сколько намечаются. Во второй век христианские эсхатологические истины, особенно воскресение мертвых, защищаются от нападок язычников и еретиков, причем в это время получает значительное развитие и т. наз. хилиазм. Третий век в области эсхатологии характеризуется чрезмерными увлечениями спиритуалистического характера, которые, впрочем, в конце III и начале IV вв. значительно смягчаются противниками крайнего спиритуализма в области эсхатологии. Что касается IV века, современников св. Григория Нисского († ок. 394), то они, за самыми незначительными уклонениями в область спиритуалистической эсхатологии, являются представителями церковного эсхатологического течения. Чтобы наше последнее утверждение не показалось голословным, мы систематически представим эсхатологические воззрения двух виднейших современников св. Григория Нисского—свв. Василия Великого († 1 янв. 379) и Григория Богослова († ок. 389).
1) Ibid. V, cap. XI—XII, 856—857 (Bakhuyzen, ор. cit., Bd. IV, S. 192—198).
223
IX. Эсхатология св. Василия Великого.
Казалось бы, эсхатологические вопросы, в виду своей таинственности, должны были стать для спекулятивного ума св. Василия Великого предметом особого внимания. Однако, этот св. отец, хотя и довольно часто упоминал о будущей жизни 1), тем не менее на эсхатологических вопросах он останавливался лишь мимоходом. Впрочем, встречающиеся в творениях св. Василия эсхатологические мысли, в силу своей некоторой оригинальности, не безынтересны.
1. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности.
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти, бессмертии души и ее участи на том свете.
Человек составлен из души и тела, которое, по воззрению св. Василия Великого, служит его приметой (τὸ γνώρισμα) во время настоящей жизни2). Так как человек
1) Hom. in psalm. XLV III, 1 (Migne, ser. gr. (1857), t. XXIX, 177) col. 432B; p. пер. (Творения св. Василия Великого, Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1900) ч. I, стр. 301; Lib. de Spir. Sanct., cap. XV, 35—36 (Migne, ser. gr. (1857), t. XXXII, 29—30) col. 132; p. пер. (Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1900) ч. III стр. 241; Serm. de legend, lib. gent. 2 (Migne, ser, gr. (1857), t. XXXI, 174) col. 565B; p. пер. (Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1901) ч. IV, стр. 296 и др.
2) Hom. dict. temp. fam. et siccit. 9 (Mg. XXXI, 72) col. 328B; р. пер. 4. IV, стр. 122 cp. Comm. in Is. proph., cap. 1, 13 (Migne, ser. gr, (1857), t. XXX 386) col. 140A; p. пер. (Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1900) ч. ΙΙ, стр. 20.
— 224 —
впал в грех, то он подлежит смерти1), следствием которой бывает разлучение души и тела2). Смерть, по рассуждению святителя Каппадокийского, имеет благодетельное значение, потому что по причине ее не сохраняется бессмертным наш «недуг (ἠ ἀῤῥωστία)»3).
Св. Василий Великий в своих творениях специально не говорит о бессмертии человеческой души. Однако, из его взгляда на загробную жизнь, как на время воздаяния (τῆς ἀντοποδόσεως)4), а также из его решительного отвержения учения о переселении душ 5), следует, что бессмертие души ему представлялось вне всякого сомнения.
Св. Василий, как и следовало ожидать, учил, что участь душ праведников и грешников непосредственно после их смерти бывает до противоположности различной.
По его словам, «смерть для праведников является сном, вернее же сказать,— отшествием к лучшей жизни (πρὸς κρείττονα ζωὴν ἐκδημία)»6). «Кто потрудился в этом веке, тот жив будет до конца... «Кто ради добродетели выдержал тысячи подвигов и для приобретения ее с избытком испытал себя в трудах, тот жив будет до конца, как много потрудившийся в скорбях Лазарь, как утомившийся в борьбе с противником Иов, потому что сказано: «тамо претружденнии почиша» (Иов. 3,17). Потому-то и Господь призывает к успокоению труждающихся и обременен-
1) Hom. quod Deus non est auct. mal. 7 (Mg. XXXI, 79) col. 345A; p. пер. ч. IV, стр. 134.
2) Hom. in psalm. CXIV, 8 (Mg. XXIX, 203) col. 492D; p. пер. ч. I, стр. 344; Hom. dict. temp. fam. et siccit. 9 (Mg. XXXI, 72) col. 328C; p. пер. ч. IV. стр. 122.
3) Hom. quod Deus non est auct. mal. 7 (Mg. ΧΧΧI 79) col. 345A; p. пер. ч. IV, стр. 134.
4) Proem. in regul. fus. tract. 1 (Mg. XXXI, 327) col. 892A; p. пер. (Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1901) ч. V, стр. 74.
5) Hom. VIII, 2 in hexaem. (Mg. XXIX, 71) col. 168AB; p. пер, ч. I, стр. 122.
6) Hom. XVII, 1 in Barlaam martyr. (Mg. ΧΧΧI, 139) col. 484A; p. пер. ч. IV, стр. 235.
225 —
ных (Мф. 11, 28)... Кто предпочел путь тесный и многотрудный пути гладкому и спокойному, тот во время Божия посещения... не узрит вечной пагубы, не прекращающегося злострадания» 1) «Душа праведника,—говорить св. Василий в другом месте,—отрешившись от соучастия в теле, имеет жизнь, сокрытую со Христом в Боге (Кол. 3, 3)» 2). Смысл этого выражения св. отца, по-видимому, раскрывается следующими словами приписываемого св. Василию комментария на книгу пророка Исаии: «если желаешь узнать, что такое, по Писанию, та слава, которой будут прославлены святые, то представь себе благоприличное состояние созерцающих своим умом великое и божественное, каким было состояние Моисея, когда он был удостоен созерцания Бога»3). Вообще следует сказать, что святитель Каппадокийский в своих творениях мало говорит об участи праведников за гробом. И то, что он говорит по данному вопросу, имеет преимущественно общий характер.
Местом загробного пребывания праведников св. Василий Великий считал небо (οὐρανός)4), под которым он разумел твердь или видимое (ὁρώμενον) пространство5). По мнению св. отца, рассуждать о сущности неба бесполезно. В данном случае мы должны довольствоваться тем, что сказал по данному вопросу пророк Исаия, когда заметил: «Утвердивый небо яко дым» (51, 6) и «Поставивый небо яко камару» (49, 22) 6). Святитель Каппадокийский не
1) Hom. in psalm. XLVIII. 5 (Mg. XXIX, 181—182) col. 441D.441D— 444A. 444B; p. пер. ч. I, стр. 109 — 110.
2) Ibid. VII, 3 (Mg. XXIX, 100) col. 233D—236A; p. пер. ч. I, стр. 173.
3) Comm. In Is. proph., cap. IV, 135 (Mg. XXXI, 474) col. 337CD—340A; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 151.
4) Lib. de Spir. Sancto, cap. ХХVII, 66 (Mg. XXXII, 56) соl. 192C; p. пер. ч. III, стр. 284.
5) Hom. III, 8 in hexaem. (Mg. XXIX, 30) col. 72B; p. пер. ч. J, стр. 50.) Ibid. I, 8 in hexaem. (Mg. XXIX, 8) col. 20C—21A; p. пер. ч. I, cтр. 15—16.
226
определяет числа небес. Несомненно лишь то, что он признавал их несколько. «Мы,—говорит он в одном месте своих творений,—столько далеки от мысли не верить второму (τῳ δευτέρω) небу, что отыскиваем и третье (τὸν τρίτον), видеть которое был удостоен блаженный Павел (2 Кор. 12. 2). Псалом же, называя небеса небес (οὐρανοὺς οὐρανῶν) (Пс. 148, 4), навел нас на мысль и о большем числе (καὶ λεώνων) небес»1). — Кроме неба, св. Василий говорит, как о месте загробного пребывания умерших праведников, о стране живых (ζώντων χώρα), в которой «нет ночи, нет сна — образа смерти, нет пищи, нет пития,—этих подкреплений нашей немощи, нет болезни, нет страданий, ни врачевства, ни судилищ, ни куплей, ни искусств, ни денег—этого начала зол, предлога к браням, корня вражды»2).
Если праведники после своей смерти, по учению св. Василия Великого, удостаиваются «лучшей жизни», то для грешников, по его словам, «переход отсюда бывает началом наказаний в аду (τῶν ἐν ᾅ δου κολάσεων ἀρχὴ τυγχάνει ἡ ἀπαλλαγὴ τῶν ἐντεύθεν)»3). В чем состоит наказание грешников в аду,—это следует из такого выражения приписываемого св. отцу комментария на книгу пророка Исаии: «схождение во ад есть отлучение от Бога за приумножение греха и за расположение, противное добру (ὁ διὰ τὴν πολλὴν τῆς ἀμαρτίας χύσιν , καὶ τῆν ἐναντίαν τῷ ἀγαθῳ διάθεσιν , ἀπὸ Θεοῦ γενόμενος χωρισμός)»4). «Кто живет в роскоши и во всяком распутстве, по изнеженности облекается в порфиру и виссон, веселится по вся дни светло (Лук. 16, 19) и избегает того,
1) Ibid. III, 3 in hexaem. (Mg. XXIX, 24) col. 57В; р. пер. ч. 1, стр. 40—41.
2) Hom. in psalm. CXIV, 5 (Mg. XXIX, 204) col. 493C; p. пер. ч. I, стр. 345.
3) Hom. quod Deus non est auct. mal. 3 (Mg. XXXI, 74) col. 332C; p. пер. ч. ч. I, стр. 125.
4) Comm. in Is. proph., cap. V, 166 (Mg. XXX, 497—498) col. 392D; p пер. ч. II, стр. 187.
227
чтобы трудиться ради добродетели, тот,—пишет св. Василий,—не утрудился в этом веке и не будет жив в будущем, но издали станет взирать на жизнь, мочимый в пламени пещном (ἀλλὰ μακρὰν ὅψεται τὴν ζωὴν , βασανιζόμενος ἐν τῇ φλογί τῆ ; καμίνου)»1) «Не уверовавшие в слова Божьи,— замечает святитель Каппадокийский несколько ниже,—и ходившие по желаниям своего суетного сердца будут отведены на вечную казнь (αἰώνιον καταφθοράν)»2). Кажется, св. Василий, если считать его автором приписываемого ему комментария на книгу пророка Исаии, еще усиливает тяжелую участь грешников за гробом, когда говорит о них, что они там «сожгутся (κατακαυθήσυνται)»3), что их там ожидает «геенна (γέεννα)»4) и «тьма (σκότος)», под которой нужно разуметь «какой-нибудь неосвещенный воздух, или место, затененное от преграждения света телом, или вообще место, лишенное света по какой бы то ни было причине» 5).
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще.
1. Учение о втором пришествии Христа.
Судьба каждого человека в отдельности сольется с судьбой всего человеческого рода, когда существование настоящего мира прекратится и наступит будущий век, «восьмой день», который, по учению св. Василия, имеет некоторое сходство с первым днем этого мира, назван-
1) Hom. in psalm. XLVIII, 5 (Mg. XXIX, 181) col. 441D; p. пер. ч. I, стр. 309.
2) Ibid. (Mg. XXIX, 182) col. 444B; p. пер. ч, I, стр. 310.
3) Comm in Is. proph., cap. ΙΙ, 64 (Mg. XXX, 425—426) col. 229B. p. пер. ч. II, стр. 79.
4) Ibid., cap. V, 171 (Mg. XXX, 502) col. 404B; p. пер. ч. II, стр. 195;
5) Hom. ll in hexaem. 4 (Mg. XXIX, 15) col. 36B; p. пер. ч. I стр. 27; ibid. 5 (Mg. XXIX, 17) col. 40C; p. пер. ч. I, стр. 30.
228 —
ным Моисеем «не первым, аединымднем ( οὐχὶ πρώτην ἡμέραν, ἀλλὰ μίαν)», чтобы он «по самому своему названию имел сродство с веком ( ἐκ τῆς προσηγορίας τὸ συγγενὲς ἔγῃ πρὸς τὸν αἰῶνα), как обладающий признаком «одинокости и несообщимости с чем- либо другим ( μοναχοῦ καὶ ἀκοινωνήτου πρὸς ἕτερον)» 1). Этот первый день, по рассуждению св. отца, Моисей наименовал единым (μίαν) с целью вознести человеческую мысль к будущей жизни, «потому что,— продолжает святитель,—по нашему учению, известен и тот невечерний, не имеющий преемства и непрекращающийся день, который у псалмопевца назван осмым (ὀγδόην) (Пc . 6, 1), так как он находится вне этого седмичного времени. Потому-то, назовешь ли его днем или веком, выразишь одно и то же понятие; скажешь ли, что это день или что это состояние (κατάστασις), он всегда один, а не многие (μία ἑστὶ καὶ οὐ πολλοί); назовешь ли веком, он будет единственным, а не многократным (μοναχὸς ἂν εἴη καὶ οὐ πολλοστός)»2).
Будущий век, называемый св. Василием «восьмым днем», который настолько будет отличаться от настоящей жизни, насколько отличается первый день миробытия от последующих, начнется «во время ожидаемого явления Господа с небес (ἑπὶ τοῦ καιροῦ τῆς προσδοκωμένης ἐπιφανείας τῆς ἐξ οὐρανῶν τοῦ Κυρίου)» или «в день Его откровения (ἐν τῇ ἡμερα τῆς ἀποκαλύψεως αὐτοῦ)»3).
Второе пришествие Христа на землю, по замечанию святителя Каппадокийского, будет славным. «Сын Божий, говорит он, придет в Своей славе (ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ) с Своими ангелами (μετὰ τῶν ἀγγέῖων αὐτοῦ)»4). Это пришествие
1) Ibid. 8 (Mg. XXIX, 21) col. 49CD; р. пер. ч. I, стр. 36.
2) Ibid. (Mg. XXIX, 21) col. 52А; р. пер. ч. I стр. 36—37.
3) Lib. de Spir. Sancto, cap. XVI, 40 (Mg. XXXII, 34) col. 141A; p. пер. ч. III, стр. 248 cp. Hom. dict. temp. fam. et siccit. 9 (Mg. XXXI, 72) col. 328B; p. пер. ч. IV, стр. 122.
4) Epist. das. I, ep. XLVI, 5 (Mg. ХХXII, 139) col. 377C; p. пер. (Св.-Троицкая.СергиеваЛавра 1901) ч. VI, стр 112 cp. Lib. de Spir. Sancto, cap. VI, 15 (Mg. XXXII, 12) col. 93A; p. пер. ч. III, стр. 214.
— 229
Господа, по представлению св. Василия, не будет «местным или плотским (τοπικὴν ῆ σαρκικήν)». «Надо,—пишет св. отец,—ожидать Его во славе Отчей вдруг в целой вселенной (κατὰ πάσης τῆς οἰκουμένης ἀθρόως)»1). Во второй раз Христос придет «судить живых и мертвых и воздать каждому по его делам (κρῖναι ζώντας καὶ νεκροὺς καὶ ἀποδούναι ἐκάστω κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ)»2).
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых.
Если Иисус Христос, по словам св. Василия Великого, придет во второй раз для суда не только над живыми, но и над мертвыми, то само собой понятно, что раньше, чем Сын Божий откроет Свой суд, произойдет воскресение мертвых. Св. Василий в своих творениях не один раз упоминает о будущем воскресении мертвых3). Впрочем, у него есть и целые выражения, на основании которых можно составить известное представление относительно его учения о сущности всеобщего воскресения. Так, в одном месте своих творений он замечает: «тело, истлевшее во гробе, восстанет (ἀνσστήσετσι), и душа, та самая, которая отлучена смертью, снова будет жить в теле (πάλιν ἑνοικὴσει τῷ σώματι)»4). «Труба,—так пишет святитель в другом месте,—прозвучав нечто великое и страшное, разбудит уснувших от века (τοὺς ἀπ ’ αἰῶνος ἐξυπνίση καθεῦδοντας)»5).
1) Μοr. reg. LXVIII, cap. 1 (Mg. XXXI, 286—287) col. 808Α; р. пер. ч. III, стр. 377.
2) Epist. das. I, ep. XLVI, 5 (Mg. XXXII. 139) col. 377D—380A; р. пер. ч. VI, стр. 112.
3) Ibid. (Mg. XXXII, 138) col. 377B; p. пер. ч. VI, стр. 111; Lib. de Spir. Sancto, cap. XV, 35 (Mg. ХХXII, 29) col. 132AB; p. пер. ч. III, стр. 241; ibid., cap. XXVII, 66 (Mg. XXXII, 56) col. 192B; p. пер. ч. III, стр. 283 и друг.
4) Hom. dict. temp. fam. et siccit. 9 (Mg. XXXI, 72) col. 328C; p пер. ч. IV, стр. 122.
5) Epist. das. I, ep. XLVI, 5 (Mg. XXXII, 139) col. 380A; p. пер. ч. VI, стр. 112.
230
Мало данных мы находим у св. Василия и для ответа на вопрос, каковы будут наши тела после всеобщего воскресения мертвых. Несомненно, однако, то, что святитель Каппадокийский признавал различие между воскресшими телами и настоящими 1). Но в чем оно будет состоять, об этом приходится судить лишь на основании его утверждения, что «во время воскресения мы воспримем плоть, ни смерти не подлежащую, ни греху не подверженную (μὴτε ὑπόδικον θανάτῳ , μήτε ὑπεύθυνον ἀμαρτία)»2), потому что тогда мы облечемся «в тело нетленное и бессмертное (ἀφθαρτον καὶ ἀθάνατον)»3).
3. Учение о всеобщем суде и его следствиях.
Сравнительно чаще говорит св. Василий Великий о будущем суде 4). Этот суд, по его словам, будет общим для всей твари (κοινὸν τῆς κτίσεως πάσης δικαστήριον)»5). Он будет страшным (φοβερός)6). На нем «доброе, худое, явное, тайное, дела, слова, помышления—все вдруг ясно
1) Ср. Hom. VIII in hexaem. 8 (Mg. XXIX, 78—79) col. 184D—185A; p. пер. ч. I, стр. 134—135; сн. Hom. in psalm. XXXII, 10 (Mg. XXIX, 142) col. 349A; p. пер. ч. I, стр. 244.
2) Epist. das. ΙΙ, ep. CCLXI, 3 (Mg. ХХΧΙΙ, 403) col. 972C; p. пер. (Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1902) ч. VII, стр. 208.
3) Ibid. I. ер. VIII, 12 (Mg. XXXII. 89) col. 265С; р. пер. ч. VI, стр. 38 ср. Hom. in psalm. LХІ, 3 (Mg. XXIX, 195) col. 473C; p. пер. ч. I, стр. 331.
4) Hom. in psalm. XXXIII, 8 (Mg. XXIX. 151) col. 372A; p. пер. ч. I, стр. 269 cp. Comm. in Is. proph., cap. I, 41 (Mg. XXX, 411) col. 196C; p. пер. ч. II, стр. 57; Adv. Evnom., lib. IV, 3 (Mg. XXIX, 289) col. 696A; p. пер. ч. III, стр. 140; Epist. clas. ΙΙ, ep. CXLVI (Mg. XXXII, 237) col 596; p. пер. ч. VI, стр. 264 и друг.
5) Lib. de Spir. Sancto, cap. VI, 15 (Mg. XXXII, 12) col. 93A; p. пер. ч. III, стр. 214 cp. Comm. in Is. proph, cap. lit, 119 (Mg. XXX, 462) col. 312A; p. пер. ч. II, стр. 132.
6) Ibid; Epist. das. I, ep. XLVI, 5 (Mg. ХХХII, 138) col. 377B; p. пер. ч. VI, стр. 111; Hom. in psalm. XXXIII, 8 (Mg. XXIX, 151) col. 372A: p. пер. ч. I, стр. 250).
231
откроется во всеуслышание всем, людям и ангелам» 1). В качестве судьи тогда выступит «Блаженный и Единый Сильный» 2) Христос, Который принял данную власть от Отца, как Сын Человеческий, потому что «Отец даде весь суд» Ему (Ио. 4, 15)3). Вместе со Христом всеобщий суд будет производить и Святый Дух 4), через Которого, но словам св. Василия, происходит «наше восстановление (ἀποκατάστασις) в рай, вступление в небесное царство, возвращение в сыноположенне, дерзновение именовать Отцом Бога, соделываться общниками благодати Христовой, называться чадами света, приобщаться вечной славы, одним словом, приобрести всю полноту благословения и в этом и в будущем веке» 5). Если судьей на всеобщем суде будет Сам Бог, то само собой понятно, что как судья6), так и ожидающий нас суд будут праведными 7). Ведь Бог, этот, по словам св. отца, «страшный и неумолимый исследователь человеческих дел, слов и помышлений» 8), не
1) Epist. clas. I. ер. XLVI, 5 (Mg. ХХXII, 139) col. 380B: p. пер. ч. VI, стр. 112.—Потому-то, вероятно, св. Василий и высказывает такие мысли, как, например, что нашим обвинителем будут на всеобщем суде наши же дела, из коих каждое явится в своем собственном виде (Hom. in psalm. XLVIII, 2 (Mg. XXIX. 179) col. 437A; p. пер. ч. I, стр. 305), что во время суда вся тварь примет участие в отмщении грешникам (Comm. in Is proph, cap. V, 18 (Mg. XXX. 511) col. 424C; p. пер. ч. II, стр. 208) и проч.
2) Lib. de Spir. Sancto, cap. XVI, 40 (Mg. XXXII, 34) col. 141B; p. пер. ч. III, стр. 248.
3) De fide 1 (Mg. XXXI, 233) col. 677A; p. пер. ч. V, стр. 21—22 cp. Comm. in Is. proph., cap. (II, 117 (Mg. XXX. 460) col. 308 A; p. пер. ч. ІІ, стр. 129. 130.
4) Lib. de Spir. Sancto, cap. XVI, 40 (Mg. XXXII, 34) col. 141A; 144А; p. пер. ч. III. стр. 248—249.
5) Ibid, cap. XV, 36 (Mg. XXXII, 30) col. 132B; p. пер. ч. III, стр. 241.
6) Hom. in psalm. VII, 5 (Mg. XXIX, 102), col. 210A; p. пер. ч. I, стр. 176; Lib de Spir. Sancto . cap. XVI, 40 (Mg. XXXII, 34) col. 141C; p. пер. ч. III, стр. 248 и друг.
7) Moral, regul. I, cap. I (Mg. ΧΧΧI 234) col. 700C; p. пер. ч. III, стр. 305 и друг.
8) Prooem. in regul. fus. tract. 1 (Mg. XXXI, 327) col. 892A; p. пер. ч. V, стр. 74 cp. Hom. in psalm. VII, 6 (Mg. XXIX, 104) col. 244A; p. пер.
— 232
может поддаться никакому обману. «Там,—говорят св. Василий,—нет витий убедительного красноречия, которое могло бы скрыть истину пред Судьей. Туда не сопровождают ни льстецы, ни деньги, ни величие сана» 1). По представлению св. отца, «не все, облеченные, в это земное тело, одинаково будут судимы праведным Судьей». «Весьма различны внешние обстоятельства с каждым из нас» «сделают то, что и суд над каждым будет различен» 2). По мнению святителя Каппадокийского, различно будет судим на всеобщем суде один и тот же порок, как, например, блуд, а также иначе Господь осудит иудея и иначе скифа3). Ничего нет удивительного после этого, что на всеобщем суде будет произведено «правдивое воздаяние, соразмерно самым делам (ἑπὶ τοῖς αὐτοῖς ἐργοις δικαίαν ... τῆν ἀνταπόδοσιν)»4), так что «и сами осужденные согласятся признать произнесенный над ними суд справедливейшим (δικαιοτάτην)»5).
Участь праведников и грешников после страшного суда, само собой понятно, будет до противоположности различной.
ч. I, стр. 170; Epist. clas. III, ер. ССХСVІ (Mg. XXXII, 434) col. 1040В; р. пер. ч. VII, стр. 258 ср. Hom. dict. temp. fam. et siccit. 9 (Mg. XXXI, 72) col. 328C, p. пер. ч. IV, стр. 122.
1) Hom. in divit. 6 (Mg. XXXI, 58) col. 296B; p. пер. ч. IV, стр 99—100 cp. Hom. dict. temp. et siccit. 3 (Mg. XXXI, 64) col. 312A; p. пер. ч. IV, стр. 110.
2) De iudic. Dei 4 (Mg. XXXI, 217) col. 661 B; p. пер. ч. V, стр. 10.
3) Hom. in psalm. VII, 5 (Mg. XXIX, 102) col. 240A-D; p. пер. ч. I, стр. 176—177.
4) Comm. in Is. proph., cap. III, 119 (Mg. XXX, 462) col. 312B; p. пер. ч. II, стр. 132 cp. ibid., cap. V, 168 (Mg. XXX, 499) col. 396BC; p. пер. ч. II, стр. 189—190; Hom. in divit. 4 (Mg. ΧΧΧI 56) col. 292B; p. пер. ч. IV. стр. 96 cp. Hom. dict. temp. fam. siccit. 9 (Mg. XXXI, 72) col. 328C; p. пер. ч. IV, стр. 122; Epist. das, I, op. XLVI, 5 (Mg. XXXII, 139) col. 380A; p. пер. ч. VI, стр. 112.
5) Comm. in Is. proph., cap. III, 119 (Mg. XXX, 462) col. 312B; p. пер. ч. II, стр. 132.
— 233 —
По учению св. Василия Великого, праведников после всеобщего суда ожидает награда1). Они тогда наследуют небесное царство (ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν), которое будет состоять в «разумении Сущего» и Его «созерцании». «Не иным нем, братие,—говорит св. отец,—считайте небесное царство, как истинным разумением Сущего (ἀληθῆ κατανόησιν τῶν ὅντων), которое в Божественных Писаниях называется и блаженством... Царство небесное есть созерцание (θεωρία). Теперь, как в зеркале, мы видим тени вещей, а впоследствии, освободившись от этого земного тела и облекшись и тело нетленное и бессмертное, увидим их первообразы»2). Блаженное состояние праведников после страшного суда, по представлению св. Василия, явится результатом «лицезрения Божья в радости (ἐν ἀγαλλιἀσει τῆς θέας τοῦ προσώπου)» и «знания лицом к лицу (τῆς πρόσωπον πρὸς πρόσωπον γνώσεως)»3). «Сам Бог будет для них вечным светом, озаряя их сиянием Своей славы» 4).
Это блаженное состояние праведников, по учению св. Василия, никогда не прекратится, потому что тогда не будет опасности увлечься грехом. Там,—пишет святитель Каппадокийский,—«нет ни телесного, ни душевного изменения (ἀλλοίωσις), потому что ни рассудок не заблуждается, ни расположение не переменяется и никакое обстоятельство не нарушает постоянства и безмятежие помыслов; там— страна истинно живых, всегда подобных себе самим...
1) Lib. de Spir. Sancto, cap. XVII, 40 (Mg. ХХXII, 35) col. 144A; p. пер. ч. III, стр. 249.
2) Epist. clas. I, ep. VIII, 7 (Mg. XXXII, 89) col. 265C; p. пер. ч. VI, стр. 38 cp. ibid., ep. VIII, 7 (Mg. XXIX, 85) col. 257BC; p. пер. ч. VI, стр. 32; Hom. in psalm. CXIV, 4 (Mg. XXIX, 202) col. 489D; p. пер. ч. I, стр. 343; Prooem. in regul. fus. tract. 1 (Mg. XXXI, .326) col. 892B; p. пер. в. V, стр. 74.
3) Hom. in psalm. ХХXIII, 11 (Mg. XXIX, 154) col. 377C; p. пер. ч. I, стр. 264.
4) Ibid. XXXIII, 9 (Mg. XXIX, 152) col. 373A; p. пер. ч. 1, стр. 216 cp. Hom. VI in hexaem. 3 (Mg. XXIX, 52) col. 121CD; p. пер. ч. I, стр. 89; Hom. in psalm. XXVIII, 6 (Mg. XXIX, 120—121) col. 297BC; p. пер. ч. I, стр. 209; Hom. dict. temp. fam. et siccit. 9 (Mg. XXXI, 72) col. 328B; p. пер. ч. IV, стр. 122.
— 234
Это—страна живых, не умирающих грехом, но живущих истинной жизнью во Христе Иисусе»1), которая «есть какая-то единая и единообразная жизнь (μία τίς ἐστι ζωὴ καὶ μονότροπος) для благоугождающих своему Владыке» 2).
Хотя блаженная жизнь праведников после всеобщего суда будет неизменно продолжаться, тем не менее их духовная слава, которая в своей сущности есть благодать Святого Духа, тогда будет различаться по степеням. Она, по учению св. Василия, «разделится каждому по мере доблестных дел его», потому что «во светлостях святых у Отца обители многи» (Ио. 14, 2)3). Так как многи обители в дому Отца, то,—рассуждает св. отец в другом месте,—«ясно, что одни упокоятся во светлости Божия явления, иные под покровом небесных сил, другие же во славе света закроются как бы дымом» 4). Наконец, в третьем месте святитель Каппадокийский пишет: «покой, которым упокоился Господь, есть честь, которая, по правосудию Божью, будет уделяема по заслуге дел, так как одних Он почтит большими почестями, а других—меньшими, потому что звезда от звезды разнствуете в славе (1 Кор. 15, 41). И так как многи обители у Отца (Ио. 14, 2), то одних Он упокоит в состоянии более превосходном и высоком, а других— в низшем» 5).
Между тем как праведники во время всеобщего суда удостоятся небесного блаженства по мере своего достоинства, грешники в это время подвергнутся осуждению 6) на веяное мучение (εἰς κόλαοιν αἰώνιον). Их «сокроет
1) Hom. in psalm. CXIV, 5 (Mg. XXIX, 203—204) col. 493BC; p. пер. ч. I, стр. 345.
2) Ibid. (Mg. XXIX, 203) col. 492C; p. пер. ч. I, стр. 344.
3) Lib. de Spir. Sancto, cap. XVI, 40 (Mg. ХХXII, 34) col. 141B; p. пер. ч. III, стр. 248.
4) Comm. in Is. proph, cap. V, 138 (Mg. XXX, 476) col. 344A; p. перв. ч. II, стр. 154.
5) Ibid, cap. XI, 247 (Mg. XXX, 568) col. 556A; p. пер. ч. II, стр. 296.
6) Lib. de Spir. Sancto, cap. XVII, 40 (Mg. XXXII, 35) col. 144A; p. пер. ч. III, стр. 240.
235 —
геенна огненная и вечная тьма ( γέεννα πυρὸς καὶ σκότος αἰώνιον κατακρόψει)» 1). Изобразив будущий суд, св. Василий Великий говорит: «к совершившему в жизни много худых дел приставляются страшные и угрюмые ангелы, у которых и взор огненный, и дыхание огненное, по жестокости их воли, и лица подобны ночи, по унылости и человеконенавидению; потом, непроходимая пропасть, глубокая тьма, огонь несветлый, который во тьме содержит попаляющую силу, но лишен светозарности; затем, какой-то ядоносный и плотоядный червь, пожирающий с жадностью, никогда ненасыщаемый, и своим пожиранием производящий невыносимые болезни; далее, самое жестокое из всех мучений—этот позор и вечный стыд (τὸν ὁνειδισμόν ἐκείνον καὶ τὴν αἰσχύνην τὴν αἰώνιον)»2). «Те,—говорит святитель Каппадокийский в другом месте,—которые делали зло, воскреснут на поругание и стыд, чтобы увидеть в самих себе мерзость и отпечатление допущенных ими грехов. И, может быть, страшнее тьмы и веяного огня тот стыд, с которым будут увековечены грешники, постоянно имея пред глазами следы греха, совершенного в плоти, подобно какой-то невыводимой краске, навсегда остающиеся в памяти их души» 3). Кроме того, по учению св. Василия, грешники после всеобщего суда будут терпеть мучение еще по той причине, что они навсегда будут лишены «начатка» благодатной жизни, так как благодать отдастся
1) Prooem. in regul, fas. tract. 1 (Mg. XXXI, 328) col. 392AB; p. пер. ч. V, стр. 74 ср. Hom. in sanct, bapt. 7 (Mg. XXXI, 122) col. 444AB; p. пер. ч. IV, стр. 206. 207; Hom. dict. temp. fam. et siccit. 9 (Mg. XXXI, 72) col. 328B; p. пер. ч. IV, стр. 122; Hom. VI in hexaem. 3 (Mg. XXIX, 52) col. 121D; p. пер. ч. I, стр. 89; Hom. in psalm. XXVIII, 6 (Mg. XXIX, 121) col. 297BC; p. пер. ч. 1, стр. 209.
2) Hom. in psalm. XXXIII, 8 (Mg. XXIX, 151) col. 372AB; p. пер. ч I, стр. 259—260.
3) Ibid. 4 (Mg. XXIX, 147) col. 360D—361A; p. пер. ч. I, стр. 252— 253 cp. Epist. clas. II, ep. CCLX, 4 (Mg. ХХXII, 398) col. 961C; p. пер. ч. VII, стр. 202.
236 —
другим, а их души навсегда будут отчуждены от Святого Духа 1).
Как видно из приведенных выражений и мыслей, св. Василий смотрел на мучения грешников после страшного суда, с одной стороны, как на психический акт, а с другой, — он не чуждался и буквального понимания слов Св. Писания о мучении грешников в аду. Можно предполагать, что св. отец, трактуя о нравственном характере адских мучений, имел в виду душу человека, а придерживаясь буквального смысла слов Библии о состоянии грешников после будущего суда, он относил их к телу последних. Кажется, данное предположение подтверждается следующими словами св. Василия. Сказав о том, что на всеобщем суде все явные и тайные грехи откроются пред всеми ангелами и людьми, св. отец спрашивает: «в каком положении по необходимости будут при этом жившие худо? Где скроется душа, которая вдруг пред взорами стольких зрителей является исполненной срама! Каково будет состояние тела у подвергшегося этим непрекращающимся и невыносимым мучениям там, где огонь неугасимый, червь бессмертно мучащий, темное и ужасное дно ада, горькое рыдание, необычайные вопли, плач и скрежет зубов,—и нет конца страданиям» 2).
Трактуя об адских мучениях после всеобщего суда, св. Василий решительно утверждал, что последние, хотя и будут вечными, тем не менее они будут распределены между грешниками не в одинаковой мере. Рассуждая о вечности будущих мучений и их разных степенях, святитель Каппадокийский пишет: «если будет когда-
1) Lib. de Spir. Sancto, cap. XVI, 40 (Mg. XXXII, 34) col. 141C. 144A; p. пер. ч. III, стр. 248. 249 ср. Hom. dict. temp. fam. et siccit. 9 (Mg. XXXI, 72) col. 328B; p. пер. ч. IV, стр. 122; Epist. clas. II, ep. CCLX, 4 (Mg. ХХXII, 398) col. 961B; p. пер. ч. VII, стр. 202.
2) Epist. cJas. I, ep. XLVI, 5 (Mg. XXXII. 139) col. 380B; p. пер. ч. I, стр. 112.
237
нибудь конец вечному мучению, то и вечная жизнь, бес сомнения, должна иметь конец. А если мы не позволяем себе думать этого о жизни, то какое основание—полагать конец вечному мучению, когда при том и другом одинаково находится приложение: вечный? Идут сии, сказано, в муку вечную, праведницы же в живот вечный (Мф. 25, 46). А согласившись с этим, необходимо знать, что выражения: биен будет мною, и биен будете мало, означают не конец, а разность мучения. Ведь, если Бог есть праведный судья, не только добрым, но и порочным воздающий, притом каждому по его делам, то иной может быть достойным огня неугасимого, но или более слабого, или более жгучего, другой—червя неумирающего, но опять причиняющего боль или более легкую, или более жестокую, по достоинству каждого, и иной—геенны, в которой, без сомнения, есть разные роды мучений, и другой—тьмы кромешной, где один доведен только до плана, а другой—от усиленных мучений и до скрежета зубов. Самая тьма кромешная (внешняя), без сомнения, показывает, что есть нечто и внутреннее. И сказанное в притчах: во дне ада (Притч. 9, 18) дает понять, что некоторые находятся во аде, однако не во дне ада, подвергаясь более легкому мучению» 1);
В своих творениях св. Василий Великий мало говорит о конечной судьбе мира вообще. Однако можно утверждать, что он предполагал и будущем космическую перемену. Настанет время,—рассуждал св. отец,— когда «все будет иссушено огнем (πάντα καταφρυγήσεται τῷ πυρί)»2), когда настоящий мир прекратит свое существование, так как «начавшееся во времени по всей необходимости и окончится во времени (ἐν χρόνῳ συντελεσθῆναι)»3), изменив (περὶ τῆς τοῦ κόσμου μεταποιήσεως) свое бытие4).
1) Prooem. in regul. CCL.XVII (Mg. XXXI, 507) col. 1265A-D; p. пер. ч. V, стр. 291—292.
2) Hom. III in hexaem. 6 (Mg. XXIX, 2S) col. 68B; p. пер. ч. I, стр. 48.
3) Hom. 1 in hexaem. 3 (Mg. XXIX, 4) col. 9BC; p. пер. ч. I, стр. 9.
4) Ibid.
238
X. Эсхатология св. Григория Богослова
Подобно св. Василию Великому, и св. Григорий Богослов специально не занимался эсхатологией. И у него мы не находим особых эсхатологических трактатов или рассуждений. Впрочем, во многих местах его творений встречаются эсхатологические мысли, на основании которых можно думать, что вера в загробную жизнь проникала все существо сн. Богослова. Только при допущении последнего становится понятным взгляд св. Григория на настоящую жизнь, как на время приготовления людей к будущей жизни1), когда все, что происходит на земле, получит свою надлежащую оценку и справедливое вознаграждение 2).
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности.
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти и бессмертии души.
Гранью, отделяющей настоящую жизнь от будущей, служить для человека смерть. Она, по учению св. Григория Богослова, состоит в «разлучении души с телом (σώματός τε καὶ ψυχῆς διάστασις)»3) и простирает свое действие
1 Orat. XVI, 7 (Migne, ser. gr. (1857), t. XXXV, 304-305) col. 944BC; p. пер. (Творения св. Григория Богослова, Москва 1889) ч. 11, стр. 46.
2) Ibid. XIV, 31 (Mg. XXXV, 280) col. 900B; p. пер. ч. II, стр. 32.
3) Secfc. I. poem. moral. (Migne, ser. gr. (1862), t. XXXVII, 611) col. 947A; p. пер. (Москва 1889) ч. V, стр. 280 cp. Sect. II, epit. LXXXIX, (Migne, ser. gr. (1862), t. XXXVIII, 1141) col. 46A; p. пер. ч. V, стр. 311.
239
только на тело человека, которое, «уступив природе и не выходя из своих пределов», «разрушается или болезнью или временем»1). Смерть, по воззрению св. Богослова, для праведных людей бывает благодетельной, потому что она дает им возможность соединиться с Богом. «Смерть для меня,—такие слова влагает св. Григорий в уста св. Василия Великого,—благодетельна: она скорее пошлет меня к Богу, для Которого я живу и тружусь, для Которого большей частью себя самого я уже умер и к Которому давно поспешаю» 2).
Распространяя действие смерти на телесную природу человека, св. Григорий Богослов, как мы уже сказали был чужд мысли об ее действии на человеческую душу. Свое учение о бессмертии человеческой души св. Григорий утверждал, на двух основаниях. Прежде всего, в данном случае он исходил из понятия о душе, как «дыхании Божьем (ἄημα Θεοῦ)»3), «струе невидимого Божества (τὸ θεότητος ἀειδέος ἀποῤῥώξ)»4), «свете, заключенном в пещеру, однако божественном и неугасимом (φάος σπήλυγγι καλυφθεν , ἀλλ ’ ἔαπης ; θείη τε καὶ ἀφθιτος)»5), «божественной частице (θεία μοῖρα)»6), «образе Божьем (εἰκὼν Θεοῦ)»7), «образе Бессмертного (εἰκών ἀθανάτοιο)»8), и отсюда заключал, что и она, в виду особенной близости ее природы к Богу, должна
1) Orat. II, 16 (Mg. XXXV, 19) col. 425В; р. пер. (Москва 1389) ч. I, стр. 21.
2) Ibid. XLIII, 49 (Migne, ser. gr. (1858), t. XXXVI, 807) col. 560C; p. пер. (Москва 1889) ч. IV, стр. 84.
3) Sect. I poem. dogm. (Mg. XXXVII, 241) col 446A; p. пер. ч. IV, стр. 197.
4) Ibid. (Mg. XXXVII, 245) col. 452A; p. пер. ч. IV, стр. 199.
5) Ibid. (Mg. XXXVII, 241) col. 446A—447A; p. пер. ч. IV. стр. 197.
6) Ibid. (Mg. XXXVII, 245) col. 452A; p. пер. ч. IV, стр. 200.
7) Orat. ХХХVIII, II (Mg. XXXVI, 669) col. 321D; p. пер. (Москва 1889) ч. III, стр. 200.
8) Sect. I poem. dogm. (Mg. XXXVII, 245) col. 452A; p. пер. ч. IV, стр. 199.
— 240 —
быть бессмертной1). Другим основанием для признания бессмертия человеческой души, по учению св. Григория, является тот для всех очевидный факт, что в настоящей жизни нет должного соответствия между счастьем и нравственным достоинством человека. Отсутствие этого последнего соответствия, по воззрению св. отца, с необходимостью предполагает будущую жизнь, во время которой эта несообразность уничтожится, и всякий человек получит заслуженное им воздаяние. «Я,—говорит св. Богослов,— ни наказаний в здешней жизни не осмелюсь относить во всяком случае к пороку, ни спокойного состояния—к добродетели... Полное мздовоздаяние принадлежит единственно будущей жизни, где одни получат награды за добродетель, а другие —наказания за порок» 2).
2. Участь души непосредственно после смерти человека.
По воззрению св. Григория Богослова, вместе с телесной смертью заканчивается для человека время подвигов и начинается время воздаянии для его души, так как после смерти для нас уже невозможно ни покаяние, ни исправление жизни. «Лучше,—говорит св. отец,—здесь подвергнуться вразумлению и очищению, нежели претерпеть истязание там, когда наступит время наказания, а не очищения... Для отшедших отсюда нет исповедания и исправления во аде (Пс. 6, 6), потому что Бог ограничил время деятельной жизни здешним пребыванием, а тамошней жизни предоставил исследование сделанного» 3).
Считая загробную жизнь временем воздаяния, св. Григорий Богослов, само собой понятно, должен был при
1) Orat. ХХХVІІІ, II (Mg. XXXVI, 670) col. 324А; р. пер. ч. III, стр. 200.
2) Ibid. XIV, 31 (Mg. XXXV, 289-280) col. 900В; р. пер. ч. II, стр. 31-32. 32.
3) Ibid. XVI, 7 (Mg. XXXV, 304-305) col. 944ВС; р. пер. ч. II, стр. 46.
241 —
знать несостоятельным учение о переселении душ. И действительно, он называл «пустой книжной забавой» то учение, по которому «душа постоянно меняет разные тела, каждое сообразно прежней жизни, доброй иди худой, в награждение за добродетели или в некоторое наказание за грехи». Он говорит, что это «учение не умных людей», потому что «они то облачают, то разоблачают неприлично душу, как человека в одежды, напрасно утруждая себя, вертя колесо злочестивого Иксиона, и заставляют ее быть то зверем, то растением, то человеком, то птицей, то змеей, то собакой, то рыбой, а иногда тем и другим по два раза, если так оборотится колесо»1) Св. Богослов не может принять учения о переселении души, потому что она, по его справедливому замечанию, не является «какой-нибудь общей, всем разделенной и по воздуху блуждающей душой». И это потому, что «в противном случае все бы и вдыхали и выдыхали одинаковую душу» 2). Св. отец, далее, не может принять учения о переселении душ потому, что он «никогда не видел мудрого зверя, имеющего дар слова, или говорящего терна. Ворона,—говорит он,—всегда болтлива; безгласная рыба всегда плавает в соленой влаге». Затем,—рассуждает св. Григорий,— «если, как говорят и сами изобретатели этого пустого учения, будет душе еще последнее воздаяние, то она потерпит наказание или без плоти,—и это весьма удивительно,—или с плотью,—тогда какую из многих предашь огню? Но всего непонятнее,—пишет, наконец, св. Богослов,—каким образом после того, как ты соединил меня с многими телами, и эта связь меня сделала знающим многое, одно только избегло от моего ума, а именно: какую кожу носил я раньше, какую потом и в сколь-
1) Sect. I poem. dogm. (Mg. XXXVII, 243) col. 449A; p. пер. ч. IV стр. 198.
2) Ibid. (Mg. XXXVII, 241) col. 448A; p. пер. ч. IV, стр. 198.
242
ких умирал, потому что мой узоналагатель не столько был богат душами, сколько—мешками. Или и это было следствием долговременного скитания, что я впал в забвение прежней жизни?» 1).
Отвергая учение о переселении душ, св. Григорий Богослов решительно утверждал, что они непосредственно после разлучения с своими телами получают соответствующее воздаяние. Тогда,—полагал он,—«одни (из людей) получат награды за добродетель, а другие—наказание за порок» 2).
А. Участь праведников на том свете.
По учению св. Григория Назианина, души умерших праведников после их смерти идут на небо, покоятся в недрах Авраамовых или имеют своим отечеством горний Иерусалим. В надгробном слове своему брату Кесарию св. Богослов говорил: «Ты, божественная и священная глава, вниди на небеса (οὐρανούς ἐμβατεύοις), упокойся в недрах Авраамовых (ἐν κόλποις Ἀβραάμ)»3)». «Ее отечество,—взывал св. Григории в надгробном слове своей сестре Горгонии,—горний Иерусалим (ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ), не зримый, но умосозерцаемый град» 4).
Находясь на небе, покоясь в недрах Авраама или имея своим отечеством горний Иерусалим, душа умер-
1) Ibid. (Mg. ХХХVII, 243) col. 450А; p. пер. ч. IV, стр. 198—199.
2) Orat. XIV, 31 (Mg. XXXV, 279) col. 900В; р. пер. ч. II. стр. 32.
3) Ibid. VII, 17 (Mg. XXXV, 209) col. 776В; р. пер. ч. I, стр. 209 ср. ibid. XIX. 17 (Mg. XXXV, 374) со). 1064В; р. пер. ч. II, стр. 132.
4) Ibid. VIII, 6 (Mg. XXXV, 221) col. 796В; р. пер. ч I, стр. 220 ср. ibid. XXIV, 15 (Mg. XXXV, 447) col. 1188В; p. пер. ч. II, стр. 212; ibid. XXXIII, 12 (Mg. XXXVI. 611) col. 229A; p. пер. ч. III, стр. 144; ibid. XLV, 23 (Mg. XXXVI, 864) col. 656A; p. пер. ч. IV, стр. 143 сн. Sect. II epit. CIII (Mg. XXXVIII, 1149) col. 64A; p. пер. ч V, стр. 293; ibid. XXXVII (Mg. XXXVIII, 1121) col. 29A; p. пер. ч V, стр. 297; ibid. LXXVII, (Mg. ХХХVIII, 1139) col. 52A; p. пер. ч. V, стр. 309; ibid. C (Mg. XXXVIII. 1147) col. 61A; p. пер. ч. V. стр. 313; ibid. CXIX (Mg. XXXVIII, 1157) col. 74A; p. пер. ч. V, стр. 317; ibid. II poem. moral. (Mg. XXXVII, 563) col. 882A; p. пер. ч. V, стр. 191; ibid. II poem. quae spect. ad alios (Mg XXXVII, 1055) col. 1531 A; p. пер. ч. V, стр. 239.
243
шего праведника созерцает небесные блага. В надгробном слове своему брату Кесарию св. Григорий Назианзин говорил: «узри лик ангелов, славу и великолепие блаженных (ἀγγέλων ἐποπτεύοις χορείαν , καὶ μακαρίων ἀνδρών δόξας τε καὶ λαμπρότητας), или лучше, составь с ними один лик и возвеселись... И да предстоиши Великому Царю, исполняясь горнего света, от которого и мы, восприняв малую струю, сколько можем изобразиться в зерцале и гаданиях, да взойдем к Источнику блага, созерцая чистым умом чистую истину (καθαρῷ νῷ καθαρὰν τὴν ἀλήθειαν ἐποπτεύοντες), и за здешнее ревнование о добре получим награду, чтобы насладиться совершеннейшим обладанием и созерцанием добра в будущем» 1). И в другом надгробном слове, своей сестре Горгонии, св. Богослов взывал: «Я уверен, что гораздо лучше и превосходнее видимого твое настоящее состояние — глас празднующих, веселие ангелов, небесный чин, видение славы, а более всего — чистейшее и совершеннейшее осиянне Троицы, уже не скрывающейся от ума, как связанного и рассеиваемого чувствами, но в полной мере целим умом созерцаемой и воспринимаемой и озаряющей наши души (ὅλῳ νοΐ θεωρουμένης τε καὶ κρατούμενης , καὶ προσαστραπτούσης ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς) полным светом Божества. Ты наслаждаешься всеми теми благами, которых потоки достигали до тебя еще и на земле за твое искреннее к ним стремление» 2).
Но как ни велико блаженство умерших праведников непосредственно после их смерти, тем не менее,
1) Orat. VII, 17 (Mg. XXXV, 209) col. 776ВС; p. пер. ч. I, стр. 209.
2) Ibid. VIII, 23 (Mg. XXXV, 232) col. 816C; p. пер. ч. I, стр. 233 cp. ibid. XIX, 17 (Mg. XXXV, 274) col. 1064B; p. пер. ч. II, стр. 132; ibid. XXIV, 17 (Mg. XXXV, 448) col. 1189B; p. пер. ч. II, стр. 213; ibid. XVIII, 3 (Mg. XXXV, 333) col. 989D; p. пер. ч ΙΙ, стр. 84; Sect. II poem. moral. (Mg. XXXVII, 623) col. 964D; p. пер. ч. V, стр. 287; ibid. I poem. deseipso XLIX (Mg. XXXVII, 943) col1385A; p. пер. ч. V, стр. 12; ibid. (Mg. XXXVII, 9 79) col. 1432A; p. пер. ч. V, стр. 22; ibid. (Mg. XXXVII, 693) col. 1053A; p. пер. (Москва 1889) ч. VI, стр. 15; ibid. (Mg. XXXVII, 739) col. 1139A; p. пер. ч. VI, стр. 39.
— 244 —
оно, по воззрению св. Григория, в это время еще не бывает полным. Св. Богослов, пожелав своему умершему брату Кесарию взойти на небо, упокоиться в недрах Авраама, возвеселиться в лике ангелов и блаженных душ и предстать пред Царем небесным, свою надгробную речь продолжал так: «для меня убедительны слова мудрых, что всякая добрая и боголюбивая душа, как скоро, по разрешении от соединенного с нею тела (ἑπειδἀν τοῦ συνδεδεμένου λυθεῖσα σώματος), переселится отсюда, то приходит в состояние чувствования и созерцания ожидающего ее блаженства (ἐν συναισθήσει καὶ θεωρία τοῦ μένοντος αὐτὴν καλού), а очистившись и отложивши (τοῦ ἐπισκοτοῦντος ἑνακαθαρθέντος ἢ ἀποτεθέντος) (или не знаю, как еще выразиться — ὴ οὐκ οἶδ ’ ὅ τι καὶ λέγειν χρή) то, что ее омрачало, наслаждается каким-то нудным удовольствием, веселится и радостно шествует к своему владыке (θαυμασίαν τινὰ ἡδονὴν ἡδεται , καὶ ἀγάλλεται καὶ ἵλεως χωρεῖ πρὸς τὸν ἑαυτῆς Δεσπότην), потому что она освободилась от здешней жизни, как невыносимой тесноты, и свергла с себя лежащие на ней оковы, увлекавшие ее ум к земному. Тогда она в видении как бы пожинает уже приготовленное для нее блаженство (οἷον ἤδη , τῇ φαντασίᾳ καρποῦται τὴν ἀποκειμένην μακαριότητα)»1).
Такова, по учению св. Григория Назианзина, участь праведников на том свете непосредственно после их смерти.
В. Участь грешников на том свете.
Если души умерших праведников, по учению св. Григория Богослова, идут на небо, то души грешников непосредственно после их смерти нисходят во ад (ἅδης)2). Тут, по словам св. отца, их ожидает «клоко-
1) Orat. VII, 2 (Mg. XXXV, 212—213) col. 781ВС; p. пер. ч. I, стр. 213
2) Ibid. XVI, 7 (Mg. XXXV, 305) col. 944С; р. пер. ч. II, стр. 46 ср. Sect. I poem. de seipso LXII (Mg. XXXVII, 959) col. 1405A; p. пер. ч. V, стр. 7.
— 245 —
чущий пламень (πῦρ βρομέον), ужасная тьма (σκότος αἰνόν), червь (σκώληξ) и всегдашнее памятование наших грехов (ἡμετέρης μνῆσις ἀεὶ κακίης)» 1) « Где, — спрашивает св. Богослов,—Иуда, сопричисленный к двенадцати?» — Он, — полагает св. отец,— «за малую корысть объят тьмой (κέρδεος ἀντ ’ ὀλίγου ἀμφεχύθη σκοτίην)»2), которая, по мнению св. Григория, есть не что иное, как «отпадение от Бога (ἐκ Θεοῦ πεσεῖν)»3). Но наиболее сильным мучением будет для умерших грешников отвержение их Богом. «Для меня,—говорит св. Богослов, — достоплаяевнее будущие мучения и казнь, ожидающая грешников. Не говорю еще о величайшем наказании, т.-е. о том, сколько для них будет мучительно отвержение их Богом (τὸ ἐξωσθῆναι Θεοῦ)»4).
Св. Григорий Назианзин сравнительно немного говорит о загробной участи грешников. Кроме того, его сюда относящиеся рассуждения не всегда отличаются определенностью. Если св. Григорий иногда допускает в своих творениях такие выражения, которые, по-видимому, предполагают его согласие с Оригеном в том пункте, что адский огонь является не только вечно карающим, но и очистительным, то другие выражения св. отца, несомненно, говорят за то, что он исключал возможность очищения от грехов на том свете. Так, в данном случае заслуживают внимания следующие слова св. Григория, по-видимому, заключающие в себе мысль о загробном очищении умерших людей от грехов. «Знаю, говорит св. отец, огонь и неочистительный, а карательный (οἶδα καὶ πῦρ οὐ καθαρτήριον , ἀλλὰ καὶ κολαστήριον)..., уготованный диаволу и аггелам
1 Sect. II, poem. moral. (Mg. XXXVII, 481) col. 773A; p. пер. ч. IV, стр. 220.
2) Ibid. (Mg. XXXVII, 481) col. 774A; p. пер. ч. IV, стр. 220.
3) Ibid. (Mg. XXXVII, 623) col. 964A; p. пер. ч. V, стр. 287 cp. ibid. (Mg. ХХХVII, 421) col. 691A; p. пер. ч. V, стр. 108.
4) Orat. IV, 49 (Mg. XXXV, 100) col. 573C; p. пер. ч. I; стр. 93.
— 246
его (Мф. 25, 41)»1)—Это выражение св. Григория и для Ульмана, специального исследователя его учения, послужило основанием к утверждению, что св. Богослов не чужд был оригенистических мыслей2). Конечно, данное утверждение Ульмана, по крайней мере, в полном объеме не может быть принято. И это потому, что св. Григорий Назианзин. как мы уже заметили, допускал выражения, его опровергающие. Так, он вместе с Давидом говорил, что «лучше здесь подвергнуться вразумлению и очищению, нежели претерпеть истязание там, когда наступит время наказания, а не очищения (ἡνῖκα κολάσεως καιρὸς , οὐ καθάρσεως)», что «для отшедших во аде нет исправления (οὐκ ἔστιν ἐν ᾅδῃ τοῖς ἀπεζθούσιν διόρθωσις)»3), что на том свете «худо почувствовать свою потерю, когда нет способа отвратить ее, т.-е. по отшествии отсюда, по горьком заключении того, что совершено каждым в жизни»4). Самым справедливым, по нашему мнению, будет допустить, что св. Григорий Богослов в своем учении о загробной участи умерших грешников, по крайней мере, в вопросе о состоянии их непосредственно после смерти, допускал указанную нами двойственность. Во всяком случае мы, имея в виду приведенные выражения св. Григория, не можем вполне согласиться ни с Ульманом, полагающим, что св. Богослов в своих воззрениях на адский огонь согласен с Оригеном5), ни с Н. Виноградовым, утверждающим, что св. Григорий учил только о карательном характере адского огня 6).
_________
1) Ibid. XL, 36 (Mg. XXXVI, 720) col. 412А; p. пер. ч. III, стр. 256 cp. ibid. XL, 24 (Mg. XXXVI, 709) col. 392C; p. пер. ч. III, стр. 244.
2) Prof. C. Ullmann, Gregorius von Nazianz, der Theologe (Darmstadt 1825), S. 505.
3) Orat. XVI, 7 (Mg. XXXV, 305) col. 944BC; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 46.
4) Ibid . XL, 24 (Mg. XXXVI, 709) 392C; p. пер . ч. III, стр . 244.
5) Prof. C. Ullmann, op. cit., S. 505.
6) Свящ. H. Виноградова, Догматическое учение св. Григория Богослова (Казань 1887) стр. 483 прим. 2. 484 прим.
— 247 —
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще.
1. Учение о втором пришествии Христа и всеобщем воскресении мертвых.
Когда пройдет время, определенное Богом для земной жизни людей, тогда, но учению св. Григория Богослова, снова придет на землю Христос 1). Его второе пришествие, по мнению св. отца, будет славным и в человеческом теле. «Христос,—говорит он,—снова придет во славе Отца» и с телом (ἐν δόξη Πατρός , ὅσον φανῆναι σῶμα τοῖς θεοκτόνοις)2). Кто не признает, что Христос с воспринятым Им человечеством и теперь пребывает и с ним придет, тот, по словам св. Богослова, «да не узрит славы Его пришествия (μὴ ἴδοι τὴν δόξαν τῆς παρουσίας αὐτοῦ)»3). Как видим, св. Григорий учил, что Христос придет во второй раз в нашем теле. Однако, необходимо принять во внимание, что св. отец полагал, что Христос, хотя и придет с телом (ἥξει μετὰ τοῦ σώματος), тем не менее—«с таким, с каким Он явился, или показался ученикам на горе, когда божество препобедило плоть (τοιοῦτος δὲ οἶος ὤφθη τοῖς μαθηταῖς ἐν τῷ ὄρει , ἡ παρεδείχθη ὑπερνικώσης τὸ σαρζίον τῆς θεότητος)»4).
В тесной связи с учением о втором пришествии Христа находится учение о всеобщем воскресении мертвых. О последнем мировом событии св. Григорий Бого-
1) Св. Григорий Богослов в своих творениях не говорит, что будущему пришествию Христа будет предшествовать Антихрист, хотя вообще о нем он упоминает (Orat. XX, 7 (Mg. XXXV, 418) col. 1140В; р. пер. ч. II, стр. 192 ср. Sect. II poem. moral. (Mg. XXXVII, 623) col. 963A; p. пер. ч. V, стр. 286—287).
2) Sect. II poem. moral. (Mg. XXXVII, 623) col. 963A; p. пер. ч. V, стр. 287.
3) Ep. CI (Mg. XXXVII, 86) col. 181 А; p. пер. ч. V, стр. 161.
4) Ibid. (Mg. XXXVII, 87) col. 181AB; p, пер. ч. IV, стр. 161.
— 248 —
слов упоминает в своих творениях неоднократно 1). Он, вместе с св. апостолом Павлом (Рим. 8, 29; Кол. 1, 18), называл Христа «начатком» воскресения 2). Он учил, что «последний день, по Божьему мановению, соберет всех вместе от концов земли, хотя бы кто был обращен в пепел и лишился членов в болезни (εἰ καὶ σποδιή τις , ὀλωλότα θ ’ ἅψεα νούσῳ)»3) Св. Григорий специально не говорит об обстоятельствах, которые будут предшествовать всеобщему воскресению мертвых, хотя и упоминает об «архангельском гласе (ἡ τοῦ ἀρχαγγέλου φωνή)» и .последней трубе (ἡ ἐσχατη σάλπιγξ)»4). Равным образом св. отец не описывает и самого процесса будущего воскресения мертвых. Он в данном случае ограничивается лишь замечанием, что оно «в одно мгновение соберет всю тварь (πᾶν τὸ πλάσμα συνάγουσα ἐν βραχεί τῷ πλάστῃ)»5). Что же касается вопроса, каким образом душа снова соединится с своим телом, то св. Григорий, вместо прямого ответа на него, заявляет, что это известно только Богу, их соединившему и разлучившему (τρόπον ὃν οἶδεν ὁ ταῦτα συνδήσας καὶ διαλύσας Θεός)6). Наконец, св. Григорий оставляет без всякого внимания вопрос о качествах будущих воскресших тел.
2. Учение о всеобщем суде и его следствиях.
Сравнительно немного говорит св. Григорий Богослов и о будущем суде. Впрочем, он дает о нем
1) Orat. VII, 23 (Mg. XXXV, 215) col. 785В; р. пер. ч. 1, стр. 215; Sect. I poem. de seipso ХХХІІ (Mg. XXXVII, 881) col. 1304A; p. пер. ч. IV, стр. 264 и друг.
2) Orat. XL, 2 (Mg. XXXVI, 692) col. 361A; p. пер. ч. III, стр. 225.
3) Sect. 1 poem. de seipso XLIII (Mg. ХХХVII, 915) col. 1348A; p пер. ч. IV, стр. 269 cp. ibid. II poem. moral. (Mg. XXXVII, 623) col. 963A; p. пер. ч. V, стр. 287.
4) Orat. VII, 21 (Mg. XXXV, 213) col. 784B; p. пер. ч. I, стр. 214.
5) Ibid. XL, 2 (Mg. XXXVI. 692) col. 361 А; p. пер. ч. III, стр. 225.
6) Ibid. VII, 21 (Mg. XXXV, 213) col. 784A; p. пер. ч. I, стр. 213.
— 249 —
довольно полное представление. Неоднократно упоминая о нем в своих творениях1), он трактует этот суд, как всеобщий 2), «единственный (μόνος), окончательный (τελευταῖος), страшный (φοβερός) и еще более праведный (δίκαιος), чем страшный, или, лучше сказать, потому и страшный что он праведен» 3). Умственному взору св. Богослова предносилась такая картина будущего суда. «Тогда, — пишет он,—поставятся престолы, Ветхий денми сядет, раскроются книги, потечет огненная река и взорам всех предстанут свет и приготовленная тьма»4). Ясно, что на всеобщем суде, по воззрению св. отца, выступит в качестве судьи Сам Бог. Он, по словам св. Григория, «будет обличать нас, Сам выступит против нас, откроет пред нашим лицом наши грехи, этих строгих обвинителей, полученные нами от него благодеяния противопоставит нашим грехам, одно наше помышление будет поражать другим, одно дело осуждать другим и взыщет с нас за то, что мы подвергли поруганию и омрачили Его высочайший образ» 5). На страшном суде, по учению св. Богослова, «от нас потребуют отчета не только за слова и дела (μὴ ῥήματος μόνον καὶ πράξεως), но как за целое время, так и за самую малую и краткую часть времени (ἀλλὰ καὶ καιροῦ παντῖς καὶ ὡρας αὐτῆς τοῦ ἀκαριαίου καὶ λεπτοτάτου)»6). «Последним огнем,—говорит св. отец в другом месте,—будут испытаны или очищены все наши
1) Ibid. XXI, 26 (Mg. XXXV, 402) col. 1112C; р. пер. ч. II, стр. 162; Sect. I poem. de seipso XLIII (Mg. XXXVII, 915) col. 1348A; p. пер. ч. IV, стр. 269 идруг.
2) Orat. XL, 2 (Mg. XXXVI, 692) col. 361A; p. пер. ч. III, стр. 225; Sect. I poem. de seipso XLIII (Mg. XXXVII, 915) col. 1348A; p. пер. ч. IV. стр. 269.
3) Orat. XVI, 9 (Mg. XXXV. 305) col. 945B; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 47.
4) Ibid. (Mg. XXXV, 305) col. 945BC; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 47.
5) Ibid. XVI, 8 (Mg. XXXV, 305) col. 944D—945A; p. пер. ч. II, стр. 48 cp. Sect. II poem. morai. (Mg. XXXVII, 623) col. 964A; p. пер. ч. V, стр. 287.
6) Orat. XXVI, 4 (Mg. XXXV, 474) col. 1233A; p. пер. ч. II, стр. 241.
250
дела (τὸ τελευταίου πῦρ , ᾧ πάντα κρίνεται ἡ καθαίρεται τὰ ἡμέτερα)»1), причем каждый из нас будет судим сообразно с родом его жизни 2). На этом суде никто не избежит справедливого приговора Судьи, потому что это будет не человеческий суд, на котором судью часто вводят в заблуждение и через это дают ложное направление его решению, а суд—безусловно справедливый. «Какой,—спрашивает св. Григорий,—вымышленный предлог, какое ложное извинение, какая хитро придуманная вероятность, какая клевета на истину обманет судилище и превратит суд правый, где у всякого кладется на весы все—и дело, и слово и мысль, где взвешивается худое с добрым, чтобы тому, что перевесит, и иметь верх, и с тем, чего больше, сообразоваться приговору, после которого нельзя ни перенести дела в другое судилище, ни найти высшего судью?» 3).
После приговора, произнесенного на всеобщем суде, праведники, по учению св. Григория Богослова, наследуют небесное блаженство., которое будет состоять в соверщеннейшем познании и созерцании св. Троицы. Они, говорит св. отец, «наследуют неизреченный свет и созерцание святой и царственной Троицы (ἡ τῆς ἀγίας καὶ βασιλικής θεωρία Τριἀδος), Которая тогда будет озарять (их души) яснее и чище и всецело соединится с полным умом, в чем одном собственно я и полагаю небесное царство (καὶ ὅλης ὡλω νοί μιγνυμένης . ἣν δὴ καὶ μόνην μάλιστα βασιλείαν οὐρανῶν ἐγὼ τίθεμαι)»4). «Думаю,— говорит св. Богослов в другом месте,—что оно
1) Ibid. ХХХІІ, 1 (Mg. ХХХVI, 580) col. 176А; р. пер. ч. III, стр. 110.
2) Ibid. XL, 19 (Mg. XXXVI, 705) col. 384C; р. пер. ч. III, стр. 239.
3) Ibid. XIV, 9 (Mg. XXXV, 305) col. 915В; р. пер. ч. II, стр. 46—47.
4) Ibid. (Mg. XXXV, 306) col. 945С; p пер. ч. II, стр. 47 ср. ibid. ХХXIII, 17 (Mg. XXXVI, 615) col. 237А; р. пер. ч. III, стр. 149; ibid. XXVIII, 17 (Mg. XXXVI, 503) col. 48C; p. пер. ч. III. стр. 26.
Здесь уместно заметить, что св. Григорий Богослов ζωὴ οὐρανίη отожествлял с παράδεισος (Sect. I poem. dogm. (Mg. ХХХVII, 245) col. 454A; p. пер. ч. ІV, стр. 201).
— 251
(небесное царство) есть не что иное, как достижение чистейшего и совершеннейшего. А совершеннейшее из всего существующего есть ведение Бога (τελεώτατον δὲ τῶν ὄντων — γνώσις Θεοῦ). Это ведение частью да храним, частью да приобретаем, пока живем на земле, а частью да сберегаем для себя в тамошних сокровищницах, чтобы в качестве награды за труды воспринять всецелое познание Святой Троицы (ὅλην τὴς ἁγιας Τριάδος τὴν ἔλλαψιν)»1). «Впоследствии и скоро причастимся совершеннее и чаще, когда Слово будет пить с нами это ново во царствии Отца (Мф. 26, 29), открывая и преподавая, что теперь Им открыто в некоторой мере (ἀποχαλύπτων καὶ διδάσκων , ἂ νῦν μετρίως παρέδειξε)»2).
В блаженном состоянии после всеобщего воскресения и суда, по учению св. Григория Назианзина, кроме душ умерших праведников, примут участие и их тела. В надгробном слове своему брату Кесарию, св. отец, определив участь последнего непосредственно после его смерти, говорил, что душа праведника, «восприняв от земли непостижимым для нас образом свою плоть, вместе с ней вступит в наследие будущей славы (τούτῳ συγκληρονομεῖ τῆς ἐκεῖθεν δόξης). И как некогда, в силу естественной связи с ней, сама разделяла ее тяжести, так тогда сообщит ей свои утешения, всецело соединившись с ней и ставши с ней одним духом, умом и богом (ὅλον εἰς ἑαοτὴν ἀναλώσασα , καὶ γενομένη σὺν τούτῳ ἐν καὶ πνεῦμα , καὶ νοῦς , καὶ θεὁς)»3).
Признавая участие в небесном блаженстве после всеобщего воскресения духовной и телесной природ праведных людей, св. Григорий Богослов в то же самое время учил, что степень блаженного состояния последних не будет одинаковой. По его представлению, после всеоб-
1) Orat. XX, 12 (Mg. XXXV, 384) col. 1080С; p. пер. ч. II, стр. 142.
2) Ibid. XLV, 23 (Mg. XXXVI, 863) соl. 656A; p. пер. ч. IV, стр. 143.
3) Ibid. VII, 21 (Mg. XXXV. 213) col. 784A; p. пер. ч. 1, стр. 213.
252 —
щего суда будут различные степени блаженства, так как каждый из праведников будет пользоваться небесным блаженством в мере, соответствующей ого нравственному достоинству. «Каждая из добродетелей, по словам св. отца, является особым путем к спасению и, несомненно, приводит к какой-нибудь одной из вечных и блаженных обителей. Ведь, как различны роды жизни, так и обителей у Бога много (Ио. 14, 2), и они разделяются и назначаются каждому по достоинству (κατὰ τὴν ἀξίαν ἐκάστω μεριζόμεναι τε καὶ διαιρούμεναι)»1). «Что слышишь,—пишет св. Григорий в другом месте,—много у Бога обителей, или одна?— Без сомнения, согласишься, что много, а не одна. Все ли они должны наполниться, или одни наполнятся, а другие— нет, но останутся пустыми, и приготовлены напрасно?— Конечно все, потому что у Бога ничего не бывает напрасно.—Но можешь ли сказать, что разумеешь под таковой обителью: тамошнее ли упокоение и славу, уготованную блаженным, или что-либо другое?—Не другое что, а это»2). Ясно, что св. Богослов находил основание для своего мнения о разных степенях небесного блаженства в словах Спасителя: «в дому Отца Моею обители многи» (Ио. 14, 2), разумея под обителями вечное блаженство и славу, ожидающие праведников. Все эти обители, по рассуждению св. отца, должны быть наполнены, потому что у Бога ничего не может быть приготовлено напрасно. Но как достигнуть этих обителей?—«Есть,—говорит св. Григорий,—разные роды жизни и избрания, и они ведут к той или другой обители но мере веры, почему и называются у нас путями». Этими-то путями, «если возможно,— продолжает св. отец,—пусть один идет всеми. А если нет, то, сколько может, большим числом путей. Если же и того нельзя, то—некоторыми. Если же и это не воз-
1) Ibid. XIV, 5 (Mg. XXXV, 260) col. 264В; р. пер. ч. II, стр. 6.
2) Ibid. XXVII, 8 (Mg. XXXVI, 493) col. 21 AB; p. пер, ч. III, стр. 9.
253
можно, то будет принято во внимание, как мне, по крайней мере, кажется, когда кто-нибудь и одним пойдет преимущественно»1)
Между тем как праведники после всеобщего суда удостоятся блаженного состояния, грешники, по учению св. Григория Назианзина, тогда наследуют вечный неугасающий огонь. В «слове на св. крещение», сказавши об огне, очищающем греховные нечистоты, св. отец восклицал: «знаю огонь и неочистительный, а карательный или содомский, на всех грешников одождит Господь, присоединив жупел и духа (Пс. 10, 6), или уготованный диаволу и аггелам его (Мф. 25, 41), или тот, который предходит лицу Господа и попаляет окрестив враги Его (Пс. 96, 3). Есть еще,—продолжает св. Григорий,—и этих ужаснейший огонь, который за одно действует с червем неусыпающим, не угасим, но увековечен для злых. Ведь, все это показывает истребительную силу, если только не угодно кому и здесь представлять это человеколюбивее и сообразно с достоинством Наказующего» 2). Если принять во внимание, что св. Богослов простирал будущее наказание и на телесную природу грешников3), то, конечно, в известной степени трудно отвергать буквальное значение приведенных слов св. отца. Однако, творения св. Григория вообще побуждают нас идти в понимании его приведенного выражения и дальше буквы. Так, в одном месте своих сочинений он пишет: «как солнце обличает слабость глаза, так Бог Своим пришествием—немощь души. И для одних Он—свет, а для других—огонь, смотря по тому, какое вещество и какого качества, Он встречает в каждом» 4). «Знаю же,—говорит св. Гри-
1) Ibid. (Mg. XXXVI, 493) col. 21B; p. пер. ч. III, стр. 9—10.
2) Ibid. XL, 36 (Mg. XXXVI, 720-721) col. 412AB; p. пер. ч. III. стр. 256.
3) Sect. I poem. dogm. (Mg. XXXVII, 243) col. 450A; p. пер. ч. IV, стр. 199.
4) Orat. IX, 2 (Mg. XXXV, 235) col. 821A; p. пер. ч. I, стр. 235.
254
горий в другом месте,—что Бог есть огонь для злых (πῦρ κακοῖς) и свет для добрых (φώς ἀγαθοῖσιν)»1). Червь и огонь,—замечает св. отец в третьем месте,—истребление вещественной страстности (σκώληξ δέ , πῦρ τε , τῆξις ὑλικοῦ πάθους)»2). На основании данных выражений св. Богослова его мысль о карательном огне вернее будет понимать в духовном смысле, вполне соответствующем словам: «уделом» грешников после всеобщего суда, «кроме прочего, будет мучение или, вернее сказать, прежде всего прочего—отвержение от Бога и стыд в совести, которому не будет конца (τὸ ἀπεῤῥίφθαι Θεοῦ καὶ ἡ ἐν τῷ συνειδότι αἰσχύνη πέρας οὐκ ἐχουσα)»3). Если принять во внимание, что человеческая душа, по определению св. Григория, «есть дыхание Божье (ψυχὴ ἐστὶν ἄημα Θεοῦ)», «свет, заключенный в пещеру, однако божественный и неугасимый» 4), то духовный характер адских мучений грешников будет для нас вполне понятным. Он будет обусловливаться тем, что душа грешника лишится общения с родным себе Светом—Богом. Это лишение общения с Богом и будет жечь души грешников после всеобщего суда.
На ожидающем нас всеобщем суде, по учению св. Григория, будет определено наказание и виновнику зла— диаволу. «Когда,—говорит св. отец,—наступит огненное воздаяние, тогда понесет наказание этот неукротимый... Такова казнь породившему зло (κακοῦ γεννήτορι)»5).
_________
Св. Григорий Богослов специально почти не останавливал своего внимания на конечной судьбе мира вообще. Несомненно, однако, то, что он предполагал «разрушение
1) Sect. I poem. dogm. (Mg. ХХХVII, 215) col. 410A; p. пер. ч, IV, стр. 183.
2) Ibid. II poem. moral. (Mg. XXXVII, 623) col. 964A; p. пер. ч. V, стр. 387.
3) Orat. XVI, 9 (Mg. XXXV, 306) col. 945C; p. пер. ч. ІІ. стр. 47.
4) Sect. I poem. dogm. (Mg. ХХХVII, 241) col. 446A--447A; p. пер. x. IV, стр. 187.
5) Ibid. (Mg, XXXVII, 241) col. 446A; p. пер. ч. I, стр. 196.
255
существующего (τῶν ὅντων λύσις)» и «некоторое изменение в лучшее (τὶς πρὸς τὸ κρεῖσσον ἀλλαγή)»1). Он утверждал, что вещество сгорит» 2) и допускал «преобразование неба, претворение земли, освобождение стихий и обновление целого мира (τὸν οὐρανοῦ μετασχηματισμόν , τ ър ν γῆς μεταποίησιν , τὴν τῶν στοιχείων ἐλευθερίαν , τὴν κόσμου παντὸς ἀνακαίνιοιν)»3).
Вот история раскрытия эсхатологических истин в древне греческой христианской литературе в лице ее главнейших представителей до времени богословской деятельности св. Григория Нисского. Вот тот материал, каким располагал святитель Нисский, когда созревали и формировались его эсхатологические воззрения.—Как видим, до времени св. Григория включительно в раскрытии эсхатологических истин ясно наметились три течения—хилиастическое, спиритуалистическое и т. наз. церковное. Приверженцы хилиазма, как, например, авторы Διδαχή и послания, известного с именем апостола Варнавы, Папий Иерапольский, св. Иустин Мученик, св. Ириней Лионский и др., оставляя почти без внимания состояние душ непосредственно по смерти и до воскресения 4), признавали два воскресения мертвых, причем полагали, что после первого из них, в котором примут участие лишь праведники, откроется на земле тысячелетнее царство, а после второго, всеобщего воскресения,—страшный суд, на котором навсегда определится участь людей. Представители же спиритуалистической эсхатологии, как, например, Климент Александрийский и Ориген, учили, что умершие грешники через адские мучения постепенно очищаются от своих грехов и
1) Ibid. II poem. moral. (Mg. ХХХVII, 623) col. 963A; p. пер. ч. V, стр. 287.
2) Ibid. I poem. dogm. (Mg. XXXVII, 241) col. 446A; p. пер. ч. IV, стр. 196.
3) Orat. VII. 21 (Mg. XXXV, 213) col. 784B; p. пер. ч. I, стр. 214.
4) Только относительно мучеников хилиасты вполне определенно утверждали, что они непосредственно после своей смерти удостаиваются блаженной участи.
— 256 —
мало-по-малу достигают первоначальной чистоты и блаженства. Согласно с таким взглядом на адские мучения, они допускали апокатастасис всего существующего в первобытное состояние и, таким образом, отвергали вечность адских мучений. Придерживаясь основ христианского предания, они, несмотря на малую необходимость с тонки зрения их основных эсхатологических принципов второго пришествия Христа, всеобщего воскресения мертвых и страшного суда, признавали последние мировые события, причем смотрели на воскресшие тела, как на какую-то светоносную эфирную массу, не имеющую ни веса, ни органов, ни особого внешнего вида, а лишь тожественный с прежними телами тип (εἶδος), Что касается, наконец, церковной эсхатологии, то она в большей или меньшей степени нашла себе место в творениях всех предшественников и современников св. Григория Нисского. Церковная эсхатология до времени святителя Нисского включительно, конечно, не допускала ни двух воскресений и тысячелетнего земного царства хилиастов, ни исправительного характера адских мучений и всеобщего апокатастасиса представителей спиритуалистической эсхатологии, но, напротив, утверждала вечность адских мучений для грешников.
В изложенном материале, в указанных эсхатологических течениях и нужно было разобраться св. Григорию Нисскому. Несомненно, что святитель Нисский усвоил основные принципы спиритуалистической эсхатологии. Характерные пункты эсхатологии Оригена—учение об очистительном характере адских мучений, о духовных свойствах воскресших тел и апокатастасисе—заняли центральное место и в эсхатологии св. Григория Нисского. Только к учению Оригена о тожестве воскресших тел с настоящими он сделал поправку на основании творений св. Мефодия Олимпского и т. наз. Адамантия1). Не подлежит, ко-
1) Vgl. Dr. Fr. Diekamp. Die Gotteslehre des heiligen Gregor von Nyssa (Münster 1896) Th. I, S. 36 - 47.
— 257
нечно, сомнению и то, что св. епископ Нисский в той части своих эсхатологических воззрений, которые имеют общецерковный характер, не чужд был знакомства с эсхатологией христианских апологетов ІІ-го века, св. Иринея Лионского, св. Ипполита Римского, св. Василия Великого и св. Григория Богослова. Впрочем, как ориентировался св. Григорий Нисский в эсхатологическом учении своих предшественников и современников, что в нем он признал ценным и что не заслуживающим внимания,—это откроется со всей очевидностью из систематического изложения его эсхатологии.
258
Первая часть.
Учение св. Григория Нисского о конечной судьбе каждого человека в отдельности.
ГЛАВА I.
Эсхатологическое учение о телесной смерти.
1. Сущность и физические проявления телесной смерти.
Жизнь человека, по воззрению св. Григория Нисского, обусловливается той тесной и непосредственной связью, которая существует в нем между душой и телом (ψυχὴ τε καὶ σώματι συγκεκραμένον)1). Дело в том, что душа в человеке служит тем жизненным началом, при котором только и возможна деятельность его телесных органов и функционирование в нем растительной и чувственной жизни. И это потому, что душа, будучи по своей природе «живой сущностью (οὐσία ζώσα)»2), сообщает жизнь и находящемуся в общении с ней телу. Она, по выражению св. отца, проникая равномерно и однообразно все части, составляющие тело (ἴσως τε καὶ ὁμοίως πᾶσι τοῖς μέρεσι τοῖς συμπληροῦσι τὸ σῶμα τῆς ψυχῆς ἑνδυομένης), проводит в телесный организм «жизненную силу (ζωτικὴν δύναμιν)»3), которая сообщает
1) Orat. cat., cap. 37 (I. H. Srawley, The catechetical oration of Gregory of Nyssa (Cambridge 1903), p. 141); p. пер. (Творения св. Григория Нисского, Москва 1862) ч. IV, стр. 96.
2) De an. et res. (Migne, ser. gr. (1863), t. XLVI) col. 29B; p. пер. ч. IV, стр. 214.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 44C; p. пер. ч, IV, стр. 226—227.
— 259
отдельным органам способность к деятельности 1), а чувствам—способность к ощущениям (δύναμιν ζωτικὴν καὶ τῶν αἰσθητῶν ἀντιληπτικὴν δι ’ ἑαυτῆς ἑνιοῦσα)2), которые выводят тело из состояния безжизненной массы (τὸ γὰρ ἐν σαρχὶ ἄψυχον , καὶ νοερόν ἐστι πάντως)3). Впрочем, она сообщает жизнь чувственным органам только до тех пор, пока они обладают способностью ее воспринимать 4).
Если жизнь человека обусловливается той взаимной связью, какая существует в нем между душой и телом, то само собой понятно, что разъединение последних должно сопровождаться смертью. Отсюда, св. Григорий Нисский, вслед за некоторыми своими предшественниками5), определяет смерть в широком смысле, как лишение телесной природы в человеке души (ἡ νεκρότης κατὰ στέρησιν ψυχῆς γίνεται)6), как прекращение внутренней связи между телом и душой (θάνατός ἐστι ψυχῆς καὶ σώματος ἡ ἀπ ’ ἀλλήλων διάζεοξις)7). Что же касается сущности человеческой смерти в более тесном смысле, то под ней святитель Нисский разумеет выделение из тела чувственной жизни (ἐν σαρκὶ τὸ τῆς αἰσθητῆς χωριοθῆναι ζωῆς προσαγορεύομεν θάνατον)8) или «угашение чувственных органов (θάνατος ἡ τῶν αἰσθητηρίων σβέσις)»9).
1) Ibid. (Mg. XLVII col. 29A; p. пер. ч. IV, стр. 213.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 29B; p. пер. ч. IV, стр. 214.
3) De hom. opif., cap. XXIX (Migne, ser. gr. (1863), t. XLIV) col. 236D; p. пер. (Москва 1861) ч. I, стр. 200.
4) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 29B; p, пер. ч. IV, стр. 214.
5) Cв. Ириней, стр. выше 53; Климент Ал., стр. выше 106; Ориген, стр. выше 122; св. Василий В., стр. выше 224; св. Григорий Богослов, стр. выше 238.
6) De hom. opif., cap. XXIX (Mg. XLIV) col. 236D; p. пер. ч. I, стр. 200.
7) Adv. Apoll. XXX (Migne, ser. gr. (1863), t. XLV) col. 1189D; p. пер. (Москва 1868) ч. VII, стр. 124; ... τῷ θανάτῳ τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος διαιρεθείσης... Ibid. LV (Mg. XLV) col. 1260A; p. пер. ч. VII, стр. 192.
8) Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op.cit., p. 45—46); p. пер. ч. IV, стр. 31.
9) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col. 545B; p. пер. (Москва 1863), ч. V, стр. 351.
Кроме указанного, понятием смерти св. Григорий Нисский обозначает все свойства и отправления, какие явились в человеческом организме после грехопадения наших прародителей (De an. et res.
— 260 —
Естественным следствием смерти является разложение нашего тела. Вслед за отделением души от тела последнее разлагается на составляющие его разнообразные стихии (σώματος μὲν γὰρ ἐστι θάνατος ... ἡ τῶν στοιχείων διάλυσις)1). Возможность разложения человеческого тела на его составные части имеет свое основание в том обстоятельстве, что оно не является простым (οὐ γὰρ ἄν τις ἐν τῇ σαρκὶ τὸ ἀπλοῦν θεωρήσειε)2). Св. Григорий в одном месте своих творений решительно заявляет, что уже детям ясно, что тела подлежат разрушению и тлению по той причине, что они обладают сложной природой (διὰ τὸ σύνθετον εἰληθέναι τῆν φύσιν)3). Относительно сложной природы,—так замечает св. отец в другом месте,—никто не скажет, что она не подлежит разложению. Что же подлежит разложению,— это не может не быть тленным, потому что тление есть разложение на части составного тела4). Таким образом, достаточно, чтобы душа перестала оживлять тело, как составляющие его разнородные вещества теряют свою вынужденную и невольную связь. Каждая из находящихся в нас телесных частиц возвращается в свое место. Каждая из них стремится к соединению с родственным ей. Поэтому, святитель Нисский пишет, что с теплым снова соединяется то, что есть в нас теплого, а с твердим,—что есть в нас взятого из земли. Что же касается остальных наших составных частей, то они также переходят к сродным им стихиям 5). Одним
(Mg. XLVI) col. 148А—149В, р. пер. ч. IV. стр. 314. 315. 316), как предвестники долженствующей некогда последовать смерти (De mortuis (Mg XLVI) col. 521В; р. пер. ч. VII, стр. 514).
1) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col. 545 Β; p. пер. ч. V, стр. 351 cp. св. Ириней, стр. выше 54; св. Ипполит, стр. выше 84; Оригена, стр. выше 122; св. Григорий Богослова, стр. выше 239.
2) Adv. Apoll. XXXV (Mg. XLV) col. 1200B; p. пер. ч. VII, стр. 133
3) Contra Eunom, lib. VII (Mg. XLV) col. 764C; p. пер. (Москва 1864) ч. VI, стр. 96.
4) Τὸ δὲ συντιθέμενων, οὐκ ἂν τις ἀδιάλυτον εἶνα: εἴποι. Τὸ δὲ διαλυόμενον, ἀφθαρτον εἶναι οὐ δύναται. Φθορά γὰρ ἡ διάλυσις τοῦ αὐνεστῶτάς ἐστιν. Devita . Moyfis (Mg . XLIV) col. 400В; р. пер. ч. I, стр. 342.
5) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 20C; p. пер., стр. 206.
261
словом,—говорит св. Григорий в другом месте, каждой стихии возвращается однородное с ней: земле—свойственное ей, воздуху —свойственное ему, воде—принадлежащее ей и, наконец, теплоте—соответствующее ей1).
Но было бы ошибочным думать, что человеческие тела, подвергаясь по причине смерти разложению, тем самим уже предназначаются к совершенному уничтожению. От подобного грубого заблуждения св. Григорий Нисский предостерегает своих современников и будущих читателей его сочинений. И это он делает тем с большей силой, что ему было известно, что среди его современников находились такие люди, которые утверждали, что человеческое тело после смерти совершенно уничтожается. И в самом деле, говорили они, где искать тела тех мертвецов, которые уже очень давно умерли, возвратились и превратились в землю. Несомненно, полагали они, что тела этих мертвецов навсегда уничтожились. Равным образом, по их мнению, такими должны быть признаны остатки тех умерших людей, которые были сожжены огнем и превратились в пепел. Наконец, они считали несомненным, что подвергаются полному и вечному уничтожению тела тех людей, которые были съедены плотоядными животными. И это потому, что они, принявши в свое собственное тело человека, сами в свою очередь становятся средством питания для людей и через него переходят в последних. Вследствие данного перемещения тела известного человека в разные организмы, притом как животных, так и людей, необходимо, говорят сторонники излагаемого мнения, предположить его уничтожение 2).
1) Τῷ οἰκείῳ στοιχείῳ προσαναπαύαασα τὸ συγγενὲς καὶ ὁμόφυλον, τῇ γῇ τὸ γεώδες, καὶ τῷ ἀέρι τὸ ἴδιον, καὶ τῷ ὑγρῷ τὸ οἰκεῖον, καὶ τῷ θερμῷ τὸ κατάλληλον. De mortuis (Mg. XLVI) col. 501В; р. пер. ч. VII, стр 590 ср. Оригена, стр. выше 168.
2) De hom. opif., cap. XXVI (Mg. XLIV) col. 224BC; p. пер. ч. 1, стр. 185 — 186 cp. Афинагора, стр; выше 41.
— 262
Желая разрешить данные недоумения, св. Григорий Нисский, вслед за Оригеном 1), выдвигает тезис, что элементы, на которые разлагаются человеческие тела, совершенно не уничтожаются после смерти. По убеждению святителя Нисского, как и куда бы ни попало человеческое тело после своего разрушения смертью, оно ни в каком случае не может подлежать уничтожению. Св. отец думает, что наше тело разлагается на то, из чего оно составлено. При этом, говорит он, «не только земля из нашего тела, по повелению Божью, возвращается в землю, но и воздух и влага переходят из него в сродные им стихии. Таким именно образом совершается перемещение всего, что заключается в человеческих телах, в сродные ему стихии. Это перемещение совершается даже и тогда, когда наши тела бывают съедены плотоядными птицами или свирепыми зверями и вследствие этого смешиваются с телами последних. Наконец, это перемещение происходит и тогда, когда наши тела съедаются рыбами и превращаются черев огонь в пары и пепел. Одним словом, где бы мы ни предположили существование человека, все-таки, он будет пребывать в мире»2). Таким образом, «тело не исчезает окончательно, но разлагается на части, из которых оно составлено, и эти его части существуют и воде, в воздухе, в земле и в огне. Но так как первоначальные стихии всегда сохраняют свое бытие и в них возвращается то, что от них было заимствовано, то в этих стихиях совершенно остаются целыми и возвратившиеся в них части человеческого тела» 3). Они —заме-
1) Стр. выше, 122.
2) Καὶ ἐκαστου τῶν ἐν ἡμῖν πρὸς τὸ συγγενὲς τὴν μεταχώρησιν γίγνεσθαι κἂν τοῖς σαρκοβόροις ὀρνέοις, κἂν τοῖς ὡμοτάτοις ὑηρίοις ἀναμιγθῇ τὸ ἀνθρώπινεν σῶμα διὰ τῆς βρώσεως, κἂν ὑπὸ τὸν ὀδόντα τῶν ίχβύων ἐλθῃ, κἂν εἰς ἀτμοὺς καὶ κόνιν μεταβληθῇ τῷ πυρί. Ὅπου δ’ ἄν τις καθ’ ὑπόῦεσιν περιενέγκη τῷ λόγῳ τὸν ἀνθρωπον, ἐντός τοῦ κόσμου πάντως ἐστίν. De hom. opif., cap, XXVI (Mg. XLIV) col. 224CD; p. пер. ч. I, стр. 186.
3) Οὐ γὰρ τέλεον ἀμανίζεται, ἀλλὰ διαλύεται εἰς τὰ ἐξ ὦν συνετέθηκαὶ ἐστιν ἐν ὕδατι, καὶ ἀέρι, καὶ γῇ, καὶ πυρί. Τῶν δὲ πρωτοτύπων στοιχείων μενόντων, καὶ
— 263 —
чает святитель Нисский в другом месте,—не уничтожаются, потому что «уничтожение есть обращение в ничто», но лишь возвращаются в те стихии, из которых они, будучи заимствованы, составляли тело 1) Мало того, частицы нашего тела, разложившиеся под влиянием смерти, если и соединяются снова с родственными им мировыми стихиями, то, однако, не смешиваются с ними до неузнаваемости. И это по той причине, что частицы разложившегося человеческого тела сохраняют в себе особые знаки, данные им природой, которые обнаруживают их принадлежность к определенному телу 2).
Таковы, по мнению св. епископа Нисского, сущность смерти и ее физические проявления по отношению к чувственно-телесной стороне человеческого существа.
2. Бессмертие души.
Источником смерти св. Григорий Нисский, в согласии с общим церковным верованием3), считал грех, точнее грехопадение наших прародителей 4). Так как грех коснулся не только тела, но и души, то, естественно, и смерть должна была распространить свое действие на всего человека, т.-е. на его тело и душу. Поэтому, св. Григорий в своих сочинениях трактует и о смерти
τῶν ἀπ’ ἐκεῖνων μετὰ τὴν διάλυσιν ἐκείνοις προσχωρησάντων, ἐν οἶς καθόλου σώζεται καὶ τὰ μέρη... In Chr. resurr, orat. III (Mg. XLVI) col. 673B; p. пер. (Moсква 1872) ч. VIII, стр. 79 cp. св. Иустина Мученика, стр. выше 38; Афинагора, стр. выше 41.
1) Ἀθανισμὸς μὲν γἁρ ἐστιν ἡ εἰς τὸ μὴ ὂν μεταχώρησις λύσις δὲ ἡ εἰς τὰ τοῦ κόσμου στοιχεῖα πάλιν, ἀφ’ ὡν τὴν σύστασιν ἐσχεν, διάχυσις... Orat. cat., Cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 44); p. пер. ч. IV, стр. 29-30.
2) De hom. opif., cap. XXVII (Mg. XLIV) col. 225BC; p. пер. ч. I, стр. 187—188.
3) Мужи an., стр. выше 4; св. Феофила Ант., стр. выше 21; св. Ириней, стр. выше 54; св. Ипполита, стр. выше 84; Климента Ал., стр. выше 106; св. Мефодий Олимп., стр. выше 198; св. Василий В., стр. выше 224.
4) Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 42); p. пер. ч. IV, стр. 28—29.
— 264 —
души, хотя и в особенном, отличном от смерти тела смысле.
После греха, по рассуждению св. Григория Нисского, погибло не одно лишь тело, но весь человек, т.-е. тело вместе с душой (ἀπώλετο δὲ οὐ σῶμα , ἀλλ ’ ὅλος ὁ ἄνθρωπος ἀπὸ ψυχῆς συγκεκραμένος). Впрочем, гораздо справедливее будет сказать, что прежде тела погибла душа (τοῦ σώματος ἡ ψυχὴ προαπώλετο), потому что преслушание является грехом произволения, а не тела. Что же касается произволения, от которого получило свое начало зло, распространившееся на всю природу, то оно принадлежит душе, как об этом свидетельствует неложная Божья угроза: «в оньже аще день коснутся запрещенного, за вкушением без замедления последует смерть» (Быт. 2, 17). Так как человеческий состав двоякий, то, — продолжает св. отец, — смерть, соответственно ему, производит лишение двоякой жизни (ἐνεογεῖται ὁ θάνατος τῆς διπλῆς ζωῆς ... τὴν στέρησιν), принадлежащей подвергающемуся смерти. Подобно тому, как существует телесная смерть..., так, согласно с сказанным, и душа согрешающая, та умрете (Иезек. 18, 20)х). Ясно, что смерть, явившаяся в мир как следствие греха, по воззрению святителя Нисского, стала оказывать свое действие и на человеческие души.
Однако, по мнению св. Григория Нисского, вполне согласному с воззрениями Оригена 2), было бы неразумным думать, что души людей подлежат смерти в том же физическом смысле, в каком ей подвергаются их тела. Как жизнь души, по своему существу, отличается от жизни тела, так смерть первой, естественно, разнится от смерти последнего. Если жизнь тела состоит в деятельности и движении его органов, а прекращение их дел-
1) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col. 545AB; p пер . ч. V, стр. 351—352.
2) Стр. выше 122.
265
тельности и движения сопровождается для него смертью, то жизнь и смерть души носит совершенно особый характер. «Для разумной природы, — пишет св. отец,— истинную жизнь составляет общение с Богом, а уклонение от Него имеет название смерти»1). Впрочем, так как существует некоторая связь и взаимообщение между греховными страстями души и тела, то,—полагает св. Григорий, — есть и некоторое сходство между телесной смертью и душевной. И в самом деле, как смертью тела мы называем удаление из него чувственной жизни, так равным образом и смертью души мы называем уклонение ее от истинной жизни (ἑπὶ τῆς ψυχῆς τὸν τῆς ἀληθοῦς ζωῆς χωρισμὸν θάνατον ὀνομάζομεν)2), т.-е. утрату человеком подвижности к добру (καὶ ἐπὶ τῆς νοερᾶς οὐσίας , ἡ πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀκινησία θάνατός ἐστιν)3), или, другими словами, утрату нормального состояния его духовной природы и отлучение его вместе с тем от жизни в Боге и с Богом 4). Таким образом, ясно, что смерть души отличается от смерти тела, так как она носит исключительно нравственный характер.
Если смерть души отлична от смерти тела, то что же испытывает душа при смерти тела? — По учению св. Григория Нисского, на душу не распространяется процесс разложения тела, и она переселяется в невидимый мир, где пребывает бессмертной5). Душа, по воззрению св. отца, не может испытать смерти в смысле своего разрушения на составные части, потому что она проста и не сло-
1) Ἐπὶ τὴς νοερᾶς φύσεως, ἡ πρὸς τὸ θεῖον οἰκείωσις, ἡ ἀληθής ἐστι ζωὴ. καὶ ἡ τούτου ἀπόπτωσις θάνατον ἔχει τὸ ὁνομα. Contra Eunom., Üb. VIII (Mg. ХIV) col. 797D; p. пер. ч. VI, стр. 135.
2) Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 46); p. пер. ч. IV, стр. 31.
3) Contra Eunom., lib. VIII (Mg. XLV) col. 800A; p. пер. ч. VI, стр. 136.
4) Ibid., lib. II (Mg. XLV) col. 545BC; p. пер. ч. V, стр. 351. 352.
5) Она в то же время пребывает и при элементах ее разложившегося тела, о чем речь будет ниже.
266
жна. «Смерть разложения,-решительно заявляет св. Григорий, —не касается души: ведь, как может разложиться то, что не сложно (ὁ τῆς διαλύσεως θάνατος ... τῆς ψυχῆς οὐχ ἅπτεται . Πῶς γὰρ ἄν διαλυθείη τὸ μὴ συγκείμενον)»1) Истина бессмертия души для святителя Нисского, как христианина — богослова, представлялась настолько очевидной и неопровержимой, что сомнение в ней некоторых мыслителей он мог назвать не иначе, как «языческими бреднями». «Оставь языческие бредни, — так резко он замечает устами своей сестры Макрины относительно философских мнений о разрушении души вместе с телом, — в них изобретатель лжи в ущерб истине в виде вероятных составляет ложные предположения»2). При разложении тела душа в отношении своего бытия не испытывает никакой утраты. «Во время обыкновенной человеческой смерти,—спрашивает св. Григорий, — что подвергается смерти и тлению? Не плоть ли возвращается в землю, тогда как ум вместе с душой остается, не испытывая в отношении своего бытия никакой потери от разрушения тела»3)? Смерть в смысле разложения,—говорит св. отец в другом месте,—только «покрывает внешность, а не внутренность, охватывает чувственную часть человека, но не касается самого образа Божия»4). Поэтому, во время телесной смерти человека душа только оставляет свое тело и переселяется из видимого мира явлений в невидимую область. Святитель Нисский делает особенное ударение на той мысли, что смерть «возобладала только над половиной человеческой природы, потому что душа пребывает бессмертной (καί τὀ
1) Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 46); p. пер. ч. IV, стр. 31.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 17B; p. пер. ч. IV, стр. 205.
3) Οὐχὶ σὰρξ μὲν εἰς τὴν γῆν ἀναλύεται, ὁ δὲ νοῦς τῇ ψυχῇ παραμένει, οὐδ’ ἐν τῇ μεταστάσει τοῦ σώματος πρὸς τὸ εἶναι βλαπτόμενος. Adv. Apoll. XXX (Mg. XLV) col. 1189C; p. пер. ч. VII, стр. 124.
4) Τὸ ἔξωθεν αὐτῆς περικαλύπτουσα, οὐ τὸ ἐσωθεν, τὸ αἰσθητόν τοῦ ἀνθρώπου μέρος διαλαμβάνουσα, αὐτῆς δὲ τῆς θείας εἰκόνος οὐ προσαπτομένη. Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 44); p. пер. ч. IV, стр. 29.
267 —
εἰς ὕμισυ τῆς φύσεως προχωρῆσαι τὸν θάνατον, τῆς ψυχῆς ἀθανάτου διαμενούαης) 1), так как она, подобно природе ангелов, не имеет конца, но простирается в вечность ( ἀτελεύτητος καὶ τῶν ψυχῶν καὶ τῶν ἀγγέλων ἡ φύσις, καὶ οὐδὲν κωλύεται εἰς τὸ αἴδιον προϊέναι) 2).
Желая решительно утвердить мысль о том, что душа бессмертна, св. Григорий Нисский приводит богословские, моральные и философские основания 3).
По его мнению, смерть не может принести вреда бессмертию и вечному существованию души, ибо человек с самого момента своего творения предназначен к бессмертию. «Как тебе, человек,—пишет св. Григорий,— удивляться небесам, когда ты видишь, что сам ты долговечнее небес? Ведь, и небеса проходят, а ты вечно пребываешь с Присносущным (οἱ μὲν γὰρ παρέρχονται , συ δὲ τῷ ἀεὶ ὅντι συνδιαμένεις πρὸς τὸ ἀιδιον)»4). Η о особенно сильное доказательство истинности своей веры в бессмертие души святитель Нисский видел в том обстоятельстве, что евангельский богач после своей смерти помнил о людях, находящихся на земле, и просил Авраама оказать помощь связанным с ним узами родства 5). К признанию вечного существования души, по убеждению св. отца, нас настойчиво побуждает Св. Писание. «Божественные изречения, писал он, подобны приказам, через которые мы должны убедиться в том, что душа должна пребывать вечно» 6).
1) In Cant. cant., hom. XIV (Mg. XLIV) col. 1085В; р. пер. (Москва 1862) ч. III, стр. 371.
2) Contra Eunom., lib. VIII (Mg. XLV) col. 796D; p. пер. ч. VI, стр. 133.
3) Dr. Fr. Böhringer. Die Alte Kirche (Die Kirche Cristi und ihre Zeugen oder die Kirchengeschichte in Biographien), Bd. VIII, Aufl. 2 (Stuttgart 1876), S. 128—129.
4) In Cant, cant., hom. II (Mg. XLIV) col. 808A; p. пер. ч. III, стр. 60 cp. Афинагора, стр. выше 42; Оригена, стр. выше 123.
5) Τεκμήριον δὲ ὅτι μέμνηται τῶν ὑπέρ γῆς ὁ πλούσιος, καὶ δεῖται τοῦ Ἀβραὰμ περὶ τῶν κατὰ γένος συνημμένων αὐτῷ. Adv. Apoll. XXX (Mg. XLV) col. 1189C; p. пер. ч. VII, стр. 124.
6) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 17A; p. пер. ч. IV, стр. 204.
268 —
Главным моральным основанием, приводимым св. Григорием Нисским в доказательство бессмертия души, служит то, что сомнения в этой истине могут исходить только из порочного сердца. Только тот человек может сомневаться или отрицать бессмертие души, который имеет в виду лишь удовольствия настоящей жизни, а на будущую вечную жизнь, где имеет цену исключительно одна добродетель, потерял всякую надежду. Отрицать бессмертие души, по словам св. отца, — это «не что иное значит, как стать чуждым добродетельной жизни и иметь в виду только настоящее удовольствие. Что же касается жизни, созерцаемой в вечности, в течение которой имеет преимущество одна добродетель, то на нее — потерять надежду» 1). Итак, по мнению святителя Нисского, вера в бессмертие души является необходимым постулатом нравственно-добродетельной жизни человека.
Но данные доказательства не для всех могли иметь большое значение. Особенно это нужно сказать относительно т. наз. морального доказательства бессмертия души. И в самом деле, желания и. ожидания отдельных людей не могут иметь общечеловеческого интереса. Ведь, человек может многое придумать и многого желать, но отсюда еще не следует, что все его мысли и желания должны необходимо осуществиться. Кроме того, у каждого человека и народа, в зависимости от его интеллектуального и морального развития, могут быть самые разнообразные идеалы. Недостаточность богословской и субъективный характер моральной аргументации в пользу бессмертия души, по-видимому, сознавал и сам св. Григорий Нисский. Он ясно говорит, что приведенные им доказательства не могут иметь силы, если не окажет на нас давления несомненная вера в действительность бессмертия души (εἰ μὴ τις
1) Ibid. (Mg XLVI) col. 17B; p. пер. ч. IV, стр. 205 cp. св. Иустин Муч., стр. выше 21; Климент Ал, стр. выше 107.
269
ἀναμφίβολος ἡ περὶ τούτου πίστις ἐν ἡμῖν κρατυνθείη)1). Чтобы вера и бессмертие души стала несомненной, св. отец считает необходимым опровергнуть те аргументы против бессмертия души, которые выставлялись некоторыми мыслителями его времени, дабы через их устранение отыскать твердое основание для истинного учения о душе 2).
Защищая истину бессмертия души, св. Григорий Нисский вступает в полемику с такими мыслителями, которые, прежде всего, по-видимому, указывали на невозможность определения условий бытия души после смерти человека. Они полагали, что тело, будучи сложным, после смерти человека разлагается на то, из чего оно составлено, и каждая его частица возвращается в общую сумму мировых стихий 3). Возникает, говорят, отсюда вопрос, где тогда будет находиться душа (ἡ ψυχὴ μετὰ τοῦτο ποῦ ἔσται)4). Если мы признаем,—так полагали они,—что душа тогда будет пребывать в разложившихся частицах ее тела, то по необходимости должны будем согласиться, что она тожественна с ними, ибо существование возможно только для однородных элементов. Если же душа тожественна с элементами своего тела, то ее мы должны признать такой же сложной природой, каким является ее тело. Но сложное подлежит разложению, другими словами, распадению на свои составные части. Что же подлежит распадению, того нельзя признать бессмертным. И в самом деле, если бы можно было признать то, что подлежит распадению, бессмертным, тогда не было бы никакой нужды и наше тело считать смертным. Правда, из этого затруднительного положения можно было бы найти выход, именно в том случае, если бы мы могли предположить, что душа после смерти человека живет отдельно от
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 20A; p. пер. ч. IV, стр. 205—206.
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 20A; p. пер. ч. IV, стр. 206.
s) Ibid. (Mg. XLVI) col. 20B; p. пер. ч. IV, стр. 206.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 20C; p. пер. ч. IV, стр. 207.
-270
телесных стихий своей собственной жизнью. Но для защитников излагаемого мнения подобное предположение являлось недопустимым. Тут для них выступал новый неразрешимый вопрос о месте существования души, если только последняя, по своей сущности, отличается от стихий. По их представлению, если допустить отличие души от телесных стихий, то в мире нельзя будет найти никакого соответствующего ее природе места. Если же мир не может предоставить душе после смерти человека соответствующего ее природе места, то человеческая мысль, в силу логической необходимости, должна отвергнуть ее бессмертие. «Чего нигде нет,—говорят представители рассматриваемого мнения,— это, конечно, и не существует» 1). Подобным образом, как догадывается св. Григорий Нисский, некогда еще св. апостолу Павлу возражали в афинском ареопаге стоики и эпикурейцы 2).
Рассматривая критически изложенное возражение, св. Григорий считает его несостоятельным, прежде всего, с логической точки зрения: оно страдает внутренним противоречием, и действительно, утверждать, что только однородное соединяется с однородным, и в то же время признавать, что тело состоит из разнородных стихий, это — явная непоследовательность. По воззрению представителей изложенного мнения, допустимо взаимное соединение только однородных стихий. Следовательно, разнородные стихии должны—и только могут— стремиться к разложению. Однако, выходит наоборот, потому что в действительности существует иначе. Всем известно, что противоположные по своей природе стихии в общей массе стремятся к достижению одной и той же цели, причем каждая из них привносит с собой силу для существования целого. По-видимому, трудно соединяемое и со-
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 20С—21 А; р. пер. ч. IV, стр. 207.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 21B; p. пер. ч. IV, стр. 207 — 208.
— 271
общаемое между собой, в силу разнообразных своих качеств, не отделяется одно от другого и не истребляется одно другим, но, наоборот, взаимно скрепляется между собой своими противоположными качествами 1). Отсюда, ясно, что рассматриваемое возражение является не более, как пустым, детски наивным софизмом, так как утверждается на таких предпосылках, которые взаимно уничтожают друг друга. Во-вторых, святитель Нисский считает рассматриваемое мнение несостоятельным и по существу. Оно всецело базируется на узко материалистическом представлении о душе такого сорта, что может заинтересовать только таких людей, которые не в состоянии своей мыслью проникнуть за пределы чувственных предметов, которые ничего более не видят, кроме материальных процессов 2), и допускают существование только того, что они могут видеть и осязать; все же остальное считают несуществующим. Однако, для такого рода людей тут и должно возникнуть большое затруднение. Дело в том, что с точки зрения их уклада мышления должны быть признаны существующими только материальные мертвые стихии, т.-е. такие, какие, например, бывают после смерти и разложения человеческого тела. Но, ведь, из соединения мертвого с мертвым ничего не может выйти живого. Поэтому, необходимо признать существование оживляющей тело души. И действительно, защитники рассмотренного мнения волей-неволей допустили существование души в живом теле, но представляли ее себе не иначе, как на подобие воздуха, наполняющего живое тело, как пузырь, и исчезающего бесследно с разрушением этого пузыря 3). Словом, и тело
1) ὡς ἐναντίως ἔχοντα πρὸς ἄλληλα τὰ στοιχεῖα κατὰ τὴν φύσιν, πρὸς τὸν αὐτὸν τὰ πάντα σκοπὸν διὰ τινος ἀῤῥητου κοινωνίας συμπλέκεται, τὴν παρ’ ἑαυτοῦ δύναμιν ἔκαστον πρὸς τὴν τοῦ παντὸς διαμονὴν συνεισφέροντα. Ibid. (Mg. XLVI) col. 25B; p. пер. ч. IV, стр. 210—211.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 21C—24A; p. пер. ч. IV, стр. 208.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 21B; p. пер. ч. IV, стр. 208.
— 272 —
и душу они признавали одинаково материальными, с тем лишь различием, что душе приписывали особого рода материю. Значит, она не существенно, а только качественно отличается от грубого материального тела. Становилось ясным, что при защите бессмертия души необходимо обратить главное внимание на доказательство ее нематериальности. К утверждению этой последней мысли св. отец и направляет всю силу своей аргументации. Бытие души и ее отличие от тела он старается вывести из ее действий и обнаружений, подлежащих внешнему наблюдению. Но мнению святителя Нисского, бытие души аналогично бытию Бога. Как о Божьем бытии мы узнаем через созерцание божественных действий в видимом мире— κόσμοσ ’е, так и о бытии нематериальной души мы узнаем через наблюдение и изучение ее деятельности в μιχροκόσμοσ ’e , — человеке1). Обе эти истины в отношении способа их познания представляют полную аналогию. Там, где отрицается одна из этих истин, с таким же правом должна быть отрицаема и другая. Впрочем, указанный прием не вполне достаточен: через распознание деятельности души в μικροχὁσμοσ ’e мы можем заключать только о бытии души и ее свойствах, но не относительно ее сущности. Последняя для нас навсегда останется неизвестной (ἀγνοούμεν , αὐτό τε ὃ τί πότε κατὰ τὴν φύσιν ἐστίν)2), так как душа своей сущности не обнаруживает. И это вполне понятно. Ведь, и наши телесные глаза все созерцают, кроме себя. Таким именно образом и душа узнает все, за исключением своего собственного существа 3).
Сознавая недостаточность указанного метода доказательства, св. Григорий Нисский, однако, применил его к
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 28B; p. пер. ч. IV, стр. 212 cp. Quid sit. ad imag. Dei (Mg. XLIV) col. 1333B.
2) De an. et res. (Mg. XLIV) col. 16B; p. пер. ч. IV, стр. 204.
3) De mortuis (Mg. XPVI) col. 5Э9В; p. пер. ч. VII, стр. 500.
— 273 —
защищению истины нематериальности души и подробно развил в своей аргументации. От деятельности он заключает к существованию в человеке какой-то силы живи: тельной, а затем доказывает, что эта сила разумна, духовна и нематериальна.
По учению св. Григория, самый факт жизни и деятельности любого человека служит неоспоримым доказательством бытия в нем силы, действующей сообразно с своей природой и обнаруживающей свойственные ей движения в телесных органах человека. Органическое устройство человеческого тела таково, что оно без души было бы мертвым л неподвижным. Оно одинаково как у живых людей, так и у умерших само по себе недеятельно. И только, когда в теле действует душа, тогда оно владеет жизнью, проявляющейся в его органах 1).
Но св. Григорий Нисский доказывает, что эта сила не только служит источником движения, но и отличается особым свойством—разумностью, говорящим относительно ее нематериальности. Он указывает на пример врача, который производит диагноз болезни. В данном случае врач при помощи чувства осязания ведет немую, беседу с больным организмом, из которой он заключает о ходе болезни 2). Равным образом и чувство зрения посредством некоторых наблюдений определяет направление болезни3). Наконец, и другие чувства, например, слух или обоняние оказывают врачу значительную услугу в деле определения природы болезни 4). Разумеется, чувственные органы, как мертвая материя, не могли бы дать такого познания, если бы им не была присуща какая-то разумная сила (εἰ μὴ τις δύναμις ἦν νοητὴ ἡ ἐκάστῳ τῶν αἰσθητηρίων παροῦσα)5), совершенно отличная от них. Процесс
1) Da an. et res. (Mg. XLVI) col. 29AB; p. пер. ч. IV, стр. 213.
2) Ibid. (Mg. XLVI) cd. 29C; p. пер. ч. IV, стр. 214.
3) Ibidem.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 29D—32A; p. пер. ч. IV, стр. 214—215.
5) Ibid. (Mg. XLVI) col. 32A; p. пер. ч. IV, стр. 215. 18.
— 274
мышления, которым сопровождается чувственное восприятие и которым по внешним обнаружениям определяется внутренняя, производящая их причина, неотразимо свидетельствует о присутствии в человеке высшего разумного начала. Не сам по себе глаз видит, ухо слышит, рука осязает, нос обоняет, но действует через ник разумная сила, присущая человеку, открывающая в чувственном сверхчувственное, или, лучше сказать, «и видит ум и слышит ум (τὸν νουν εἶναι τὸν ὁρῶντα , καὶ νοῦν τὸν ἀκούοντα)»1)
Другой пример представляют те случаи, когда внешние чувственные органы дают ошибочные показания, исправляемые исключительно при помощи умозаключений разума. Так, смотря на солнце, хотя зрительные ощущения говорят, что оно значительно меньше земли, мы убеждаемся в обратном 2). Равным образом и луна представляется обыкновенному зрению самосветящимся телом, тогда как она, в действительности, заимствует свой свет от солнца 3). Никакое зрение само по себе не привело бы нас в последней истине, если бы в нас не было чего-то видящего посредством зрения, что, пользуясь познаниями, приобретенными чувством, через видимое проникает в невидимое 4). Таким образом, открывается, что эта разумная сила, присущая человеку, обнаруживающая в чувственном сверхчувственное, по своей природе и сама принадлежит к сверхчувственному. Одним словом, черев наблюдение того, что происходит в нашей телесной организации, мы признаем присущую нашей природе разумную сущность5).
Как видим, св. Григорий Нисский прошёл к довольно определенному выводу. Однако, в своих рассу-
1) Ibidem.
2) Ibidem.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 32BC; p. пер. ч. IV, стр. 216.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 33B; p. пер. ч. IV, стр. 217.
5) Ibid. (Mg. XLVI) col. 33C; p. пер. ч. IV, стр. 218.
— 275 —
ждениях по этому вопросу он допустил некоторый скачек. Дело в том, что на основании своих предпосылок св. отец имел полное право заключать о разумности человеческой природы. Но он не мог говорить о сокрытой в человеке разумной сущности, отличной от его природы. Это, по-видимому, сознавал и сам св. Григорий; он во всяком случае считался с самым капитальным возражением материалистической психологии древнего (и новейшего) мира, именно с гипотезой о человеке—машине. Сущность данного возражения материалистов сводится к отрицанию принудительной силы делать заключения от действий или обнаружений психической жизни к признанию самостоятельной, их производящей причины. Они считали все явления духовного порядка лишь естественным следствием физической организации человеческого тела. В подтверждение данной своей мысли они ссыпались на устройство машины, которая будто бы может производить действия, вполне аналогичные человеческим 1)
Не трудно было св. Григорию Нисскому опровергнуть это возражение о человеке—машине, направленное против субстанциальности человеческой души. Построение самого этого возражения содействовало подтверждению мыслей св. отца о душе 2). Прежде всего, каким образом появляются на свет машины? Нельзя не заметить, что не сама собой машина созидается, но ее устрояет человек. В этом устройстве человеком машины проявляется изобретательность его мысли 3). Ведь, для того, чтобы устроить машину, издающую звук, необходимо наперед подметить, что для произведения звука требуется дуновение. Далее, необходимо изучить условия, при которых возможно искусственно воспроизвести звук, и, наконец, на основании этих дан-
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 33С—36A; p. пер. ч. IV, стр. 118-119.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 36В; р. пер. ч. IV, стр. 219.
3) Ibidem.
276—
ных построить мысленный план, по которому подбирается, годный материал и располагается в целый механизм 1). Отсюда ясно, что каждая машина есть плод действия особой разумной силы, стоящей выше вещества и в нем» лишь проявляющейся2). Это тем более очевидно, что происхождение машин ни в каком случае нельзя приписать природе стихий. «Если бы, — пишет святитель Нисский,—по сделанному нам выше возражению, такие чудные действия можно было бы приписать природе стихий, то конечно, сами собой у нас составлялись бы машины» 3). Но мы не видим, чтобы природа занималась таким, искусством. Да она и не может заниматься искусством, потому что искусство, по представлению св. Григория,—это, мысль, приводимая в исполнение с какой-либо цепью при. помощи вещественных средств; мысль же есть движение и действие ума, преобразующего вещество по своим планам, но не производимого веществом 4). Ум есть что-то невидимое (τὸ ἄλλο τι παρὰ τὸ φαινόμενον εἶναι τὸν νοῦν), а невидимое—не одно и тоже с видимым (τὸ μὴ ταῦτόν εἶναι τῷ φαινίμένῳ τὸ μὴ φαινόμενον)5). Итак, машина есть плод ума, а на наоборот; она получает устройство от ума, но не создает последнего. Отсюда нельзя и в человеке душу— ум считать продуктом физической организации человека, так как ум всегда является первичным фактом. Как ум, создающий машину, является отличной от нее субстанцией, так и душа в движимом ею теле является особой, отличной от него разумной субстанцией. Таким образом, из представленного опровержения изложенного выше возражения материалистической философии, по мнению св. отца, с необходимостью следует отличие души от тела, а отсюда—ее самостоятельность.
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 36BC—37AB; p. пер. ч. IV, стр. 219.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 37В; р. пер. ч. IV, стр. 221.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 37С; p. пер. ч. IV, стр. 221.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 37D—40A; p. пер. ч. IV, стр. 222.
5) Ibid. (Mg. XLVI) col. 40A; p. пер. ч. IV, стр. 222.
— 277
На основании всего того, что св. Григорий Нисский говорил в защиту мысли о нематериальности (разумности) и субстанциальности души против возражений материалистов, открывается возможность сделать некоторые выводы, на основании которых можно доказать бессмертие души. Прежде всего, можно, хотя и отрицательным путем, определить сущность души. Она является субстанцией нематериальной, невидимой, неподлежащей чувственному восприятию, Св. отец определяет ее, как νοερὰ καὶ ἄϋλος . -Правда, она пребывает в связи с материей (ὑλικὴ φύσις), т. е. с человеческим телом1). Однако, эта связь между телом и душой особого рода. Именно, она такова, что душа находится и в теле и около него, но ни в каком случае нельзя сказать, что она пребывает в каком-либо определенном месте. Но как это происходит, мы не можем себе представит2). Поэтому, при такой связи души с телом, слабость и дряблость последнего не касается первой. Вообще, несмотря на свою связь с телом, душа не имеет в себе никакой материальности. Значит, она не имеет ни одного из тех качеств, какими обыкновенно характеризуется материя. Она, по выражению св. епископа Нисского, не есть «нечто постигаемое чувством» она—не цвет, не очертание, не упругость, не тяжесть, не количество, не протяжение по трем измерениям, не местное положение и вообще не что-нибудь ив усматриваемого в веществе, если в нем есть еще что-либо сверх перечисленного»3).
Такое отрицательное определение души, по-видимому, давало основание считать душу за бессодержательную аб-
1) Ἡ νοερά τε καὶ ἄϋλος (ψυχή), ἡ διὰ τῶν αἰσθήσεων τῇ ὑλικῇ καταμιγνυμένη φύσει . De hom. opif., cap. XIV (Mg. XLIV) col. 176 Β; р. пер. ч. I, стр. 135.
2) Ἡ δὲ τοῦ νοῦ πρὸς τὸ σωματικόν κοινωνία ὰφραστόν τε καὶ ἀνεπινόητον τὴν συνάφειαν ἔχει. Ibid., cap. XV (Mg. XLVI) col. 177 В; p. пер. ч. I, стр. 135.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 40C; p. пер. ч. IV, стр. 223 ер. Quid sit , ad imag . Dei (Mg . XLIV) col . 1333A .
— 278 —
стракцию или за простую фикцию. Однако, возможность подобного недоразумения в представлении св. Григория Нисского исключалась определением души со стороны ее деятельности, которое вносило и положительные черты в понятие о ней. По воззрению св. отца, человеческая душа со стороны своей деятельности является «живой, разумной сущностью, которая сообщает органическому, чувственному телу жизненную и воспринимающую чувственное силу»1). Что же касается мнения, по которому бытие души превращается в пустую фикцию на том основании, что она чужда всякой материальности, то оно неосновательно, ибо в таком случае с равным основанием должно отрицать и бытие Бога. «Если из существующего,—пишет святитель Нисский,—устраняется все, что не познается чувством, то утверждающий это, конечно, не признает бытия и той самой Силы, Которая правит вселенной и в Своей руке содержит существа; но наученный о божественной природе, что она бесплотна и не имеет вида, вследствие такого образа мыслей, без сомнения, придет к заключению, что она совершенно не существует»2). Если же мы, отрицая в Боге всякий признак материальности, тем не менее признаём Его бытие, то этим мы вынуждаемся, кроме материального бытия, признать противоположную ему область, нематериального бытия. К этому последнему, кроме Бога и ангельского мира, мы относим также и человеческую душу. Ясно, что последняя, как свободная от всех свойств, принадлежащих телу, должна быть признана бестелесной3). Если же она является бестелесной, то, зна-
1) Ψυχί ἐστιν οὐσία γεννητή, οὐσία ζῶσα νοερά, σώματι ὀργανικῷ καὶ αἰσθητικῷ, δύναμιν ζωτικὴν καὶ τῶν αἰσθητών ἀντιληπτικὴν δι’ ἐαυτῆς ἐνιοῦσα... De an. et res. (Mg. XLVI) col. 29B; p. пер. ч. IT, стр. 214.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 41AB; p. пер. ч. IV, стр. 224.
3) Ἐν... ἰδιαξούση φύσει, παρὰ τὴν σωματικὴν παχυμέρειαν. Ibid . ( Mg . XLVI) col . 28С; р. пер. ч. IV, стр. 212; ...κατὰ τὴν ἰδίαν φύσιν τὴν ἀειδῆ καὶ ἀσώματον,., Ibid . (Mg. XLVI) col. 45C; p. пер. ч. IV, стр. 228.
— 279 —
чит, необходимо допустить, что она имеет духовную природу (τὴν νοερὰν φύσιν)1).
Таким образом, человеческая душа обладает духовной природой.
Твердо обосновавши это последнее положение, св. Григорий Нисский мог утверждать на основании его бессмертие и неразрушимость человеческой души. И в самом деле, имея отдельную и отличную от тела природу, душа должна обладать самостоятельным бытием, а имея духовную природу, она ни в каком случае не может подлежать разложению на составные части и уничтожению (εἰς ἀναίρεσιν καὶ ἀνυπαρξίαν τὴν ψυχὴν μετὰ τὴν διάλυσιν τῶν σωμάτων), которое господствует над материальным миром 2).
Итак, «и после разложения телесных стихий на самих себя, по мнению св. Григория Нисского, то, что их объединяло жизненной энергией, не погибает»3). Души умерших людей, обладая духовной природой, продолжают совершенно беспрепятственно свое существование и в загробном мире.
3. Всеобщность телесной смерти.
Человек был создан своим Творцом свободным от смерти в смысле разложения на основные элементы не только по своей душе, но и по телу. Это со всей очевидностью уже следует из цели, с которой Бог его сотворил. Ведь, целью создания человека, по представлению св. Григория Нисского, было желание Творца—дать ему полную возможность наслаждаться божественными благами (ὀ ἄνθρωπος εἰς γένεσιν ἔρχεται , ἐφ ’ ᾧ τε μέτοχος τῶν θείων ἀγαθών
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 45B; p. пер. ч. IV, стр. 227.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 72C; p. пер. ч. IV, стр. 251; ibid. (Mg. XLVI) col. 44D; p. пер. ч. IV, стр. 227; Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 46); p. пер. ч. IV, стр. 31.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 44C; p. пер. ч. IV, стр. 226.
— 280
γενέσθαι)1). Но так как в числе благ, присущих божественной природе, имеет место и вечность, то, поэтому, человек должен был украшаться бессмертием 2). Однако, ни наши прародители, никто-либо из их потомков не воспользовался этим великим божественным благом. Вслед за первым человеком все мы подвергаемся смерти. Причиной такого печального явления св. отец, согласно с учением Божественного Откровения и предшествующих и современных ему писателей, считал грех первых людей3). Он полагал, что эту мысль бытописатель выразил несколько прикровенно под образом одеяния согрешивших первых людей кожаными ризами (δερματίνους χιτώνας) (Быт. 3,21), которые, вопреки св. Мефодию 4), он понимал аллегорически. Эти одеяния, говорит он, были не настоящими кожами, потому что непосредственно после грехопадения прародителей с целью изготовления для них одежд не были убиты какие-либо животные. «Кожаные ризы» должны означать заимствованную от неразумной природы смертность тела (τῆν πρὸς τὸ νεκρούσθαι δύναμιν , ῆ τῆς ἀλόγου φύσεως ἐξαίρετος ἦν), которую человек приобрел по причине греха 5). Так первые люди восприняли в свою природу подверженность смерти, а в лице их потенциально и весь человеческий род, и смерть стала господствовать над всеми людьми, как их неизбежная и ничем непреодолимая участь. И это вполне естественно,
1) Orat. cat., cap. 5 (Srawley, op. cit, p. 22); p. пер. ч. IV, стр. 16.
2) Ἐπεὶ οὗν ἐν τῶν περὶ τὴν θείαν φύσιν ἀγαθῶν καὶ ἡ αἰδιότης ἐστίν, ἐδει πάντως μηδὲ τούτου τὴν κατασκευὴν εἶναι τὴς φύσεως ἡμῶν ἀπόκληρον, ἀλλ’ ἔχειν ἐν ἐαυτῇ τὸ ἀθάνατον. Ibid., cap. 5 (Srawley, op. cit., p. 23); p. пер. ч. IV, стр. 16.
3) Быт. 3, 17—19; Иезек. 3, 20; 33, 8. 9; Рим. 5, 12; 6, 23; 1 Кор. 15, 21; Мужи an., стр. выше 4; св. Феофила Ант. и св. Иустина Мучен., стр. выше 21; св. Ириней, стр. выше 54; св. Ипполита, стр. выше 84, Климент Ал., стр. выше 106; св. Мефодий, стр. выше 198; св. Василий В., стр. выше 223—224.
4) Стр. выше 206—207.
5) Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op cit., p. 43); p. пер. ч. IV, стр. 29 cp. Макарий Магн. (Христ. Чт. 19121 ч. ΙΙ, стр. 1424, прим.
— 281
потому что все люди происходят от своих смертных родителей. «Рождающееся от смертного,—пишет святитель Нисский, — по необходимости смертно» 1). Считая смерть следствием первого человеческого греха, св. Григорий указывал и те основания, по силе которых с необходимостью за грехом последовала смерть и продолжает свое действие во все последующее время. По его воззрению, человек по телу своему был бессмертен не потому, что оно само по себе не подлежит разложению. Напротив, оно, как и всякая материя, ему было подвержено. Причиной же бессмертия человека по телу было его непосредственное общение с Богом, как Источником бессмертия. Но грех разрушил это живое общение человека с Богом2), и, таким образом, удалил его от Источника вечной жизни. Человек был изгнан из рая, вкушение плодов которого не просто только наполняло его желудок, но доставляло ему знание и вечную жизнь (ὧν ἡ βρώαις οὐ γαστρὸς πλησμονήν , ἀλλὰ γνώσιν καὶ αἰδιότητα ζωῆς τοῖς γευσαμένοις δίθωσι)3).
Итак, так как человеческий род удален от Источника вечной жизни, то, поэтому, над ним и господствует смерть, которая разрушает союз между человеческим телом и душой и возвращает в недра материи все из нее взятое.
4. Ὁ θάνατος εὐεργεσία.
Признавая всеобщность телесной смерти среди человеческого рода, св. Григорий Нисский, вместе с некоторыми другими отцами 1), однако, не считал ее одним только Божьим
1) Orat. cat., cap. 33 (Srawley, op. cit., p. 123);p. пер. ч. IV, стр. 85.
2) Οὐδὲ γὰρ ἐστι τὸ χωρίζον τινὰ τῆς πρὸς τὸν Θεὸν συνάφειας, πλὴν ἀμαρτίας οὐ δὲ ἡ ζωὴ ἀναμάρτητος, τούτου πάντως ἀχώριστος ἡ πρὸς τὸν Θεὸν ἔνωσις. Adv. Apoll. LIV (Mg. XLV) col. 1256CD; p. пер. ч. VII, стр. 189.
3) Orat. cat., cap. 5 (Srawley, op. cit, p. 24); p. пер. ч. IV, стр. 16.
4) Св. Феофил Ант., стр. выше 21; св. Ириней, стр. выше 54; св. Мефодий, стр. выше 198; св. Василий В., стр. выше 224; св. Григорий В., стр. выше 239. Идея божественной педагогии играет особенно большую роль у Климента Александрийского и Оригена.
— 282 —
наказанием за нарушение заповеди и лишь естественным следствием первородного греха. Напротив, он видел в смерти наказание, соединенное с доброй целью 1). Он смотрел на смерть, как на мудрое средство, которым Бог врачует человеческую природу от примешавшегося к ней зла (τὸν τὴν κακίαν ἡμῶν ἰατρεύοντα)2), которым Он восстановляет его в первобытное состояние. Утешая скорбящих об умерших, святитель Нисский пишет: «ты не должен досадовать на то, что наша природа необходимыми путями приходит к своему концу... Ведь, Создатель предназначил нам оставаться не в виде зародышей. Равным образом, целью нашей природы не служит младенческая жизнь, а также следующие за ней возрасты, в которые мы последовательно облекаемся, изменяя с течением времени свой вид, и, наконец, не происходящее по причине смерти разрушение тела; но все это и подобное—части того пути, которым мы идем (πάντα ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα τῆς ὁδοῦ δι ’ ἦς πορευόμεθα μέρη ἐστίν). Что же касается цели и предела такого путешествия, то им является восстановление в первобытное состояние (ὁ σκοπός καὶ τὸ πέρας τῆς διὰ τούτων πορείας , ἡ πρὸς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστασις)»8). «Человеческая смерть,—говорит св. Григорий в другом месте,— есть не что-иное, как средство очищения от зла (οὐδὲ ἄλλο τί ἐστιν ἐπ ’ ἀνθρώπων ὁ θάνατος , εἰ μὴ κακίας καθάρσιον)»4). Бог создал человеческую природу для того, чтобы она бесконечно совершенствовалась. Но человеческая природа, вследствие обольщения ее врагом наших душ, восприняла зло. Чтобы положить предел пребыванию и дальнейшему развитию в ней зла, Бог определил человеку на некоторое
1) Dr. Fr. Diekamp, ор. cit., S. 43.
2) Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 43); p. пер. ч. IV, стр. 29.
3) De mortuis (Mg. XLVI) col. 520D; р. пер. ч. VII, стр. 513 cp. Афинагор, стр. выше 42.
4) Orat. fun. do Plac. (Mg. XLVI) col. 876D; p. пер. ч. VIII, стр. 402.
— 283 —
время разрушаться смертью, дабы человеческая природа после выделевия из нее яда преобразилась и восстановилась в то состояние, в каком она была во время своей первоначальной жизни1) Итак, смерть для человека является благом, будучи для него началом и путем изменения к лучшему (ἀγαθὸν ἄν εἴη ὁ θάνατος , ἀρχὴ καὶ ὁδός τῆς πρὸς τὸ κρεῖττον μεταβολῆς ἡμῖν γινόμενος)2), другими словами, богодарованным переходным моментом из низшего состояния в высшее.
По представлению св. Григория Нисского, смерть, прежде всего, благодетельна для человеческой души. И это по той простой причине, что она, освобождая душу от тела, тем самым дает последней возможность с большим успехом уподобляться родственной ей красоте (εἰς τὸ οἰκεῖον ἐπανιἐναι κάλλος), именно той, по образцу которой «мы были образованы в начале, будучи созданы по образу Первообраза (ἐν ᾧ κατ ’ ἀρχὰς ἑμορφώθημεν , κατ ’ εἰκόνα τοῦ ἀρχετύπου γενόμενοι)»3). Чтобы понять действительную силу настоящего аргумента, необходимо принять во внимание, какое содержание соединял святитель Нисский с понятием «уподобления» человека своему Первообразу, т.-е. Божеству. Св. Григорий, несомненно, понимал «уподобление» человека Богу не в смысле одного только уподобления его в свойствах деятельности, но и в смысле высшего уподобления, т.-е. уподобления в свойствах его природы. Божество, говорит он, по своей -природе чуждо всего того, что характеризует материальное создание Божье (οὔκ ... τι τοιοῦτον οὐδὲν , δι ’ ὡν ἡ ὑλικἡ κτίσις γνωρίζεται). Наоборот, Его необходимо представлять чем-то вполне разумным, невещественным, неподлежащим осязанию, бестелесным и непротяженным (νοερόν τι καὶ ἄϋλον , καὶ ἀναφὲς , καὶ ἀσώματον , καὶ ἀδιάστα -
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 877A; p. пер. ч. VIII, стр. 402.
2) Ibidem.
3) De mortuis (Mg. XLVI; col. 512AB; p. пер. ч. VII, стр. 502.
— 284 —
τὸν χρὴ πάντως νοεῖν)1). Если же таково Божество, то и душа, стремящаяся к уподоблению своему Первообразу и уподобившаяся Ему, должна обладать теми же характерными признаками, какие присущи Божеству, так что и ей необходимо быть невещественной, невидимой, разумной и бестелесной (ὥστε καὶ ταύτην ἄϋλον τε εἶναι καὶ ἀειδῆ καὶ νοεράν καὶ ἀσώματον)2). Разумеется, не может быть двух мнений при решении вопроса, когда в указанном смысле человеческая душа более приближается к своему Первообразу: во время ли своего соединения с телом, или после разлучения с ним. Несомненно, в ближайшее общение с Божеством может вступать только такое существо, которое по своей природе Ему сродно. Но сродным Богу может быть только такое существо, которое свободно* от непосредственной связи с грубым, веществом. Телесная оболочка в ее настоящем виде уже сама по себе представляет препятствие к непосредственному соприкосновению с духовным миром, потому что она, скрывая от нашего умственного взора область божественного бытия, содержит наш дух как бы в темнице (δεσμοτὴριον)3). Кроме того, душа, находясь в тесной связи с телом, подвергается влечениям чувственно-животного характера, которые в ней вызывают раздор. Возвышенные и чистые стремления души сталкиваются с низшими движениями чувственности, вследствие чего возникает борьба разнородных влечений, в которой берет перевес то та, то другая сторона4). Вполне понятно, что при таких условиях своего существования душа движется вперед на пути своего уподобления Богу медленно и с большими трудностями. Поэтому, естественно, только тогда душа достигает участия в разумной бестелесной жизни,
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 509D; р. пер. ч. VII, стр. 501.
2) Ibidem.
13) Ibid. (Mg. XLVI) col. 508A; p. пер. ч. VII, стр. 497 ср. Ориген, стр. выше 138.
4) De hom. opif., cap. XVIII (Mg. XLIV) col. 192CD; p. пер. ч. I, стр.; 150—151.
— 285 —
когда она освобождается от окружающего ее вещества ( ἡ ψυχὴ τότε μετέχει τῆς νοερᾶς καὶ ἀόλου ζωῆς, ὅταν τὴν περιέρχουσαν αὐτὴν ὕλην ἀποτινάξηται) 1). Итак, ясно, что смерть является благодетельным моментом в жизни человеческой души, потому что она способствует ее уподоблению Божеству.
Смерть, будучи благодетельной для души человека, служит вместе с тем средством очищения также и для его тела. Через нее Бог изгоняет из человеческого телесного организма примешавшееся к нему по причине Греха зло или, лучше сказать, следствия зла. Так как мы по собственному желанию «преобразились во зло, то по этой причине,—говорит св. Григорий Нисский,—человек, подобно какому-нибудь глиняному сосуду, снова разлагается в землю, чтобы во время воскресения, после выделения из него воспринятой им нечистоты, он мог стать воссозданным в своем первоначальном виде (εἰς τὸ ἐξ ἀρχῆς βχῆμα διὰ τῆς ἀναστάσεως ἀναπλασθείη)»2). Бог разлагает через смерть человеческую природу на ее составные части, дабы, после необходимого для каждой из них очищения, во время всеобщего воскресения снова их объединить для образования чистого человека. «Промыслом Божьим,—пишет святитель Нисский,—послана человеческой природе смерть, чтобы человек, после очищения от зла во время отделения тела от души, через, воскресение снова был воссоздан здоровым, бесстрастным, чистым и чуждым всякой примеси порока» 3). Свою мысль об очистительном значения смерти для человеческого тела св. отец старается пояснить при помощи наглядного примера. Он сравнивает растворенное злом человеческое
1) De mortuis (Mg. XLVI) col. 512A; p. пер. ч. VII, стр. 501.
2 Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 42); p. пер. ч. IV, стр. 28—29 cp. св. ФеофилАнт., стр. выше 21.
3) Κατ’ οἰκονομίαν ἐπῆκται τῇ ἀνθρωπίνη φύσει παρὰ τῆς θείας προνοίας ὁ θάνατος, ὡστε τῆς κακίας ἐν τῇ διαλύσει τοῦ σώματος καὶ τῆς ψυχῆς ἐκρυείσης. παλιν διὰ τῆς ἀναστάσεως σώον καὶ ἀπαθῆ καὶ ἀκέραιον καὶ πάσης τῆς κατὰ κακίαν ἐπιμιξίας ἀλλότριον ἀναστοιχειωθῆναι τὸν ἀνθρωπον. Ibid., cap. 35 (Srawley, op. cit. p. 133); p. пер. ч. IV, стр. 91—92.
— 286 —
тело с глиняным сосудом. Допустим, — говорит св. отец, — что сделанный с какой-либо целью горшок злоумышленно наполнен свинцом. Влитый в горшок свинец отвердел, так что он не может быть вынут из него, вследствие чего горшок стал непригоден для своего первоначального назначения. Но хозяин сосуда не желает примириться с фактом неосуществления своих намерений и желает сделать его годным для себя. Зная горшечное искусство, он сбивает с свинца черепки и создает из них новый сосуд в его прежнем виде, но ненаполненный примешавшимся к нему прежде веществом. Подобно этому мудрому горшечнику, — заключает святитель Нисский, — поступает и премудрый Бог с бренным сосудом человеческого тела. Он создал человека прекрасным и даровал ему высокое назначение. Но человек уклонился от него, восприняв в свою чувственную часть, т. е. тело, зло. Поэтому, Создатель нашего сосуда, желая осуществить свои о нем предначертания, разбивает сосуд его тела, принявший в себя зло, и снова во время воскресения его восстановляет в том же виде, но только без примешавшегося к нему зла, другими словами, «в первоначальную доброту»1).
Очистительное действие смерти в отношении к телу, по мнению св. Григория Нисского, должно быть рассматриваемо с трех сторон. Во первых, оно простирается на порочные страсти нашего тела, которыми последнее запятнало себя в течение земной своей жизни; во-вторых, на те потребности нашего тела, которые являются для нас необходимыми во время настоящей жизни, но совершенно излишними—в будущей, и, наконец, в третьих,—на те
1) Οὕτως οὗν καὶ ὁ τοῦ ἡμετέρου σκεύους πλάστης, τῷ αἰσθητικῷ μέρει, τῷ κατὰ τὸ σῶμά φημι, τῆς κακίας καταμιχθείσης, διαλύσας τὴν παραδεξαμένην τὸ κακὸν ὕλην, πάλην ἀμιγὲς τοῦ ἐναντίου διὰ τῆς ἀναστάσεως ἀναπλάσας, πρὸς τὸ ἐξ ἀρχῆς κάλλος ἀναστοιχειώσει τὸ σκεύος. Ibid., cap. 8 (Srawley, Op. cit., р. 45); р. пер. 4. IV, стр. 30—31.
— 287 —
части нашей природы, которые только предназначены для служения нуждам нашего тела1).
Что касается телесных страстей человека, то они являются всецело плодом его испорченной вопи. Ему даровано тело, которое должно направлять все свои стремления лишь к тому, что служит к сохранению его состава и продолжению жизни. Так,—рассуждает св. Григорий,—человеческое тело, в силу естественной потребности, нуждается в пище и питье для восполнения недостатка истопленных сил; для него является необходимым брачное соитие и рождение детей, в силу естественного стремления смертного существа стать как бы бессмертным; оно, лишенное покрова волос, имеет законную потребность в наружном одеянии; оно, наконец, не будучи в состоянии выносить жар, холод и дождь, нуждается в защите под покровом домов. Кто разумно смотрит на эти и подобные потребности природы, тот, удовлетворяя им, в необходимой степени пользуется домом, одеждой, супругой и пищей2). Но все это необходимое для человеческого тела во время его настоящей жизни, вследствие испорченности нашей природы, переходя границы необходимости, может обратиться в греховную страсть. «Раб удовольствий,—пишет святитель Нисский, — обращает необходимые потребности в пути страстей (ὁ τῶν ἡδονῶν ὑπηρέτης , ὁδοὺς παθημάτων τὰς ἀναγκαίας χρείας ἐποίησεν): вместо пищи, он ищет наслаждений; одежде предпочитает украшения, полезному устройству жилищ—их драгоценность; вместо рождения детей, обращает свой взор на беззаконные и запрещенные удовольствия. Потому-то, широкими вратами вошли в человеческую жизнь — любостяжание, изнеженность, гордость, суета и самое разнообразное распутство» 3).
1) Более подробная речь об этом будет ниже.
2) De mortuis (Mg. XLVI) col. 528BC; p. пер. ч. VII, стр. 521—522.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 528C; p. пер. ч. VII, стр. 522.
— 288
Вот именно от всего этого и подобного, по рассуждению св. Григория, действительным средством очищения и служит Смерть (τούτων ἀπάντων καὶ τῶν τοιούτων , καθάρσιον ἀκριθὲς ὁ θάνατος γίνεται)1). Это исчезновение порочных страстей из телесного человеческого организма, по причине его разложения через смерть, совершается точно так же, как и исчезновение жидкости из разбитого сосуда, которая «после распадения последнего на части, будучи ничем не сдерживаема, разливается и пропадает» 2).
Очищая наше тело от порочных страстей, смерть вместе с тем освобождает его и от тех естественных потребностей, которые при чрезмерном удовлетворении их обращаются в страсть. Подобное освобождение тела от его законных потребностей в настоящей жизни, по представлению св. Григория Нисского, смерть производит потому, что в загробной жизни не будет нужды в том, что является необходимым теперь (οὐ γᾶρ πρὸς ἃ νῦν ἐπιίηδείως ἐχει , τὰ αἰτὰ καὶ ἐν τῷ μετὰ ταῦτα χρησιμεύσει βίω)3). Оно происходит не через уничтожение этих потребностей, но лишь через изменение их так, что они становятся способными к восприятию нематериальных благ (πρὸς τῆν αὐλον τῶν ἀγαθών μετοοοίαν μετιποιήσασα)4).
Вместе с уничтожением через смерть чувственно-природных потребностей настоящего тела в последнем исчезают и те его части, которые были предназначены только для служения им. И в самом деле, если не будет брачного соития и рождения детей, если не будет дела для уст, зубов и желудка, то все эти части человеческого организма будут излишними, а потому они по необходимости исчезнут 5). «Смерть, — говорит св. Григо-
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 529D; p. пер. ч. VІI, стр. 525.
2) Orat. cat., cap. 16 (Srawley, op. cit., p. 71); p. пер. ч. IV, стр. 49.
3) De mortuis (Mg. XLVI) col. 529A; p. пер. ч. VII, стр. 523.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 529D-532A; p. пер. ч. VII, стр. 525.
5) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 144CD—145A; p. пер. ч. IV, стр. 312—313 cp. Ориген, стр. выше 166.
— 289 —
рий Нисский, — очистит тело от излишнего и ненужного для наслаждения будущей жизнью», после чего «устройство нашего тела будет приспособлено к пользованию ее благами»1). Эту мысль св. отец нам разъясняет с помощью примера. Глыба железа, говорит он, полезна для кузнечного искусства и в своем естественном, необработанном виде, служа наковальней для кузнеца. Но когда требуется обработать железо для какой-нибудь более тонкой вещи, тогда глыба тщательно очищается огнем от всего бесполезного, что обыкновенно называется изгарью. И таким образом прежняя наковальня становится броней или другой какой-нибудь вещью тонкой работы, очистившись через накаливание в печи от того излишка, который’ пока она была наковальней, не считался для ее тогдашнего употребления излишним, потому что и изгарь, входившая в состав глыбы, приносила некоторую пользу, увеличивая массу железа2). Применяя указанный пример к уяснению своей мысли, св. Григорий говорит, что в человеческом теле находится много подобных изгари качеств, которые, хотя во время настоящей жизни имеют некоторую полезную цель, однако совершенно бесполезны для достижения через них блаженства в будущей жизни. Поэтому,—продолжает святитель Нисский,—что происходит с железом в плавильной печи, когда огонь устраняет из него все бесполезное, то же самое совершается с нашим телом через смерть, когда через разложение его на составные части из него устраняется все излишнее 3). И так «Художник всего переплавляет глыбу нашего тела на оружие благоволения, сделав из него и броню правды, как говорит апостол (Еф. 6, 13 — 18), и меч духа, и шлем надежды и полное всеоружие Божие» 4), так что
1) Do mortuis (Mg. XLVI) col. 529A; p. пер. ч. VII, стр. 523.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 529B; p. пер. ч. VII, стр. 523—524.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 529C; p. пер. ч VII, стр. 524.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 532A; p. пер;ч. VІI, стр. 525.
— 290
тогда оно станет храминой нерукотворенной, достойной быть жилищем Божиим в духе 1).
Итак, по представлению св. Григория Нисского, смерть должно считать не только не злом, но, напротив, «преизбытком Божия благоволения»; поэтому, не только не должно скорбеть о ней, но необходимо еще удивляться «заботливости Божьей о человеке»2).
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 532B; p. пер. ч. VII, стр. 526 ср. Ориген, De princ., lib. III, cap. VI, 4, 153 ( Koetschau, op. cit., Bd. V, S. 285); p. пер. вып. 1, стр. 296.
2) Οὐκοῦν ἐπισκεψάσθω διὰ τοῦ σκυθρωπού τούτου τὴν ὑπερβοὶῆν τῆς θείας εὐεργεσίας... Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 41); p. пер. ч. IV, стр. 28.
291
ГЛАВА II.
Участь души непосредственно после смерти
человека.
1. Пребывание души при элементах ее разложившегося тела.
Мы видели, что смерть, подвергая разложению тело человека, однако, в этом смысле совершенно не касается его души. Душа человека и после разложения его тела продолжает свое существование. Невольно возникает вопрос об образе существования души в загробном мире. Этот вопрос вообще может быть решен двояко. Человеческая душа после разложения ее тела может существовать как при элементах последнего, так и независимо от них. Основанием для первого решения служит то неподлежащее сомнению положение, что душа находится в тесной связи с живым телом. Что же касается возможности второго решения данного вопроса, то она находит для себя основание в том соображении, что Бог существует вне всякой связи с сотворенными им существами и вещами, которым Он дает бытие (ἑξηρήσθω καθόλου τοῦ δόγματος αὐτῶν καὶ αὐτό τὸ θεῖον , ω διακρατεῖται τά ὅντα)1), Ведь, на каком основании,—рассуждает св. Григорий,—скажут, что разумная, нематериальная и невидимая природа, проникая во влажное, мягкое, теплое я твердое, дает бытие таким существам, с которыми она не имеет никакого родства
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 21C; p. пер. ч. IV, стр. 210.
— 292
и в которых она не может пребывать по причине разнородности их составных частей1).
Хотя вопрос об образе существования души в загробном мире, как видим, может иметь два решения, тем не менее св. Григорий Нисский всецело склоняется на сторону одного из двух решений, именно того, по которому душа после смерти человека пребывает при элементах его разложившегося тела 2).
Рассуждения св. Григория Нисского о пребывании души в загробном мире при элементах своего разложившегося тела, впрочем, становятся вполне понятными только после решения вопроса, в чем состоит, по мнению св. отца, загробная связь бессмертной души с разложившимся ее телом. Святитель Нисский, решая данный вопрос, пришел к тому заключению, что сверхчувственная человеческая душа находится при стихиях своего разложившегося тела не по существу, а лишь своей «познавательной силой». «Хотя бы природа, — пишет он, — эти стихии, по причине заложенных в них противоположных качеств, далеко отбросила одну от другой, предохраняя каждую из них от смешения с противоположной, тем не менее душа будет находиться при каждой из стихий, касаясь и придерживаясь того, что ей свойственно, познавательной силой» 3). Олень метко св. Григорий характеризует этот способ загробного пребывания души при элементах ее разложившегося тела, пользуясь сравнением души с стражем. Душа как бы поставлена стражем своей собственности, потому что она, обладая тонкой природой и способностью к быстрому передвижению своей.
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 24BC; p. пер. ч. ІV, стр. 209.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 77A; p. пер. ч. IV, стр. 255.
3) Κἁν πόῤῥωθεν ἀπ’ ἀλλήλων αὐτά ἡ φύσις ἀφέλκη διὰ τὰς ἐγκειμένας ἐναν τιότητας ἐκαστον αὐτῶν τῆς πρὸς τὸ ἐναντίον ἐπψιξίας ἀπείργουσα, οὐδέν ἦττον παρ’ ἐκάστῳ ἑοται τῇ γνωστικῇ δυνάμει τοῦ οἰκείου ἐφαπτομένη... De an. et res. (Mg. XLVI) col. 76AB; p. пер. ч. IV, стр. 254.
— 293 —
познавательной силы, без всякого труда знает место нахождения каждой частицы из принадлежавшего ей некогда целого тела1).
Итак, по учению св. Григория, душа и после своего отделения от тела не прекращает связи с последним, которая выражается в том, что она продолжает знать о своем теле.
Основание для такого учения святитель Нисский, по-видимому, находил в евангельской притче о богатом и Ла заре, где можно видеть доказательство вообще той мысли, что познавательная деятельность души по смерти не прекращается и что она может простираться и на телесное. И действительно, в этой притче св. Григорий обратил внимание на то обстоятельство, что, хотя тела богатого и Лазаря находились в гробу, однако они узнали друг друга и за гробом. Это, по мнению св. отца, указывает на то, что в их душах сохранились некоторые «знаки» их прежнего соединения с телом, которые дали им возможность взаимно узнать друг друга. «А что в душе, — пишет св. Григорий, — и после ее отделения от тела остаются знаки нашего соединения (σημεία τοῦ ἡμετῆοου συγκρίματος) об этом свидетельствует разговор в аду (ὁ κατὰ τὸν ᾅδην διάλογος) из которого видно, что, хотя их (богатого и Лазаря) тела находились в гробах, тем не менее в их душах оставался какой-то телесный признак (γνωρίσματος δε τίνος σωματικοῦ ταῖς ψυχαῖς παραμείναντος), благодаря которому как Лазарь был узнан, так и богач не остался в неизвестности»2).
Утверждая, что душа в загробном мире пребывает при элементах своего разложившегося тела, св. Григорий
— 294
Нисский считал нужным разъяснить, что диаметральная противоположность души и тела, по существу их природ, нисколько не противоречит данной его мысли. Не подлежит сомнению, что нет никакого сродства между духовной природой и элементами ее разложившегося тела. Но несомненно и то, что душа проникает все части тела, сообщая каждой из них жизненную деятельность. Если же верно то, что душа находится в тесной связи с телом живого человека, то нет ничего удивительного в том, что она в загробном мире пребывает при его элементах. «Как при сохраняющейся еще связи стихий,— пишет св. отец,—каждая из них одушевляется, потому что душа однообразно и равномерно проникает все части, составляющие тело, и никто не скажет, что она, как находящаяся в связи с земным, тверда и упруга, что она представляет собой влажное, холодное или противоположное холодному качество, пребывающее во всех стихиях и каждой из них сообщающее жизненную деятельность; так, когда состав разлагается и снова возвращается в то, что ему было свойственно, нет ничего невероятного в той мысли, что эта простая и несложная природа пребывает при каждой из частиц и после его разложения (λυθέντος τοῦ συγκρίματος , καὶ εἰς τὰ οἰκεία πάλιν ἀναδραμὄντος , τὴν ἀπλῆν ἐκείνην καὶ ἀσύνθετον φύσιν ἐκάστω παρεῖναι τῶν μερῶν , καὶ μετὰ τὴν διάλυσιν). Напротив, однажды по какому-то необъяснимому закону вступивши в связь с составом стихий, она всегда пребывает с тем, с чем соединилась, потому что, когда разлагается сложное, не подвергается опасности разложиться вместе с ним и несложное»1). Кроме того, мы несомненно убеждены в том, что «божественная природа, будучи чем-то совершенно иным сравнительно с чувственной и материальной сущностью, тем не менее проникает собой каждое из существ и, смешиваясь со
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 44CD; p. пер. ч. IV, стр. 226—227.
295
всем, содержит в бытии существующее» 1). Итак, на основании различия природ тела и души нельзя предполагать невозможности пребывания последней при разложившихся частицах первого.
Но св. Григорий Нисский предвидел и другие возражения против данной своей мысли. И в самом деле, можно указать на то, что после смерти человека составные частицы его тела рассеваются по всему свету. Душа же не обладает свойством делиться на части. По-видимому, ясно, что она при всех частицах своего разложившегося тела не может присутствовать, а только при какой-либо одной из них. «Как какой-нибудь мореплаватель, когда во время крушения разобьется корабль, не имея возможности в одно и то же время плыть на всех частях корабля, там и здесь разбросанных по морю, конечно, схватившись за что случилось, остальное предоставляет носить волнам; так и душа, не обладая свойством с разделением стихий распадаться на части, если не отделяется от тела, то, разумеется, соединившись с какой-либо одной из стихий, расстается с прочими» 2),
Однако, святителю Нисскому не составляло большего труда показать всю слабость и подобного возможного возражения. С признанием духовности души вся сила и значение его должны были сами собой пасть, потому что «духовной природе нет никакого труда находиться при каждой из стихий, с которыми она однажды вступила в единение, не разделившись на части по причине противоположности стихий» 3). Пространственное разъединение элементов разложившегося тела не оказывает на «беспространственную (ἀδιάστατος)» душу никакого действия. Душа, как «мысленная и непротяженная (νοητός τε καὶ ἀδιά -
1) θείαν φύσιν ... ἄλλο τι παντάπασιν οὖσαν τῆς αἰσθητικῆς τε καὶ ὑλικῆς οὐσίας ὁμως δὲ ἐκάστου τῶν οντων διἡκειν , καὶ τῇ πρὸς τὸ πᾶν ἀνακράσει συνέχειν ἐν τῷ εἶναι τὰ οντα . Ibid. (Mg. XLVI) col. 72D—73A; p. пер. ч. IV, стр. 251.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 45BC; p. пер. ч. IV. стр. 228.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 45D—48A; p. пер. ч. IV, стр. 229.
—296
σιατος)» сущность не подлежит условиям пространственного ограничения. «Мысленное и непротяженное,—говорит св. отец устами Макрины, — не сжимается и не расширяется, потому что сжимание и расширение свойственны только телам, но, благодаря своей невидимой и бесплотной природе, присутствует при стихиях, как во время их соединения в тело, так и в момент их разъединения, не испытывая никакого стеснения от соединения стихий в один состав и не оставаясь в бездействии, когда они возвращаются в то, что с ними сродно по их природе, хотя и кажется большим расстояние между разными стихиями» 1). И в этом нет ничего удивительного, так как и в настоящей жизни душа проявляет себя, между прочим, и с этой стороны. «И теперь,—пишет св. Григорий в другом месте, — можно в одно и то же время обозревать мыслью небо, простирать любознательность до пределов мира, и созерцательная сила нашей души, простираясь на такие широты, не разделяется на части» 2). И в настоящее время «душа движениями мысли свободно простирается по всей твари, возносясь до небес, погружаясь в бездны, проходя всю широту вселенной, любопытством ума проникая в подземелья. Нередко также она простирает свою мысль на небесные чудеса»3). Ясно, если теперь душа не стесняется никакими расстояниями, но свободно проникает все небесное и поднебесное пространство, то также она может находиться при элементах своего разложившегося тела, хотя бы они были отделены друг от друга громадным расстоянием 4). Желая устранить всякую возможность предположения дробления души на части по числу пространственно разбросанных стихий ее разложившегося тела, св. Григорий приводит следующее сравнение. «Как в сплавленном золоте я серебре
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 45C; p. пер. ч. IV, стр. 228.
2) ibld. (Mg. XLVI) col. 48A; p. пер. ч. IV, стр. 229.
3) Orat. cat., cap. 10 (Srawley, op. cit., p. 55); p. пер. ч. IV, стр. 38.
4) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 48A; p. пер. ч. IV, стр. 229.
297 —
намечается известная сила искусства, объединившая эти вещества, и, если через новое плавление эти вещества отделятся одно от другого, тем не менее закон искусства при том и другом остается в силе, и, хотя вещество разделилось, однако искусство но распалось вместе с веществом на части (ибо как разделиться неделимому); так,—рассуждает св. отец, — по тому же самому закону и духовная природа души замечается и в объединенных стихиях и разъединенных; она в них пребывает и их разъединением не рассекается и не разделяется на нести, соответственно числу стихий, потому что это свойственно телесной и протяженной природе. Духовная же и непротяженная природа не испытывает последствий расстояния»1)
Итак, св. Григорий Нисский считает неподлежащим сомнению фактом, что после смерти «душа находится в тех же самых стихиях, в которых она однажды стала пребывать, так как нет никакой необходимости, отклоняющей ее от соединения с ними» 2).
Впрочем, возникает еще один вопрос, именно, каким образом душа может знать элементы своего разложившегося тела, когда они, вследствие взаимного между собой смешения, примут другой вид, отличный от того, к какому она привыкла, когда они смешаются с однородными им мировыми стихиями. «Какому знаку тогда будет следовать душа, если прекратит свое существование то, что ей было знакомо?»3)—Отвечая на этот вопрос, св. Григорий пользуется следующим примером из обыденной жизни. «Пусть согласятся, говорит он, что живописное искусство обладает способностью смешивать не
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 48AB; p. пер. ч. IV, стр. 229—230.
2) Οὐκοῦν ἐστιν ἐν αὐτοις ἡ ψυχὴ ἐν οἴς ἀπαξ ἐγένετο οὐδεμιᾶς ἀνάγκης τῆς πρὸς ἐκεῖνα αὐμφυῖας αὐτὴν ἀποσπώσης. Ibid. (Mg. XLVI) col. 48C; р. Πβρ. ч. IV, стр. 230.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 73B; p. пер. ч. IV, стр, 252.
— 298 —
только противоположные краски, как это делать в обычае у живописцев, дабы представить подобие списываемого, но и разлагать смешанное на его составные части так, чтобы каждой краске снова был возвращен ее природный цвет» 1). Допустим, что для известной цели художником смешаны две каких-нибудь краски, например, белая и черная или красная и золотистая и т. дал. Составившийся таким образом цвет не будет тем же самым, чем была каждая из образовавших его красок. Однако, «если каждая из последних снова будет освобождена от смешения с другими и будет взята сама по себе, то,— пишет святитель Нисский,—утверждаем, что художник, несмотря на это, узнает этот род краски и не забудет ни о красном, ни о черном цветах, если принявшее, вследствие взаимного смешения цветов, иной вид снова возвратится в свою природную краску» 2). Одним словом, художник и во время соединения и в момент разъединения красок отчетливо представляет себе, как общий соединенный цвет, так и каждую частную из составных его частей. В таком же именно положении находится и человеческая душа в отношении элементов ее тела. Она знает их как в то время, когда они составляют один живой организм, так и тогда, когда они после смерти человека рассеиваются по всей вселенной3). В доказательство той мысли, что душе не составляет труда отличить в стихиях свое собственное от чужого4), св. Григорий приводит еще другой пример. Допустим, говорит он, что пред горшечником в большом количестве сложена глина. Одна част этой глины уже употреблялась для вы-
1) Ibidem.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 73BC; p. пер. ч. IV, стр. 252—253.
3) Οὕτως εἰδέναι τὴν ψυχὴν τῶν συνδραμόντων στοιχείων πρὸς τὴν τοῦ σώματος κατασκευήν, ᾧ ἐνεφύη καὶ μετὰ τὴν διάλυσιν αὐτῶν τὴν φυσικὴν ἰδιότητα, Ibid. (Mg. XLVI) col. 76B; p. пер. ч. IV, стр. 256.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 77B; p. пер. ч. IV, стр. 256.
— 299
делки сосудов, а другая—только приготовлена для этой цели. Сосуды, приготовленные из данной глины, положим, будут разнообразного внешнего вида, т.-е. один из них будет бочонком, другой—ведром, третий—блюдом или чашкой и т. дал. Наконец, представим себе, что они принадлежат не одному, а нескольким владельцам. Не подлежит сомнению, что эти сосуды известны своим владельцам, когда они бывают целы. Но и когда они бывают разбиты, и тогда их владельцам известны признаки в черепках, свидетельствующие о том, что один из них от бочонка, а другой—от стакана. Если же эти черепки смешают с глиной, еще не бывшей в употреблении, то их распознание бывает особенно безошибочным 1). Конечно, ясен смысл приведенного примера в его отношении к разъясняемой св. отцом мысли. Каждый отдельно взятый человек, по смыслу приведенного примера, по своему телу является в своем роде сосудом, приготовленным из общего вещества, при этом так, что каждый индивидуум весьма отличается от однородного с ним. Однако, «после разрушения сосуда, обладавшая им душа и по остаткам узнаёт свою собственность и не покидает этой собственности, будет пи она в куче черепков, или смешается с не бывшим в употреблении веществом стихий» 2). Она всегда знает свое, каким оно было, когда сохраняло свой наружный вид, и после его разложения она не ошибается в своем, в виду сохранившихся в его остатках признаков»3). При этом она знает не только общую массу стихий, которые составляли целое ей принадлежавшее тело, но и совокупность тех стихийных частиц, из которых состоят наши отдельные телесные члены, как, например, язык, глаза,
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 77BC; p. пер. ч. IV, стр. 256-257.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 80A; p. пер. ч. IV, стр. 257.
3) Ibidem.
300 —
пальцы и проч. Это подтверждается, с одной стороны, упоминанием в евангельской притче о богатом и Лазаре отдельных телесных членов этих лиц, а с другой,— доказывается присутствием души в стихиях, которые составляли тела и после разложения последних перемешались со стихиями других тел. И в самом деле, если душа присутствует в стихиях, составлявших тело и перемешавшихся после разложения последнего с стихиями других тел, то по этому одному уже она не только будет знать все стихии, какие были соединены в целом теле, и останется при них, но также будет знать состав каждой части, именно, из каких стихийных частиц состояли наши члены1).
2. Опровержение учения о переселении душ.
Признавая загробное пребывание души при элементах ее разложившегося тела, св. Григорий Нисский, конечно, должен был отвергнуть учение о переселении душ. И действительно, вслед за св. Иринеем 2) и Оригеном3) и в согласии с свв. Василием Великим 4) и Григорием Богословом 5), он решительно высказывается против этого учения. По его словам, «иные обижают человечество (τινὲς μὲν γὰρ ὑβρίζουσι τῇ κοινότητι τὸ ἀνθρώπινον), когда не считают его особым родом, но утверждают, что одна и та же душа бывает попеременно то в человеке, то в бессловесном существе (τὴν αὐτὴν ἀνὰ μέρος ἀνθρώποο τε καὶ ἀλόγου ψυχὴν διοριζόμενοι γίνεσθαι)6), т.-е., что она из человека становится летающим в воздухе, живущим в воде или на земле животным, а из них снова возвращается в человеческую природу. Еще более неразумным казалось святителю Нисскому мнение тех, которые полагали, что душе свойственна древесная
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 85A; p. пер. ч. IV, стр. 262.
2) Стр. выше 55—56.
3) Стр. выше 124—125.
4) Стр. выше 224.
5) Стр. выше 241—242.
6) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 108В; р. пер. ч. IV, стр. 282.
— 301 —
жизнь1), и, таким образом, соглашались с древним мудрецом, который о себе говорил: «был я мужем, потом принял тело женщины, затем летал с птицами, был растением, жил с животными водяными»2) и т. дал.
Опровергая данное учение, св. Григорий Нисский говорит, что оно вытекает из предположения существования душ прежде тел (τῆς τοιαύτης ἀτοπίας αὐτη ἐστὶν ἡ αἰτία , τὸ προϋφεστάναι τὰς ψυχὰς οἴεσθαι)3) в особом царстве, в котором они жили до своего переселения, по причине греха, сначала в человеческое тело, а потом, вследствие новых грехов, в тела животных и, наконец, в растения, откуда, идя на обратном пути по тем же степеням, они снова «достигают небесной области (πρὸς οὐράνιον χῶρον ἀποκαθίατασθαι)»4).
Такое учение, по словам св. Григория, обличается само собой, не имея за собой никакой твердой опоры5). Первый его тезис—о ниспадении души, будучи строго проведен до конца, приводит к отрицанию самого бытия души. И в самом деле, душа, однажды подпавшая греху, не может остановиться ни на какой мере порока. Вследствие образовавшейся в ней наклонности к страстям, она из словесного состояния переходит в бессловесное, а из последнего—в бесчувственные растения. Так как с бесчувственным граничит неодушевленное, а с ним—не имеющее бытия, то, по строгой последовательности, душа должна будет совершенно превратить свое существование 6).
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 108C; p. пер. ч. IV, стр. 282.
2) De hom. opif., cap. XXVIII (Mg. XLIV) col. 232A; p. пер. ч. I, стр. 194.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 232B; p. пер. ч. I, стр. 194.
4) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 112CD—113A; p. пер. ч. IV, стр. 286 cp. De hom. opif., cap. XXVIH (Mg. XLIV) col. 232BC; p. пер. ч. I, стр. 194—195.
5) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 113B; p. пер. ч. IV, стр. 286—287.
6) De hom. opif., cap. XXVIII (Mg. XLIV) col. 232D—233A; p. пер. 4. I, стр. 195—196.
302 —
Равным образом неприемлем и второй тезис приведенной теории. О какой-либо возможности обратного возвращения души в блаженное состояние неба не может быть никакой речи. И это потому, что душа по причине греха, перейдя в худшее состояние, из последнего по той же причине может перейти только в еще более низкое состояние1).
Но если даже допустить, что душа, согласно с мнением защитников учения о переселении душ, переменяя обратно одно состояние на другое, может из дерева, наконец, снова перейти на небо, то в таком случае рассматриваемое учение приводит к новым нелепостям, именно к безразличному смешению добра и зла (ἀδιάκριτςς κακῶν τε καὶ ἀγαθῶν σύγχυσις)2). Получается, что небесная жизнь не может доставить постоянного блаженства, потому что оно там нарушается грехом, и, что, наоборот, жизнь в дереве может быть добродетельной, так как из него душа возвращается к добру. Но если признать, что душа, находясь на небе, впадает в грех и в силу последнего переходит в телесную жизнь, а оттуда снова восходит на небо, то необходимо допустить, что телесная жизнь служит средством очищения от грехов, тогда как безгрешная жизнь на небе является началом зла3).
Вся рассматриваемая теория противоречит как основным предпосылкам ее защитников, так и себе самой. То они небесное считают неизменным, то допускают, что в нем может иметь место страсть. Считая телесную природу страстной, они в то же самое время не боятся утверждать, что в страстном может найти для себя место бесстрастие. Равным образом, переселивши душу с неба, по причине ее порочности, в телесную природу, из последней они снова переселяют ее на небо, забывая, что она там подпала греху, после и по причине которого
1) Ibid, сар. ХХVIII (Mg. XLIV) col. 233АВ; р. пер. ч. I, стр. 196 ср. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 113B; p, пер. ч. IV, стр. 287.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 113B; p. пер. ч. IV, стр. 287.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 113С; p. пер. ч IV, стр. 287.
303 —
была переселена в материальную природу 1). Таким образом, ясно, что в представлении защитников учения о переселении душ совершенно сливается и смешивается земная жизнь с небесной 2).
Но этого мало. По воззрению св. Григория Нисского, представители учения о переселении душ в сущности отрицают самую природу души. «Переселяющие душу в разные природы сливают свойства этих природ, смешивают и путают между собой все вещи»3). И в самом деле, если душа один раз изображает человека; затем, неразумное животное; потом, растение и т. дал., то необходимо допустить, что во всех этих предметах одна и та же природа, так как они никакими свойствами не отличаются друг от друга4). Признавая учение о переселении душ, мы должны признать человеческую душу во всяком животном и растении 5).
Итак, защитники учения о переселении душ забывают, что душа предназначена только для одного человеческого тела, с которым образуя субстанциальное единство, она не может соединяться с другими телами подобно тому, как, например, сделанный на воску отпечаток не может подойти под чуждую ему печать 6).
3. Воздаяние после смерти человека.
Отрицая душепереселение, св. Григорий Нисский учил, что души людей, сохраняя по разлучении с телом особое самостоятельное бытие, удостаиваются после смерти определенной участи7).
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 116A; p. пер. ч. IV, стр. 288.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 116B; p. пер. ч. IV, стр. 288.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 109B; p. пер. ч. IV, стр. 283 cp. Ориген, стр. выше 124.
4) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 109C; p. пер. ч. IV, стр. 284.
5) Ibid. (Mg. XLVI) col. 109D—112A; p. пер. ч. IV, стр. 284—285.
6) De hom. opif., cap. XXIX (Mg. XLIV) col. 237B; p. пер. ч. I, стр. 201.
7) Cp. Ориген, стр. выше 125—126.
— 304 —
Мы полагаем, вопреки мнению некоторых исследователей 1), что св. Григорий Нисский различал троякую участь людей после их смерти. Души тех людей, которые проводили на земле добродетельную жизнь и. вместо призрачного счастья в этом греховном мире, заботились о приобретении для себя истинного сокровища на небе, наследуют в загробном мире небесное царство, где они удостаиваются наслаждения блаженством 2). Совершенно в ином положении находятся по вступлении в загробный мир души грешников. «Избравший, по словам св. отца, приятное в настоящей жизни и не уврачевавший своего неразумия покаянием, недоступной для себя после этого делает область благ»3). Кроме этих двух классов, по мнению святителя Нисского, есть еще один класс таких душ, которые по своем вступлении в загробный мир удостаиваются состояния, занимающего средину между блаженной участью там праведников и печальной—грешников. Имея в виду именно три указанные состояния душ после их вступления в загробный мир, и говорит св. Григорий, что «судьба людей в ожидаемой жизни будет троякая... Первый чин достойных хвалы и праведных; второй—и не удостаиваемых почести и не наказуемых; третий—несущих наказания за свои грехи»4).
Предполагая сказать о блаженном состоянии праведников на небе и мучении грешников в аду в своем месте, мы здесь остановимся только на том состоянии
1) Еп. Сильвестра (Опыт православного догматического богословия (Киев 1891) т. V, стр. 113) и Dr. I. Huber (Die Philosophie der Kirchenväter (München 1859), S. 208) отмечают у св. Григория Нисского учение только о двояком состоянии людей после их смерти.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 84A; p. пер. ч. IV, стр. 260 ep. Ориген, стр. выше 131.
3) Ὡς γὰρ ἐμοὶ φαίνεται, τριχῆ τὰ τῶν ἀνθρώπων διαιρεθήσβται ἐπί τῆς ποοσδοκωμένης ζωῆς, ὡς γενικώτερον τέως χωρίς ὑπομερισμών διελθεῖν. Καὶ τὸ μὲν πρώτον ἐστι τάγμα τῶν ἐπαινετών καὶ δικαίων δεύτερον, τῶν οὔτε τιμωμένων, οὔτε κολαζομένυιν τρίτον τὸν διδόντων δίκας ὑπέρ ὡν ἐπλημμέλησαν. De bapt. (Mg. XLVI) cui. 428AB; p. пер. ч. VІI, стр. 445—446 cp. Ориген, стр. выше 142.
— 305
душ умерших людей, которое занимает средину между блаженной участью за гробом праведников и печальной — грешников. По мнению св. Григория Нисского, в последнем состоянии, прежде всего, находятся души тех людей, которые откладывают принятие крещения к концу своей жизни. «Где же мы поставим,—спрашивает св. отец,— принявших благодеяние крещения перед смертью?—Ясно,— отвечает он,—что в разряде вторых»1), т. е. по его выражению, «в чине и в удостаиваемых понести и не наказуемых»; другими словами, не находящихся ни в одном из небесных жилищ, ни в аду. Кроме отлагающих свое крещение к концу жизни, в рассматриваемое состояние, по-видимому, святитель Нисский помещал также души умерших в младенческом возрасте. Уяснению загробного состояния этих душ он посвятил специальный трактат. В нем вопрос об участи душ умерших младенцев он решает в том смысле, что они будут свободны от воздаяния на суде. И это по той причине, что воздаяние предполагает «нечто наперед данное. Но кто вовсе не жил, у того нет ничего такого, что он мог бы принести, а где нет даяния, там не в собственном смысле употребляется и слово воздаяние; когда же нет воздаяния, тогда и ожидаемое ни добро, ни зло» 2). Души умерших в младенческом возрасте, не живя на земле, естественно, не сделали ничего доброго, а поэтому, само собой понятно, не могут быть удостоены небесного блаженства. Если кто скажет, что они по вступлении в загробный мир будут наделены благами, то,—спрашивает св. Григорий,—«какую он укажет причину такого надела? На каком основании он станет доказывать справедливость этого? Каким образом он докажет согласие этой
1) De bapt. (Mg. XLVI) col. 428В; р. пер. ч. VII, стр. 446.
2) De infant., qui praemat. abrip. (Mg. XLVI) col. 168C—169A; p. пер. л. IV, стр. 334.
—306 —
мысли с евангельскими словами? Там говорится, что у сподобившихся царства будет какая-то условная купля его, потому что сказано: вы сделали то и то—и в праве получить за это царство. А тут, так как нет никакого ни действия, ни произволения, то есть ли какой повод говорить, что и эти получат от Бога ожидаемое воздаяние? Если же кто без исследования согласится с таким мнением, что оставивший так жизнь непременно будет причастником благ, то из этого будет следовать, что лучше жизни не быть участником в ней»1). И в самом деле, Пользующийся долговременной жизнью «непременно должен претерпеть одно из двух огорчений: или во время настоящей жизни бороться с препятствиями к достижению добродетели, или в будущем веке мучиться по причине воздаяния за порочную жизнь». Умирающие же в младенческом возрасте совершенно освобождаются от подобных огорчений. Более того, умерших прежде времени ожидает блаженная участь, если справедливо мнение так думающих. Таким образом, должно признать напрасной и бесполезной заботу о добродетели, если на Божьем суде имеет преимущество неразумное состояние2). Разумеется, с этим нельзя согласиться. Поэтому, нельзя признать возможным и того, что души умирающих в младенческом возрасте удостаиваются непосредственно по вступлении в загробный мир блаженства. Впрочем, если бы последнее им даже было предоставлено, то они не могли бы им воспользоваться, потому что умирающие прежде времени не достигают такого развития, чтобы они могли обладать способностью постижения истинного блага. Так как Св. Писание говорит, что жизнь души заключается в общении с Богом (ζωὴν μὲν ψυχῆς τὴν той Θεοῦ μετοοσίαν ὁ λόγος εἶναι φησιν), а такое общение есть знание в
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 169AB; p. пер. ч. IV, стр. 335.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 169C; p. пер. ч. IV, стр. 336.
307 —
доступной мере Бога, тогда как незнание Бога есть полное небытие (γνώσις δε κατὰ τὸ ἐγχωροῦν ἐστιν ἡ μετουσίαῆ δὲ ἀγνοια οὐχί τινός ἑστιν ῦπαρξις), то, значит, души преждевременно умерших младенцев, как пребывающие в состоянии «неведения», не могут участвовать в том, что составляет для них жизнь. Эту мысль св. отец уясняет на примере. По его воззрению, у кого в глазу «расположено все естественно, тот необходимо должен видеть, а кто болезнью выведен из естественного положения, у того зрение должно бездействовать; так, подобно этому, и блаженная жизнь сродна и свойственна имеющим чистые душевные чувства, а у кого болезнь неведения, подобно какому-то гною, служит препятствием к общению с истинным светом, для того необходимым следствием является лишение участия в том, приобретение него мы называем жизнью для приобретающего это» 1).
Но души младенцев, не удостаиваясь небесного блаженства, не подвергаются также и адским мучениям. И это потому, что они в течение своей кратковременной земной жизни не успевают склонить свою волю на путь порочной жизни, а их зачаточный ум еще совершенно не способен к сознанию виновности или невиновности. «Утверждаем,—пишет св. Григорий Нисский,—что душа равно свободна от лукавых дел (τῶν ἐκ πονηρίας κακών) как у человека, ведущего добродетельный образ жизни, так и у не имевшего участия в жизни (τοῦ τε διὰ πάσης ἀρετῆς ἡχοντος καὶ τοῦ μηδὲ ὅλω ; μετεσχηκότος τοῦ βίου)»2).
Итак, души людей, откладывающих свое крещение концу земной жизни, и души умерших в младенческом возрасте непосредственно после своего вступления в загробный мир, по убеждению св. Григория Нисского, не испытывают ни небесного блаженства, ожидающего на
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 176B-D-177A; p. пер. ч. IV, стр. 313.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. J80D-181A; p. пер. ч. IV, стр. 347.
— 308
том свете праведников, ни адских мучений, ожидающих там грешников. Они, следовательно, пребывают в особом состоянии, занимающем средину между участью в будущем мире душ умерших праведников и грешников. Впрочем, как увидим ниже, души указанной категории людей, постепенно развиваясь, становятся способными постигать Высочайшее Благо и находить в Нем для себя полное блаженство. Таким образом, значит, с течением времени, присоединяясь к числу праведников, они становятся членами небесного царства 1). Поэтому, указанное состояние некоторых душ непосредственно после их вступления в загробный мир, по представлению св. отца, является переходным и временным. Это обстоятельство, вероятно, служит причиной того, почему мы у святителя Нисского находим указания только на двоякие совершенно противоположные по своему характеру жилища или состояния—блаженное жилище для праведных душ и печальное—для грешных.
______
1) Из сказанного нами видно, что души, находящиеся непосредственно после своего вступления в загробный мир в особом срединном состоянии, свободны от каких бы то ни было злых дел, в очищении от которых они могли бы иметь нужду. Поэтому, несомненно, ошибочно мнение Loch'а, по которому в тех местах творений св. Григория Нисского, где говорится об указанном состоянии душ (например, De bapt. (Mg. XLVI) col. 428В; р. пер. ч. VII, стр. 446 и друг.), будто бы должно видеть речь о чистилище (Das Dogma griechischen, Kirche V. Purgatorium, Regensburg 1847, S. 18).
309
ГЛАВА III.
Определение потусторонних мест и состояний
человеческих душ.
По представлению св. Григория Нисского, для человека в качестве его местопребывания Богом предназначены земля и небо. На земле живет^ человек до тех пор, пока он находится в теле. После же освобождения от последнего он переходит на небо. «Две стихии во время творения существ,—говорит св. отец,—предназначены для пребывания разумной природы—это земля и небо; земля — место пребывания вступивших в жизнь через принятие плоти, а небо—место пребывания бесплотных существ. Поэтому, само собой понятно, что наша жизнь где-либо должна иметь место своего пребывания. Если мы не удалены с земли, то, без сомнения, мы находимся на ней. А если мы будем удалены отсюда, то перейдем на небо» 1). Землю и небо святитель Нисский считал крайними пределами человеческого чувства, так как ими с той и другой стороны ограничивается человеческий взор» 2). Ту часть вселенной, которую в данном случае в ее целом св. Григорий называет небом, в других местах своих творений, как увидим ниже, он разделяет на три ча-
1) De beatttud., orat. VIII (Mg. XLIV) col . 1300 CD ; p . пер. (Москва 1861) ч. ΙΙ, стр. 477.
2) In hexaem. lib. (Mg. XLIV) col. 77C; p. пер. ч. I, стр. 20.
— 310
сти, причем каждой из них он также усвояет наименование неба. Таким образом, мы должны различать у св. Григория Нисского яѳ одно, а три неба.
1. «Первое» или «воздушное» небо.
Первое небо, по представлению св. Григория Нисского, занимает во вселенной то пространство, которое находится ниже тверди1) и представляет собой «предел более грубого воздуха, до которого возносятся облака, ветры и природа высоко парящих птиц, потому что Писание говорит о небесных облаках и небесных птицах (νεφἐλας οὐρανοῦ λέγει , καὶ πετεινά οὐρανοῦ) (ср. Быт. 1, 26)»2). Свою мысль о первом небе святитель Нисский находит ясно раскрытой в Св. Писании. В данном случае он останавливает свое внимание на «свидетельстве об отверзшихся небесных хлябиях» (Быт. 7, 11). Желая сообщить этому выражению правильный смысл, он поясняет его другим местом из Св. Писания, а именно: «заключися небо три лета и месяц шесть» (Лук. 4, 25). Предполагая, что оба выражения употреблены священными авторами в одном и том же смысле, св. Григорий говорит, что в последнем случае, по молитве пророка Илии, явившееся из моря облако (3 Цар. 18, 44) «отверзло им небо пролитием дождя». Из этого, по мнению святителя Нисского, уже ясно следует то, что тогда «не разверзшаяся небесная твердь (στερέωμα) излила дождем т. наз. воды над твердью, но Писание называет небом окружающий землю воздух (τὸν περίγειον ἀέρα), определяющий собой место ларам и являющийся пределом для вышележащей тончайшей природы, за каковой предел не может восходить ничто более тяжелое: ни облако, ни ветер, ни пар, ни испарение, ни птица»3). Вообще, по
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 81A; p. пер. ч. I, стр. 24.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 121 AB; p. пер. ч. I, стр. 72; ibid. (Mg. XLIV) col. 101D; p. пер. ч. I, стр. 49 cp. Ориген, стр. выше 128.
3) In hexaem., lib. (Mg. XLIV) col. 101CD; p. пер. ч. I, стр. 48—49.
311 —
воззрению св. Григория Нисского, что находится над нашей головой, это Св. Писание имеет обыкновение называть небом (τὸ ὑπὲρ κεφαλῆς συνήθως ἡ Γραφή οὐρανὸν λέγει)1). Впрочем, св. отец знает исключение в этом словоупотреблении, хотя и редкое, именно, когда Св. Писание называет первое небо не просто небом, но с прибавлением имени —твердь: да изведут воды гады душ живых, и птицы летающия по земли по тверди небесней (Быт. 1, 20) 2).
2. «Второе» или «звездное» небо и «небесное царство».
В собственном смысле Св. Писание, по мнению св. Григория Нисского, наименование «твердь (στερέωμα)» усвояет только т. наз. второму небу, которое представляет собой «самый крайний предел чувственной сущности, далее которого нет ничего подобного тому, что мы познаем в видимом»3). «Утверждаем, — пишет св. отец,— что этот именно предел обозначается именем тверди (τοῦτό φαμεν τῷ ὁνόματι παραδηλοῦσθαι τοῦ στερεώματος), и это наше мнение подтверждает Писание, говоря: ««разлучи Бог между водою, яже бе под твердию, и между водою, яже бе над твердию» (Быт. 1, 7)4). Рядом с специальным наименованием «твердь второе небо носит также и название «неба». Самый крайний предел чувственного мира, за которым следует только умопостигаемая тварь, по словам святителя Нисского, Писание называет и твердию и небом» 5).
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 101D; p. пер. ч. 1, стр. 49.
2) Καὶ οὐχ ἀπλῶς οὐρανὸν λέγει τοῦτον, ἀλλὰ καὶ μετὰ τοῦ στερεώματος. Ibid. (Mg. XLIV) col. 121B; p. пер. ч. I, стр. 72.
3) Τὸ... ἀκρότατον πέρας τὴς αἴσθητῆς οὐσίας, οὐ τὸ ἐπέκεινα οὐδὲν τοιοῦτόν ἐστιν, οἴον ἐν τοῖς φσινομένοις γινώσκεται. Ibid. (Mg. XLIV) col. 54D; р. пер. ч. I, стр. 28.
4) Ibidem.
5) Καὶ αὐτὸ δὲ τὸ ἀκρότατον τοῦ αἰσθητού κόσμου, ὂ μεθόριον τῆς νοητῆς κτίσεως στερέωμά τε καὶ οὐρανὸν ονομάζει. Ibid. (Mg. XLIV) соl. 121 С; р. пер. ч. I, стр. 72.
— 312 —
Что касается материальной сущности части вселенной, известной под именем «тверди», производящей разделение вод 1)» или «неба», служащего «гранью посреди двоякой природы вод (μέσος ὅρος ἀπεδείχθη τῆς διπλῆς τῶν ὑδάτων φύσεως ὁ οὐρανός)»2), то ее, по мнению св. Григория, нельзя представлять «твердим и упругим телом». Она, как уже было сказано, является, «крайним (верхним) пределом чувственной сущности (τὸ ἀκρον τῆς αἰσθητής οὐσίας)»3). Между тем, известно, что твердое и упругое тело, не будучи свободно от качества тяжести, не может занимать верх ней части во вселенной. Поэтому, несомненно, что твердь или небо, по своей материальной сущности, не может быть мыслимо чем-нибудь «грубым и телесным (οὐκ ἄρα παχύ τι καὶ σωματώδες περὶ αὐτό νοεῖν ἡ ἀκολουθία τοῦ λόγου δίδωσιν)»4). Напротив, хотя она, сравнительно с духовным и бестелесным, должна быть отнесена к чувственному, однако к такому, которое обладает способностью, в силу природной легкости, избегать нашего наблюдения 5).
Рассматривая твердь или небо со стороны его образования и устройства, св. Григорий Нисский высказывал такие мысли. В природе вселенной с самого начала замечалось большое разнообразие вещей, обуславливающееся степенью их легкости и способностью к быстрому передвижению. Вследствие последнего обстоятельства более тяжелые вещи должны были отделиться от более легких и занять во вселенной нижний предел, тогда как «самое, тонкое и легкое, совершенно нематериальное», естественно,
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 84A; p. пер. ч. I, стр. 26; (Mg. XLIV) col . 80 D; p . пер. ч. I. стр. 23.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 85B; p. пер. т. I, стр. 29.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 80D; p. пер. ч. I, стр. 23.
4) Ibid. (Mg. XLIV) col. 80D—81A; p. пер. ч. I, стр. 23.
5) ἀλλὰ καθώς εἴρηται, τῇ πρὸς τὸ νοητόν τε καὶ ἀσώματον παραθέσει, πᾶν ὅσον τοῦ αἰσθητού γένους ἐστίν, στεῤῥὸν λέγεται, κἂν τῇ φυσικῇ λεπτότητι διαφεὑγε' τὴν κατανόησιν... Ibid. (Mg. XLIV) col. 81A; p. пер. ч. I, стр. 23.
313 —
должно было подняться вверх и занять «самый крайний предел чувственной твари» 1). Так как и природа вещей, занявших высший предел во вселенной, не была однородной, то и они в течение известного времени разместились между собой в соответственном порядке 2) и» таким образом, составили собой т. наз. твердь или небо. На тверди или небе расположились световые частицы, из которых образовались небесные светила. В зависимости от соединения в одно целое разного количества световых частиц произошло разнообразие в величине этих светил, более известными из которых являются— солнце, луна и бесчисленное множество звезд 3). Данные светила разместились на небесной тверди в зависимости от своих естественных свойств. Более подвижные светила ванили высшие места, а обладающие большим весом — низшие. Из последних в свою очередь одни поместились в середине, другие — заняли южные места, третьи—уклонились к северу и т. дал., наполняя собой млечный путь или зодиакальный круг 4). «В середине всего пространства, — говорит святитель Нисский, — великая Божья премудрость поместила солнечную природу» 5). Что же касается звезд, то они находятся в постоянном движении. Но так как это движение происходит в их природе, то, поэтому, они не оставляют однажды занятого ими положения. По силе стремительности своего движения, все звезды распределяются на небесной тверди в семи кругах).
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 116 ΑΒ; p. пер. ч. I, стр. 64 ср. ibid. (Mg. XLIV) col. 117CD; p. пер. ч. I, стр. 68.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 117D; p. пер. ч. I, стр. 68.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 116 ВС; р. пер. ч. I, c тр. 65 ср. ibid. (Mg. XLIV) col. 117D; p. пер. ч. I, стр. 68.
4) Ibid. (Mg. XLIV) col. 116D— П7 А; р. пер. ч. I, стр. 66.
5) Ibid. (Mg . XLIV) col . 117В; р. пер. ч. I , стр. 67.
6) Ibid. (Mg. XLIV) col. 117D—120A; p. пер. ч. I, стр. 68—69 cp. ibid. (Mg . XLIV) col . 116B ; p . пер. ч. I , стр. 65.
314 —
Таким образом, по мнению св. Григория, Св. Писание называет как вторым небом, так и твердью (τὸ ἕτερον οὐρανὸν τε καὶ στερέωμα) ту часть вселенной, где совершают свой путь подвижные звезды (ἐν ᾧ οἱ πλανῆται τῶν ἀστέρων διακορεύονται), потому что оно говорит: «сотвори Бог светила великая. И положи я на тверди небесней, яко светити на землю» (Быт. 1, 16. 17)1).
В связи с т. наз. вторым небом, по-видимому, естественнее всего остановиться на «небесном царстве». И это потому, что последнее св. Григорий, можно думать, даже отожествлял с первым. По крайней мере, так можно полагать о значительной долей вероятности на основании его рассуждений о т. наз. небесном царстве. Так, по мнению святителя Нисского, такой праведник, который добровольно освободил себя от всего, что считается греховным, который «не отлагает в свои тайники ни одной дьявольской драгоценности, но горит духом» и, таким образом, собирает для себя в качестве сокровища «нищету худых дел», — такой праведник, согласно с Св. Писанием, в загробной жизни наследует «небесное царство (βασιλεία οὐρανῶν)»2). Это «небесное царство», судя по тому, что оно предназначается праведникам, стоящим на первой ступени совершенства, заключает в себе низшие ступени блаженства. Изображение сравнительно невысокой степени блаженства в «небесном царстве» мы находим у св. Григория и в его надгробном слове младенцу Пульхерии, дочери императора Феодосия 3). Утешая плакавших, он высказывает несомненную надежду, что почившая наследовала «небесное царство»,
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 121В; p. пер. ч. I, стр. 72 ср. Ориген, стр. выше 128: «первое» и «второе» небо в творениях св. Григория Нисского объединяются у Оригена в одно.
2) De beatitud., orat. I (Mg. XLIV) col. 12 ΟΟΒὶρ. пер. ч. II, стр. 365.
3) Св. Григорий Нисский, как это мы видели выше (стр. 305—307) не склонен усвоят младенцам высокой степени блаженства за гробом.
— 315 —
согласно обещанию Спасителя: «тацех бо есть царствие небесное» (Мф. 19, 14). Если же почившая наследовала «небесное царство», то ее участь св. епископ Нисский находил возможным представить царю—отцу в таких выражениях. «Хотя, говорит он, и отошло от тебя дитя» но оно отошло к Владыке; оно закрыло для тебя глаза, но оно их открыло для вечного света; оно оставило твою трапезу, но оно приступило к ангельской трапезе; исторгнуто отсюда растение, но оно посажено в раю; оно перемещено из царских чертогов в царский же чертог; оно покинуло блеск порфиры, но облеклось в одежду горнего царства» 1) В чем заключается это «небесное царство», об этом св. Григорий, по-видимому, говорит словами св. апостола Павла: «несть царствие Божие брашно и питие, но правда, бесстрастие и блаженство» (Рим. 14, 17)2).
3. «Третье небо» или «рай» и «небесная земля».
Обозревая повествование Моисея о происхождении вселенной, св. Григорий Нисский говорит, что он «ничего не написал о третьем небе (περὶ τοῦ τρίτου οὐρανοῦ)»3). Но св. отец все же признает существование т. наз. третьего неба на том основании, что о нем есть свидетельство у св. апостола Павла. Это свидетельство представлялось ему достаточно сильным, тем более, что св. апостол не просто «упоминает о третьем небе, о котором, однако, не говорится при описании творения4), но и прибавляет, что он его сам видел и, находясь «на нем, как будто в каком святилище премудрости, слышал неизреченные
1) In. fun. Puich. orat (Mg. XLIV) col. 869D—869A; p. пер. ч. VIII, стр. 393.
2) In Eccles., hom. VI (Mg. XLIV) col . 694 B ; p . пер. ч. II , стр. 292. Небесное царство» в творениях св. Григория Нисского—это первое небо» у Оригена (ср. стр. выше 128).
3) In hexaem., lib. (Mg. XLIV) col. 120D; p. пер. ч. I, стр. 71.
4) Ibid. (Mg. XLIV) col. 64D—65A; p. пер, ч. I, стр. 4.
— 316 —
глаголы ( Παῦλος δὲ εἰδεν, καὶ ἐν αὐτῷ καθάπερ ἐν ἀδύτοις τισὶ τῆς σοφίας γενόμενος, τῶν ἀῤῥητων ἐπηκροἀσατο)» 1).
Третье небо св. Григорий отожествляет с раем. Это открывается из таких мест его сочинений, в которых он приписывает раю такие свойства, которые, по смыслу его других выражений, принадлежат третьему небу. Так, например, он пишет, что св. апостол Павел, находясь на третьем небе, «видел красоты рая и слышал то, него человеческая природа не может выразить в слове (οἶδε τὰ τοῦ παραδείσου κάλλη , καὶ ἡκουσεν ἂ ἀνθρωπίνη φύσις οὐ φθέγγεται)»2), или в другом месте он выражает данную мысль еще яснее, когда говорит, что св. апостол Павел, «будучи посвящен в невыразимые в слове тайны, когда был восхищен в рай (παράδεισος), то, став зрителем поднебесных чудес, видел и слышал то, чего нельзя передать людям»3). Но совершенно ясно святитель Нисский обнаруживает отожествление третьего неба с раем, когда говорит о св. апостоле Павле, что он, «поднявшись до третьего неба (ἕως τρίτου οὐρανοῦ υψωθείς), где была его голова, там имел глаза, будучи приведен в восхищение невыразимыми в слове тайнами рая (τοῖς ἀποῤῥήτοις τοῦ παραδείσου μυστηρίοις ἐναγαλλὀμενος), созерцал то, чего нельзя видеть, я наслаждался тем, что выше чувства и разумения»4).
Что касается представлений св. Григория о месте, которое занимает во вселенной третье небо, то их он вполне определенно излагает в своих творениях. На основании последних мы можем полагать, что святитель Нисский третье небо помещал непосредственно за вторым другими словами, за самым крайним пределом чувствен-
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 120D; p. пер. ч. I, стр. 71 cp. Ориген, стр выше 128: «третье небо» в творениях св. Григория Нисского—это «второе небо у Оригена.
1) In hexaem . lib . (Mg. XLIV) col. 121D; p. пер. ч. I, стр. 73.
2) Contra Eunom., lib. I (Mg. XLV) col . 345 D ; p . пер. ч. V , стр. 124.
4) In Eccles., hom. V (Mg. XLIV) col. 685A; p. пер. н. II, стр. 280.
317 —
ных вещей. По мнению св. отца, апостол Павел только тогда проник в область третьего неба, когда он, « пройдя пределы всей чувственной природы ( διαβάς πάσης τῆς αἰσθητής φύσεως τοὺς ὁρους)» 1), « миновал всю чувственную тварь ( πᾶσαν τὴν αἰσθητὴν διαβάντα κτίσιν)» 2). Поясняя эту свою последнюю мысль, св. Григорий говорит, что св. апостол, достигнув третьего неба, «оставил позади себя воздух, прошел среду, где вращаются звезды, и миновал верхний свод эфирных пределов»3). Отсюда ясно, что третье небо или рай находится вне сферы чувственных вещей. Определяя место нахождения третьего неба или рая с положительной стороны, св. епископ Нисский пишет, что оно находится «не в другом каком-либо месте, как в многовмещающей длани Отца (ἐν τῇ πολυχώρω τοῦ Πατρός παλάμη »4).
Из рассуждений св. Григория Нисского о месте нахождения третьего неба или рая уже отчасти открывается решение вопроса об его материальной сущности. И в самом деле, если третье небо или рай помещается во вселенной вне чувственных предметов, то оно не может представлять собой чего-либо вещественного. Ведь, за самыми крайними пределами чувственной твари, как говорит св. отец, находится только одним умом постигаемая бестелесная природа (ἡ νοητή τε καὶ ἀσώματο ; φύσις)»5) или «некая умопостигаемая тварь (νοητή τις κτίσις)»6). Да и св. апостол Павел, поднявшись выше чувственной твари» по выражению святителя Нисского, «был в святилище умопостигаемой природы (ἐν τοῖς ἀδύτοις τῆς νοητῆς γενόμενον
1) In hexaem. lib. (Mg. XLIV) col. 121A; p. пер. ч. I, стр. 71.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 121C; p. пер. ч. I, стр. 73.
3) Κατέλιπε τὸν ἀέρα παρέδραμε καὶ τὴν διὰ μέσου τῶν ἀστέρων κυκλοφορίανέπέρασε δὲ καὶ τὴν ἀκραν τῶν αἰθέριων δρων περιβολὴν... Ibid. (Mg. XLIV) col, 121 CD; р. пер. ч. I, стр. 73.
4) Adv. Apoll. 17 (Mg. XLV) col. 1156B; p. пер. ч. VII cp. 89 cp. In Chr. resurr., orat. I (Mg. XLVI) col. 617C; p. пер. ч. VIII, стр. 45.
5) In hexaem. lib. (Mg. XLIV) col. 116 В; p. пер. ч. I, стр. 65.
5) Ibid. (Mg. XLIV) col. 81C; p. пер. ч. I, стр. 25.
— 318
φύσεως)»1) или «в неподвижно стоящей и умопредставляемой природе (ἐν τῇ στασίμῳ καὶ νοητῆ φύσει γενόμενος)»2). Особая природа третьего неба или рая, где находился св. апостол, само собой ясно, требовала от него соответственного сверхъестественного состояния. И действительно, выражаясь словами св. Григория, он во время своего пребывания на третьем небе «достиг умопредставляемого состояния, ибо его созерцание умопостигаемых вещей перестало быть собственно телесным (εἰς τὴν νοητὴν κατάστασιν παρεισδῦναι , οὐ σωρατικὴς ἀκριβῶς γινουένης αὐτῷ τὴς τῶν νοητῶν θεωρίας)»3), Основание для этого предположения св. епископ Нисский видит в собственных словак св. апостола: «Аще в теле, не вем, аще ли кроме тела, не вем, Бог весть: восхищена бывша таковаго до третьего небесе» (2 Кор. 12, 2) 4). Таким образом, третье небо или рай по своей природе является мысленной сущностью, предназначенной в качестве жилища для духовных существ.
В творениях св. Григория Нисского нередко встречаются рассуждения о т. наз. небесной земле, под которой, весьма возможно, нужно разуметь «третье небо». Во всяком случае св. отец считал «небесную землю» таким местом пребывания умерших праведников, которое, по своему достоинству, должно быть поставлено выше «небесного царства», вероятно, отожествляемого святителем Нисским с т. наз. вторым небом5). «Небесная земля», по мнению св. Григория, является уделом только избранных душ. Она, по его словам, «не является всеобщим наследием, а только признанных за кротость жизни достойными этого обетования»6), и ее можно наследовать
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 121G; p. пер. ч. I, стр. 73.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 121D; p. пер. ч, I, стр. 73.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 121 A; p. пер. ч. I, стр. 71.
4) Ibid. (Mg. XLtV») col. 121 A; p. пер. ч. I, стр. 71—72.
5) «Небесная земля» в творениях св. Григория Нисского—это «второе небо» у Ориген (стр. выше 128).
6) De beatitud., orat. II (Mg. XLIV) col. 1209D—12I2A; p. пер. ч. II, стр. 378.
319 —
только после «небесного царства» 1). В пользу той мысли, что «небесная земля» в представлении св. епископа Нисского, вероятно, отожествлялась с «третьим небом», отчасти говорит и его определение ее характера, вполне напоминающее «рай» или «третье небо». По словам св. Григория, еще св. пророк Давид «знал землю живых, y а которую не вступала смерть, по которой не протоптан путь грешников, которая не принимала на себя следа порока, которой не рассекал плугом сеятель, которая не производит волчцов и терний, на которой находится вода упокоения, место злачное, на четыре ручья разделенный источник, виноград, возделываемый Богом всяческих, и все то, что прикровенно, как мы слышим, высказано в богодухновенном учении»2).
Мы сказали, что пребывание душ умерших праведников на «небесной земле», по мнению св. Григория Нисского, является более высокой ступенью блаженства, чем их участие в «небесном царстве». Невольно возникает вопрос, каким образом «небесная земля» может считаться высшей наградой по сравнению с «небесным царством». Св. отец предвидел это кажущееся затруднение. «Чтобы избежать его, он указывает место нахождения «небесной земли». «Если мы несколько окрылимся,—пишет он,—и станем над самым хребтом небесного свода, то найдем там небесную землю, приготовленную в качестве наследия для живших добродетельно» 3). Отсюда следует, что «небесная земля» не может быть отожествляема с обыкновенной землей. Эту «землю», по догадке святителя Нисского, прозревал еще св. пророк Давид, который, по свидетельству Св. Писания, отличался кротостью и незлобием больше всех людей, живших когда-либо на
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 1208D—1209; p. пер. ч. II, стр. 375.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 1212AB; p. пер. ч. II, стр. 378.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 1209A; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 376.
— 320 —
земле. Он говорил: «верую видети благая Господня на земли живых» (Пс. 26, 13). Из определения пророком Давидом места созерцания «благих», как «земли живых», «представляемой превыше небес (ἡ ὑψηλὴ γῆ ὑπεράνω τῶν οὐρανῶν θεωρουμένη »1), еще яснее вытекает, что последняя не имеет ничего общего с нашей землей, производящей из себя и снова в себя принимающей одно лишь смертное2). Таким образом, по мнению св. Григория, ничего нет ошибочного в том, что божественное обетование предлагает нам сперва «небо», а потом—«землю» 3).
4. «Лоно Патриарха» или «недра Авраама».
Св. Григорий Нисский загробную участь некоторых праведных душ связывает с именем Авраама, называя ее то «лоном патриарха (πατριάρχου κόλπος)»4), то «недрами Авраама (ὁ μὲν ἐν τοῖς κόλποις τοῦ Ἀβραὰμ ἀναπαύεται)»5). По представлению св. отца, пребывания на «лоне патриарха» или «в недрах Авраама» удостаиваются души особенно высоких праведников. Только «покрытый струнами и во всем являющий свою жизнь достойной слез упокоится на лоне патриарха» 6). Из лиц, души которых удостоились этой божественной участи, святитель Нисский называет в своих творениях только одного Лазаря, который после победоносной жизни на земле над всякого рода искушениями, устраняемыми через терпение страданий, был перенесен ангелами на «лоно патриарха»7). Таким образом, по воззрению и выражению св. Григория, «лоно патриарха» или «недра Авраама» предоставляются в успокоение тому,
1) Ibid . ( Mg . XL IV) col. 1212В; р. пер. ч. II, стр. 378.
2) Ibid . ( Mg . XL IV) col . 1212А; p . пер. ч. II, стр. 378.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 1209A; p. пер. ч. II, стр. 376.
4) De vita Moysis (Mg. XLIV) col. 408A; p. пер. ч. 1, стр. 351.
5) De Melet. episc. (Mg. XLVI) col. 860B; p. пер. ч. VIII, стр. 383.
6) In Eccles., hom. VI (Mg. XLIV) col. 712A; p. пер. ч. II, стр. 309.
7) In psalm., lib. II, cap. VI (Mg. XLIV) col, 508D—509A; p. пер. ч. II, стр. 84 cp. Ориген, стр. выше 130.
— 321
кто в течение своей жизни терпеливо переносил страдания1).
Такое награждение «лоном патриарха» или «недрами Авраама» душ умерших праведников, страдавших в течение всей своей земной жизни, имеет свой глубокий смысл. Дело в том, что эти праведники—страдальцы по своей земной жизни уподобляются Аврааму, который первый из бывших когда-либо патриархов, имея в виду будущие блага, отказался от наслаждения настоящими 2). Если же Авраам за свои страдания на земле удостоился на том свете самой высокой ступени блаженства, получившей от него и свое наименование, то, разумеется, и все люди, идущие во время настоящей жизни указанным путем, удостаиваются в загробном мире такой же участи.
Высокая ступень блаженства «лона патриарха» или «недр Авраама» св. Григорию Нисскому представлялась несомненной. «Не ошибается тот,—пишет он,—кто, услышав слово «лоно», представит себе, что это полнота благ (τὸ τῶν ἀγαθῶν πλήρωμα), какой назван патриарх, подобно какому-то обширному объему моря» 8). Свое представление о степени блаженства, какой достигают души умерших праведников «на лоне патриарха» или в «недрах Авраама», св. отец еще яснее выражает, когда он говорит, что «слово Божье указание на безмерные блага обозначает именем лона (τῶν ἀμετρήτων ἐκείνων ἀγαθῶν τὴν ἕνδειξιν ὁ λόγος τῷ τοῦ κόλπου διασημαίνειν ὀνόματι)4). На вопрос, в чем будет состоять это блаженство, святитель Нисский не дает определенного ответа. Он только замечает, что у праведников, удостоенных «лона патриарха» или «недр Авраама», не будет «ничего собственного, но благо
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 80B; p. пер. ч. IV, стр. 258.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 84BC; p. пер. ч. IV, стр. 261.
3) In psalm., lib. II, cap. VI (Mg. XLIV) col. 509A; p. пер. ч. II, стр. 84.
4) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 84C; p. пер. ч. IV, стр. 261.
— 322
у них будет общим для всех ( οὐδὲν ἐστιν ἴδιον οὐδενός, ἀλλὰ κοινὲν πάντων τὸ ἀγαθὸν γίνεται)» 1).
Таковы представления св. Григория Нисского о потусторонних местах пребывания душ умерших праведников. Но справедливость требует заметить, что св. отец, хотя и уделял немало внимания топографическому определению потусторонних мест пребывания душ умерших праведников, однако через это он только приспособлялся к ходячему мнению, по которому души умерших людей вообще пребывают в известных пространственно-ограниченных местах. Сам же он лично не считал возможным подходить к душе с вопросом о месте ее пребывания после освобождения от тела, потому что она, будучи по своей природе духовной сущностью, не имеет нужды находиться в каком-либо месте, ей заранее определенном. «Так как на каждой части земли один и тот же стихийный покров, то,—пишет святитель Нисский,—не следует, думаю, ни оспаривать, ни поддерживать тех, которые говорят, что будто бы необходимо полагать, что или эта верхняя, или подземная страны определены душам, освободившимся от своих тел. Ведь, пока возражение не будет колебать главного догмата о существовании душ после их жизни в теле, мы не станем спорить относительно места, полагая, что местное положение свойственно одним только телам, а душа, будучи по своей природе бесплотной, не имеет никакой нужды пребывать в каких-либо местах (μόνον σωμάτων ἴδιον εἶναι τὴν ἐπὶ τόπου θέσιν καταλαμβάνων ψυχὴν δὲ ἀσώματον οὖσαν , μηδεμίαν ἀνάγκην ἐχειν ἐκ φύσεως τόποις τισὶν ἑγκατέχεσθαι)»2).
1) In psalm., lib. 1 ί, cap. VI (Mg. XLIV) col. 509A; p. пер. ч. II стр. 84.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) со). 69B; p. пер. ч. IV, стр. 248—249.
— 323
Правда, св. Григорий не дает нам никаких оснований для того, чтобы мы могли утверждать, что «первое», «второе» и «третье» небеса не представляют собой жилищ, занимающих известное пространство во вселенной. Исключение в данном отношении составляет лишь «лоно патриарха» или недра Авраама», под которыми святитель Нисский разумеет особое невидимое состояние, в каком находятся души известных умерших праведников. Последняя мысль, по-видимому, следует из уяснения св. отцом некоторых деталей евангельской притчи о богатом и Лазаре. «Что за перст,—пишет он,—подающий каплю? Ведь, когда тела находятся в гробах, а душа не пребывает в теле и не состоит из частей», трудно отыскать истину, если не понимать всех частностей данной притчи в духовном смысле (εἰς νοητὴν θεωρίαν)1).—Но если можно сказать, что св. епископ Нисский не вполне мирился с мнением о местном загробном пребывании душ умерших праведников, то он с гораздо большей настойчивостью не допускал, как сейчас увидим, пребывания в определенном месте душ умерших грешников.
5. Представление св. Григория об аде.
Мрачное и печальное жилище душ умерших грешников, по словам Преосв. Сильвестра, св. Григорий Нисский называет адом2). И действительно, св. отец очень часто допускает в своих творениях такие выражения, на основании которых можно предполагать, что он не является противником учения о пребывании душ умерших грешников в известном определенном месте. Так, например, он говорит, что «большая часть людей переселяется в преисподнюю (ἐπιχωριάζει τοῖς κάτω)»3), что Еван-
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 80C; p. пер. ч. IV, стр. 253.
2) Op. cit., стр. 115.
3) Ep. I (Mg. XLVI) col. 1004С; p. пер. ч. VIII, стр. 442—443.
— 324
гелие повествует «о пребывающих во аде (ἐν τῷ Ευαγγελίῳ τοῦ Κυρίου περὶ τῶν ἐν ᾅδου διήγημα)»1) и т. под. Однако, эти и подобные выражения, заключая в себе слабое указание на ад, как на определенное место пребывания душ умерших грешников, не отражают личного взгляда святителя Нисского на данный предмет Св. Григорий был далек от представления об аде, как об определенном пространственно-ограниченном месте. Он решительно не мог согласиться с обычным представлением об аде, как таком месте, «куда, как бы в некоторое хранилище, переселяются отсюда души» 2), по двум основаниям.
Прежде всего, такое представление не состоятельно, по рассуждению святителя Нисского, потому, что для него во вселенной нельзя указать определенного пункта. Правда, обыкновенно принято думать, что «адом называется подземная страна (ὑποχθόνιον χῶρον)», которая, «как в гостинице, содержит в себе души, подобно какому-то вместилищу, способному принимать в себя известную природу и привлекающему души, извлеченные из человеческой жизни» 3). Но это воззрение не выдерживает критики по той простой причине, что какой-либо подземной области, которая неизменно могла бы служить местом для ада, нет и быть не может. Дело в том, что наша земля является твердым и неподвижным шаром, вокруг которого совершают свое течение тела4). Так как солнце движется вокруг земли, то, поэтому,—говорит св. епископ Нисский,—«надземное и подземное места поочередно в равной мере бывают во свете и во тьме»5). Отсюда, св. Григорий заключает, что и другие стихии, вращаясь вокруг земли.
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 80B; p. пер. ч. IV, стр. 257.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 68A; p. пер. ч. IV, стр. 246—247.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 6SB; p пер. ч. IV, стр. 247.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 68C; p. пер. ч. IV, стр. 247—248.
5) Ibid. (Mg. XLVI) col. 68D-69A; p. пер. ч. IV, стр. 248.
325
в одинаковой степени бывают как над ней, так и под ней. «Что мы замечаем в виде стихий на нашем земном полушарии, естественно не сомневаться, что то же самое бывает и на другом полушарии» 1). Таким образом, если подземная часть вселенной то же самое представляет собой, что и надземная, и они постоянно обмениваются своим положением, то нет никаких оснований помещать ад, как особое место загробного пребывания душ умерших грешников, под землей. Во-вторых, св. отец полагает, что не только нельзя указать во вселенной такой части, в которой мы могли бы поместить ад, но в ней даже и нет никакой необходимости, потому что «местное положение свойственно только телам (μόνον σωμάτων ἴδιον εἶναι τὴν ἐπὶ τόπου θέσιν)»2). Что же касается души, то она, «будучи по своей природе бесплотной, не имеет никакой нужды пребывать в каких-либо местах (μηδεμίαν ἀνάγκην ἐχειν ἐκ φύσεως τόποις τισὶν ἑγκατέχεσθαι)»3).
Итак, по мнению св. Григория, представление об аде, как определенном месте, должно быть отвергнуто.
Св. Григорий Нисский, однако, не мог не предвидеть возражения на основании слов самого св. апостола Павла, что некогда настанет время, когда вся разумная тварь и в том числе какие-то преисподние (ἐν οἷς καταχθονίων τινῶν) обратят свой взор к Владыке мира, потому что тогда Ему «поклонится всяко колено небесных, и зеленых и преисподних» (Фил. 2, 10) 4). Останавливаясь своим вниманием на данном свидетельстве, св. отец замечает, что апостол Павел, различая три класса разумных тварей, не имеет в виду указать их пространственного отношения между собой. «Мне кажется,—так заявляет свя-
1) Οὕτως εἰκὸς καὶ τἄλλὰ πάντα ὅτιπερ ἂν στοιχειωδῶς ἐν τῷ καθ ’ ἡμᾶς ἡμισφαιρίῳ τῆς γῆς θεωρεῖται , τὸ αὐτὸ καὶ περὶ τὸ ἕτερον εἶναι μὴ ἀμφιβάλλειν , Ibid . (Mg. XLVI) col. 69A; p. пер. ч. IV, стр. 248.
2) Ibid. (Mg . XLVI) col . 69B ; p . пер. ч. IV, стр. 248.
3) Cp . выше, стр. 322.
4) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 69C; p. пер. ч. IV, стр. 249.
— 326 —
титель Нисский устами своей сестры Макрины,—что божественный апостол не трактует о местном различии духовной сущности, называя одно небесным, другое—земным, а третье—преисподним»1). Напротив, он желает отметить их качественное различие. Так как существует три состояния (καταστάσεις) разумной природы: одно—это то, которое получило в начале в удел бесплотную жизнь в называется ангельским; другое—то, которое соединено с телом и называется человеческим, и третье—то, которое освободилось через смерть от тела, как это бывает с душами; то, думаю, что божественный апостол... небесным называет ангельское и бесплотное, земным—то, что соединено с телом, а преисподним—то, что уже отделилось от тела (καταχθόνιον δὲ τὸ δισκεκρυμμένον ἤδη τοῦ σώματος)»2). Если же св. апостол Павел в приведенном выше выражении различает три качественные, а не пространственные состояния, то, само собой понятно, что под «преисподними» нельзя разуметь ада, как места, в котором находятся души умерших грешников. «Никто не принудит нас,—так святитель Нисский заключает свою речь,— под именем преисподних разуметь подземную область, потому что земля со всех сторон одинаково окружена воздухом, так что ни одна ее часть не останется обнаженной от воздушного покрова» 3).
Из всего сказанного ясно представление св. Григория' Нисского о преисподней или аде. По нему, адом называется особое невидимое состояние, в котором находится душа человека, конечно, грешника после своего разлучения с телом 4). Эту свою мысль св. епископ Нисский вира—
1) Οὔ μοι δοκεῖ... ὁ θεῖος Ἀπόστολος, τοπικῶς τὴν νοερὰν διακρίνων οὐσίαν τὸ μὲν ἐπουράνιον, τὸ δὲ ἐπίγειον, τὸ δὲ καταχθόνιον ὀνομάσαι. Ibid. (Mg. XLVI). col. 69D; p. пер. ч. IV, стр. 249.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 690—72A; p. пер. ч. IV, стр. 249—250.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 72C; p. пер. ч. IV, стр. 250—251.
4) Prof. W. Münscher, Handbuch der christlichen Dogmengeschichte (Warburg 1809) Bd. IV, S. 409 vgl. Huber, op. cit., S. 207.
— 327 —
жает в таких словах: «именем ада, в котором, как говорят, находятся души, в Божественном Писании не что-либо иное обозначается, как переселение в темное и невидимое (состояние) (εἰς τὸ ἀειδὲς καὶ ἀφανὲς)»1).
Такое свое представление об аде св. Григорий Нисский яснее раскрывает в своем изъяснении евангельской притчи о богатом и Лазаре. Здесь, по его мнению, все отдельные частности должны быть понимаемы в духовном смысле. «Ибо какие очи,—говорит св. отец,—возводит богатый во аде, оставив плотские во гробе? Как бесплотное чувствует пламя? Какой язык желает устудить каплей, когда у него нет плотского?.. Трудно,—так заключает свою речь св. Григорий, — состав данного повествования, объясняемый в буквальном смысле, согласить с истиной, если не понимать всех его частностей в духовном смысле (εἰς νοητὴν θεωρίαν)»2). Отсюда, святитель Нисский полагает, что и ту бездну, которой устанавливается ужасное разделение между душами праведников и грешников после их разлучения с своими телами, должно считать «не земным расстоянием (χάσμα — μὴ γῆς διὰστασις), потому что в противном случае для души не составляло бы никакого труда перелететь его3). Если же, таким образом, все отдельные частности в данной притче необходимо понимать не в собственном, а в аллегорическом смысле, то и об упоминаемом в ней «аде надлежит думать, что не какое-либо место так названо, а какое-то невидимое и бесплотное состояние жизни, в котором, как учит нас Писание, пребывает душа»4).
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 68B; p. пер. ч. IV, стр. 247 cp. Ориген, стр. выше 130—131.
2) De an. et res (Mg. XLVI) col. 80C; p. пер. н. IV, стр. 258.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 80CD; p. пер. ч. IV, стр. 258.
4) Τὸν μνημονευθέντα ᾅδην μὴ τόπον τινὰ οὕτως ὀνομαζόμενου οἴεσθαι, ἀλλὰ τινα κατάστασιν ζωῆς ἀειδῆ καὶ ἀσώματον, ᾗ τὴν ψυχὴν ἐμβιοτεὑειν παρὰ τὴς Γραφῆς ἐκδιδασκόμεθα. Ibid . (Mg . XLVI) col . 85В; p . пер. ч. ІV, стр. 263.
— 328 —
Сообразно с этим учением об аде, св. Григорий Нисский и для злых духов не указывает определенного места пребывания, но говорит, что они господствуют в воздухе1).
Представив определение, по воззрению святителя Нисского, потусторонних мест и некоторых состояний, естественно, перейти к изложению учения св. отца как о небесном блаженстве, так и об адских мучениях.
1) Ἀλλ ’ ὅμως καὶ νύκτωρ καὶ μεθ ’ ἡμέραν , ἐμπλανώμενοι τῷ ἀέρι — οἱ δαίμονες — κακίας εἰσὶ ποιηταὶ καὶ ὑπηρέται . De pauper. amand ., orat . I ( Mg . XLVI) col . 456В; р. пер. ч. VII, стр. 397.
329
ГЛАВА IV.
Учение о небесном блаженстве.
1. Участники небесного блаженства.
Бог создал человека для того, чтобы Его блага могли распространить на него свое действие. «Для того,—пишет св. Григорий Нисский, — пришла в бытие разумная природа, чтобы богатство божественных благ не было недеятельным» 1). Однако, после грехопадения наших прародителей не все люди наслаждаются этими благами как на земле, так и на небе, а только достойные их. Особенно это нужно сказать относительно небесного блаженства, которое непосредственно после смерти является уделом лишь избранных. Только души тех людей удостаиваются после своего разлучения с телом небесного блаженства, которые здесь на земле, как говорит св. отец, «закупают будущую благодать (τὴν μέλλουσαν χάριν προεμπορεύεσθαι)»2). Земная жизнь нам для того и дана, чтобы мы в течение ее «заготовляли себе все необходимое для будущей жизни (εἴη ὁ βίος οὗτος , ἐν ᾧ τά τῆς ἐρχόμενης ζωῆς ἑαυτοῖς εὐτρεπίζομεν)»3). В будущей жизни,—говорит святитель Нисский, — мы только «будем собирать плоды семян, посеянных нами во время настоящей жизни, — и плоды, не
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 105A; p. пер. ч. IV, стр. 279.
2) De hom. opif., cap. XXII (Mg. XLIV) col. 208A; p. пер. ч. I, стр. 170 cp. Ориген, стр. выше 131.
3) De vita Moysis (Mg. XLIV) col. 369 В; р. пер. ч. I, стр. 308.
— 330 —
подлежащие тлению, если у нас хорошие семена настоящей жизни»1).
Таким образны, те люди, которые проводят настоящую жизнь добродетельно, слитая благом только то, что находит для себя основание в разуме, и, сберегая добро для будущей жизни, здесь на земле переносят разные лишения, после своей смерти вступают в обители небесного царства и в них наслаждаются заслуженным ими блаженством2). «Цель добродетельной жизни, — пишет св. Григорий, — блаженство (τέλος τοῦ κατ ’ ἀρετὴν βίου μακαριότης ἐστίν)»3). Желая утвердить последнюю мысль с большей силой, он прибавляет, что блаженство служит специальной целью добродетельной жизни, целью, аналогичной той, какую имеют и другие занятия. «Как врачебное искусство имеет в виду здоровье, целью земледелия служит заготовление необходимого для жизни, так, — продолжает святитель Нисский, — и приобретение добродетели служит к тому, чтобы живущий, согласно с ней, стал блаженным (οὕτω καὶ ἡ τῆς ἀρετῆς κτῆσις πρὸς τὸ μακάριον γενέσθαι τὸν κατ ’ αὐτὴν ζώντα βλέπει)4). Ясно, что человек, по мнению и выражению св. отца, может достигнуть блаженства на том свете только через доброе поведение (διὰ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας) в течение настоящей жизни 5).
Впрочем, такой способ достижения небесного блаженства может стать для нас вполне понятным лишь после того, как мы обратим внимание на самый процесс и результаты добродетельной жизни, как их представляет св. Григорий Нисский. Добродетель начинается в человеке с «отчуждения его от зла (τὴν ἀλλοτρίωσιν τοῦ κα -
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 369C; p. пер. ч. I, стр. 308.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 84A; p. пер. ч. IV, стр. 260.
3) In psalm., lib. I, cap. I (Mg. XLIV) col. 433A; p. пер. ч. II, стр. 2.
4) Ibid. (Mg. XLIV) col. 433AB; p. пер. ч. H, стр. 3.
5) De hom. opif., cap. XXII (Mg. XLIV) col. 209A; p. пер. ч. I, стр. 170.
— 331 —
κοῦ)», после которого в нем зарождается «наклонности ж лучшему (ἡ ῥοπὴ ἐπὶ τὸ κρεῖττον)»1). Стремясь к последнему, он очищает свой нрав «от всякого чувственного и неразумного движения (πάσης αἰσθητικῆς τε καὶ ἀλόγου κινήσεως προκαθᾶραι) и разрывает связь с своей сожительницей, т.-е. с чувственностью (τῆς τε συνήθους ὁμιλίας χωρισθέντα τῆς πρὸς τὴν ἰδίαν σύνοικον, τουτέστι, τὴν αἴσθησιν)» 2). Постоянно же подавляя свои чувственные влечения, человек с течением времени переходит к «поучению в высшем и божественнейшем, как уже производящему навык к лучшему (τὶν τῶν ὑψηλών τε καὶ θειοτέρων μελέτην , ὡς ἐξιν ἐμποιούσαν ἤδη τοῦ κρείττονος)»3), который приводит его к тому состоянию, обладая которым, он становится «храмом Божьим, не заключающим в себе никакого идола и изваяния зла (εἴη Θεοῦναός , μηδὲν κακίας εἴδωλον καὶ ἀφίδρομα ἐν ἑαυτῳ περιέχων)»4). Таким образом, подавляя в себе все чувственное и неуклонно стремясь к исполнению требований духовной природы и нравственного закона, человек постепенно преобразовывает свою природу и мало-по-малу приближает ее состояние к богоподобному совершенству, результатом которого, наконец, является ее «уподобление Божеству (τό θεῖον ὁμοίω)»5). A для такого человека, который еще на земле, освободившись от чувственных пристрастий и, подобно Аврааму, променяв наслаждение земными удовольствиями на надежду будущих благ, уподобится Божеству, переход в обители небесного блаженства, разумеется, будет вполне естественным. Как человек, обладающий чистым зрением, в силу естественной необходимости
1) In psalm, lib. I, cap. I (Mg. XLIV) col. 433D—436А: p. пер. ч. II, стр. 4.
2) Do vita Moysis (Mg. XLIV) col. 373D; p. пер. т. I, стр. 313.
3) In psalm., lib. I, cap. I (Mg. XLIV) col. 436A; p. пер. ч. II, стр. 4.
4) De perf. christ, forma (Mg. XLVI) col. 277D; p. пер. ч. VII, стр. 253.
5) In psalm., lib. I, cap. I (Mg. XLIV) col. 436A; p. пер. ч. II, стр. 4.
— 332 —
созерцает и воспринимает им видимое, « так,— пишет святитель Нисский, — подобно этому, и блаженная жизнь сродна и свойственна имеющим чистые душевные чувства ( καὶ ἡ μακαρία ζωὴ συμφυής ἐστι καὶ οἰκεία τοῖς κεκαθαρμένοις τὰ τῆς ψυχῆς αἰσθητήρια)» 1). Душу такого именно человека Сын Божий приводит на том свете в общение с Своим небесным Отцом, ибо «Посредник между Богом и людьми (I Тим. 2, 5), соединивший Собой с Богом человечество, соединяет только то, что достойно соединения с Богом» 2). Как Он Сам силой Божества соединился с человеком, хотя и составляющим часть общечеловеческой природы, однако не подпавшим греховным страстям, «так, — говорит св. епископ Нисский, — и в единение с Божеством Он приведет каждого, кто только не принесет с собой ничего недостойного соединения с Божеством» 3).
Итак, только души тех людей в загробном мире наслаждаются небесным блаженством, которые в течение своего пребывания на земле проводят добродетельную жизнь.
2. Сущность небесного блаженства.
Св. Григорий Нисский сознавал, что точное определение сущности небесного блаженства для человека, ограниченного условиями настоящей жизни, невозможно 4). Блага, ожидающие добродетельную душу на том свете, по мне-
1) De infant ., qui praemat . abrip . (Mg. XLVI) col. 176D—177A; p. пер. ч. IV, стр. 843.
2) Ὁ δὲ μεσίτης Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὁ δι’ ἑαυτοῦ συνάπτων τῷ Θεῷ τὸ ἀνθρώπινον, ἐκεῖνο συνάπτει μόνον, ὅπερ ἄν τῆς πρὸς Θεὸν συμφυῖας ἄξιον ἡ. De perf. christ, forma (Mg. XLVI) col. 277C; p. пер. ч. VII, . стр, 253.
3) Οὕτω καὶ τοὺς καθ’ ἐκαστον προσάξει τῇ συναφείᾳ τῆς θεότητος, εἰ μηδὲν ἐπάγοιντο τῆς πρὸς τὸ Θεῖον συναφείας ἀνάξιον. Ibid. (Mg. XLVI) col. 277CD; р. пер. л. VII, стр. 453.
4) Orat. cat, cap. 40 (Srawley, op. cit., p. 163); p. пер. ч. IV, стр. 109 ср. Мужи an., стр. выше 6—7; св. Феофил, стр. выше 24; Климент Ал., стр. выше 110.
— 333
нию св. отца, настолько велики, что они далеко превосходят обычное человеческое разумение и чувство (ἃ ὑπὲρ αἴσθησίν τε καὶ γνώσιν ἀνθρωπίνην ἑστίν)1). Естественно, поэтому, для изображения того состояния, в каком будет находиться праведная душа на том свете, нельзя найти ни одного подходящего слова 2). И это вполне понятно, потому что человеческое слово служит для выражения предварительно составляемых понятий. Но блаженное состояние на том свете праведных душ, по представлению св. Григория, будет благом, превосходящим всякое понятие о нем (τὸ ὑπὲρ ἔννοιαν ἀγαθὸν)3), или состоянием, превосходящим всякое разумение (πάσης κρεἵττον διανοίας κατάστασις), таким, которого и око не видело, и ухо не слышало и человеческое сердце не вмещало (1 Кор. 2, 9)3). И это потому, что человеческие чувства приспособлены к восприятию предметов лишь настоящей жизни. Их они вполне и воспринимают, а что относится к предметам будущей жизни, то это для них доступно в самой ограниченной степени. Кроме того, состояние будущего блаженства не может быть рассматриваемо, как нечто неподлежащее изменению. Правда, с качественной стороны блаженство праведников неизменно, но зато в отношении своей интенсивности оно постоянно развивается, так что даже самое чистое сердце живущего на земле человека не может всегда воспринимать его во всей полноте. «Этому именно, по нашему разумению, — пишет святитель Нисский,—учит апостол о природе невы-
1) De beatitud., orat. II (Mg. XLIV) col. 1209D: p. пер. ч. ΙΙ, стр. 377 cp. ἥ τις ὑπὲρ αἴσθησίν τε καὶ γνώσιν εἶναι. In psalm., lib. I, cap. VIII (Mg. XLIV) col. 481A; р. пер. ч. II, стр. 55.
2) In psalm., lib. I, cap. VIII (Mg. XLIV) col. 481A; p. пер. ч. II, стр. 55.
3) In Cant, cant., hom. III (Mg. XLIV) col. 820C; p. пер. ч. III, стр. 75.
4) In psalm., lib. I, cap. IX (Mg. XLIV) col. 485D; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 61 cp. De beatitud., orat. II (Mg. XLIV) col. 1209D; p. пер. ч. II, стр. 377; De an. et res. (Mg. XLVI) col. 152A; p. пер. ч. IV, стр. 318; De profes. christ. (Mg. XLVI) col. 249BC; p. пер. ч. VII, стр. 223; Contra Eunom.,. lib. III (Mg. XLV) col. 601D; p. пер. ч. V, стр. 416.
— 334 —
разимых в слове благ. Он говорит, что этих благ не увидит глаз, хотя бы он их постоянно созерцал, потому что он видит не то, что существует в действительности, но сколько может воспринять; равным образом, ухо не слышит в полной мере об указанном благе, хотя бы оно постоянно его воспринимало своим слухом; наконец, и на сердце оно не приходит человеку, хотя бы чистый сердцем и всегда его видел, насколько это ему возможно. И это потому, что, хотя вновь достигаемое больше всего достигнутого раньше, однако оно не соответствует искомому, так как конец найденного служит началом для стремящихся к достижению высшего»1). Таким образом, св. Григорий изображение небесных благ «под их собственными именами»2) с полным основанием считал невозможным.
Но сознавая это, св. Григорий Нисский, однако, не хотел оставить будущее блаженство далеким от нашего представления. Он старался дать о нем общее представление, применяясь к уровню разумения человека в условиях его настоящей жизни 3). Непостижимость небесного блаженства для человеческой мысли лишала последнюю возможности дать о нем более или менее точное понятие. Поэтому, св. отец не находит возможным представлять его всегда в одних и тех же выражениях и усвояет небесному блаженству самые разнообразные наименования, оттеняющие в нем ту или другую его сторону.
Самое общее представление о небесном блаженстве св. Григорий Нисский дает при объяснении евангельских блаженств. Тут он ходом мыслей вынуждался к спе-
1) In Cant, cant., hom. VIII (Mg. XLIV) col. 941BC; p. пер. ч. III, стр. 213.
2) Οὐδέ γὰρ ἦν δυνατὸν ἰδίοις ὀνόμασιν ἐκεῖνα τὰ ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις ἐκκαλυφθῆναι. De beatitud., orat. II (Mg. XLIV) col. 1209C; p. пер. ч. II, стр. 377.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 1209D; р. пер. Ч. ΙΙ, стр. 377.
335 —
циальному определению его. Прежде нем изъяснять евангельские блаженства, необходимо было дать понятие о самом блаженстве. И действительно, он так и делает. Предлагая понятие о блаженстве, св. отец говорит: «блаженство, по моему мнению, — это объем всего, что мыслится, как благо, в котором ничего не достает из того, что согласно с добрым пожеланием» 1). Другие его определения небесного блаженства, высказываемые по тем или иным побуждениям не специального характера, не отличаются такой, как данное широтою. Так, говоря о воздаянии праведникам за добрые дела настоящей жизни, он навивает его «участием в жизни (ἀντίδοσιν τῶν εὐ βεβιωκότων γενέσθαι τὴν τῆς ζωῆς μετουσίαν)»2). Изображая будущую участь тех праведников, которые в течение настоящей жизни в качестве сокровища собирают себе «нищету худых дел», он говорит, что Св. Писание их «невыразимое в слове небесное блаженство назвало царством (τὸν ἄφραστον ... ἐν τοῖς οὐρανοῖς μακαρισμὸν βασιλείαν ὠνόμασεν)»3). Останавливаясь же своим вниманием на будущей участи такого праведника, который, по выражению св. апостола, прошел поприще настоящей земной жизни в вере, святитель Нисский полагает, что «рука Подвигоположника украсит его венцом правды (οὗτος τῷ τῆς δικαιοσύνης στεφάνω παρὰ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγωνοθέτου καλλωπισθήσεται)»4). Но эта последняя награда, по представлению св. отца, в Св. Писании в свою очередь имеет много других названий. Чему здесь усвоено имя «венца правды», то в других случаях называется «расселиной камня (χώρημα πέτρας)», «сла-
1) Μακαριότης τίς ἐστιν , κατὰ γε τὸν ἐμὸν λόγον , περίληψις πάντων τῶν κατὰ τὸ ἀγαθὸν νοουμένων ἦς ἀπεστι τῶν εἰς ἀγαθὴν ἐπιθυμίαν ἡκύντων οὐδέν . Ibid., orat. I (Mg. XLIV) col. 1196D; p. пер. ч. II, стр. 362.
2) De infant., qui praemat. abrip. (Mg . XLVI) col . 176C ; p . пер. ч. IV , стр. 343.
3) De beatitud., orat. II (Mg. XLIV) col . 1209В; p . пер. ч. ΙΙ, стр. 376.
4) De vita Moysis (Mg . XLIV) col . 408A ; p . пер. ч. I , стр. 351.
—336 —
достью рая (παραδείσου τρυφή)» (Быт. 3, 23), «вечным кровом (αἰωνία σκηνή)» (Лук. 16, 9), «обителью у Отца (μονή παρὰ τῷ Πατρί)» (Ιο . 14, 2), «лоном патриарха (πατριάρχου κόλπος)» (Лук. 16, 22), «страною живых (χώρα ζώντων)» (Пс. 144, 8), «водою упокоения (ὕδωρ ἀναπαύσεως)» (Пс. 22, 2), «вышним Иерусалимом (ἡ ἄνω Ἱερουσαλήμ)» (Гал. 4, 26), «царствием небесным (βασιλεία οὐρανῶν)» (Мф. 7, 21), «почестью звания (βραβεῖον κλήσεως)» (Фил. 3, 14), «венцом благодати (στέφανος χαρίτων)» (Притч. 1, 9), «венцом доброты (στέφανος κάλλους)» (Прем. 5, 17), «столпом крепости (πύργος ἰσχύος)» (Пс. 60, 4), «веселием за трапезой (ἐπιτραπέζιος εὐφροσύνη)», «сожительством с Богом (Θεοῦ συνεδρία)», «престолом суда (θρόνος κρίσεως)» (Пс. 9, 8), «местом именитым (τόπο ; ὁναμαατός)», «селением тайным (σκηνή ἀπόκρυφος)» (Пс. 26, 9)1) и т. под. Такое разнообразие наименований, заимствуемое св. епископом Нисским из Св. Писания для обозначения блаженной участи праведников на небе, разумеется, не о чем-либо другом может свидетельствовать, как только о том, что такого определения небесного блаженства, которое адекватно исчерпывало бы все его содержание, дать нельзя.
Желая при всем том дать приблизительное понятие о самом содержании небесного блаженства, св. Григорий обнаруживает попытку составить о нем «некоторую догадку»2) при помощи аналогии, именно через отрицание в нем некоторых признаков настоящей жизни. По представлению святителя Нисского, в будущей жизни не будут иметь места те несчастные события настоящей жизни, которым подпало человечество в лице своих прародителей после их грехопадения. «В ожидаемой жизни,—говорит св. отец,—не будет ни греха, ни проклятия, ни болезни, ни смерти» 3). И не только т. наз. прародитель-
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 408АВ; р. пер. ч. I, стр. 351.
2) De mortuis (Mg. XLVI) col. 504В; р. пер. ч. VII, стр. 493.
3) Contra Eunom, lib. X (Mg. XLV) col. 849B; p. пер. ч. VII, стр. 196.
— 337 —
ский грех не повторится в будущей жизни праведников, но в ней прекратит свое существование и вообще всякий другой грех 1). А раз в загробной жизни совершенно не будет зла, то она освободится и от следствий его. Так как, по воззрению св. Григория, грубое тело, в котором человек находится в течение своей земной жизни, является следствием греха, то состояние будущего блаженства праведников, естественно, не будет соединено с телесной грубостью2). Отсюда, будущая блаженная жизнь праведников не будет обусловливаться равновесием противоположных элементов, от которого зависит состав и здоровье нашего земного тела. Эти элементы будут находиться в таком состоявши, что недостаток или избыток в некоторых из них не будет причинять страданий и болезней, как это бывает в настоящей жизни. В загробном мире праведники будут находиться в таком состоянии, что они в своей жизни будут свободны от невзгод жары или холода. Их души тогда будут пребывать там, где жизнь свободна от всех тех трудов, которыми человек обременен во время своей настоящей жизни. Они не будут страдать от тяжести земледелия, испытывать трудности мореплавания, заниматься торговыми делами, строительным и ремесленным искусствами3). Напротив, они, по выражению св. апостола Павла, будут проводить тихое и безмолвное житие (1 Тим. 2, 2), не сражаясь ни на коне, ни на корабле, не бросаясь в рукопашный бой в рядах пехоты, не заботясь о приготовлении оружия, не собирая податей, не устрояя ни рвов, ни стен. Занятие всем этим не бу-
1) ἀλλ ’ ἡ μὲν ἄνω ζωή , κιθαρεύει πάντη κακίας , καὶ οὐ δὲ ἐν ἐκείνη τῶν ἐκ τοῦ ἐναντίου νοουμένων συμπολιτεύεται ... Διὰτοῦτο τὴν ἐν οὐρα οἵς τῶν ἁγίων δυνάμεων πολιτείαν ἀμιγῆ κακίας , καὶ παντὸς τοῦ ἐξ ἀμαρτίας μολυσμοῦ καθαρεύουσαν , ὁ θεόπνευστος ἐπίσταται λόγος . De orat. domin., IV (Mg. XLIV) col. 1168A.
2) De mortuis (Mg. XLVI) col . 504B ; p . пер. ч. VII , стр. 493.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 504C; p. пер. ч. VII, стр. 493 cp. De vita Moysis ( Mg . XLIV) col . 369 C ; p . пер. ч. I , стр. 308.
338 —
дет представлять никакой необходимости1). Загробная жизнь праведников будет свободна от каких бы то ни было опасностей, предохранение от которых могло бы вызвать заботу. Напротив, она будет представлять собой такое состояние, которому, по словам св. отца, недоступна боль ударов, в котором не страшны ни опасность от огня, ни раны от железа, ни несчастия от землетрясений, кораблекрушений, плена, ни нападения плотоядных зверей, на жала и угрызения змей и ядовитых животных 2).
Что касается взаимного отношения между собой на том свете праведных душ, то и оно, по мысли св. Григория Нисского, представляет собой полную противоположность земному отношению людей друг к другу. Праведные души в загробном мире, будучи свободны от каких бы то ни было забот и страданий, исходящих из внешнего источника, по воззрению св. отца, не причиняют их и взаимно друг другу. В их жизни нет места для рабства и господства, а отсюда — деления людей на благородных и незнатных; нет в ней также и деления на простых людей и чиновников, обладающих правом начальствования над первыми, и тому подобного неравенства3). В силу последнего обстоятельства происходит то, что во взаимном отношении между собой праведных душ нет места ни для гордости и унижения, ни для дерзости и боязни, ни для гнева, ни для страха и т. под. В своей блаженной жизни праведные души не имеют нужды заботиться о том, каковы нравы царей, каковы законы, каков образ мыслей тех, кому вручено начальство, какие они издают предписания и каких размеров ежегодная подать 4). Все это и подобное имеет место только в условиях настоящей жизни, а из блаженного состояния душ умерших пра-
1) De mortuis (Mg. XLVI) col. 504D; p. пер. ч. VII, стр. 494.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 505AB; p. пер. ч. VII, стр. 495.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 504D; p. пер. ч. VII, стр. 494.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 505B; p. пер. ч. VII, стр. 495.
— 339
ведников оно будет удалено, потому что «в обществе душ действует, по причине совершенной мирной свободы, равноправие и равенство законов» 1).
Блаженная жизнь душ умерших праведников настолько превосходит настоящую жизнь, что «освободившиеся из темницы этой жизни, если бы им было возможно вполне высказать слезами сострадание к злостраждущим, то они рыдали бы и плакали о тех, кто остается еще в этой скорбной жизни». Они сожалели бы о том, что остающиеся еще на земле «не видят премирных духовных красот, престолов и начал, властей и господств, ангельских воинств и собраний, горнего града и пренебесного торжества написанных» (Евр. 12, 23) 2). Отсюда именно понятно, почему царь Давид, прозревая своим пророческим взором будущее блаженство душ умерших праведников, несмотря на то, что он наслаждался высшей мерой земного благополучия, оплакивал свое продолжительное пребывание в теле, взывая: «увы мне, яко пришествие мое продолжися» (Пс. 119, 5). Постоянно созерцая красоту Божьих селений, он готов был умереть, более желая удостоиться в них последнего места, чем первенствовать в настоящей жизни (Пс. 83, 2. 3. 11)3).
Таковы представления св. Григория Нисского о будущем блаженстве, к которым он пришел т. ск. отрицательным путем. Но он обнаруживал попытки представить последнее, насколько это возможно, и с положительной стороны. По его мнению, загробное блаженство праведных душ будет состоять не только в совершен-
1) Ἰσηγορία δὲ τις καὶ ἰσονομία διὰ πάσης ἐλευθερίας εἰρηνικῆς, τῷ τῶν ψυχῶν δήμῳ συμπολιτεύεται. Ibid. (Mg. XLVI) col. 500C; р. пер. Ч. VII, стр. 496.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 508АВ; р. пер. ч. VII, стр. 497.
3) De beatitud., orat. III (Mg. XLIV) col. 1229C; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 398—399.
— 340
ном освобождении их от всех зол настоящей жизни, но и в достижении «венца славы (τὸν στέφανον ... τῆς δόξης)», «в общении с ангелами (ἀγγέλων ὁμιλία), в союзе с Богом (Θεοῦ μετουσία), в созерцании невидимых благ (τῶν ἀοράτων θεωρία) и в радости, не имеющей конца (εὐφροσύνη τέλος οὐκ ἔχουσα)»1). Умершие праведники, как будто после возвращения из долгого странствования в свое небесное отечество, немедленно получат все, что принадлежит истинным гражданам неба, а именно: рай, древо жизни, достоинство власти и свободу сыновнего дерзновения пред Богом, в силу которого они, предстоя пред славным престолом Владыки небесного царства, в союзе с ангелами будут молитвенно ходатайствовать пред Богом за грешных людей, живущих на землеs). Ясно, что души умерших праведников станут в непосредственное отношение к Богу. Чистая от всякого порока душа, по рассуждению св. отца,—вступит теперь в общение с Божеством, так как это ей будет вполне свойственно 3). Но такое общение праведных душ с Богом возможно только тогда, когда они будут видеть Бога лицом к лицу. Отсюда, определяя сущность небесного блаженства еще точнее, св. епископ Нисский полагал, что оно состоит в созерцании божественной природы (ἡ τῆς θείας φύσεως κατανόησις)4), другими словами, в познании Истинно-Сущего.
Такое представление о сущности небесного блаженства вполне справедливо, так как нельзя представить боль-
1) Orat. fun. de Plac. (Mg. XLVI) col. 889BC; p. пер. ч. VIII, стр. 416 cp. in fun. Pulch. orat. (Mg. XLVI) col. 869A; p. пер. ч. VIII, стр. 393; De pauper, amand, orat. I (Mg. XLVI) col. 465A; p. пер. ч. VII, стр. 406 cp. Ориген, стр. выше 132—133.
2) De Melet. episc. (Mg. XLVI) col. 861B; p. пер. ч. VIII, стр. 385 cp. De vita Euphr. Syri (Mg. XLVI) col. 849C.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 8913; p. пер. ч. ІV, стр. 266—267.
4) De mortuis (Mg. XLVI) col. 504D; p. пер. ч. VII, стр. 594 cp. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 136А; p. пер. ч. IV, стр. 305 сн. Ориген, стр. выше 134—135.
— 341 —
шего блаженства, чем лицезрение Бога ( τί ἄν τις μεῖζον μασιαρισμὸν ἐννοήσειεν, τοῦ εἰδεῖν τὸν Θεόν) 1). И это потому, что оно заключает в себе все, что только можно представить в числе благ. «Кто созерцает Бога,—говорит св. Григорий,—тот в этом созерцаний уже имеет все, что находится в списке благ: бесконечную жизнь, вечное нетление, бессмертное блаженство, непрекращающееся царство, веселие, истинный свет, приятную духовную пищу, недоступную славу, постоянную радость и всякое благо» 2). Души—насаждающиеся небесным блаженством, по мнению святителя Нисского, пребывают в общении не только с Богом Отцом, но и со всеми лицами Святой Троицы. Они пребывают в общении с Сыном Божьим, потому что имеющий участие в каком-либо благе пребывает и во Христе, имеющем в себе всякое благо (ὁ ἐν ἀγαθῷ τινι γενόμενος , ἐν τῷ Χριστῳ πάντως ἐστὶ τῷ περιεκτικῷ παντὸς ἀγαθοῦ)3). Они наслаждаются также общением с Истинным и Святым Духом (τοῦ ἀληθινοῦ τε καὶ ἁγίου Πνεύματος εἶναι τὴν κοινωνίαν)4), потому что Он собственно и служит истопником их весьма разнообразных благ, как, например, бессмертия, вечной жизни, небесного царства, постоянного веселия, не имеющей конца радости и проч. 5). Таким образом, души умерших праведников, находясь в состоянии небесного блаженства, наслаждаются всеми возможными благами.
Если для праведных душ на том свете будет доступно всякое благо, то, естественно, они в загробной жизни уже не будут испытывать недостатка ни в нем. Они познают полноту Истинно-Сущего и в Нем найдут удовлетворение всем своим стремлениям6). И это бла-
1) In Cant. cant. hom. VI (Mg. XLIV) col. 889C; p. пер. ч III, стр. 155.
2) De beatitud., orat. I (Mg. XLIV) col. 1205B; p. пер. ч. II, стр. 438.
3) De vita Moysis (Mg. XLIV) col. 408B; p. пер. ч. I, стр. 252.
4) De mortuis (Mg. XLVI) col. 504D—505A; p. пер. ч. VII, стр. 494.
5) In suam ordinat. (Mg. XLVI) col. 553A; p. пер. ч. IV, стр. 371.
6) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 96C; p. пер. ч. IV, стр. 271.
342 —
женное их состояние не будет временным, потому что наслаждение блаженством, производимое созерцанием Бога, никогда не может прекратиться или достигнуть пресыщения. Этой последней мысли св. Григорий положительно не допускает. Наслаждение небесными благами,—говорит он,— не будет сменяться подобно тому, как это бывает в настоящей жизни, то обладанием их, то лишением их, то стремлением к ним, то отвращением от них, но всегда будет полным, и эта его полнота никогда не будет ограничиваться насыщением (ἀλλ ’ ἀεὶ πληρουμένη καὶ οὐδέποτε περιγράφουσα κόρῳ τὴν πλήρωσιν)1), И действительно, когда Моисей просил Бога, чтобы Он «явил Ему Себя не в такой только мере, в какой он может Его воспринять, но каков Бог Сам и Себе» 2), то, по выражению св. отца, «великая щедрость Божия соизволила исполнить желание Моисея, но не обещала ему какого-либо успокоения и пресыщения в этом желании»3). В том именно, по мысли святителя Нисского, и состоит сущность блаженства—созерцания Бога, что оно никогда не прекращается 4) и не достигает пресыщения 5). И это потому, что данное блаженство не представляет собой каких-либо чувственных удовольствий, но, наоборот, оно является совокупностью духовных благ 6). Кроме того, самый способ созерцания на том свете Бога не носит чувственного характера. «Созерцание Бога,—пишет св. Григорий,—совершается не по видимому, и не по слышимому и ни одним из обыкновен-
1) De mortuis (Mg. XLVI) col. 505A; p. пер. ч. VII, стр. 494.
2) De vita Moysis (Mg. XLIV) col. 401D; p. пер. ч. I, стр. 345.
3) Τὸ μὲν γὰρ πληρῶσαι τὴν ἐπιθυμίαν αὐτῷ ἡ τοῦ Θεοῦ μεγαλοδωρεὰ κατένευσε στάσιν δὲ τινα τοῦ πόθου καὶ κόρον οὐκ ἐπηγγείλατο. Ibid. (Mg. XLIV) col. 404A; p. пер. ч. I, стр. 345.
4) ἐν τούτῳ ὄντος τοῦ ἀληθῶς ἰδεῖν τὸν θεόν, ἐν τῷ μὴ λῆξαί πότε τὴς ἐπιθυμίας τὸν πρὸς αὐτὸν ἀναβλέποντα. Ibid. (Mg. XLIV) col. 404A; p. пер. ч. стр. 346.
5) Ibid. (Mg. XLIV) col. 404D; p. пер. ч. I, стр. 348.
6) Ἀβαρὴς γὰρ ἡ νοερὰ τρυφή, καὶ ἀπλήρωτος πάντοτε ταῖς ἐπιθυμίαις τῶν μετιχόντων ἀκορέστως ἐπιπλημμυρίζουσα. Διὰ τοῦτο μακαρία τίς ἐστιν ἐκείνη ἡ ζωὴ καὶ ἀκήρατος, μηκέτι ταῖς τῶν αἰσθητηρίων ἡδοναῖς πρὸς τὴν τοῦ καλοῦ κρίσιν ἐμπλανωμένὴ. De mortui, (Mg. XLVI) col. 505 Α; p. пер. ч. VII, стр. 494—495.
— 343 —
ных понятий не обнимается» 1). Наоборот, способ созерцания или познания Бога в блаженной жизни душ умерших праведников имеет чисто внутренний характер. Праведные души на том свете входят в самих себя и созерцают свою собственную красоту, а в ней, как в зеркале или в изображении, видят свой Первообраз 2). Побуждением к таким действиям души служит любовь, понимаемая в смысле внутренней привязанности к добру, которая делает излишними всякие другие душевные движения. Ей именно в будущей жизни уступит свое место и наше обычное познание (ἡ δὲ γνώσις ἀγάπη γίνεται)3) или, лучше сказать, познание и любовь сольются в один нераздельный акт,—акт непосредственного созерцания и внутренней привязанности к Высочайшему Благу. Душа будет познавать Бога и сама будет познаваться Им; душа будет любить Бога и сама будет возлюблена Им; душа будет находиться в Боге и Бог будет в ней 4).
Души умерших праведников, находясь в небесных обителях в состоянии непрекращающегося созерцания Бога, вместе с тем постепенно все более и более возвышаются в отношении своего совершенства. «Душа,—говорит св. Григорий,—ставши вполне подобной Богу по простоте и однообразию, любит это простое, нематериальное и единственно достойное любви благо, вступает о ним в теснейшее единение исполненными любви расположением и деятельностью, сообразуясь с тем, чего она всегда ищет и достигает, и через уподобление благу становясь подобной природе того, с чем она вступает в общение»5). Как на земле задачей человека является стремление к доступ-
1) Ἡ δὲ τοῦ Θεοῦ θεωρία, οὔτε κατὰ τὸ φαινόμενον, οὔτε κατὰ τὸ ἀκουόμενον ἐνεργεῖτι, οὔτε τινὶ τῶν συνήθων νοημάτων καταλαμβάνεται. De Vita Moysis (Mg. XLIV) col. 373D; p. пер. ч. I, стр. 313.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 89C; p. пер. ч. IV, стр. 267.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 96C; p. пер. ч. IV, стр. 271.
4) In Cant, cant., hom. (Mg. XLIV) col. 892А; p. пер. ч. III, стр. 155 cp. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 104B; p. пер. ч. IV, стр. 278.
5) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 93C; p. пер. ч. IV, стр. 270.
— 344 —
ному дли него подобию с Богом 1), так и на том свете, по представлению св. отца, высшим пунктом стремлений праведной души служит «богоподобие (θεοειδής)»2), разумеется, в доступной для нее мере. Оно было даровано нашим прародителям в раю; оно будет восстановлено в загробной жизни, которая будет, по выражению святителя Нисского, «восстановлением в первобытное состояние», представлявшее собой «не что иное, как уподобление Божеству» 3). Потому-то святитель Нисский, определяя по этой стороне сущность небесного блаженства, и говорит, что оно «представляет собой не что иное, как уподобление Божеству (τὸ θεῖον ὁμοίωσις)»4).
Итак, по мнению св. Григория, небесное блаженство праведных душ, насколько о нем можно судить земному человеку, будет состоять не только в освобождении последних от всех бедствий настоящей жизни, но и в наслаждении никогда не прекращающимся созерцанием Бога, возводящим наслаждающуюся им душу все к высшему и к высшему богоподобию.
3. Развитие небесного блаженства в бесконечность.
Мы сказали, что св. Григорий Нисский не допускал прекращения небесного блаженства или пресыщения им. К этому нужно добавить, что он исключал также и какую бы то ни было возможность его уменьшения. Объясняя евангельское изречение: «не скрывайте себе сокровищ на земли, скрывайте же себе сокровища на небеси, идеже ни червь, ни тля тлит, и идеже mamie не подкопывают,
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 89D-92A; p. пер. ч. IV, стр. 267.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 93R; p. пер. ч. IV, стр. 269 cp. ἡ ψυχὴ., τὴν ὑπερέχουσαν μιμεῖται ζωὴν τοῖς ἰδιώμασι τὴς θείας φύσεως ἐμμορφωθεῖσα. Ibid. (Mg. XLVI) col. 93BC; p. пер. ч. IV, стр. 270 cp. Ориген, стр. выше 135—136.
3) Ἡ πρὸς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστασις, ὅπερ οὐδέν ἐτερον, ἢ ἡ πρὸς τὸ θεῖόν ἐστιν ὁμοίωσις. De mortuis (Mg. XLVI) col. 520D; p. пер. ч. VII, стр. 513.
4) In psalm, lib. I, cap. I (Mg. XLIV) col. 433C; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 4.
— 345 —
ни крадут» (Мф. 6, 19—20), он говорит, что «эти слова показывают, что в горней жизни нет никакой тлетворной для блаженства силы»1), а потому оно там не может подлежать расхищению или, по крайней мере, уменьшению2). Мало того, небесное блаженство, будучи, с одной стороны, свободно от прекращения, а с другой,—от уменьшения, по мнению св. отца, даже постепенно все более и более увеличивается. Небесные блага, — говорит святитель Нисский, — «не только всегда пребывают, но и, подобно семенам, всячески увеличиваются (οὐ μόνον ... εἰς ἀεὶ διαμένει , ἀλλὰ καὶ σπερμάτων δίκην ἐπὶ τὸ πολλαπλάσιον κατεργάζεται τὴν ἐπαύξησιν)»3). К такому его увеличению нет решительно никаких препятствий, потому что души умерших праведников в загробной жизни никогда не достигают такого блаженства, выше которого они уже не могли бы подняться. По мнению св. епископа Нисского, нет такого предела, который мог бы пресечь увеличение (ὅρος οὐδεὶς ἐπικόπτει τὴν αὐξησιν) небесного блаженства4). Это постоянное развитие небесного блаженства в бесконечность объясняется как природой блага, служащего для праведной души на том свете предметом наслаждения, так и природой самой души, наслаждающейся этим благом: ее стремлением к этому благу и степенью ее восприимчивости к нему.
Как мы уже выше видели, праведные души наслаждаются на том свете не земными благами, которые можно было бы рассматривать, как временные. Наоборот, эти небесные блага представляют собой такое добро, которое не прекращается через приближение к противоположному, которое не оканчивается тем, что мы предста-
1) De profes. christ. (Mg. XLVI) col. 248C; p. пер. ч. VII, стр. 222.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 249A; p. пер. ч. VII, стр. 223.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 249B; p. пер. ч. VII, стр. 223.
4) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 105C; p. пер. ч. IV, стр. 280.
— 346 —
вляем себе противоположным добру. Эти небесные блага, служащие источником блаженства для праведных душ, являются в собственном смысле добром. Это—Само Божество, Которое, так как Оно не допускает ничего противоположного Себе, не ограничивается никакими пределами (ἑδείχθη , ἀπαράδεκτον δὲ τοῦ ἐναντίου τὸ θεῖοναόριστος ἄρα καὶ ἀπεράτωτο ; ἡ θεία φύσις καταλαμβάνεται)1). Если такова природа небесного блага, то ясно, что оно неизмеримо превосходит силы тварной человеческой души. «Чистый сердцем, — пишет св. Григорий Нисский, — по мере своих сил, согласно неложному слову Владыки, всегда видит Бога. Он столько уразумевает, сколько ему возможно вместить. То, чего нельзя в Божестве определить или уловить, остается за пределами всякого постижения, потому что «величию Его славы, как свидетельствует пророк, несть конца» (Пс. 144, 3). Божество всегда тожественно я мыслится на одной и той же высоте, как и великий Давид, полагавший благия восхождения в сердце и восходивший всегда от силы в силу (ср. Пс. 83, 6. 8), воззвал к Богу: «Ты же Вышний во века, Господи». Этим изречением, как полагает святитель Нисский, он дает понять, что вечно стремящийся к Божеству, хотя постоянно становится большим и высшим самого себя, возрастая через восприятие благ, однако он не может сравниться с Богом, Который «во век пребывает Вышним». Бог никогда. не может показаться воспринимающим все большую и большую меру благ, а также равным или ставшим ниже их, потому что Он «всегда в равной мере выше и превосходнее силы возвышающихся (τὸ ἴσον ἀνώτεοος πάντοτε καὶ ὑψηλότερος εἶναι τῆς τῶν ὑψουμένων δυνάμεως)»2). Если же такова природа небесного блага, что она безмерно превыша-
1) De vita Moysis (Mg. XLIV) col. 301A; p. пер. ч. I, стр. 226.
2) In Cant. cant, hom. VIII (Mg. XLIV) col. 941 AB; p. пер. ч. III, стр. 212—213.
347 —
ет силы тварной человеческой души, то, естественно, оно может служить источником для все более и более увеличивающегося блаженного состояния тех людей, которые в нем участвуют1).
Развитие небесного блаженства в бесконечность нисколько не противоречит и природе души; наоборот, сточки зрения ее свойств, оно вполне допустимо. Дело в том, что душа, как созданная по образу Божию, находится в родстве с Богом. Так как все родственное между собой взаимно впечется друг к другу, то, поэтому, и душа всегда стремится к Богу 2). И это стремление души к Богу не является временным, продолжающимся только в течение настоящей жизни. Напротив, оно имеет место и по смерти. Освободившись от тела и перейдя за пределы настоящей жизни, душа не находится в состоянии совершенного покоя, а продолжает свое стремление к Первообразу, все более и более приобщаясь этого высшего для нее Блага. При этом нужно заметить, что данное восхождение души к Божеству в загробной жизни совершается гораздо легче и удобнее, чем в земной, так как там ее природа существенно изменяется. В настоящей жизни душа, вследствие отсутствия непосредственного отношения к Богу, от Которого ее отделяет чувственно-телесная оболочка, свое стремление к Нему не может возвысить до такой силы и живости, до какой оно может дойти, когда она находится с Ним в ближайшем общении. В таком общении с Богом душа пребывает после своего разлучения с телом, когда она становится исключительно «разумной силой (τὸ διανοητικόν)»3). Тогда, именно освободившись от чуждых ее природе «остатков плотских наростов», душа прекращает труд-
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 941 A; p. пер. ч. III, стр. 212.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 97B; p. пер. ч. IV, стр. 272.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 49A; p. пер. ч. IV, стр. 231 cp. Ориген, стр. выше 138.
348
ную борьбу с ними. В силу последнего,—скажем словами св. отца,—«восхождение души к добру, как бы после расторжения ее уз, становится легким и свободным, потому что никакое телесное страдание не влечет ее к себе»1). Таким оно остается навсегда, так как ничто не может его остановить. Оно не имеет для себя никакого предела, потому что зло, как противоположное ему, не может его ограничить в том, чья природа не восприимчива к худому (οὐ ἡ φύσις ἀνεπίδεκτός ἐστι τοῦ χειρονος , πρὸς τὸ ἀπεραντόν τε καὶ ἀόριστον τὸ ἀγαθὸν προελεύσεται)2). А раз нет в загробной жизни ничего, уклоняющего души от добра, то стремление их к Богу будет бесконечно развиваться, восходя от низших его ступеней к высшим «Как готовые к падению тела, как только приобретут некоторую способность катиться по наклонной плоскости, хотя после первого движения и никто не станет принуждать их к новому, но они сами собой сильным порывом несутся вперед до тех пор, пока их путь покат и наклонен вниз и на нем не встречается ничего такого, что противоположным движением остановило бы их стремление; так,—говорит святитель Нисский,—наоборот, душа, освободившись от пристрастия к земному, несется вверх, поднимаясь с самой низкой ступени на самую высокую. И так как сверху ничто не останавливает ее движения, то, само собой понятно, она постоянно становится выше и выше себя самой, вследствие сильного желания небесных благ, простираясь, как говорит апостол, в предняя» (Фил. 3, 13)). Каждая достигнутая душой степень добра будет служить для нее новым побуждением и новой поддержкой в ее дальней» тем движении. Душа «всегда будет совершать полет к вышнему, постоянно, по выражению св. епископа Нисского,
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 88A; p. пер. ч. IV. стр. 264.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 97A; p. пер. ч. IV, стр. 272.
3) De viti Moysis (Mg . XLIV) col . 401A ; p . пер. ч. I , стр. 343.
349
обновляя усилие к полету тем самым, чего она уже достигла» 1). «Вкусившим уже, — говорит св. Григорий в другом месте,—и на опыте узнавшим, яко благ Господь (Пс. 33, 9), это вкушение становится как бы побуждением к приобретению большего 2). Кроме того, «Источник, благ всегда привлекает к себе жаждущих, как говорит этот Источник в Евангелии: «аще кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет» (Ио. 7, 37)3). Объясняя последние слова Спасителя, св. отец прибавляет, что ими «Господь не положил предела ни жажде, ни стремлению к Нему, ни наслаждению питьем, но, напротив, не указав в данном повелении определенного времени, Он этим самым дает совет постоянно и жаждать, и пить и иметь к Нему стремление».4).
Таким образом, по мысли св. Григория Нисского, праведная душа на том свете в своем стремлении к высшему «никогда не останавливается, заимствуя от одного начала другое, причем начало всегда большего не заканчивается самим собой, потому что желание восходящего не останавливается на том, знание чего уже достигнуто, но душа, по причине нового еще большего желания, восходя по порядку к новому и высшему, направляется всегда от высшего к высшему до бесконечности» 5),
Если стремление к постоянному увеличению блаженства душ праведников может развиваться в бесконен-
1) Πάντοτε πρὸς τὸ ὑψηλότερον τὴν πτὴσιν ποιὴσεται ... ἀεὶ διὰ τῶν προηνυσμένων τὸν πρὸς τὴν πτῆσιν τόνον ἀνανεάζουσα . Ibid. (Mg. XLIV) col, 401AB; р. пер. ч. I, стр. 343.
2) In. Cant, cant., hom. VIII (Mg. XLIV) col. 944A; p. пер. ч. III, стр. 214.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 941D; p. пер. ч. III, сдр. 214.
4) Ibid. (Mg. XLIV) col. 941D—944A; p. пер, ч. III, стр. 214.
5) Καὶ οὔτε ὑ ἀνιών πότε ἵσταται, ἀρχὴν ἐξ ἀρχὴς μεταλαμβάνων, οὔτε τελείται περὶ ἑαυτὴν ἡ τῶν ἀεὶ μειζονων ἀρχὴ. Οὐδέποτε γὰρ περὶ τῶν ἐγνωσμένων ἡ τοῦ ἀνιόντος ἐπιθυμία ἵσταται, ἀλλὰ διὰ μείζονος πάλιν ἐτέρας ἐπιθυμίας πρὸς ἐτέραν ὑπερκειμένην κατὰ τὸ ἐφεξὴς ψυχὴ ἀνιοῦσα, πάντοτε διὰ τῶν ἀνωτέρων ὁδεύει πρὸς τὸ ἀόριστον. Ibid . ( Mg . XL IV) col . 9410; р. пер. ч. III, стр. 213.
— 350 —
ность, то вполне соответствует этому стремлению и их способность воспринимать блага. Эта способность не является узко-ограниченной, ибо праведные души, наслаждаясь беспрерывно божественным благом, становятся все более и более способными к его восприятию. «Таково участие в божественном благе,—говорит св. Григорий,—что кто в нем пребывает, того оно делает большим и более восприимчивым, будучи воспринято для увеличения его силы и величия, так что питаемый этим благом всегда растет и никогда не прекращает этого своего роста». В виду того, что Источник благ расточает их постоянно, то природа воспринимающего их,—так как в воспринимаемом нет ничего излишнего и бесполезного, — обращает их в средство, служащее к ее увеличению; она становится более способной к привлечению к себе лучшего и к восприятию его в большей мере 1). Воспринимающий от Источника благ по мнению св. отца, чем он больше воспринимает, тем способнее становится к восприятию большей меры благ. Потому-то и относительно младенцев св. Григорий утверждает, что они, хотя, т. ск. на первых порах и не имеют возможности, в силу несовершенства своего возраста, вместить в себе блаженство взрослых людей, и, как не совершившие личных грехов, удостаиваются лишь низшей, младенческой степени блаженства, однако потом постепенно становятся способными к воспринятою и полного блаженства. «Душа, не вкусившая добродетели, — пишет святитель Нисский, — хотя и не участвует в бедствиях, являющихся следствием греха, как свободная с самого начала от нравственной порчи, все таки, в той жизни, которая состоит в богопознании и в общении с Богом, столько участвует в благах на пер-
1) Τοιαύτη γὰρ ἡ τοῦ θείου ἀγαθοῦ μετουσία, ὥστε μείζονα καὶ δεκτικώτερον ποιεῖν τὸν ἐν ᾧ γίνεται, ἐκ δυνάμεως καὶ μεγέθους προσφῆκην ἀναλαμβανόμενη τῷ δεχομένῳ, ὡς ἂν αὖξεσθαι τὸν τρεφόμενον, καὶ μὴ λήγειν ποτὲ τῆς αὐξὴσεως... De an. et res. (Mg. XLVI) col.. 105BC; p. пер. ч. IV, стр. 280.
351
вый раз, сколько вмещает питаемое ( τοσοῦτον μετέχει παρὰ τὴν πρώτην, ὅσον χωρεῖ τὸ τρεφόμενον)» 1). Но такое полу блаженное состояние душ умерших младенцев не остается на этой первоначальной ступени. Удостоившись соответственной их развитию степени небесного блаженства, они под влиянием последнего мало но-малу приобретают способность все к большему и большему восприятию небесных благ. Душа младенца на том свете на начальной ступени своего блаженного состояния, по словам св. отца, находится только до тех пор, «пока она, как бы какой-то приличной пищей приведенная в мужество созерцанием Сущего, не станет способной к восприятию большего, свободно приобщаясь особенно Истинно—Сущего» 2).
Итак, св. Григорий как с тонки зрения беспредельной природы небесного блага, так и с тонки зрения природы души, обладающей способными к постоянному увеличению стремлением и восприятием блага, считал вполне допустимой мысль о развитии будущего блаженства в бесконечность.
4. Разные степени небесного блаженства.
Из учения св. Григория Нисского, что небесное блаженство праведных душ развивается в бесконечность, с внутренней необходимостью следует, что он также учил и о различных его степенях 3). Это последнее учение прямо было выражено и в Св. Писании. Святитель Нисский, имея в виду известное выражение Спасителя, пишет: «мы научены, что у Отца обители многи суть» (ср.
1) De infant, qui praemat. abrip. (Mg. XLVI) col. 180CD; p. пер. ч. IV, стр. 347.
2) ἔως ἄν, καθάπερ τινὶ τροφῇ καταλλὴλῳ τῇ θεωρία τοῦ ὄντος ἐναδρυνθεῖσα, χωρητικὴ τοῦ πλείονος γένηται, ἐν δαψιλεία τοῦ ὄντως ὄντος κατ’ ἐξουσίαν μετέχουσα. Ibid. (Mg. XLVI) col. 180D; p. пер. ч. IV, стр. 347.
3) Cp. Ориген, стр. выше 140.
352
Ио. 14, 2)1). Кроме того, представление о разных степенях небесного блаженства, но мысли св. отца, вполне оправдывается и с точки зрения человеческого разума. По убеждению св. Григория, было бы признаком неразумия отожествлять, например, степень блаженства душ умерших в младенческом возрасте и детстве с степенью блаженства душ умерших взрослых людей, которые проводили на земле свою жизнь добродетельно. «Если справедливо мнение, — пишет св. отец, — что преждевременно умерших ожидает добрая участь взрослых, то, вследствие этого, неразумие окажется гораздо предпочтительнее разума и, поэтому, добродетель окажется ничего не стоящей»2). С точки зрения требований нашего разума нельзя предположить будущую участь душ умерших младенцев и праведных душ умерших взрослых людей одинаковой 3), потому что тогда не принявший участия в жизни, — как справедливо замечает святитель Нисский,—оказался бы более блаженным, чем тот, кто вел хорошую жизнь4). Равным образом, наоборот, оказался бы более блаженным проводившего на земле греховную жизнь не только не участвующий в злых делах, но и совершенно не вступавший в жизнь5). Таким образом, по представлению св. епископа Нисского, не может подлежать сомнению разнообразие степеней небесного блаженства.
Из сказанного также видно, что разнообразие степеней небесного блаженства обусловливается большей или меньшей степенью добродетели, в которой человек преуспевает на земле. «Для всех, — пишет св. Григорий,—
1) In Cant, cant., hom. XV (Mg. XLIV) col. 1109C; p. пер. ч. III, стр. 398.
2) De infant, qui praemat. abrip. (Mg. XLVI) col. 169C; p. пер. ч. IV, стр. 336.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 181A; p. пер. ч. IV, стр. 347.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 181D—184A; p. пер. ч. IV, стр. 349.
5) Ibid. (Mg. XLVI) col. 184A; p. пер. ч. IV, стр. 349—350.
353 —
приготовлено воздаяние, причем каждому по мере его стремления к хорошему и уклонения от худого»1). Число степеней небесного блаженства, разумеется, не может быть точно определено, но безошибочно можно сказать, что их столько же, сколько «чинов» добродетели на земле. В течение же своей земной жизни люди достигают весьма разнообразных ступеней добродетели. По словам св. отца, «иной едва начинает вкушать лучшую пищу» как бы только что выйдя из какой-то бездны порочной жизни с целью достижения истины, а у другого, по причине его заботливости, произошло уже некоторое прибавление лучшего; третий возрос наиболее в стремлении к благам; один достиг средины при восхождении на высоту; другой перешел и за средину; некоторые и этих превзошли, а иные опередили и последних; наконец, есть и такие, которые и этих превзошли в своем восхождении к горнему» 2). Все они получат соответствующую их добродетельному состоянию степень небесного блаженства. Вполне сообразуясь с разнообразием произволений, Бог, по рассуждению св. епископа Нисского, принимает каждого в его собственном чине, причем наделяет всякого тем, чего он достоин, выдавая соответствующие награды высшим праведникам и соразмеряя Свои награды с достоинством менее праведных 3). А так как добродетельная жизнь выражается в делах любви, то, поэтому, они и будут служить мерилом при распределении между душами умерших людей небесного блаженства.
По мнению св. Григория, Господь призовет известную часть
1) In Cant, cant., hom. XV (Mg. XLIV) col. 1109C; p. пер. ч. ΙΙΙ, стр. 398.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 1109D, p. пер. ч. III, стр. 398—399.
3) Ὅλως κατὰ τὴν ποικίλην τῶν προαιρέσεων διαφορὰν ἐκαστον ὁ Θεὸς ἐν τῷ ἰδίῳ δέχετοι τάγματι, τὰ πρὸς ἀξίαν ἀποπληρῶν τοῖς πᾶσιν, καὶ συνάγων τοῖς ὑψηλοτέροις τὰς τῶν ἀγαθῶν ἀμοιβάς, καὶ συμμετρῶν ἐλάττοσι. Ibid. (Mg. XLIV) col. 1109D—1112A; p. пер. ч. II, стр. 399.
— 354 —
людей в обители Своего небесного Отца «не за то, что они облеклись на земле одеждой нетления, не за то, что они омыли свои грехи, но за то, что они совершили дела любви»1). Таким образом, при распределении степеней небесного блаженства будет иметь значение та добродетельная жизнь, которую вел человек на земле, другими словами, «дела любви».
Такой порядок вещей вполне понятен, так как в зависимости от степени добродетели человека находится способность его души к восприятию небесного блаженства. От способности же души к восприятию блаженства зависит ее степень наслаждения им. «Воспитавшие свои души в добродетели во время настоящей жизни и, как говорит апостол, обучившие свои духовные чувства, если переселятся в другую бесплотную жизнь, то они, соответственно тому навыку и той силе, какие ими приобретены, удостоятся божественного наслаждения, более или менее сообразно с настоящей силой каждого (κατὰ τὴν παρούσαν ἐκάστου δύναμιν), участвуя в ожидаемых благах» 2). В последнем обстоятельстве собственно и заключается основная причина существования разных степеней небесного блаженства. Бог, общение с Которым служит источником блаженства для душ умерших праведников, действительно, только и может сообщать Себя в такой мере, в какой вмещает воспринимающий Его (ἑκάστῳ πάρεστι τοσοῦτον ἐαυτὀν διδοὺς , ὅσον τὸ ὑποκείμενον δέχεται)3). Желая приблизить к нашему пониманию соответствие степеней небесного блаженства душ умерших праведников с степенью их вместимости его, св. отец прибегает к сравнению. «Мне кажется, говорит он, что настоящий образ жизни младенца по некоторому сходству близок у него с будущей жизнью. Ведь, как первый младенческий
1) De bapt. (Mg. XLVI) col. 429D; p. пер. ч. VII, стр. 449.
2) De infant, qui praemat. abrip. (Mg. XLVI) col. 180C; p. пер. ч. IV, стр. 347.
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 181 B; p. пер. ч. IV, стр. 348.
— 355
возраст питается сосцом и молоком; потом, за этой пищей следует другая, сообразная возрасту, свойственная и пригодная для питаемого до тех пор, пока он не придет в совершенный возраст;—так, думаю, и душа удостаивается соответствующего природе ее жизни в некотором порядке и последовательности (διὰ τῶν ἀεὶ καταλλήλων τάξει τινὶ καὶ ἀκολουθία), воспринимая то, что ей свойственно в блаженстве в такой мере, в какой это она может вместить (ὡς χωρεῖ καὶ δύναται τῶν ἐν τῇ μακαριότητι προκειμένων μεταλαμβάνουσα), как нечто подобное мы узнали и от Павла, который иначе питает уже возросшего в добродетели и иначе несовершенного младенца (1 Кор. 3, 2 ср. Евр. 5, 14)» 1)
Итак, св. Григорий Нисский учил, что степени небесного блаженства душ умерших праведников весьма разнообразны. И это их разнообразие зависит от способности праведных душ к восприятию небесных благ, обуславливающейся той или иной высотой их добродетельной жизни на земле.
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 177D—180A; p. пер. ч. IV, стр. 345.
356
ГЛАВА V.
Учение об адских мучениях.
1. Субъект адских мучений.
Подобно тому как на земле не одинакова жизнь людей, так и на том свете различна участь их душ. Между тем как души одних людей непосредственно после их смерти переходят в обители небесного блаженства, души других наследуют адские мучения. Если, как мы видели, небесное блаженство на том свете принадлежит душам тех людей, которые проводили на земле добродетельную жизнь, то, наоборот, адские мучения должны быть участью душ умерших грешников. В будущей жизни, по рассуждению св. Григория Нисского, мы будем собирать плоды семян, посеянных нами во время настоящей жизни, при этом плоды тленные и способные к погибели, если такими их нам произведут дела этой жизни, потому что сказано: «сеяй в плоть, от плоти пожнете истление» (Гал. 6, 8)1).
И действительно, души людей, предающихся во время настоящей жизни рабскому служению плоти и ее страстям, должны на том свете испытывать состояние, совершенно противоположное тому, в каком там находятся праведные души. Причина этого заключается, во-первых, в том, что души таких преданных чувственно-
1) De vita Moysie (Mg. XLIV) col. 369C; p. пер. ч. I, стр. 308.
— 357 —
сти людей не могут воспринять небесного блаженства, состоящего в общении с Богом. В своей жизни они не богоуподобляли своей природы, а только извращали или скотоуподобляли ее. Они стали плотскими от противонравственного преклонения пред чувственностью и как бы покрылись «вещественными наростами», образовывающимися на ней «от общения со страстями» х). Разумеется, такие извращенные по своей природе души как во время жизни человека, так и после его смерти не могут входить в общение с Богом и в Нем находить для себя высшее наслаждение. «Беззаконницы, — говорит св. отец словами псалмопевца,—изженутся, и семя нечестивых потребится» (Пс. 36, 28)2). И это потому, что грешники во время земной своей жизни, предаваясь исключительно плотским страстям, не развили в природе своих душ разумных, чисто духовных влечений. Не подлежит сомнению, что они, находясь после своего разлучения с телом в такой области бытия, где блаженство состоит только в духовно-разумном созерцании Бога, не могут принимать в нем участия. Эту свою мысль св. Григорий поясняет через сравнение. Как глаз, — говорит он, — выведенный болезнью из естественного положения, теряет способность видеть, так, подобно этому, «у кого болезнь неведения, как бы какой-либо гной, служит препятствием к участию в истинном свете, для того необходимым следствием этого бывает — лишение доли в том, участие в чем мы называем жизнью» 3). Кто по своей худой жизни окажется волчцем и тернием в венке, который на голове Спасителя стал венком, сплетенным из чести и
1) Οὕτως καὶ ὅσα ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν διὰ τῆς τῶν παθημάτων κοινωνίας ἀποσαρκωθείσαις ὑλώδη περιττώματα ἐπιπωρουται . Orat, eat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 47—48); p. пер. ч. IV, стр. 32.
2) In psalm., lib. I, cap. IV ( Mg . XLIV) col . 4480; p . пер. ч. II , стр. 19.
3) De infant, qui praemat. abrip. (Mg. XLVI) col. 176D—177A; p. пер. ч. IV. стр. 343.
—358 —
славы, тот, по словам св. отца, «услышит справедливый глас: «како вошел еси сено не имый одеяния бранна (Мф. 22, 12). Как, будучи терном, ты вплелся в среду тех, которые славой и честью составляют Мой венок? Кое согласие Христови с велиаром? Кая честь верну с неверным? Кое общение свету ко тьме? (2 Кор. 6, 14—16)»1). Таким образом, души умерших грешников должны будут пойти во тьму кромешную (εἰς τὸ ἐξώτερον σκότος)»2).
Во-вторых, печальная участь людей, не видящих, по неразумию, в жизни ничего лучшего, кроме чувственных удовольствий, будет зависеть от того, что эти души, расходуя в земной жизни свойственную их природе долю добра, ничего не сберегают для своей будущей жизни, не приобретая никаких добрых навыков 3). Отсюда, «тот, кто не заботился о путях добродетели, не будет свободен от наказания (οὐκ ἐλεύθερος ζημίας)»4). Это потому, что души таких грешников, которые в чувственности и плотских страстях полагают все благо жизни, после своего освобождения от тел, естественно, лишатся возможности удовлетворять своим порочным стремлениям 5). Между тем, тяготение к ним таких душ, все-таки, будет продолжаться, причем большая или меньшая степень его будет находиться в прямой зависимости от силы развитого в душах пристрастия к земной жизни. «Кто весь и всецело оплотянел умом, всякое движение и действие своей души занимая исполнением плотских стремлений, тот, ставши и вне плоти, не расстается с плотскими страстями, но, подобно прожив-
1) De perf. christ, forma (Mg. XLVI) col. 280C; p. пер. ч. VII, стр. 255.
2) In psalm., lib. H, cap. XVI (Mg. XLIV) col. 604D; p. пер. ч. II, стр. 189.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 84A; p. пер. ч. IV, стр. 260.
4) De bapt. (Mg. XLVI) col. 428B; p. пер. ч. IV, стр. 446.
5) De mortuis (Mg. XLVI) col. 517B; p. пер. ч. IV, стр. 509.
— 359
шим долгое время в зловонных местах, которые, когда перейдут туда, где воздух свеж, не очищаются от неприятного запаха, каким они пропитались в течение долговременного в нем пребывания; так и любящие плотские удовольствия после своего перехода в невидимую жизнь не могут, конечно, не привнести в нее с собой известной доли плотского зловония»1) Потому-то и евангельский богач, привыкший к плотской жизни, и после своей смерти заботился лишь «о плоти и крови (ἡ σὰρξ καὶ τὸ αἴμα)», прося Лазаря о помощи своим родственникам, оставшимся еще на земле 2). Эта именно привязанность душ умерших грешников к плотскому и отсутствие возможности ее удовлетворения, само собой понятно, будет сопровождаться их внутренним мучением.
Однако, св. Григорий Нисский далек был от той мысли, чтобы души всех людей, впадающих на земле в грехи, считать после их разлучения с телом наследницами ада. По его представлению, печальная участь ожидает душу умершего грешника только в том случае, если он не очищает ее в течение своей земной жизни через покаяние. «Горькая участь, говорит он, посылается от Бога достойным ее». Обращая речь к одному из таковых, святитель Нисский словами св. апостола говорит: «по жестокости твоей и по непокаянному сердцу, собиравши себе гнев в день гнева и откровения праведного суда Божия» (Рим. 2, 5. 6)3). Для души человека, обремененного грехами, доступ к небесным благам закрывается лишь тогда, когда последний своей неразумной привязанности к греху не врачует покаянием4). «Однажды избравший приятное во время настоящей жизни и
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 88AB; p. пер. ч. IV, стр. 264.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 85D; p. пер. ч. IV, стр. 263-264.
3) De vita Moysis (Mg. XLIV) col. 349D—352A; p. пер. ч. I, стр . 286.
4) Dr. Fr. Hilt, Des. heil. Gregor von Nyssa Lehre vom Menschen systematisch dargestellt (Köln 1890), S. 245 Anm. 4.
— 360
не уврачевавший своего неразумия покаянием, делает после этого недоступной для себя область благ»1). Ясно, что души грешников на том свете становятся участницами адских мучений и вместе с тем лишаются небесного блажевства только в случае полного их ожесточения в грехах, когда они через спасительное средство покаяния не восстановляют своей извращенной природы. Потому-то святитель Нисский с особенной ревностью и настаивает на необходимости внимательной заботы о покаянии на земле, чтобы внезапно застигающая человека смерть не лишила его этого спасительного средства к уврачеванию греховных недугов. «Ведь, во время смерти, — так заключает св. отец раскрытие данных своих мыслей,— уже никто не будет иметь возможности болезнь, причиненную ему грехом, уврачевать памятованием о Боге, потому что исповедь имеет силу лишь на земле, а во аде этого нет» 2).
Если св. Григорий Нисский считал участниками на том свете адских мучений тех из людей, для которых «баня крещения послужила телу, а душа их не освободила себя от страстных нечистот»3), то, естественно, он должен был отнести к той же категории также тех людей, которые даже не удостоились принятия св. крещения, т.-е. язычников. Будущую участь язычников св. отец вполне отожествляет с участью нераскаявшихся грешников. «В ком, говорит он, загрубели страсти и не произведено никакого очищения от нечистоты: ни таинственной водой, ни призыванием божественной силы, ни
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 84B; p. пер. ч. IV, стр. 261.
2) Οὐκέτι γὰρ ἔσται ἐν τῷ θανάτῳ ὁ διὰ τῆς μνήμης τοῦ Θεοῦ θεραπεῦσαι δυνάμενος τὴν ἐκ κακίας αὐτῷ γενομένην νόσον. Διότι ἐπὶ γῆς μὲν ἰσχὺν ἡ ἐξομολόγησις ἔχει ἐν δὲ τῷ ᾅδῃ, τοῦτο οὐκ ἔστιν. In psalm. VI (Mg. XLIV) col. 613A: р. пер. ч. II, стр. 200 cp. Ibid., lib. II, cap. II (Mg. XLIV) col. 548D; р. пер. ч. II, стр. 125.
3) Orat. cat., cap. 140 (Srawley, op. cit., p. 160); p. пер. ч. IV, стр. 107.
— 361
исправлением через покаяние, тем, в силу необходимости, должно пребывать в соответствующем этому состоянии»1). Изображая участь на том свете душ язычников более подробно, святитель Нисский недоумевает относительно того, «примут ли ангелы в свое общество душу, не просвещенную и не украшенную благодатью возрождения, после ее разлучения с телом»2). Но как это может быть, спрашивает он,—если она не имеет ни печати, ни знака Владыки? Естественно, поэтому, предположить,— продолжает св. отец,—что ее участь будет такова. «Она будет кружиться в воздухе, блуждая, носясь туда и сюда, никем не отыскиваемая, как не имеющая господина, желающая успокоения и приюта и не находящая их, тщетно скорбящая и бесплодно кающаяся. Подобно приточному богачу, облачавшемуся в порфиру и виссон, она—пища неугасимого огня» 3). Этот огонь послужит для душ умерших язычников соответствующим средством восстановления их богоподобной природы. Он, по мнению св. отца, заменит для язычников таинство св. крещения. «Так как в огне и в воде есть какая-то очистительная сила, то не удостоившиеся очищения через таинственную воду, по необходимости, очищаются огнем» 4).
2. Сущность адских учений.
Считая неизбежной участью душ умерших грешников и язычников адские мучения, св. Григорий Нисский, однако, не дал определенного ответа на вопрос, в нем будут состоять последние. По его мнению, сущность ад-
1) Ibid ., сар. 35 (Srawley , ор. cit ., р. 138); р. пер. ч. IV, стр. 95.
2) De bapt. (Mg. XLVI) col. 424 В; р. пер. ч. VII. стр. 442.
3) Ibid . ( Mg . XLVI) col. 424С; р. пер. ч. VII, стр. 442.
4) Ἐπεὶ οὗν ῥυπτικὴ τις ἐστι δὑναμις ἐν τῷ πυρὶ καὶ τῷ ὕδατι ... Οἱ δὲ ταύτης ἀμύητοι τῆ ; καθάρσεως — διὰ τοῦ ὕδατος τοῦ μιστικοῦ — ἀναγκαίως τῷ πυρὶ καθαρίζονται . Orat. cat., cap. 35 (Srawley, op. cit., p. 139); p. пер. ч. IV, стр. 95.
— 362 —
ских мучений так же не подлежит точному определению, как и природа ожидаемых благ. В будущей жизни, по рассуждению св. отца, душу, привязавшуюся к злу, постигнут «какие-то неизвестные и невыразимые болезни, изображение которых в слове не поддается в той же мере, в какой и природа ожидаемых благ» 1). И это по той простой причине, что они одинаково с небесными благами «не подчиняются силе слов и не доступны гаданию разума» 2).
Сознавая невозможность тонного определения сущности адских мучений, св. Григорий, все-таки, пытается, насколько это возможно при условиях настоящей жизни, приблизить их к нашему обычному представлению. Это он делает прежде всего, отрицательным путем. Если небесное блаженство праведников состоит в наслаждении чрезмерными благами, то, естественно, — полагает св. Григорий,—предположить, что адские мучения душ грешников состоят в лишении последних. Лишение небесных благ, доступных только душам людей, приготовившим себя в течение земной жизни к восприятию их, становится для душ нераскаявшихся грешников «пламенем, палящим душу, для избавления от которого она имеет нужду в какой-либо каппе из моря благ, окружающих праведников» 3). Таким именно пламенем сгорал приточный богач, который не заготовил себе такого блага4). Эта утрата небесных благ грешным душам на том свете причиняет ту скорбь и болезнь, о которых псалмопевец взывает: «объяша мя болезни смертные, беды
1) Ibid., сар. 8 (Srawley, ор. cit., р. 49); р. пер. ч. IV, стр. 32—33.
2) Ibid. (Srawley, ор. cit, p. 49); р. пер. ч. IV, стр. 33.
3) Τοῖς δὲ λοιποῖς ἡ τῶν φαινομένων αὐτοῖς ἀγαθῶν στέρησις φλὸξ γίνεται την ψυχὴν διασμύχουσα, ῥανίδος τινὸς ἐκ τοῦ πελάγους τῶν τοὺς ὁσιους περικλυζόντων ἀγαθών εἰς παραμυθίαν προσδεομένη. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 84C; p. пер. ч. IV, стр. 261—262.
4) In psalm., lib. II, cap. XVI (Mg. XLIV) col. 604D; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 190.
— 363 —
адовы обретоша мя, скорбь и болезнь обретох» (Пс. 114, 3). Поясняя данное выражение, св. Григорий говорит, что псалмопевец, «назвав адские мучения смертными болезнями, а грехи—бедами, указывает и предел, к которому в конце концов достигает грех и который есть не что иное, как скорбь и болезнь», или, по выражению св. евангелиста, плач и скрежет зубов (Мф. 24, 51)1) Таким образом, святитель Нисский, подходя к решению рассматриваемого вопроса с отрицательной стороны, полагал сущность адских мучений в болезненном ощущении грешными душами στέρησις τῶν ἀγαθών .
Однако, отрицательным определением сущности адских мучений св. Григорий Нисский не ограничился. Он пытается определить их также и с положительной стороны, стараясь найти для мучительного состояния грешников некоторую аналогию в страданиях здешней жизни. Страшные мучения, которые ожидают на том свете нечестивые души, по изображению св. отца, это—«геенна (ἡ γέεννα)»2), «геенская печь (ἡ τῆς γεέννης κάμινος)»3), тьма (σκότος)»4), «кромешная тьма (σκότος ἐξώτερον)»5), «неугасимый огонь (πῦρ μὴ σβεννύμενον)»6), «неумирающий червь (ὁ ἀτελεύτητος σκώληξ)»7) и т. под.
Впрочем, как бы сильными ни представлялись эти аналогии между мучительным состоянием грешных душ
1) Ibid., lib. I. cap. VITI (Mg. XLIV) col. 477D—480A; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 52.
2) In psalm. VI (Mg. XLIV) col. 612B; p. пер. ч. II, стр. 198; De beatitud., orat. II (Mg. XLIV) col. 1221A; p. пер. ч. II, стр. 389; Contra Eunom., lib. IV (Mg. XLV) col. 676B; p. пер. ч. V, стр. 498; In Cant cant., hom. I (Mg. XLIV) col. 765B; p. пер. ч. III, стр. 12; In fun. Pulch. orat. (Mg. XLVI) col. 869C; p. пер. ч. VIII, стр. 395.
3) In Cant. cant., hom. III (Mg. XLIV) col. 813C; p. пер. ч. III, стр. 68.
4) De beatitud., orat. V (Mg. XLIV) col. 1264A; p. пер. ч. II, стр. 435.
5) Ibid., orat. III (Mg. XLIV) col. 1221A; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 389; In psalm., lib. II, cap. XVI (Mg. XLIV) col. 604D; p. пер. ч. II, стр. 189.
6) De beatitud., orat. III (Mg. XLIV) col. 1221А; р. пер. ч. ΙΙ, стр. 389.
7) Ibid., orat. V (Mg. XLIV) col. 1264A; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 435; ibid., Orat. III (Mg. XLIV) col. 1221A; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 389.
— 364
на том свете и страданиями настоящей жизни, тем не менее между ними существует громадная разница. «Мучительная жизнь грешников,—говорит святитель Нисский,— не имеет никакого сравнения с тем, что огорчает чувство в здешней жизни; напротив, какими известными здесь именами ни назовешь тамошние наказания, все-таки, не в малом будет различие»1).
Указанные аналогические обозначения будущих страданий св. Григорий Нисский понимал в особом духовном смысле. Это и понятно. Страдающим субъектом является бестелесная душа, и самый ад, по взгляду св. отца, является ne локальным, а нравственным состоянием. Разумеется, если на том свете грешники будут страдать не в каком-либо материально определенном месте, то под причиняющими мучения тьмой, огнем или червем нельзя разуметь какого-нибудь внешнего средства мучения, но только мучительный нравственный процесс или состояние2).
И в самом деле, какое место может иметь в аду «тьма», если он, по воззрению св. Григория, представляет собой не локальное, а нравственное состояние?—Естественно предположить, что «тьмой» на том свете будет для душ умерших грешников известное мучительное состояние. Некоторое определение этого состояния святитель Нисский видит в словах псалмопевца: «вся делающыя беззаконие возвратятся на вечер, и взалчут яко пес» (Пс. 58, 15). Возвратиться же на вечер, по объяснению св. отца, «не иное что значит, как быть изгнанным во тьму кромешную, потому что
1) Orat. cat., cap. 40 (Srawley, op. cit., p. 163); p. пер. ч. IV, стр. 109.
2) Употребление в Св. Писании для изображения адских мучений понятий —«огонь», «мрак» и «червь», по мнению св. Григория, указывает на то, что в них вместе с душой будет пребывать также и тело, которое на земле одинаково с ней принимает участие в греховных делах (In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 677D— 680A; p. пер. ч. VIII, стр. 85); vgl. Dr. Fr. Hilt, op. cit, S. 269 Anm. 2.
— 365 —
вечер—начало и мать тьмы» 1). Что же касается алкания в ней яко песо, то причину и сущность его св. Григорий выражает так: «у кого нет данных для спасения, тех по необходимости будет сопровождать бедствие, происходящее от голода благ. Так взалкал во аде богач, лишенный божественной росы» 2). Итак, ясно, что под «тьмой» в аду разумеется известный мучительный нравственный процесс.
Если св. Григорий Нисский не находил возможным мыслить об адской тьме по строгой аналогии с настоящей, тем более он не сомневался в том, что адский огонь нельзя считать вещественным в смысле обычной материальности. По мнению св. отца, этот огонь не может быть сравниваем с обыкновенным огнем как по своему качеству, так и по силе своего действия. «Слыша слово огонь,—пишет святитель Нисский,—ты научен мысленно представлять нечто иное сравнительно с внешним огнем, потому что в том огне есть что-то такое, чего нет в этом. Ведь, тот огонь не угасает, тогда как для погашения этого огня открыто опытом много угашающих средств. А между огнем угашаемым и не допускающим угашения существует великая разница. Поэтому, последний есть нечто иное, а не то же самое сравнительно с первым» 3). Что же касается более точного определения внутреннего свойства данного огненного мучения, то о нем, по представлению св. епископа Нисского, можно судить на основании тех средств, которыми оно производится. Указание же на последние св. Григорий находит у св. апостола
1) In psalm., lib. II, cap. XVI (Mg. XLIV) col. 604D; p. пер. ч. II стр. 189.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 604C; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 190.
3) Πῦρ γὰρ ἀκούων ἄλλο τι παρὰ τοῦτο νοεῖν ἐδιδάχθης ἐκ τοῦ προσκεῖσθαι τι τῷ πυρὶ ἐκείνῳ δ ἐν τοὑτῳ οὐκ ἔστιν τὸ μὲν γὰρ οὐ σβέννυται, τούτου δὲ πολλά παρὰ τῆς πείρας ἐξεύρηται τὰ σβεστήρια, πολλή δὲ τοῦ σβεννυμένου πρὸς τὸ μὴ παραδεχόμενον σβέσιν ἡ διαφορά. Οὐκοῦν ἄλλο τι, καὶ οὐχὶ τοῦτό ἐστιν. Orat. cat., cap. 40 (Srawley, op. cit., p. 163); p. пер. ч. IV, стр. 109—110 cp. Ориген, стр. выше 143—144.
— 366 —
Павла. Это будут—дрова, сеноитростие, под которыми нужно разуметь « дурное здание ( τὴν πονηράν οἰκοδομήν)» (1 Кор. 3, 12), « потому что такие здания во время суда становятся огнем ( διότι τὰ τοιαῦτα οἰκοδομήματα ἐν τῷ τῆς κρίσεως καιρῷ πῦρ γίνεται)» 1). Отсюда ясно видно, «что дрова, собираемые для приготовления огня, являются пустыми в жизни предначинаниями (τὰ μάταια τοῦ βίου ἐπιτηδεύματα)»2). «Кто,— говорит св. отец в другом месте,—свое богатство тщательно скрывал под печатями, запорами, за железными дверями, в безопасных тайных местах и накопляющийся у него материал предпочитал прятать и хранить больше, чем какую бы то ни было заповедь, тот стремглав бросится в темный огонь» 3). И тогда «испытавшие в этой жизни от него жестокость и немилосердие станут укорять его, говоря ему: «помяни, яко восприял еси благая твоя в животе твоем» (Лук. 16, 25); в укрепленных местах, вместе с богатством, ты заключил свою милость и оставил милосердие; ты не принес в эту жизнь человеколюбия и не имеешь того, чего не имел; ты не находишь, него не полагал; ты не собираешь, него не расточал; ты не жнешь, чего не сеял; твоя жатва достойна сеяния; ты сеял горечь, собирай ее рукояти; ты уважал жестокость, имей при себе то, что ты любил; в земной жизни ты ни на кого не смотрел с состраданием, и на тебя никто не смотрит с сожалением; ты презирал скорбящего, будут презирать и тебя погибающего; ты избегал случаев оказать милость, убежит она и от тебя; ты гнушался нищего, будет гнушаться и тобой тот, кто по твоей вине был нищим» 4).
1) In Eccles., hom. VII (Mg. XLIV) col. 716C; p. пер. ч. II, стр. 315 cp. Ориген, стр. выше 146.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 716C; p. пер. ч. II, стр. 316.
3) De beatitud., orat. V (Mg. XL(V) col. 1261C; p. пер. ч. II, стр. 434.
4) Ibid. (Mg. XLIVI col. 1261CD—1284A; p. пер. Ч. ΙΙ, стр. 434—435.
— 367 —
Наконец, червь, угрызающий на том свете души умерших грешников, по мнению св. Григория Нисского, не может быть отожествляем с нынешним земным червем. И это потому, что тогда пришлось бы и адский огонь считать подобным нашему земному. Но при этом последнем червь не мог бы жить. Если же адский огонь, как мы сказали, рассматривается в духовном смысле, то ясно, что и адский червь должен иметь другую природу сравнительно с земным червем. Прямым подтверждением этого служит то обстоятельство, что он обладает способностью «никогда не умирать». «Слыша о черве,—говорит св. отец,—не обращайся мысленно, в виду их одноименности, к земному червю. Ведь, прибавление, что червь не умирает, наводит на мысль—предполагать другую какую-то природу сравнительно с известной нам»1). Природу этого «червя» святитель Нисский определяет несколько точнее, когда говорит о нем, что ему дает жизнь любостяжательность (διὰ τῆς πλεονεξίας ζωογονούμενον)2). Таким образом, ясно, что под адским червем, угрызающим душу грешников, нужно разуметь не аналогичное земному животное, но известное мучительное состояние. Это—«червь совести, всегда грызущий душу стыдом и возобновляющий ее страдания напоминанием о сделанном в жизни худо» 3).
Итак, по представлению св. Григория Нисского, адские мучения состоят, с одной стороны, в ощущении лишения небесных благ, а с другой,—в мучении адскими «тьмой», «огнем» и «червем», понимаемыми не в смысле обычной материальности, а в смысле духовном.
1) Orat. cat., cap. 40 (Srawley, op. cit., p. 163); p. пер. ч. IV, стр. 110.
2) De vita Moysis (Mg. XLIV) col. 369B; p. пер. ч. I, стр. 307.
3) Καὶ τὸν ἀτελεύτητον τῆς συνειδήσεως σκώληκα, τὸν ἀεὶ μυζῶντα τὴν ψυχὴν δι’ αἰσχύνης, καὶ τῇ μνήμη τῶν κακῶς βεβιωμένων τὰς ἀλγηδόνας ἀνακαινίζοντα. In psalm. VI (Mg. XLIV) col. 612BC; p. пер. ч. II, стр. 198.
— 368 —
3. Адскиепучения—ἰατρεία καὶ θεραπεία.
Как мы уже сказали, адские мучения ожидают в будущей жизни умерших грешников и не принявших на земле крещения. Эти муки ада, являясь естественным следствием их земной жизни, не будут служить для них простым только наказанием. Напротив, по мнению св. Григория Нисского, они вместе с наказанием будут соединять в себе также и врачевание нравственно-испорченной природы грешных людей 1).
По определению Бога, примирение с Ним человека должно происходить еще во время земной жизни последнего. Человеческая природа в лице Иисуса Христа была восстановлена в ее первоначальное богоподобное состояние. Это восстановление через свв. таинства, при свободном участии человека, должно переходить в природу того или другого отдельного лица. Чтобы человеку стать действительным участником совершенного Искупителем спасения человеческого рода, он должен не только уверовать во Христа, но вместе с тем и сам, при благодатной помощи свыше, свободно преображать свою природу путем добродетельной жизни в богоподобную тварь. Добродетельная жизнь на земле, по мысли св. отца, служит для души человека средством врачевания от греховных скверн. Если же во время настоящей жизни «душа остается неуврачеванной, то,—полагает святитель Нисский,— для нее хранится врачевание в будущей жизни (εἰ δὲ ἀθεράπευτος μένοι , ἐν τῷ μετὰ ταῦτα βίῳ τετεμίευται ἡ θεραπεία)»2). Что касается средства, которым там совершается это врачевание, то оно, по мнению св. отца, заключается именно в самых адских мучениях, преимущественно в мучениях огня3).
1) Ср. Климента Ал., стр. выше 115; Ориген, стр. выше 146.
2) Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 46); p. пер. ч. IV, стр. 31.
3) Ibid., cap. 35 (Srawley, op. cit., p. 138); p. пер. ч. IV, стр. 95 vgl. Dt. Fr. Diecamp, op. cit., S. 256.
— 369
О таком очистительном характере адских мучений трактуется в сочинениях св. Григория очень часто. Так, он 1) указывает на него, когда говорит, что различие добродетельной и порочной жизни на том свете обнаружится в том, что души, проводившие первый род жизни, после своего отделения от тела, тотчас удостаиваются блаженства, тогда как на души, проводившие второй род жизни, будет простирать свое действие великая строгость Судьи (πολλὴ ἀποτομία παρὰ τῷ Κριτῆ)1), и они достигнут блаженного состояния только после соответственного «врачевания», состоящего в очищении души от порочности (ἰατρεία δὲ ἄν εἴη ψυχῆς τὸ τῆς κακίας καθάρσιον)»2). 2) В другом своем сочинении святитель Нисский изображает нам ад, как средство очищения, через которое люди, не освободившие себя от своих грехов в течение земной жизни через покаяние, очищаются от последних, после чего они становятся участниками небесного блаженства. По словам св. отца, в избрании добродетельного или порочного образа жизни Богом предоставлена человеку полная свобода. Кто живет на земле по заповедям Божьим и требованиям разума, тот является чистым от всякой примеси зла. Кто же здесь на земле «склоняется к неразумному влечению страстей», тот после смерти узнает о том, что существует различие между добродетелью и пороком. И именно потому, что тогда он будет лишен возможности «быть причастником Божества, если только очищающий огонь не освободит его от примешавшейся к его душе нечистоты (ἐν τῷ μὴ δύνασθαι μετασχεῖν τῆς θειότητος , μὴ τοῦ καθαρσίου πυρὸς τὸν ἐμμιχθέντα τῇ ψυχὴ ῥύπον ἀποκαθήραντος)3). 3) Одни, наконец, уже здесь на земле достигают
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 157BC; p. пер. ч. IV, стр. 324.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 152B; p. пер. ч. IV, стр. 318.
3) De mortuis (Mg. XLVI) col. 524B—525A; p. пер. ч. VII, стр. 516—518.
— 370 —
духовной жизни. Таковы, например, были патриархи, пророки, апостолы, мученики и все другие, которые предпочли на земле порочной жизни добродетельную. «Другие же путем исправительного воспитания в последующей жизни, освободившись з очистительном огне от пристрастия к веществу, возвратятся к предназначенной от начала в удел нашей природе благодати»1).
Что касается самого очистительного процесса адских мучений, то и его св. Григорий Нисский не оставляет без доступного для человека изображения. Исходным его моментом является обращение свободной воли человека к Богу. Вопреки замечаниям некоторых исследователей 2), нужно признать, что св. Григорий не считал будущего очищения душ грешников актом насильственного вмешательства Бога во внутреннюю жизнь человека3). И это потому, что акту очистительного воздействия Бога на душу грешного человека, по воззрению святителя Нисского, предшествует со стороны последнего искреннее отвращение от порока 4). Душа, «будучи до пристрастия привержена к веществу, если увидит неожиданное и на опыте узнает бесполезность для нее того, к чему она стремилась в жизни, то она тогда с плачем произнесет те слова, которыми люди обыкновенно выражают свое раскаяние»5). Мало того, раскаявшись в своей
1) Τῶν δὲ λοιπῶν διὰ τὴς εἰς ὕστερον ἀγωγὴς ἐν τῷ καθαρσίῳ πυρὶ ἀποβαλόντων τὴν πρὸς τὴν ὕλην προσπάθειαν, καὶ πρὸς τὴν ἐξ ἀρχὴς ἀποκληρωθεῖσαν τῇ φύσει χάριν. Ibid. (Mg. XLVI) col. 525BC; p. пер. ч. VII, стр. 519.
2) Dr. J. N. Stigler, Die Psychologie des heiligen Gregor von Nyssa (Regensburg 1857), S. 127 Anm; Dr. J. Huber, op. cit., S. 209; проф. A. Мартынов, Учение св. Григория, епископа Нисского, о природе человека (Москва 1886), стр. 316 и дал.
3) Проф. В. Несмелова, Догматическая система св. ГригорияНисского (Казань 1887), стр. 612; Dr. К. Holi, Amphilochius von Ikonium in seinem Verhältnis zu den grossen Kappadoziern (1904), S. 208.
4) Dr. Fr. Diekamp, op. cit., S. 37.
5) Εἴτε καὶ προσπαθῶς περὶ τὴν ὕλην διατεθεἵσα , ἴδοι τὰ ἀπροσδόκητα , καὶ τῇ πείρα μάθοι τῶν σπουδασθέντων περὶ τὸν βίον ἀῦτῇ τὸ ἀνόνητον τότε θρηνούσα την φωνὴν ταύτην προοίσεται , οἴα δὴ ποιοῦμεν ἐκ μεταμελείας οἱ ἀνθρωποι . In Eccles.,
371
порочной земной жизни, душа, охотно стремясь к благу (διὰ τῆς τῶν ἀγαθών ἐπιθυμίας ἑζουσίως ἐπανιόντων)1), естественно, вступит на путь предназначенного ей от начала добра. Это обращение грешной души на путь добра не представляет собой ничего странного, потому что добро составляет потребность ее природы 2). Дело в том, что высшим благом служит для души Божество, с Которым она находится в родстве. Все же между собой родственное, само собой понятно, влечется друг к другу. «Так как всякая природа привлекается родственным ей; в некотором же родстве с Богом находится человечество, как обладающее подобием своему Первообразу, то, в силу необходимости, влечется душа к божественному и сродному ей»3). В этот момент, именно при отвращении от порока и при обращении на путь стремления к добру, встречает душу человека «Бог, присвояющий и влекущий к Себе все, что только по Его милости пришло в бытие* 4). С этого момента собственно и начинается процесс очищения душ умерших грешников, и мучения принимают не карательный, а очистительный характер. В силу же того, что душа, ставшая по причине своего участия в страстной жизни плотской, сроднилась и как бы срастворилась со злом, стремление ее к Богу и влечение ее Богом к Себе сопровождается для нее болезненным процессом очищения приросших к ней посторонних элементов 5), Потому-
hom. I (Mg. XLIV) col. 629В, р. пер. ч. II, стр. 217—218 ср.De hom. opif., cap. XXI (Mg. ХLIV) col. 201ВС; p. пер. ч. I, стр. 162.
1) De mortuis (Mg. XLVI) col. 525G; p. пер. ч. VII, стр. 519.
2) Prof. О. Bardenhewer, Geschichte der altkirchlichen Literatur (Freiburg im Breisgau 1912), Bd. III, S. 219; Patrologie (Freiburg im Breisgau 1910), 3 Aufl., S. 265.
3) Ἐπεὶ οὗν ἐλκτική τῶν οἰκείων πᾶσα φύσις ἐστίν , οἰκεῖον δὲ πως τῷ Θεῷ τὸ ἀνθρώπινον , ἅτε δῆ φέρον ἐν ἐαυτῷ τοῦ ἀρχετύπου μιμήματα ἐλκεται κατὰ πᾶσαν ἀνάγκην πρὸς τὸ θεῖόν τε καὶ συγγενὲς ἡ φυχή . De an. et res. (Mg. XLVI) col. 97 В; p. пер. ч. IV, стр. 272.
4) Ὁ Θεός, ὁ ἀντιποιούμενος τε καὶ πρὸς ἑαυτὸν ἐλκων πᾶν ὅτιττερ αὐτοῦ χάριν ἡλθεν εἰς γένεσιν. Ibid. (Mg. XLVI) col. 97С; p. пер. ч. IV, стр. 273.
5) Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 48); p. пер. ч. IV, стр. 32.
— 372
то данное состояние души св. отец называет « другой смертью, очищающей от остатков плотского припая ( μετὰ τὸν θάνατον πάλιν ἀλλος θάνατος... τὰ λείψανα τῆς σαρκώδους κέλλης ἀποκαθαίροντος)» 1).
Из сказанного видно, что св. Григорий понимает адские мучения, не как одно только наказание за греховную жизнь 2), но, напротив, не отрицая в адских мучениях момента воздаяния (ἀντιδιδομένης)3) или наказания (κολάσεως)4), не считает, однако, последнего главной их целью, а только промыслительным средством к другому высшему акту, именно врачеванию душ умерших грешников от скверн порока. По представлению святителя Нисского, момент воздаяния в адских мучениях занимает худшую сторону. Гораздо лучшей стороной в них является, по его мнению, момент уврачевания душ от «плотского припая» 5). «Не из ненависти и не из мести за худшую жизнь, как я думаю,—говорит св. отец устами Макрины,—в мучтельное состояние вводит Бог согрешивших» 6). Наоборот, «с лучшей целью привлекает к Себе Он — Источник всякого блаженства» 7). Таким
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 88A; p. пер. ч. IV, стр. 264.
2) Так односторонне понимает учение св. отца проф. В. Несмелова, (ор. cit., стр. 610—611 и друг.) Большинство же исследователей признают вместе с тем и их врачевательный характер (Dr. Fr. Hilt, ор. cit., S. 257, 257 Anm. 1, 260, 261, 265, etc.; Dr. Fr. Diekamp, op. cit.. S. 256, 257,259, 259 Anm. 1; Dr. Fr. Böhringer, op. cit., S. 139; Dr. J. Huber, op. cit., S. 209; Prof. W. Münscher, op. cit., S. 424; проф. A. Мартынова, op. cit., стр. 314; Dr. A. Stöckl, Geschichte der Philosophie der patristische Zeit (Würzburg 1859), S. 312; Dt. Joh. N. Stigler, op. cit., S. 127).
3) In psaIm., cap. XV (Mg. XLIV) col. 596D; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 180 cp. In Cant, cant., hom. VII (Mg. XLIV) col. 909A; p. пер. ч. III, стр. 176; πειθομένοις δὲ τῇ ἀδικίᾳ, ὀργὴν καὶ θλίψιν, καὶ πάντα ὸσα τῆς σκυθρωπὴς ἀντιδόσεώς ἐστιν ὐνόματα. De beatitud., orat. V (Mg. XLIV) col. 1256C; p. пер. ч. II, стр. 427.
4) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 101B; p. пер. л. IV, стр. 276.
5) Vgl. Dr. Fr. Diekamp, op. cit., S. 257; Dr. Fr. Preger, Die Grundlagen der Ethik bei Gregor von Nyssa (Würzburg 1897), S. 33.
6) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 97C; p. пер. ч. IV, стр. 273.
7) ἀλλ’ ὁ μὲν ἐπὶ τῷ κρείττονι σκοπῷ πρὸς ἐαυτόν, ὅς ἐστι πηγὴ πάσης μακαριότητος, ἐπισπᾶται τὴν ψυχὴν. Ibid. (Mg. XLVI) col. 97D; p. пер. ч. IV, стр. 273.
— 373 —
образом, адские мучения, по мысли св. Григория, имеют преимущественно целительный характер.
Ту же мысль св. Григорий Нисский старается уяснить через некоторые сравнения. Поясняя такой свой взгляд на адские мучения, он сравнивает в данном случае действия Бога с поступками врача, срезающего на теле человека злокачественные нарывы. Как те, — пишет св. отец,—которые резанием и прижиганием сводя с тела неестественно наросшие на нем мозоли и бородавки, причиняют, конечно, тем самым телу сильные мучения, хотя и делают это для пользы переносящих эти мучения;— так и срезывание и уничтожение во время суда1) неестественных наростов греха силой и мудростью Врачующего болящих, хотя и производит в душе самые мучительные состояния, однако это совершается с доброй целью ее уврачевания»2). Состояние на том свете души, «привязанной, как бы гвоздями пристрастия, к вещественному», св. Григорий также сравнивает с положением тел, во время землетрясения засыпанных землей, которые родственники извлекают из-под развалин для погребения. Естественно предположить, что такие тела будут изломаны, изорваны, одним словом, испытают самые тяжкие повреждения при извлечении их из-под обвалов. «В некотором роде подобное страдание, кажется мне,— пишет святитель Нисский в другом своем сочинении, — происходит и с душой, когда Божья сила по человеколюбию извлекает свою собственность из-под
1) Под именем «суда» (κρίσις от κρίνω) в данном случае, как и в некоторых других (напр., De an. et res. (Mg. XLVI) col. 100B; p. пер. ч. IV, стр. 274; ibid. (Mg. XLVI) col. 101B; p. пер. н. IV, стр 278 и друг.), по основательному объяснению проф. А. Мартынова, разумеется процесс «отделения» в душе добра от «плотского припая” (ор. cit., стр. 312, прим. 4).
2) Oral, cat., cap. 8 (Srawiey, op. cit., p. 47—48); p. пер. ч. IV, стр. 32 cp. Ориген, стр. выше 146—147.
— 374 —
неразумных и нематериальных развалин»1). Как те, — говорит он далее,—которые желают очистить огнем золото от примеси чуждых ему веществ, в силу необходимости подвергают действию огня вместе с примесью и чистое золото; — «так и при истреблении в очистительном огне порока вполне необходимо пребывать в огне и вступившей с ним в общение душе, пока не уничтожатся примешавшиеся к ней вещество и нечистота, будучи истреблены вечным огнем»2). И как веревка, к которой пристала по всей ее длине самая липкая грязь, будучи просунута в какое-либо узкое отверстие и привлекаема кем-нибудь сверху, хотя в данном процессе она будет постепенно освобождаться от грязи, но самый этот процесс будет совершаться с трудом, только путем усиленного натягивания со стороны влекущего веревку;—так «нечто подобное, кажется мне,—говорит св. епископ Нисский,—необходимо полагать и о душе, что она, опутавшись пристрастием к материальному и земному, страдает и бывает в напряженном состоянии, когда Бог влечет к Себе Свою собственность, а чуждое ей, как, в известной мере, сросшееся с ней, уничтожает е усилием и причиняет ей невыносимые болезненные страдания»3).
В виду данных сравнений, св. Григорий Нисский считал вполне ясной ту мысль, что на том свете суд Божий налагает на души умерших грешников не специально наказание за грехи4), до производит только отделе-
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 97C; p. пер. ч. IV, стр. 272—273.
2) Οὕτω καὶ τὴς κακίας τῷ ἀκοιμήτῳ πυρὶ δαπανωμένης, ἀνάγκη πᾶσα καὶ τὴν ἐνωθεῖσαν αὐτῇ ψυχὴν ἐν τῷ πυρῖ εἶναι, ὡς ἁν τὸ κατεσπαρμένον νίθον καὶ ύλῶδες, καὶ κίβδηλον ἀπαναλωθῇ τῷ αἰωνίῳ πυρι δαπανώμενον. Ibid. (Mg. XLVI) col. 100A; p. пер. ч. IV, стр. 273—274.
3) Τοιοῦτόν τί μοι δοκεῖ καὶ τὸ περὶ τὴν ψυχὴν ἐννοεῖν ταὶς ὑλικαῖς τε καὶ γεώδεσι προσπαθείαις ἐνειληθεῖσαν, κάμνειν καὶ διατείνεσθαι, τοῦ μὲν Θεοῦ τὸ ἴδιον πρὸς ἐαυτὸν ἔλκοντος τοῦ δ’ ἀλλοτρίου, διὰ τὸ συμφυῆναί πως αὐτῆ, βιαίως ἀποξυρομένου, καὶ τὰς δριμείας αὐτῇ καὶ ἀνυπόστατου; ἀλγηδόνας ἐπάγοντος. Ibid. (Mg. XLVI) col. 100В; p. пер. ч. IV, стр. 274.
4) Dr. Fr. Diekamp, ор. cit. , S. 259.
375
ние добра от зла, привлекая добродетельных к участию в блаженстве; «отторжение же приросшего бывает для привлекаемого мучением» 1). Преимущественно целительный характер адских мучений св. отец оттеняет с особой силой, когда он высказывает то предположение, что они служат лишь угрозой и предостережением для слабых, чтобы побудить их к заблаговременному освобождению от грехов. Наконец, он прямо называет будущие мучения ἰατρεία καὶ θεραπεία τοῦ Θεοῦ , возводящего Свою тварь в первоначальное состояние 2).
Итак, характер адских мучений представлялся св. Григорию Нисскому преимущественно целительным3).
4. Разные степени интенсивности и продолжительности адских мучений.
В тесной связи с воззрением св. Григория Нисского на адские мучения, как на ἰατρεία καὶ θεραπεία , стоит его учение о степенях их интенсивности. И в самом деле, если адские мучения являются благим средством врачевания душ умерших грешников от скверн порока, то грешная душа в них должна мучиться тем сильнее и продолжительнее, нем больше она покрыта греховными наростами. «В ком,—пишет св. отец,—велико вещественное бремя, для того истребительное пламя, в силу необ-
1) Οὐκοῦν... οὐχ ἡ θεία κρίσις, ὡς ἔοικεν, κατὰ τὸ προηγούμενον, τοῖς ἐξημαρτηκόσιν ἐπάγεί τὴν κόλασιν, ἀλλὰ τὸ μὲν ὡς ὁ λόγος ἀπέδειξεν, ἀγαθὸν ἐνεργεῖ μόνον τοῦ κακοῦ ἀποκρίνουαα, καὶ πρὸς τὴν τῆς μακαριότητος κοινωνίαν ἐπισπωμένη ὁ δὲ τὴς συμφυῖας διααπασμὸς οδύνη τῷ ἐλκομένῳ γίνεται. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 100BC; p. пер. ч. IV, стр 274 —275.—Это место, по-видимому, стоит в некотором противоречии с другим выражением, приведенным выше, стр. 370, прим. 5.
2) Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 47); p. пер. ч. IV, стр. 31—32 cp. Ориген, стр. выше 149. 152—153.
3) Dr. Hagenbach, говоряовзглядесв. ГригорияНисскогонаадскиемучения, замечает, чтоонособенновыдвигалих педагогическуюцель (Lehrbuch der Dogmengeschichte (Leipzig 1853) S. 312 vgl. Dr. Fr. Preger, op. cit., S. 33).
— 376 —
ходимости, окажется большим и очень продолжительным. В ком же меньше заключается примеси, пригодной в пищу огню, для того наказание настолько понижается в силе и мучительности своего действия, насколько в подвергшемся ему меньше мера зла» 1). Таким образом, по мысли и выражению св. епископа Нисского, на том свете «мерой страданий является количество в каждом человеке зла (μέτρον τῆς ἀλγηδόνος ἡ τῆς κακίας ἐν ἐκάστω ποσότης ἐστίν)»2).
Из сказанного со всей очевидностью следует, что степеней адских мучений, имеющих своей целью уврачевание душ умерших грешников, необходимо признать громадное разнообразие, находящееся в прямой зависимости от качества и количества человеческой греховности. Разумеется, изобразить в точности разные степени человеческой греховности—нет возможности. Грех человека скрывается в тайниках его души. Если нам нельзя представить сущности разных видов и родов человеческой греховности, то должно согласиться также с той мыслью, что и сущность находящихся в непосредственной зависимости от них разнообразных степеней адских мучений не подлежит адекватному изображению. Это, по-видимому, сознавал и святитель Нисский. Поэтому, он путем сравнения утверждает только разнообразие степеней врачевания через адские мучения, не касаясь сущности каждой из них. Как между телесными болезнями, говорит он, существует некоторое различие: одни из них легко, а другие с трудом поддаются врачеванию, так что для устранения иной телесной болезни употребляются даже
1) Ὥ τοίνυν πολὺς ὁ ὑλώδης ἔπεστι φόρτος, πολλὴν ἀνάγκη καὶ διαρκεστέραν ἐπ’ αὐτῷ γίνεσθαι τὴν ἀναλίσκουσαν φλόγαῷ δὲ ἐπ’ ἔλαττον ἡ τοῦ πυρὸς δαπάνη ἐγκαταμεμικται, τοσοῦτον ὑποκαταβαίνει τῆς ἐφοδροτέρας τε καὶ δριμυτέρας ἐνεργείας ἡ κόλασις, ὁσον ἠλάττωται τῷ τῆς κακίας μέτρῳ τὸ υποκείμενον. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 100CD—101А; p. пер. ч. IV, стр. 275.
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 100C; p. пер. ч. IV, стр. 275.
— 377
операции, прижигания и горькие лекарства, — «так нечто подобное с целью уврачевания душевных недугов обещает и будущий суд”1), который «распространяется на все, соразмеряет с тяжестью долга необходимость взыскания и самого малого не оставляет без внимания» 2).
Не останавливаясь особенно на разнообразии степеней адских мучений в зависимости от их интенсивности, как менее доступном для человеческого представления, св. Григорий Нисский подробно говорит о разнообразии их по степени их продолжительности. Он полагает, что различие между добродетельной и порочной жизнью здесь на земле обнаружится после смерти человека в том, что душа, украшенная первым родом жизни, скорее достигнет ожидаемого блаженства, состоящего в созерцании Бога, чем душа, запятнавшая себя вторым родом жизни 3). Будущий суд, по рассуждению св. отца, подвергнет грешные души более или менее продолжительным мучениям, соответственно их нравственному состоянию, потому что «мере привзошедшей в каждую порочности» должна «будет, конечно, соответствовать и продолжительность врачевания» 4) Да иначе и быть не может, потому что «мучительный пламень» будет жечь душу до тех пор, «пока будет питающее его», другими словами, он будет соответствовать «большему или меньшему количеству вещества», которым пропитана душа умершего грешника3). Это требуется идеей справедливости. Ведь, было бы нарушением справедливости, если бы те,
1) Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 47); p. пер. ч. IV, стр. 31.
2) Τὴν δὲ Θεοῦ δικαίαν κρίσιν διὰ πάντων διεξιέναι, καὶ τῷ βάρει τοῦ ὁφλήματος συνεπιτείνουσαν τὴν ἀνάγκην τὴς ἀπαιτήσεως, καὶ οὐδὲ τῶν σμικροτάτων ὑπερορῶσαν. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 101BC; p. пер. ч. IV, стр. 276.
3) Ἡ δὲ τοῦ κάτ’ ἀρετὴν ἡ κακίαν βίου διαφορὰ ἐν τῷ μετὰ ταῦτα κατὰ τοῦτο δειχθήσεται μάλιστα, ἐν τῷ θᾶττον ἡ σχολαιότερον μετασχεῖν τὴς ἐλπιζομένης μακαριότητος. Ibid. (Mg. XLVI) col. 152AB; p. пер. ч, IV, стр. 318 cp. Ориген, стр. выше 150.
4) Τῷ γὰρ μέτρῳ τῆς ἐγγενομένης ἐκάστῳ κακίας ἀναλογήσεται πάντως καὶ ἡ τῆς ἰατρείας παράτασις. De an. et res. (Mig. XLVI) col. 152B; р. пер. ч. IV, стр. 318.
5) Ἀλλὰ παρὰ τὸ ποσὸν τῆς ὕλης, ἡ πλεῖον ἡ ἔλαττον ἡ οδυνηρά ἐκείνη φλὸξ ἐξαφθήσεται, ὡς ἂν τὸ ὑποτρέφον ἡ. Ibid. ( Mg . XLVI) col. 100 C ; p . пер. ч. IV,
378 —
которые долгое время пребывали во зле, и тот, кто только имел общение с незначительными грехами, одинаково продолжительное время находились на том свете в очистительных муках ада1).
Ясно, что адские мучения для весьма тяжких грешников окажутся очень продолжительными. Высказывая мысль, что будущие мучения будут иметь характер преимущественно нравственного врачевания душ умерших грешников, а не наказания их в собственном и исключительном смысле, св. Григорий Нисский вместе с тем находит уместным заметить, что это врачевание или в известном смысле наказание по отношению к некоторым грешникам будет настолько продолжительно, что оно покажется «соразмерным целой вечности (πρὸς ὅλον αἰῶνα συνδιαμετοεῖται)»2). И это потому, что душа грешного человека на том свете предается мучителем, дондеже воздаст весь долг свой (ср. Мф. 1&, 34). А «это не иное, что значит, как то, — так продолжает свою речь св. епископ Нисский, — чтобы необходимый долг заплатить перенесением мучений, т.-е. долг принять участие в скор-
стр. 275 ср. Ориген, стр. выше 149—Dr. Joh. N. Stigler вполне удачно определяет представление св. Григория о продолжительности пребывания грешных душ в очистительных адских мучениях, когда говорит, что душа, запятнанная грехами, должна так долго находиться в огне, пока она не станет чистым золотом (ор. cit., S. 127), или, как говорит другой исследователь, пока примешавшаяся к ней нечистота не обратится в ничто (Dr. Fr. Diekamp, ор. cit., S. 258 vg). Dr. Fr. Böhringer, op. cit., S. 140).
1) Οὐ γὰρ εἰκὸς ἐκ τοῦ ἴσου τὸν εἰς τοσούτον ἐν ἀπηγορευμένοις γεγονότα κακοῖς, καὶ τὸν μετρίοις συνενεχθέντα πλημμελὴμασιν, ἐν τῇ κρίσει τὴς μοχθηρας ἐξεως ἀνιαθὴναι. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 100C; p. пер. ч. IV, стр. 275,— Dr. Fr. Hilt как на основании данного, так и других мест из творений св. Григория заключает, что святитель Нисский считал адские наказания проявлением божественной любви. Отсюда, этот исследователь находил возможным кратко выразить цель адских наказаний, по взгляду св. епископа Нисского, так: «цель наказаний—их конец» (ор. cit., S. 267, Anm. 2).
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 101B; p. пер. ч. IV, стр. 276 cp. Ориген, стр. выше 150.
379
бях, каким он стал повинен в продолжение своей жизни, избирая по неразумию одно чистое и ни с чем противоположным не смешанное удовольствие»1). Естественно, если грешный человек в течение своей земной жизни обременил свою душу большими греховными «долгами», то для освобождения ее от них в огне адских мучений потребуется соответствующее продолжительное время. Для души такого человека, именно по причине ее крайней греховности, очистительные страдания в муках ада продлятся «в течение некоторого вечного времени (εἰς αἰώνιον τι διάστημα)»2). В качестве примера весьма продолжительного очищения в будущих мучениях св. отец в одном месте своих творений указывает на Иуду. Относительно его участи в будущем мире он прямо выражается, что для него, «по причине глубоко укоренившегося порока, очистительное наказание продолжится в беспредельность»3). Таким образом, по мнению святителя Нисского, тяжкие грешники достигнут блаженного состояния на том свете только после своего уврачевания в муках ада в течение «долгих веков (μακροῖς αἰῶαιν)»4).
Представляя себе будущее очищение наиболее тяжких грешников весьма «строгим воздаянием (σκυθρωπός ἀντίδοσις)»5), св. Григорий Нисский призывает их к нравствен-
1) ὅπερ οὐδέν ἐτερον ἐστιν, ἡ διὰ τῆς βασάνου τὴν ἀναγκαίαν ὀφειλὴν ἀποτίσαι, τὸ ὅφλημα τὴς τῶν λυπηρῶν μετουσίας, ὡν παρὰ τὸν βίον ὑπόχρεως ἐγένετο, ἀμιγῆ τε καὶ ἀκρατον τοῦ ἐναντίου τὴν ὑδονὴν ὑπὸ ἀβουλίας ἐλόμενος. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 101C; p. пер. ч. IV, стр. 276—277 cp. Ориген, стр. выше 149.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 101B; p. пер. ч. IV, стр. 276.
3) Τῷ μὲν φὰρ διὰ τὸ βάθος τὴς ἐμφυείσης κακίας εἰς ἀπειρον παρατείνεται ἡ διὰ τῆς καθάρσεως κόλασις. De infant, qui praemat. abrip. (Mg’ XLVI) col. 184A; p. пер. ч. IV, стр. 350.—Выражение—εἰς ἀπειρον παρατείνετε не указывает в данном случае на наказание, которое должно продолжаться без конца. И это потому, что κόλασις действует очищающим образом—διὰ τῆς καθάρσεως. Vgl. Dr. Fr. Hilt, op. cit, S. 299.
4) Orat. cat., cap. 35 (Srawley, op. cit., p. 139); p. пер. ч. IV, стр. 95.
5) De beatitud., orat. V (Mg. XLIV) col. 1256C; p. пер. ч. II, стр. 427.
— 380 —
ному исправлению еще во время земной жизни. Такой грешник, будущее наказание которого обещает чуть ли не сравняться с целой вечностью, «пусть позаботится,— говорит св. отец устами Макрины,—или сохранить свою душу совершенно чистой, незапятнанной сквернами порока, или, если это вполне невозможно, так как наша природа страстна, то пусть, по крайней мере, недостатки добродетели у нее будут незначительными и легко исправимыми. Ведь, евангельское учение знает должника тмою талант (Мф. 18, 24) и еще пятию сот динарий, и еще пятидесятью (Лук. 7, 41), и еще каким-нибудь кодрантом (Мф. 5, 26)»1). Призывая же очень грешных людей к совершенному или, по крайней мере, к более или менее значительному исправлению во время настоящей жизни, дабы им не подвергнуться весьма «строгому воздаянию» после смерти, св. отец с особой силой выражает веру в разные степени мучений на том свете 2).
5. Временный характер адских мучений
Рассматривая ад, с одной стороны, как место или, лучше сказать, как средство врачевания и очищения душ умерших людей от греховных наростов, а с другой,
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 101 В; p. пер. ч. IV, стр. 276.
2) На основании учения св. Григория Нисского о целительном преимущественно характере адских мучений и о разных степенях последних католики стараются выставить св. отца сторонником учения о чистилище (Dr. Fr. Hilt, ор. cit., S. 254—259). Но такие их попытки, по мнению Преосв. Сильвестра, не заслуживают никакого вероятия, во-первых, потому, что, по воззрению святителя Нисского, вопреки учению католиков о чистилище, будущему очистительному огню подвергнутся не одни только легкие, но и самые упорные и закоренелые грешники, а во-вторых, потому, что все они подвергнутся мучительному действию этого огня не для того, чтобы дотерпеть то, чего они не успели вытерпеть во время своей временной жизни для удовлетворения божественной правде, а напротив, для того, чтобы им уврачевать свои духовные немощи и через это достигнуть раньше или позже своего полного духовно-нравственного исправления и следующего за ним облаженствования (ор. cit., стр. 140).
— 381
считая продолжительность адских мучений находящейся в прямой зависимости от степени греховности того или другого человека, св. Григорий Нисский с необходимостью приходил к мысли, что как бы ни были продолжительны адские мучения, все-таки, они, в конце концов, должны будут прекратиться. И в самом деле, если будущие мучения имеют своей целью очищение душ от грехов, то она, наконец, будет достигнута, потому что в душах в течение известного времени силой огня, естественно, будет истреблено то, что к ним примешалось (χρόνῳ τοῦ πυρὸς τῇ ἀναλωτικῆ δυνάμει τὸ νόθον ἐξαθανίζοντος)1) Для всякой человеческой души, по словам св. отца, наступит известное время, в течение которого она через врачевство огня очистится от греховных скверн (τῶν μετὰ ταῦτα διὰ τοῦ πυρὸς τοῖς καθήκουσι χρόνοις ἰατρευθέντων)2). Если же греховная «примесь» или «скверна», поддерживающая очистительный огонь адских мучений, уничтожится не только в каждом отдельном человеке, но и во всем человечестве, то, само собой понятно, наступит время, когда будущие мучения прекратятся. Таким образом, святитель Нисский, полагая, что по истечении долгого времени из природы будет истреблено зло (κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ταῖς μακραῖς περιόδοις ἑξαιρεθέντος τοῦ κακοῦ τῆς φύσεως)3), признавал за адскими мучениями только временный характер.
Несмотря на то, что это воззрение св. Григория Нисского представляет собой необходимое звено его эсхатологической системы, однако он в некоторых своих сочинениях в данном вопросе, по-видимому, впадает в противоречие с самим собой. Следуя языку Св. Писания, он иногда говорит о неугасимом огне, о неумирающем черве и вечном воздаянии. Такие выражения нами не могут
1) Orat. cat., cap. 26 (Srawley, op. cit., p. 99); p. пер. ч. IV, стр. 69.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 152A; p. пер. ч. IV, стр. 318.
3) Orat. cat, cap. 26 (Srawley, op. cit., p. 100); p. пер. ч. IV, стр. 70.
— 382 —
быть оставлены без внимания, потому что они послужили основанием для некоторых исследователей к утверждению, что будто бы св. Григорий учил о вечности адских мучений1) или, по крайней мере, будто в своих последующих сочинениях он освободился от оригенистических воззрений на них, которые находятся в его первоначальных творениях2), или, наконец, будто бы он совершенно одинаково считал вероятными мнениями—и вечность адских мучений и временный характер их продолжительности, не отдавая ни одному из них решительного предпочтения 3). Ясно, что только уяснение надлежащего смысла указанных выражений св. епископа Нисского может привести нас к правильному пониманию его взгляда на адские мучения, другими словами, как увидим ниже, к устранению видимого его противоречия с самим собой.
Трудно, да и невозможно согласиться с той мыслью, чтобы в уме столь глубокого христианского мыслителя, каким был св. Григорий Нисский, могло найти себе место, указанное нами противоречие. Это особенно настойчиво нас побуждает к отысканию способа примирения таких мест в сочинениях св. отца, которые, по-видимому, представляются противоречащими друг другу в вопросе о продолжительности адских мучений. Установление истинного смысла тех мест в сочинениях святителя Нисского, которые по первому впечатлению говорят о вечности адских мучений, по нашему мнению, может быть достигнуто только в том случае, если словам, оттеняющим
1) Пр. И. Скворцова, Христианское употребление философии или философия св. Григория Нисского (Тр. Киев. Д. Ак. 1863, т. III. (№№ 9—12), стр. 158—159.
2) Dr. L. Kleinheidt. S. Gregorii episc. Nysseni doctrina de angelis (Fribnrgi Brisg. 1860), p. 51.
3) Проф. А. Мартынова, op. cit., стр. 375 cp. Dr. L,. Kleinheidt, op. cit., p. 52; Prof. Dr. I. Schwane, Dogmengeschichte. Zweite Band. Patristische Zeit (Freiburg 1895), Auf). 2, S. 603—604.
383
известный характер адских мучений, будет сообщено надлежащее содержание.
Все места1) из творений св. Григория, по-видимому, говорящие о вечности адских мучений, могут быть разделены для большего удобства уяснения их смысла на две группы: во-первых, на те, в которых описываются адские огонь и червь, и во-вторых, на те, которые трактуют о будущем вечном воздаянии.
К первой группе относятся следующие выражения св. епископа Нисского. В слове «Против отлагающих крещение», увещевая последних приступить к данному св. таинству возможно скорее, св. отец говорит, что «душа, непросвещенная и неукрашенная благодатью» св. крещения, «своей недостойной жизнью, готовит вещество для неугасимого огня (τοῦ ἀσβέοτου πυρὸς)»2). В одном из слов «О блаженствах» проповедник спрашивает: «кто просветит тьму? Кто угасит пламя? Кто отвратит червя неумирающего ( άτελεύτητον σκώληκα)»3), а в другом—он говорит, что на том свете грешника ожидает «страх геенны, неугасимый огонь (μὴ σβεννύμενον πῦρ), неумирающий червь (ἀτελεύτητος σκώληξ), скрежет зубов, непрестанный план, тьма кромешная и все тому подобное заставит почувствовать ту жизнь, какую он проводит»4).
Центр тяжести в данных выражениях, конечно, заключается в тех словах, которыми характеризуется адские огонь и червь, а именно: ἀσβεστον или μὴ σβεννύμενον и ἀτελεύτητος . Но так как данные слова прилагаются к огню и червю, как это мы видели выше5), понимаемым не в смысле обычной материальности, но духовным, то, —не
1) Некоторые из них указаны и у Д. Тихомирова (Св. Григорий Нисский, как моралист, Могилев 1886), стр. 351—353.
2) De bapt. (Mg. XLVI) col. 424C; p. пер. ч. VII, стр. 442.
3) De beatitud., orat. V (Mg. XLIV) col. 1264A; p. пер. ч. II, стр. 435.
4) Ibid., orat. III (Mg. XLIV) col. 1221A; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 389.
5) Стр. 365-367.
— 384 —
подлежит сомнению, — они выражают не столько бесконечную продолжительность существования адских огня и червя, сколько, напротив, их качество1). Таким образом, выражения святителя Нисского—«неугасимый» и «неумирающий» не стоят в противоречии с его учением о вечности адских мучений.
Если так сравнительно легко дело обстоит с первой группой выражений св. Григория Нисского, то несколько труднее примирить с его учением о временном характере мучений вторую группу его выражений, которые говорят о «вечном» воздаянии душам умерших людей за их грехи. Мест подобного рода, правда, немного, но они, по-видимому, настолько определенно говорят о вечной продолжительности адских мучений, что представляется большим затруднением проникнуть в их настоящий смысл. Так, в слове «против тяготящихся церковными наказаниями» св. Григорий говорит об отлученных от церкви, что в загробной жизни «жалкая душа» такого человека, обвиняя себя в неразумии, плача, скорбя и сетуя, будучи заключена и какое-то мрачное место, как бы в затвор, остается там, «пребывая в состоянии беспрестанного и во веки безутешного плача (τὸν ἄληκτον ὀδυρμὸν καὶ ἀπαραμύθητον εἰς ἀιῶνας ἐκτί -
1) Cp. Orat. cat., cap. 40 (Srawiey, op. cit, p. 163—164); p. пер. ч IV, стр. 109—110.—Имея в виду данное место из творений св. Григория Нисского, Dr. Fr. Hilt говорит, что свойство—«неугасимый» в приложении к адскому огню не выражает того, что он не потухает, υо, напротив, то, что он, в противоположность земному огню, является таким, которого человек не может потушить, который обладает другими качествами и свойствами сравнительно с настоящим огнем (ор. cit., S. 295). Относительно наименования в данном случае червя «неумирающим» Д. Тихомиров, к сожалению, не указывая оснований для этого, замечает, что последнее слово может быть понимаемо в смысле указания на качество адских мучений, но не на их вечность (ор. cit., стр. 352, прим. 2).
— 385 —
νουσα)»1). В слове «Против ростовщиков» святитель Нисский, рассказав историю об одном ростовщике, не сообщившем пред своей внезапной смертью никому из своих родственников, где спрятано золото, и оставившего, в виду этого, своих детей нищими, говорит, что «достойно своему образу жизни и окончил ее суетный собиратель денег, подвергавший себя тяжким лишениям и голоду, собиравший наследство себе—вечное наказание (τὴν αἰώνιον κόλασιν) и детям нищету»2). В слове «О нищелюбии и благотворительности» св. отец изображение картины страшного суда Божия заканчивает такими словами: «Слышу там речи Судьи к подсудимым и ответы судимых к Царю. Каждому назначается в удел, что ему следует: проводившим хорошую жизнь—наслаждение царствием, а человеконенавистникам и злым—огненное мучение, притом вечное (τιμωρία πυρὸς , καὶ αὑτή διαιωνίζουσα)»3). В слове «Против Ария и Савеллия» св. Григорий, проводя, между прочим, ту мысль, что будущий страшный суд произведет Сын Божий, замечает, что «непослушающие, по словам апостола, понесут наказание—гибель вечную (ὅλεθρον αιώνιον)»4), Наконец, в «Большом огласительном слове», утверждая, что загробное воздаяние будет находиться в зависимости от заслуг каждого человека, заканчивает свою речь тем, что кто «в течение этой кратковременной жизни полагал основание невыразимого в словах блаженства» тот устранил от себя бедствия как во время настоящей жизни, так и после нее «в вечном воздаянии (κατὰ τῆν αἰωνίαν ἀντίδοσιν)»5).
1) De castig. (Mg. XLVI) col. 312D; p. пер. ч. VII, стр. 480.
2) Contra usurar. (Mg. XLVI) col. 452А; p. пер. ч. VII, стр. 472.
3) De pauper, amand., orat. I (Mg. XLVI) col. 491A; p. пер. ч. VII стр. 402.
4) Adv. Arium et Sabell. (Mg. XLV) col. 1219С; p. пер. ч. VII стр. 10.
5) Orat. cat, cap. 40 (Srawley, op. cit., p. 164); p пер. ч. IV, стр. 110.
386 —
Таковы выражения св. Григория Нисского, по-видимому, говорящие о вечной в абсолютном смысле этого слова продолжительности адских мучений. Как не трудно заметить, этот характер им придают слова— αἰὼν или αἰώνιος . Поэтому, чтобы найти правильный смысл в приведенных выше выражениях св. отца, необходимо прежде решить вопрос, какое содержание он соединяет с этими терминами. По нашему мнению, св. Григорий употреблял слова— αἰὼν и αἰώνιος для обозначения чрезвычайно долгой продолжительности существования кого или чего-либо. Что же касается вечной в абсолютном смысле этого слова продолжительности существования вещей, то для обозначения ее святитель Нисский употребляет термины— ἄπειρος 1) или— чаще— ἀΐδιος . Чтобы такое понимание словоупотребления св. Григория для нас стало более ясным и несомненным, мы рассмотрим находящиеся в его сочинениях соответствующие выражения. Так, в некоторых местах своих творений св. отец 2) вполне сознательно противополагает разное значение употребляемых им терминов— ἀϊδιότης и αἰὼν иди αἰώνιος . соединяя понятие «вечности» с первым из них в абсолютном, а со вторым—в относительном смысле. Это видно из того, что в речи о Боге св. епископ Нисский всегда употребляет αΐδιος ; если же иногда и говорит об αἰών ’ах, то всегда во множественном числе. Вечность божественной жизни (τὸ ἀΐδιον τῆς θείας ζωῆς),—пишет св. Григорий,—такова: она всегда имеет бытие, не допускает и мысли, что некогда ее не было и некогда ее не будет» 3). «Это именно утверждает о вечности Божьей (περὶ τῆς αϊδιότητος τοῦ Θεοῦ), — так продолжает св. отец свою речь,—что слышали и в пророчестве (Пс. 73, 12): Бог и Царь предвечный (Θεὸς καὶ Βα -
1) Contra Eunom., lib. I (Mg. XLV) col. 357D; p. пер. ч. V, стр. 137.
2) Ср. Ориген, стр. выше 152—153.
3) Contra Eunom., lib. I (Mg. XLV) col. 456C; p. пер. ч. V, стр. 250.
387
σιλευς προαιώνιος) и царствует в век и на век и еще (τὸν αἰῶνα καὶ ἐπ ’ αἰῶνα καὶ ἔτι) (Исх. L 5, 18)»1); Бог проходит века (τοὺς αἰῶνας)2); Бог есть πρὸ τῶν αἰώνων , но εἰς τὸ ἀΐδιον 3). Итак понятие ἀΐδιος означает абсолютную вечность.—Что же касается термина αἰών , то он употребляется у св. Григория Нисского преимущественно в отношении к тварному бытию, ограниченному известными периодами времени. Как для обозначения предвременного существования вещей св. отец употребляет слово— προαιώνιος , так для выражения временного их бытия он пользуется словом— αιώνιος 4) Время и периоды времени он обозначает термином αἰών , следовательно, обозначающим вечность не в абсолютном смысле этого слова 5). Поэтому, святитель Нисский с полным правом говорит, что Сын Божий родился «не в продолжение веков (τῶν αἰώνων)» и что творение «не прежде веков (πρό τῶν αἰώνων)»6). Αἰών в творениях св. Григория прямо сопоставляется с χρόνος и, поэтому, считается не применимым к божественному естеству. Бог, будучи, по терминологии святителя Нисского, ἀΐδιος , соответственно этому, им называется— οὐτε αἰῶσι παραμετρουμένη , οὔτε χρόνοις συμπαρα τρέχουσα 7). Наоборот, когда св. отец, в противоположность πρὸ τῶν αἰώνων живущему и действующему Богу, отрицает вечность бытия тварных предметов, то он не говорит,
1 Ibid. (Mg. XLV) col. 457A; p. пер. ч. V, стр. 251.
2) Ibid. (Mg. XLV) col. 364D; p. пер. ч. V, стр. 143.
3) Adv. Arium et Sabell. (Mg. XLV) col. 1285В; р. пер. ч. VII, стр. 5.
4) Contra Eunom., lib. I (Mg. XLV) col. 364; p. пер. ч. V, стр. 142 и дал.; ibid. (Mg. XLV) col. 368; p. пер. ч. V, стр. 146 и дал.; ibid. (Mg. XLV) col. 369; p. пер. ч. V, стр. 148 и дал.; ibid. (Mg. XLV) col. 464; p. пер. ч. V, стр. 258 и дал. В отношении к миру св. Григорий выражается— ἡ μὲν γὰρ κτίσις πᾶσα... τῷ τῶν αἰώνων διαστήματι παραμετρεῖται. Ibid. (Mg. XLV) col. 364D; p. пер. ч. V, стр. 143.
5) Πᾶσα χρονικὴ τάςις καὶ ἀκολουθία τῶν γεγονότων διὰ τῶν αἰώνων καταλαμβάνεται ἡ δὲ προαιώνιος φύσις ἐκπέφευγε τὰς κατὰ τὸ πρεσβύτερόν τε καὶ νεῶτερον διαφοράς... Ibid. (Mg. XLV) col. 364C; p. пер. ч. V, стр. 143; ἔοικεν οἶόν τι μέτρον, καὶ ὅρος τὴς τῶν ἀνθρωπίνων λογισμῶν κινήσεως, καὶ ἐνεργείας, ὁ αἰών, καὶ τὰ ἐντὸς τούτων εἶναι, τὰ δὲ ὑπερκείμενα τούτων ἄληπτα... μένει. Ibid. (Mg. XLV) col. 365C; p. пер. ч. V, стр. 145.
6) Ibid. (Mg. XLV) col. 369B; p. пер. ч. V, стр. 149.
7) Ibid. (Mg. XLV) col. 368A; p. пер. ч. V, стр. 146.
— 388 —
что тварь не αἰώνιος , но утверждает, что она не ἀΐδιος и не εἰσαεί 1). Таким образом, ясно, что с терминами αἰών или αἰώνιος св. Григорий не соединял того содержания, которое он мыслил в терминах ἀΐδιος или ἀτελεύτητος . Тогда как последние термины св. отцом употребляются для обозначения вечного и бесконечного в абсолютном смысле этих слов существования какого-либо предмета, с первыми, наоборот, он соединяет понятие временного или конечного бытия известных вещей2).
Если такова была терминология св. Григория Нисского, то понятно, что он, говоря о вечном—αἰώνιος воздаянии на том свете некоторым грешникам, не впадал в противоречие с своей особенно настойчиво проводимой мыслью о временном характере адских мучений. Это имело бы место только тогда, если бы он человеку, который через воскресение станет— ἀΐδιος 3), усвоил τιμωρίαι ἀΐδιαι . Но, как мы видели, он угрожает известным грешникам только — τιμωρίαι αἰώνιαι . Следовательно, при указанном словоупотреблении, св. отец, определяя будущие наказания некоторых грешников терминами — αἰών или αἰώνιος , оттенял лишь их значительную продолжительность. Такой характер загробного воздаяния некоторым грешникам, помимо того, что он является вполне допустимым с тонки зрения терминологии святителя Нисского, оправдывается еще тем обстоятельством, что св. Григорий часто эпитеты — αἰ жм ν и αἰώνιος прилагает к адскому огню, истребляющему грехи, а также говорит о фактическом очищении грешных душ от несвойственных их природе «наростов» через этот αἰώνιον πῦρ 4). Если же, как мы видели 5), продолжительность адских муче-
1) Ibid. (Mg. XLV) col, 369D; p. пер. ч. V, стр. 150.
2) Vgl, Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 295—208.
3) De hom. opif., cap. XXII (Mg. XLIV) col. 205C; p. пер. ч. I. стр. 167.
4) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 100A; p. пер. ч. IV, стр. 274.
5) Стр. выше 377—378.
389 —
ний находится в зависимости от степени греховности человеческой души, то при истреблении греховных скверн через адский огонь и, таким образом, при очищении через него душ умерших грешников, естественно, продолжительность их загробных мучений должна уменьшаться и, следовательно, некогда окончиться. Значит, какой-либо речи о бесконечности адских мучений, по учению св. епископа Нисского, быть не может, а только о значительной их продолжительности1).
Итак, св. Григорий Нисский признавал адские мучения временными. По его убеждению, адские мучения, в конце концов, освободят грешные души от «примешавшейся к ним скверны», и вся разумная тварь возвратится в свое первоначальное блаженное состояние. «По очищении и истреблении страстей огненными врачеваниями, по словам св. отца, место каждого свойства займет то, что считается лучшим: нетление, жизнь, честь, благость, слава, сила и тому подобное» 2).
________
1) Преосв. Сильвестра, признавая, что св. Григорий Нисский учил о будущем наступлении окончания адских мучений, говорит, что «в то же время он иногда учил и о вечности сих мучений, вероятно, понимая в сем случае вечность в смысле неопределенной продолжительности, не подлежащей настоящим измерениям времени» (ор. cit., стр. 474). Prof. О. Bardenhewer (Geschichte, Bd., III, S. 219; Patrologie, S. 265) полагает, что те места в сочинениях св. отца, которые, по-видимому, говорят о вечности адских мучений, находят для себя надлежащее уяснение в других местах его творений. Они, по мнению названного ученого, уясняются именно через такие выражения, как, например, ταῖς μακραῖς περιόδοις (Orat. cat., cap. 26 (Srawley, op. cit., p. 100); p. пер. ч. IV, стр. 70); τοῖς καθήκουσι χρόνοις (De an. et res. (Mg. XLVI) col. 152A. p. пер. ч. ІV, стр. 318); μακραῖς πότε περιόδοις (Ibid. (Mg. XLVI) col. 157D). Это мнение названного ученого вполне разделяет Br. I. В. Aufhauser (Die Hellslehre des hl. Gregor von Nyssa (München 1910), S. 204 Anm.); когда заменяет, что в некоторых чисто богословски-нравоучительных сочинениях св. отца ясно проповедуемая вечность адских наказаний объясняется в других местах его сочинений в смысле лишь долгого периода времени.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 160C; p. пер. ч. IV, стр. 326.
390
Вторая часть.
Учение св. Григория Нисского о конечной судьбе всего
человеческого рода и мира вообще.
ГЛАВА I.
Учение о втором пришествии Христа.
Круг времени, в который совершится течение настоящего мира, по словам св. Григория Нисского, заключается «в семи днях (τὸν αἰσθητὸν χρόνον , τὸν ἐν ἐβδομάσιν ἀνακυκ λούμενον)»1). Поэтому, время до конца мира измеряется «седьмицей (ἡ ἐβδομάς)»2), а будущая жизнь не будет иметь никакого измерения, так как тогда будет только один восьмой день. «Когда,—пишет св. отец,—прекратится это время, преходящее и быстро совершающее свое течение, в которое одно приходит в бытие, а другое разрушается, когда прекратится нужда приходить в бытие и не станет того, что подлежит разрушению, так как ожидаемое воскресение изменит природу в некоторое другое жизненное состояние; когда прекратится это преходящее свойство времени, потому что уже перестанет существовать сила, приводящая предметы в бытие и разрушение: тогда, без сомнения, закончит свое существование и эта седьми-
1) In psalm.. lib. II, cap. V (Mg. XLIV) col. 504D; p. пер. ч. II, стр. 79.
2) ibid. (Mg. XLIV) col. 505A; p. пер. ч. II, стр. 80.
391
ца, измеряющая время»1), — и тогда наступит «будущий век (πρὸς τὸν ἑφεξῆς αἰῶνα βλέπει)»2). Начало этого будущего века святитель Нисский называет «восьмым днем (οὐ ἡ ἀρχὴ Ὀγδόη λέγεται)»3). Впрочем, это наименование св. Григорий, подобно св. Василию Великому 4), усвояет и всему будущему веку, когда говорит, что по окончании настоящей седьмицы мирового бытия «заступит ее место восьмой день, т.-е. последующий век, который весь составляется одним днем, как говорит некто из пророков, назвав ожидаемую жизнь великим днем (Иоил. 2, 4), потому что этот день будет освещать не чувственное солнце, но истинный Свет, Солнце правды, Которое в пророчестве называется Востоком (Зах. 6, 12), потому что Оно никогда не скрывается на западе» 5). Этот «восьмой день» и откроется вторым пришествием Христа на землю. Как в конце Ветхого Завета явился в первый раз Сын Божий в мир, чтобы положить начало Новому Завету, так «в конце веков (ἑπὶ τῷ τέλει τῶν αἰώνων)»), «при конце (ἑπὶ τέλει)»7) настоящего мира явится Христос во второй раз, чтобы этим Своим явлением открыть «великий день будущего века».
Истина второго пришествия Христова для св. Григория Нисского являлась несомненной. И это по той простой причине, что он находил указание на нее в Св. Писании. В данном случае он уделяет много внимания св. апостолу Павлу, который свидетельствует о втором пришествии Сына Божия в мир, когда говорит: «Егда же паки. вводите Первородного во вселенную, глаголете: и да поклонятся Ему вси Ангели Его» (Евр. 1, 6). Рассматривая
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 504D—505A; p. пер. ч. II, стр. 79—80.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col504D; p. пер. ч. II. стр. 79.
3) Ibidem
4) Стр. выше 227—228.
5) Ibid. (Mg. XLIV) col 505A; p. пер. ч. II, стр. 80.
6) Contra Eunom., lib. IV (Mg. XLV) col. 633D; p. пер. ч. V, стр. 453.
7) Ibid., lib. II (Mg. XLV) col. 501C; p. пер. ч. V, стр. 306.
— 392
данное выражение св. апостола, си. отец замечает, что в нем именно слово паки указывает на то «пришествие Владыки всяческих, которое будет при конце» 1) настоящего мира. Что это так, видно из значения слова паки. Оно по буквальному значению показывает, что пришествие Христово происходит «не в первый раз», потому что такое выражение мы употребляем только в тех случаях, когда говорим «о возобновлении уже однажды бывшего. Следовательно, — так заканчивает св. епископ Нисский свое замечание, — этим обозначает апостол страшное явление Единородного в конце веков» 2).
Так как второе пришествие Христа относится не к прошедшим, а лишь к будущим временам, то, естественно, о нем св. Григорий Нисский мог говорить только в мере доступного для человека, ограниченного как временем, так и разумением. Для суждения относительно его представления о втором пришествии Христовом мы находим в его сочинениях только отрывочные данные. В общем, св. отец, с одной стороны, считал второе пришествие Христово сходным с первым, а с другой,—значительно от последнего отличающимся.
Второе пришествие Христа, вопреки мнению Оригена, представлявшего его себе духовным3), по учению св. Григория Нисского, прежде всего, несомненно, будет чувственно-видимым, подобно первому. Св. отец был далек от мысли—представлять себе это событие в церкви Христовой тожественным с каким-нибудь особенным, но, тем не менее, невидимым божественным посещением ее. Он всегда ставил второе пришествие Христово в параллель с первым. Так, например, он говорит о Сыне Божьем, что «однажды Вошедший во вселенную, став
1) Ibidem.
2) Ibid., lib. IV (Mg. XLV) col. 633D; p. пер. ч. V, стр. 453.
3) Стр. выше 156—157 ср. св. Василий Великий, стр. выше 229.
— 393
Первородным из мертвых в братиях и всея твари, снова войдет во вселенную» 1), или называл Его «паки входящим во вселенную» 2). Ясно, что святитель Нисский не только исключал в данном случае какую бы то ни было мысль о тожестве второго пришествия Христова с тем или другим проявлением Его пребывания в земной церкви, но и утверждал, что это Его пришествие по своей видимости и осязательности будет совершенно подобным первому. Кроме того, св. Григорий, говоря о будущем втором пришествии Христа на землю, допускал такие решительные выражения, как, например, заимствованное им из послания св. апостола к Солунянам: «восхищена будем на облацех в сретение Господни на воздусе» (1 Солун. 4, 17)3), или: «я вижу Сына Человеческого, идущего с небес по воздуху, как по земле (τὸν Υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐξ οὐρανῶν , καὶ τὸν ἀέρα ὡς γῆν πεζεύοντα)»4), которые еще более утверждают нас в той мысли, что Христос, по мнению святителя Нисского, во второе Свое пришествие, действительно, явится чувственным образом, так как Он будет нисходить на землю на облаках по воздуху. Наконец, св. отец второе пришествие Христово прямо называет ἐπιφάνειαν 5), чем ясно оттеняет его видимый характер.
Если второе пришествие Христа на землю по своей видимости и осязательности, по мнению св. Григория Нисского, будет напоминать собой Его первое пришествие, то зато оно будет до полной противоположности отлично от последнего в отношении своей торжественности и величия. Второй раз, именно при конце настоящего мира,
1) Ibid., lib. IV (Mg. XLV) col. 636A; p. пер. ч. V, стр. 453.
2) Ibid., lib. II (Mg. XLV) col. 504C; p. пер. ч. V, стр. 206.
3) De hom. opif., cap. XXII (Mg. XLIV) col. 208A; p. пер. ч. I, стр. 167—168.
4) De pauper, amand., orat. I (Mg. XLVI) col. 460D; p. пер. ч. VII, стр. 402.
5) Contra Eunom., lib. IV (Mg. XLV) col. 633D; p. пер. ч. V, стр. 453.
— 394
Сын Божий, «придет не в образе раба (οὐκέτι ἐν τῇ τοῦ δούλου καθορᾶται μορφῆ)1), а «во славе Своей (ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ)»2). Эта слава, в силу единосущия Сына с Отцом, является вместе с тем славой Отца, почему у св. Григория иногда говорится, что Сын Божий «в свое время явится во славе Отца (ἐν τῇ δόξῃ τοῦ Πατρός)»3). Слава и величие во второй раз явившегося на землю Христа будут так чрезвычайны, что Он, по словам св. отца, «и для праведных едва будет вместим и видим, а нечестивый и иудействующий, как говорит Исаия, останется непричастным этого видения». «Да возмется нечестивый, говорит пророк, да не видит славы Господни» (Ис. 26, 10) 4).
Та божественная слава, в которой придет на землю Сын Божий в конце нынешнего мира, будет выражаться в том, что Он явится, как Владыка не только земли, но и неба, при этом не один, а «окруженный (δορυφούμενον) многими тьмами ангелов»5). Подтверждение для той мысли, что второе пришествие Христа совершится в сопровождении ангелов, св. епископ Нисский находит в Св. Писании. И действительно, св. евангелист сохранил нам такое свидетельство Самого Иисуса Христа относительно Его второго пришествия: «приидет Сын Человеческий во славе Своей, и вси святии ангели с Ним» (Мф. 25. 31)6), а св. апостол Павел говорит, что Господь наш Иисус Христос явится с неба «со ангелы силы Своея» (2 Солун. 1,7)7). Но особенного внимания в данном отношении заслуживает образ, заимствованный св. Григорием из послания св. апостола Павла к Солунянам, под которым он изображает имеющее после-
1) Ibidem.
2) De vita Moysis (Mg. XLIV) col. 397D; p. пер. ч. I, стр. 340.
3) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col. 476A; p. пер. ч. V, стр. 273; ibid. (Mg. XLV) col. 484D; p. пер. ч. V, стр. 284.
4) De vita Moysis (Mg. XLIV) col. 397D; p. пер. ч. 1, стр. 340.
5) De pauper, amand, orat. I (Mg. XLVI) col. 460D; p. пер. ч. VII, стр. 402.
6) De vita Moysis (Mg. XLIV) col. 397D; p. пер. ч. I, стр. 340.
7) Adv. Arium et Sabell. 6 (Mg. XLV) col. 1289C; p. пер. ч. VII, стр. 10.
— 395 —
довать вместе с пришествием Христа на землю явление и служение Ему ангелови. Он говорит, что Сам Господь в повелении, во гласе архангелове, и в трубе Божии снидет (1 Солун. 4, 16) 1). Этот образ ясно показывает, что во время нисшествия Сына Божия на землю все свв. ангелы, по повелению начальника небесных воинств, соберутся на облаках и будут окружать и сопровождать грядущего на них Царя славы, оказывая Ему царственные божественные почести.
Такое царственное величие Христа, начавшееся в момент Его нисшествия с неба на землю, будет продолжаться и после Его явления во вселенную. Тут увидят Его «торжественно восседающим на престоле царствия и принимающим поклонение от всех вокруг Него находящихся ангелов (ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας μεγαλοπρεπὲς προκαθήμενος , καὶ ὑπὸ τῶν ἀγγέλων πάντων περὶ αὐτὸν προσκυνούμενος »2). «Пришедшему под именем Первородного, по словам святителя Нисского, поклонится полнота всех ангелов, радующихся призванию людей снова в первоначальную благодать»3). Указание на это св. отец находит в словах св. апостола: «о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных, и земных и преисподних» (Фил. 2, 10). Уясняя смысл данных слов, он полагает, что св. апостол Павел через них выражает ту мысль, что во время второго пришествия Христа Ему «поклонится вся премирная тварь»4).
Таковы будут слава и величие второго пришествия Христа на землю.
Второе пришествие Христа в мир, отличаясь своим необыкновенным величием и торжественностью, вместе с тем, по представлению св. Григория Нисского, будет
1) De hom. opif., cap. XXV (Mg. XLIV) col. 221 B; p. пер. ч. I, стр. 183.
2) Contra Eunom., lib. IV (Mg. XLV) col. 633D—636A; p. пер. ч. V, стр. 453.
3) Ibidem.
4) Ibid., lib. II (Mg. XLV) col. 504C; p. пер. ч. V, стр. 306.
— 396 —
необычайно грозным и страшным. Св. отец прямо говорит о втором пришествии Христовом, как о «страшном явлении (φοβερὰν ἐπιφάνειαν) Единородного в конце веков» 1) Этот страшный и грозный характер второго пришествия на землю Сына Божия будет находиться в тесной связи с Его славой и величием. И это потому, что последние неотразимо будут свидетельствовать о том, что Христос в Своем царском достоинстве идет на землю с тем, чтобы произвести над миром суд. Потому-то о втором пришествии Христа святитель Нисский словами св. апостола говорит, что оно будет во огни пламенне (ἐν φλογὶ πυρὸς), а Самого идущего в мир Сына Божия называет дающим отмщение не ведущим Бога, и не послуιающым благовествования Господа нашего Иисуса Христа (2 Солун. 1, 8)2).
Что касается, наконец, цели второго пришествия Сына Божия в мир, то относительно ее мы у св. Григория Нисского находим только отрывочные замечания, правда, вполне ясно определяющие ее. По воззрению св. отца, Господь наш Иисус Христос придет в конце настоящего мира на землю, во-первых, для того, чтобы «восстановить мертвых в нетление»3), а во-вторых, с целью суда над вселенной 4) и «всякой душой», живущей в ней 5), потому что Отец не судит никому же, но суд весь даде Сынови. да вси чтут Сына, якоже чтут Отца (Ио. 5,22—23)6).
Таковы были представления св. Григория о втором пришествии Христа на землю.
1) Ibid., lib. IV (Mg. XLV) col. 633D; p. пер. ч. V, стр. 453.
2) Adv. Arium et Sabell. 6 (Mg. XLV) col. 1289C; p. пер. ч. VII, стр. 10.
3) De hom. opif., cap. XXV (Mg. XLIV) col. 221B; p. пер. ч. I, стр. 306.
4) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col. 504D; p. пер. ч. V, стр. 306.
5) Ibid., lib. II (Mg. XLV) col. 476A; p. пер. ч. V, стр. 273; ibid. (Mg. XLV) col. 504D; p. пер. ч. V, стр. 306.
6) Adv. Arium et Sabell. 6 (Mg. XLV) col. 1299C; p. пер. ч. VII, стр. 10.
397
ГЛАВА II.
Учение о всеобщем воскресении мертвых.
1. Время всеобщего воскресения мертвых.
В непосредственной временной связи со вторым пришествием Христа на землю, по учению св. Григория Нисского, находится всеобщее воскресение мертвых 1) Говоря более точно о времени всеобщего воскресения мертвых, св. Григорий ставит его в прямую зависимость от рождения в мире определенного Богом количества людей2). По представлению св. отца, Бог, сотворивши первого человека, в его лице сотворил всю человеческую природу, определенное число индивидуумов которой в течение известного времени через акт рождения войдет в мир. «Думаю,— пишет св. отец,—силой предведения как бы в одном теле объята Богом всяческих полнота человечества»3); «сотворена всемогущей Премудростью не часть целого, но вся в совокупности полнота природы»4). Эта «полнота человеческого рода имеет вступить в жизнь через рождение» 5). Через него она достигнет, наконец, такого пун-
1) De mortuis (Mg. XLVI) col. 532C; p. пер. ч. VII, стр. 526.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 129B; p. пер. ч. IV, стр. 300.
3) Οἶμαι καθάπερ ἐν ἐνὶ σώματι ὅλον τὸ τῆς ἀνθρωπότητος πλήρωμα τῇ προγνωστικῇ δυνάμει παρὰ τοῦ Θεοῦ τῶν ὅλων περισχεθῆναι. De hom. opif., cap. XVI (Mg. XLIV) col. 185C; p. пер. ч. I, стр. 144.
4) Ibid., cap. XXII (Mg. XLIV) col. 204D; p. пер. ч. I, стр. 165.
5) Ibid., cap. XXII (Mg. XLIV) col. 205B; p. пер. ч. I, стр. 166.
— 398 —
кта, где с необходимостью произойдет остановка в увеличении числа человеческих индивидуумов.
Такое прекращение некогда размножения человеческого рода, по мнению св. Григория, оправдывается с точки зрении понятия о Боге, для Которого «среди созданного Им нет ничего беспредельного, но, напротив, для каждого из существ есть известный предел и мера, определенные премудростью Сотворившего их»1). Это основание для утверждения данной мысли святителя Нисского является вполне пригодным и при логической обработке последней. «В увеличении числа душ разум,—говорит св. отец, необходимо предвидит со временем остановку, чтобы не произошло через прибывающие вновь души бесконечного течения в природе, всегда текущей вперед и нигде не останавливающей своего движения» 2). Наконец, прекращения некогда размножения человеческого рода требует самое понятие «полноты». Всякая природа,—рассуждает святитель Нисский,— постигаемая умом, имеет свою полноту. Так как человеческий род принадлежит к природе, постигаемой умом, то, естественно, он «с течением времени достигнет своего предела, чтобы о нем не думали, что он будто бы всегда представляется недостаточным, потому что постоянное прибавление вновь прибывающих служит обвинением для рода в том, что в нем еще есть недостаток» 3).
Таким образом, когда человеческий род достигнет своей полноты, тогда «непременно остановится движение текущей природы, достигнув своего необходимого предела», и тогда место настоящей жизни заступит какое-то
1) Ibid., cap, XVI (Mg. XLIV) col. 185В; p. пер. ч. 1, стр. 144.
2) στᾶσιν δὲ πότε τὴς τοῦ ἀριθμοῦ τῶν ψυχῶν αὐξὴσεως, ἀναγκαίως προορᾷ ὁ λόγος. Ὡς ἄν μὴ διαπαντὸς ῥέοι ἡ φύσις, ἀεὶ διὰ τῶν ἐπιγινομένων ἐπὶ τὸ πρόσω χεομένη, καὶ οὐδέποτε τὴς κινήσεως λήγουσα. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 128B; p. пер. ч. IV, стр. 298.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 128B; p. пер. ч. IV, стр. 299.
— 399
другое состояние, отличное от нынешнего, проводимого в рождении и тлении. Тогда наступит такая жизнь, которая будет отличаться постоянством и неразрушимостью, потому что она не будет подлежать изменению ни рождением, ни тлением1). Эта именно жизнь, по представлению св. Григория, откроется всеобщим воскресением мертвых.
2. Сущность всеобщего воскресения мертвых.
Что касается сущности воскресения, то ее св. Григорий Нисский выражает в общих чертах, когда говорит, что после рождения в мире определенного числа людей «вся полнота душ из невидимого и рассеянного состояния снова возвратится в видимое и самособранное, причем те же самые стихии опять сойдутся между собой в прежнюю связь»2). Из этих слов св. отца ясно видно, что воскресение будет простирать свое действие как на душу человека, так и на его тело. Вместе с тем нельзя не заметить, что это действие воскресения, как увидим ниже, будет простираться на душу и тело человека не одинаково. Естественно, если душа не подлежит, подобно телу, смерти, то она не может испытать действия воскресения в том смысле, в каком ему подвергнется тело. «Воскресение, оживление и преобразование и все подобные наименования,—говорит святитель Нисский,—переносят мысль того, кто их слышит, к телу, которое подвержено тлению, так как душа, рассматриваемая сама по себе, никогда не может воскреснуть, потому что она не умирает» 3). Если
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 128C; p. пер. ч. IV, стр. 299.
2) ἄπαν τὸ τῶν ψυχῶν πλήρωμα, πάλιν ἐκ τοῦ ἀειδοῦς καὶ ἐσκεδασμένου πρὸς τὸ συνεστὸς καὶ φαινόμενον ἐπανελεύσεσθαι, τῶν αὐτῶ στοιχείων κατὰ τὸν αὐτόν εἰρμὸν πρὸς ἄλληλα πάλιν ἀναδραμόντων. Ibid. (Mg. XLVI) col. 129B; p. пер. ч. IV, стр. 300.
3) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 676D—677A; p. пер. VIII, стр. 82-83.
— 400 —
душа, как «нетленная (ἄφθαρτος)» и «неподлежащая гибели (ἀνώλεθρος)», не воскреснет в том смысле, в каком воскреснет ее тело, то, однако, действие воскресения на нее будет заключаться в том, что она «снова вселится в своего сотрудника»1), т.-е. в тело.
Из сказанного следует, что действие воскресения, главным образом, будет простираться не на душу человека, но на его тело, так как только оно подлежит физической смерти. В силу последнего обстоятельства собственно и можно говорить о воскресении, в точном смысле этого слова, только тела. Физическая смерть, как об этом у нас была речь выше 2), имеет своей целью очищение нашей природы от порочности. Для более успешного выполнения этой цели она, по определению мудрого Провидения, подвергнет сосуд нашего тела разложению на разнообразные стихии. В таком состоянии находится тело человека после его смерти до тех пор, пока оно не очистится от зла. Очистившись же от последнего, оно возвращается в свое прежнее состояние (τῳ ἐξ ἀρχῆς ἀποκαταστῆ βίῳ)3), освободившись, правда, как увидим ниже, от присущей ему материальной грубости.
Когда человеческое тело, разложенное смертью на отдельные стихии, через акт воскресения достигнет объединения последних в одно целое, тогда с ним снова, но уже навсегда, соединится его душа. В этом новом соединении души с объединившимися элементами тела собственно и будет состоять сущность воскресения. «Воскресение,—пишет св. Григорий,—это есть возвращение в нерасторжимое единение того, что раньше объединялось в одном целом и по разложении снова соединилось,
1) Ibid., orat. III (Mg. XLVI) col. 677A; p. пер. ч. VIII, стр. 83.
2) См. стр. 282 идал.
3) Orat. fun. de Placil. (Mg. XLVI) col. 877A; p. пер. ч. VIII, стр. 402.
— 401
дабы человечеству была возвращена первоначальная благодать, и мы снова вступили в вечную жизнь»1)
Этот состав человека после всеобщего воскресения мертвых будет напоминать собой его первоначальное, райское состояние. Поэтому-то св. Григорий Нисский, рассуждая о всеобщем воскресении мертвых, то говорит, что через него «Бог возвратит человеческую природу в ее первоначальное устройство (πρὸς τὴν πρώτην τοῦ ἀνθρώπου κατασκευὴν δι ’ ἀναστάσεως ὁ Θεὸς ἐπανάγη τῆν φύσιν)»2), то называет его «восстановлением божественного образа в первобытное состояние (ῆ τῆς θείας εἰκόνος εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστασις)»3), τὸ очень часто замечает о нем, что оно есть «не что иное, как восстановление природы в первобытное состояние» 4), то, наконец, по словам св. отца, «благодеяние воскресения нам обещает не что иное, как восстановление падших в первобытное состояние. Ведь, это ожидаемое благодеяние представляет собой в своем роде возвращение к первоначальной жизни, возвращение, вводящее в рай изгнанного из него» 5).
Однако, было бы несправедливо думать, что под «восстановлением (ἀποκατάστασις)» грешного человечества в
1) Τοῦτό ἐστιν ἡ ἀνάστασις, ἡ τῶν συνεζευγμένων μετὰ τὴν διάλυσιν ἐπάνοδος εἰς ἀδιάλυτον ἕνωσιν ἀλλήλοις συμφυομένων, ὡς ἄν ἡ πρώτη περὶ τὸ ἀνθρώπινον χάρις ἀνακληθεῖη, καὶ πάλιν ἐπὶ τὴν ἀΐδιον ἐπανέλθοιμεν ζωήν... Orat. cat., cap. 16 (Srawley, op. cit, p. 71); p. пер. ч. IV, стр. 49.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 149D; p. пер. ч. IV, стр. 318.
3) De virg., cap. XII (Mg. XLVI) col 373C; p. пер. ч. VII, стр. 346.
4) Μηδὲν ἕτερον εἶναι ἀνάστασιν, ἡ τὴν εἰς τὸ ἀρχαὶον τὴς φύσεως ἡμῶν ἀποκατάστασιν. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 150C; p. пер. ч. IV, стр. 322 cp. ἀνάστασις ἐστιν ἡ εἰς τὸ ἀρχαῖον τῆς φύσεως ἡμῶν ἀποκατάστασις. Ibid. (Mg. XLVI) col. 148A; p. пер. ч. IV, стр. 314; οὐδὲ γὰρ ἄλλο τί ἐστιν ἡ ἀνάστασις, εἰ μὴ πάντως ἡ εἰς τὸ ἀρχαὶον ἀποκατάστασις. III Eccles., hom. I (Mg. XLIV) col. 633C; p. пер. Ч. ІІ, стр. 223; Τοῦτο γὰρ ἐστιν ἡ ἀνάστασις, ἡ εἰς τὸ ἀρχαῖον τὴς φύσεως ἡμῶν ἀναστοιχεἱωσις. Orat. fun. de Placil. (Mg. XLVI) col. 877A; p. пер. ч. VIII, стр. 402.
5)Ἡ δὲ τὴς ἀναστάσεως χάρις οὐδέν ἕτερον ἡμῖν ἐπαγγέλλεται, ἡ τὴν εἰς τὸ ἀρχαῖον τῶν πεπτωκότων ἀποκατάστασιν. Ἐπάνοδος γὰρ τίς ἐστιν ἐπι τὴν πρώτην ζωὴν ἡ προσδοκωμένη χάρις. De hom. opif., сар. XVII (Mg. XLIV) col. 188C; p. пер. ч. I, стр. 146.
— 402 —
момент всеобщего воскресения в первобытное состояние нужно представлять уже нечто законченное или, другими словами, полное возвращение как в отношении тела, так и души всего человечества к первобытному невинному состоянию. Если возвращение в момент всеобщего воскресения людей в райское состояние, по учению св. Григория с полным основанием можно считать законченным для всего человечества в отношении одной стороны его природы, именно тела, то этого мы далеко не можем сказать относительно его другой стороны, т.-е. души. Телесная сторона всех людей, действительно, по мнению святителя Нисского, непосредственно за воскресением достигнет своей первобытной красоты. Восхваляя участь тех людей, в которых в момент воскресения «воссияет совершенная красота», св. отец находит необходимым заметить, что он это говорит не в том смысле, «будто бы во время воскресения обнаружится какое-то телесное различие между жившими добродетельно и порочно, так что одного можно будет считать несовершенным по телу, а другого признать достигшим совершенства» 1). Напротив, все люди после воскресения по своему телу будут обладать одинаковым совершенством, которое, по словам св. апостола, состоит в нетлении, славе, чести и силе2). Если телесная сторона у всех людей в момент воскресения будет одинаковой, притом совершенной в райском смысле, то возвращение человеческих душ в первобытное состояние и связанное с ним блаженство во время воскресения произойдет только у некоторых людей, успевших в течение своего загробного состояния очиститься от всякой примеси порока. Потому-то св. епископ Нисский называет блажен-
1) Ταῦτα δὲ φαμεν οὐχ ὡς σωματικῆς τινος διαφορᾶς ἐν τοῖς κατ' ἀρετὴν ἢ κακίαν βεβιωκόσιν ἐν τῇ ἀναστάσει φανησομένης, ὡς τὸν μὲν ἀτελῆ κατὰ τὸ σῶμα νομίζειν, τὸν δὲ τὸ τέλειον ἔχειν οἶεσθαι. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 160A; p. пер. ч. IV. стр. 325.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 160B; p. пер. ч. IV, стр. 325.
403 —
ными после воскресения не всех людей, но только «тех, в ком немедленно, как только они произрастут через воскресение, воссияет совершенная красота колосьев» 1). Таким образом, во время воскресения все люди окажутся одинаково совершенными по телу, но они весьма будут между собой различаться в отношении совершенства своих душ.
Такое свое представление о состоянии человеческой природы в ее обеих составных частях в момент всеобщего воскресения мертвых св. Григорий поясняет через сравнение. Как но время земной жизни,—рассуждает он,—и узник и живущий на свободе—оба по своему телу сходны между собой, но существует между ними большое различие в отношении печальной участи одного и приятной другого; «так, думаю,—пишет св. отец,— необходимо допустить различие между добрыми и злыми и в будущее время»2). Из этого сравнения ясно, что возвращение во время воскресения людей в первобытное состояние будет законченным только в метафизическом смысле, но далеко не в моральном3). В этом последнем отношении еще и после всеобщего воскресения до известного времени будет продолжаться различие между ними.
Что данный вывод из изложенных рассуждений св. Григория не является произвольным, это видно также из прямых свидетельств св. епископа Нисского. Так, говоря о разной участи на том свете удостоившихся и не удостоившихся на земле таинства св. крещения, св. отец замечает, что и после воскресения это различие останется. «Не все, что через воскресение снова возвращается в бытие, вступает в ту же самую жизнь, но существует
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 157D—160A; p. пер. ч. IV, стр. 325.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 160AB; p. пер. ч. IV, стр. 325.
3) Против проф. А. Мартынова, ор. cit ., стр. 321.
— 404 —
большое различие между очистившимися и имеющими нужду в очищении»1). Ту же самую мысль выражает святитель Нисский также и в другом месте своих сочинений, именно, когда говорит о людях, проводящих греховную жизнь на земле, что они, «хотя и возвратятся через воскресение в бытие, однако найдут у Судьи великую строгость (κἂν φύωσι διὰ τῆς ἀναστάσεως πολλὴν ἀποτομίαν παρὰ τῷ Κριτῇ ἕξουσιν)»2). Таким образом, св. Григорий Нисский, хотя и смотрел на воскресение из мертвых, как на возвращение людей в первобытное состояние, однако этим он нисколько не исключал их морального различия и после воскресения. А отсюда, если после акта всеобщего воскресения, по представлению св. отца, некоторые люди в отношении своих душ не достигнут первобытного состояния, следует, что святитель Нисский, определяя воскресение, как восстановление в первобытное состояние, оттенял только ту мысль, что с данного момента, действительно, возвращается для всех людей в отношении их тела, а для некоторых из них и в отношении души тот период в истории человечества, с которого она началась3).
3. Доказательства возможности всеобщего воскресения мертвых.
В христианской церкви вера в всеобщее воскресение мертвых с самых первых времен ее существования занимала очень видное место. Эту веру исповедывали мученики 4), идя на вольную смерть, защищали апологеты
1) Οὐ γὰρ ὅσα δι’ ἀναστάσεως τὴν ἐπὶ τὸ εἶναι πάλιν ἐπάνοδον δέχεται, πρὸς τὸν αὐτὸν ἐπάνεισι βίον, ἀλλὰ πολὺ τὸ μέσον τῶν τε κεκαθαρμένων, καὶ τῶν τοῦ καθαρσίου προσδεομένων ἐστίν. Orat. cat., cap. 35 (Srawley, op. cit., p. 138); p. пер. ч. IV, стр. 94.
2) De an. et res. (Mg. XLVI, col. 157C; p. пер. ч. IV, стр. 324.
3) Cp. A. Мартынов, op. cit., стр. 323.
4) Напр., св. Игнатий, стр. выше 15.
405 -
христианства1) против язычников и лжеучителей и раскрывали пастыри и учители церкви 2). В виду, очевидно, того, что догмат воскресения мертвых в христианском вероучении занял такое очень важное место, а равно потому, что против него всегда направлялись многочисленные и разнообразные возражения, св. Григорий весьма подробно и обстоятельно оправдывает возможность всеобщего воскресения, устраняя все направленные против нее возражения.
По представлению святителя Нисского, возможность всеобщего воскресения мертвых утверждается как на естественных, так и сверхъестественных основаниях.
А. Естественные основания возможности всеобщего воскресения мертвых.
Во время жизни св. Григория Нисского, по-видимому были люди, которые, судя о божественном могуществе по мере возможного для человека, утверждали, что для Бога, как и для человека, воскресение мертвых невозможно. Это свое утверждение они аргументировали тем соображением, что после смерти человека его тело будто бы совершенно уничтожается, так как оно пожирается плотоядными животными, истребляется огнем, съедается червями или, наконец, просто истлевает в гробу3).
В своем месте мы говорили4), что св. Григорий Нисский считал мнение о полном уничтожении человеческого тела после его смерти несостоятельным. Тио его воззрению, «куда бы кто в своем предположении ни перенос человека мыслью, несомненно, он все еще будет оставаться в мире (ὅπου δ ’ ἄν τις καθ ’ ὑπόθεσιν περιενέγκη τῷ λό -
1) Стр. выше 36—44.
2) Cp. св. Ириней, стр. выше 69—71; св. Ипполит, стр. выше 99— 102; Ориген, стр. выше 162—174; св. Петр Ал,. стр. выше 195—196; св. Александр Ал., стр. выше 196, прим. 2; св. Мефодий Олимп., стр. выше 206—215; Адамантий, стр. 219—222; св. Василий В., стр. выше 229—230; св. Григорий Бог., стр. выше 247—248 и друг.
3) De hom. opif., cap. XXVI (Mg. XLIV) col. 224C; p. пер. ч. I, стр. 185—186 cp. Афинагор, стр. выше 41.
4) Стр. выше 261.
— 406 —
γῳ τὸν ἀνθρωπον, ἐντὸς τοῦ κόσμου πάντως ἐστίν)» ι). Естественно, Бог, содержащий мир и Своей длани, всегда, в случае надобности, может с точностью отыскать то, что в нем находится2). Поэтому, не будет ничего удивительного, когда в день всеобщего воскресения «та часть тела, которую сели плотоядные птицы, окажется целой, что пожрали киты, собаки и морские животные восстанет вместе с воскресшим человеком, что попалил огонь, что истребил червь в гробах и вообще все тела, которые после рождения уничтожило тление, будут возвращены землей целыми и неповрежденными» 3).
Итак, данное возражение св. епископ Нисский считал незаслуживающим большого внимания, так как оно, по его словам, является только «изворотом красноречивой суетности (τῆς λογικῆς ματαιότητος περιδρομάς)»4).
По мысли св. Григория, гораздо большего внимания заслуживает недоумение, имевшее также место в его время, сущность которого сводится к тому, что будто бы «из общего трудно возвратиться в свое место частному» 5). Смысл этого недоумения в следующем. Находящиеся в человеческом теле — воздух, теплота; влага и проч. после его разложения переходят в общую массу сродных им стихий. Само собой понятно, что в момент всеобщего воскресения они должны будут выделиться из общей суммы родственных им стихий и, составивши из себя одно прежнее тело, соединиться с своей душой.
1) De hom. opif, cap. XXXI (Mg. XLIV) col. 224D; p. пер. ч. I, стр. 186 cp. св. Иустин Муч., стр. выше 38; Татиан, стр. выше 43—44; св. Ириней, стр. выше 69; св. Мефодий, стр. выше 212; Адамантий, стр. выше 220.
2) De hom. opif., cap. XXVI (Mg. XLIV) col. 224D—225A; p. пер. н. I. стр. 186—187.
3) In Chr. resurr., orat. ІГІ (Mg. XLVI) col. 660BC; p. пер. ч. VIII, стр. 64 cp. Афинагор, стр. выше 4и.
4) De hom. opif., cap. XXVI (Mg. XLIV) col. 224C; p. пер. ч. I, стр. 186.
5) Ibid., cap. XXVII (Mg. XLIV) col. 225A; p. пер. ч. I, стр. 187.
407 —
Для такого выделения элементов человеческого тела, по мнению св. Григория, не может быть особых затруднений. Элементы тела имеют к соединению с душой т. ск. естественную наклонность. Дело в том, что еще во время земной жизни человека, вследствие тесной связи его души с телом, устанавливается между душой и элементами ее тела определенная связь. Душа как будто налагает на элементы своего тела особую печать своего обладания ими. Эта печать на ее телесных элементах сохраняется и после смерти человека. В силу этого, как у души, так и у тела навсегда устанавливается скрытое стремление к вторичному соединению друг с другом. Достаточно, чтобы наступило время этого соединения, как из общей массы материи выделяются для соединения с своей душой необходимые телесные элементы, уже бывшие прежде с ней в общении. Данную свою мысль святитель Нисский поясняет примером из обыденной жизни. «Без сомнения, — говорит оп, — ты видел где-нибудь около человеческих жилищ общее стадо каких бы то ни было животных, состоящее из общего достояния. Когда они снова распределяются между своими владельцами, тогда или привычка животного к дому, или возложенные на него знаки доставляют каждому свое»1).
С другой стороны, душа знает такие признаки в своем теле, которые дают ей возможность выделить его элементы из массы стихий. Существование души в теле во время земной жизни человека не бывает для нее бесследным. По мнению св. Григория, так как душа во время земной жизни питает к своему сожителю — телу какую-то естественную дружбу и любовь, то в ней тайно сохраняется и в загробном мире какая-то дружеская связь и знакомство (τις κατὰ τὸ λεληθὁς) с ним2). Душа знает
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 225B; p. пер. ч. I, стр. 187.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 225BC; p. пер. ч. I, стр. 187—188.
—408 —
свое собственное тело и после его отделения от нее по некоторым неизменным признакам, которые присущи его элементам. И в самом деле, телесная природа человека по своей сущности не представляет чего-либо исключительно изменчивого и текучего. Напротив, по точнейшему исследованию, она состоит из двух сторон— подлежащей изменению и постоянной. Если в человеческом теле одна сторона постоянно изменяется, то зато другая всегда остается одинаковой. Она никогда не теряет раз навсегда возложенных на нее природой знаков. Эту сторону человеческого тела святитель Нисский обозначает термином— εἶδος1). Это—особый, свойственный каждому человеку вид, типические черты и вообще известный склад телесной организации, который, всегда оставаясь неизменным, отличает одного человека от другого 2). Εἰδος —это «внутренний образ» 3), «тип личности»4), «идея и форма тела»5), которая, при всех переменах в последнем, сохраняет в себе свои собственные признаки. Только страсть, подобно жестокой болезни, например, проказе, может изменить на некоторое время этот отличительный вид каждого человека 6). Такое различие в телесной организации людей определяется разнообразием комбинаций тех элементов, из которых каждая душа образует дня себя
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 225D; p. пер. ч. I, стр. 189 cp. Ориген, стр. выше 166—167. 168—170 сн. И. Страхова, ор. cit., стр. 605—606.
2) Ср. проф. А. Бриллиантова, Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригены (С.-Петербург 1888). стр. 189.
3) Dr. Fr. Diekamp, ор. cit., S. 44.
4) Dr. I. Huber, op. cit., S. 207.
5) Dr. Joh. N. Stigler, op. cit, S. 129cp. проф.A. Мартынов, op. Cit., стр. 325.
6) Ὑπεξαιρείσθω δὲ τοῦ λόγου ἡ ἐκ πάθους ἀλλοιωσις, ἡ τῷ εἴδει ἐπισομβαίνουσα οἴον γὰρ τι προσωπεῖον ἀλλότριον ἡ κατὰ τὴν νόσον ἀμορφία διαλαμβάνει τὸ εἶδος, ἧς τῷ λόγῳ περιαιρεθείσης, καθάπερ ἐπὶ Νεεμὰν τοῦ Σύρου, ἢ ἐπὶ τῶν κατὰ τὸ Εὐαγγέλιον ἱστορηθέντων, πάλιν τὸ κεκρυμμένον ὑπὸ τοῦ πάθους εἶδος, διὰ τῆς ὑγείας ἐκ τοῖς ἰδίοις ἀνεφάνη γνωρίσμασι. De hom. Opif., cap. XXVII (Mg. XLIV) col. 227D—228A; p. пер. ч. I, стр. 189.
— 409 —
тело, как бы свое собственное жилище. Пребывая неизменным при постоянной текучести вещества, свойственной каждому человеку, особый характер телесной организации, «как отличительный вид, подобно оттиску печати, остается и в душе (οἷον ἐκμαγείῳ σφραγίδος τῇ ψυχῆ παραμείναντος)»1). Само собой понятно, душе известно, что на ней отпечатлелось. Поэтому, если душа в момент всеобщего воскресения должна будет соединиться с элементами материального тела, то она воспримет только одну, свойственную ей, комбинацию этих элементов, другими словами, она соединится только с той самой телесной организацией, отпечаток которой она сохраняет 2). Ясно, что при таком порядке вещей во время всеобщего воскресения не может случиться так, чтобы душа некоторое время оставалась без принадлежащего ей тела. Наоборот, «хозяин не блуждает и не бродит без крова, отыскивая, где его собственный дом, но прямо направляется к последнему, как голуби к своей башне»3). Во время всеобщего воскресения, — пишет св. отец,—«всякая душа узнает свое тело, как свою отличную от других одежду, и снова быстро вселится в него (γνωρίζουσαν ἐκάστην ὡς ἰμάτιον ἑξαίρετον τὸ ἴδιον σῶμα καὶ τούτῳ πάλιν ἑνοικοῦσαν ὀξέως)»4).
Таким образом, выделение во время всеобщего воскресения мертвых элементов взятого человеческого тела из общих мировых стихий, объединение их в один целый организм, соответствующий тому их отличительному εἶδοσ ’у, который первоначально был отпечатан на них природой, и соединение последнего с своей душой будет явлением совершенно естественным и не потребуется для этого каких-либо особых усилий. Св. Григорий Нисский приводит и соответствующие аналогии. Как ртуть,
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 228B; p. пер. ч. I, стр. 190.
2) Ibidem.
3) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 660D-661 Α; p. пер. ч. VIII, стр. 65.
4) Ibid (Mg. XLVI) col. 660D; p. пер. ч. VIII, стр. 65.
— 410 —
пролитая из сосуда на каком-либо покатом и наполненном пылью месте, разделившись на мелкие шарики, рассыпается по земле, но, будучи кем-нибудь снова собрана в одно целое, сама собой сливается с однородным, не принимая ничего постороннего в свою смесь; «так, полагаю,— пишет св. отец,—следует думать и о человеческом составе, именно: если только последует Божье повеление —соответственным частям присоединиться к тем, которые им принадлежат, то Обновляющий природу в данном случае не испытает никакого затруднения» 1). Или другая аналогия. Семя известного растения, брошенное в землю, заимствует из последней всегда только соответствующие его природе элементы и всегда развивает из себя определенного вида растение. Если каждое в отдельности растение без особых затруднений и побуждений извлекает из общих для всех растений веществ природы только способствующее его возрастанию, то, — спрашивает св. Григорий, — заключается ли что-либо необыкновенное в учении о воскресении, по которому каждый воскресающий, как это бывает с семенами, привлекает к себе свойственное ему?2).
Итак, св. епископ Нисский не видел в возвращении из общего частного ничего несообразного с разумом (οὐδὲν ἐξω τοῦ εἰκότος ἐστίν , πάλιν ἐκ τοῦ κοινοῦ πρὸς τὸ καθέκαστον ἐπαναλύειν τὸ ἴδιον)»3).
Естественные основания возможности будущего воскресения мертвых св. Григорий раскрывал не исключительно только полемическим путем, опровергая действительные или возможные возражения против этого догмата христианского вероучения. Весьма вероятно, что в виду той
1) De hom. opif., cap XXVII (Mg. XLIV) col. 228C; p. пер. ч. 1, стр. 190.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 228D; p. пер. ч. I, стр. 191 cp. Ориген, стр. выше 169— 170.
3) De hom. opif., cap. XXVII (Mg. XLIV) col. 228B; p. пер. ч. I, стр. 190.
— 411
большой важности, какая в истории христианской церкви всегда приписывалась истине воскресения мертвых и какую она всегда имела для христианина, святитель Нисский старался оправдать ее также и положительным путем. Он пытался приблизить ее к сознанию верующих через аналогии, представляемые нам видимой природой. И действительно, в мире есть много таких явлений, которые не могли бы быть признаны возможными, если бы они, на самом деле, не имели в нем места. Но они совершаются на глазах всех людей, а потому в возможности и действительности их никто не сомневается.
Таково, прежде всего, происхождение из безвидного семени полного человеческого организма. Кто не знает, — спрашивает св. Григорий, — этого чудного действия природы? Без сомнения, всем известно, что принимает в себя утроба матери и что она производит из этого. Принимаемое в утробу матери, как начало телесного состава, в известном смысле отличается простотой и со стоит из одинаковых составных частей. Несмотря, однако, на это, из него происходит такое разнообразие телесного состава, что его трудно представить в слове 1). Как все это происходит, это непостижимо для человеческой мысли. Ведь, никто не в состоянии изъяснить, как семя, будучи по своей природе влажной сущностью, не имеющей ни формы, ни вида, становится плотным в голове, отвердевает в кости голеней и ребра, производит из себя мягкий и рыхлый мозг и заключающий его в себе череп; словом, все разнообразное строение телесного организма2). Происхождение человеческого организма из семени настолько непостижимо для человеческой
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 228D—229A; p. пер. ч. I, стр. 181 cp. св. Иустин Мучен., стр. выше 36. 38; св., Феофил Ант., стр. выше 44; св. Мефодий, стр. выше 211.
2) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 668BC; p. пер. ч. VIII, стр. 72—73.
— 412 —
мысли, что возможность его никогда ею не была бы допущена, если бы относительно ее не свидетельствовал опыт. «Кто, — пишет св. отец, — не научаемый подобному общей природой, признал бы возможным совершающееся, а именно, что это малое и само по себе незначительное служит началом столь великого дела? Называю же великим, не только обращая внимание на образование тела, но и на то, что более достойно удивления, разумею, самую душу и все, что мы в ней замечаем» 1). Если настоящий способ происхождения людей, несмотря на то, что он не уясним с точки зрения человеческого разума, все-таки, имеет место в мире, то, совершенно аналогично данному явлению, в нем произойдет в известное время непостижимое также для нашей мысли всеобщее воскресение мертвых. «Подобно тому как семя, сначала бесформенное, будучи приведено невыразимым в слове Божьим искусством в порядок, принимает очертание и возрастает в плотное тело; так, — говорит св. епископ Нисский, — нисколько не странно, но вполне будет последовательно, если вещество, находящееся в гробах, некогда имевшее вид, снова примет прежнюю форму,— и прах опять станет человеком, как и прежде он из него произошел» 2).
Стараясь приблизить возможность воскресения к обычному пониманию, св. Григорий приводит, кроме рассмотренной, еще другие аналогии. Он вслед за многими ему предшествующими христианскими писателями 3), между
1) De hom. opif.. cap. XLVII (Mg. XLIV) col. 229A; p. пер. ч. I, стр: 191—192.
2) Οὕτως οὐδέν ἀπεικός, ἀλλὰ καὶ πάνυ ἀκόλουθον, τῆν ἐν τοῖς τάφοις ὕλην, τὴν πότε οὖσαν ἐν εἴδει, αὖθις εἰς τὴν παλαιὰν ἀνακαινισθὴναι διαπλαοιν, καὶ παλιν γενέτθαι τὸν χοῦν ἀνθρωπον ὡσπερ δὴ καὶ τὸ πρῶτον ἐκεῖθεν ἔσχε τὴν γένεσιν. In Chr. resurr., orat. I ΙΙ (Mg. XLVI) col. 668C; p. пер. ч. VIII, стр. 73.
3) Св. Климент Римский, стр. выше 15; св. Феофил Ант., стр. выше 44; св. Ириней, стр. выше 69; св. Ипполит, стр. выше 100—101; Ориген, стр. выше 167; св. Петр Александрийский, стр. выше 195; Адамантий, стр. выше 221.
413 —
прочим, указывает и на «пример пшеницы, которым, по его словам, премудрый Павел научает безумных, говоря: «безумне, ты еже сееши, не тело будущее сееши, но голо зерно, аще случится пшеницы или иного от прочих семян; Бог же дает ему тело якоже восхощет» (1 Кор. 15, 36. 37. 38)1) Святитель Нисский, указывая на данный пример из учения св. апостола Павла, приглашает своих слушателей и читателей, желающих несколько уразуметь учение о воскресении, тщательно вникнуть в процесс произрастания пшеницы. Как известно, — говорит св. отец, — для того, чтобы произросла пшеница, бросают соответствующее зерно в землю. Там это зерно подвергается разложению, после чего оно превращается в некоторое млековидное вещество. Это последнее, несколько выросши, становится остроконечным белым волоконцем. Проникнув через землю, это волоконце из белого мало по малу становится зеленой травой, покрывающей собой поля. По мере возрастания этой травы, у нее развиваются корни, приготовляя из себя подпору для будущей тяжести. После того как пшеница вырастет в стебель и поднимется до известной высоты, в виду ее тяжести, Бог скрепляет ее коленцами и узелками. Когда же пшеничный стебель достигает достаточной силы, тогда он украшается колосом. И здесь, — продолжает св. отец, — мы находим еще больше заслуживающего удивления. Вокруг колоса одно за другим размещаются зерна, причем каждое из них имеет особое влагалище. Наконец, на колосе появляются острые и тонкие ости—это оружие против питающихся зернами птиц. «Видишь, — так заканчивает св. епископ Нисский свое описание произрастания пшеницы из зерна, — видишь, какие чудные дела представляет одно
1) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 669 Α; p. пер. ч. VIII, стр. 74 cp. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 152C—153A: p. пер. ч. IV, стр. 219—220.
414 —
сгнившее зерно? Павши на землю одно, в каком числе зерен оно произрастает»1)? Если имеет место в мире такое удивительное явление, как произрастание пшеницы из зерна, то нет никаких оснований отрицать возможность воскресения мертвых, потому что человек во время данного акта мировой истории ничего не приобретает большего в сравнении с тем, что он имел во время своей земной жизни 2).
Рассматривая приведенное выражение св. апостола в качестве доказательства возможности всеобщего воскресения в другом своем сочинении, св. Григорий останавливает свое внимание на том обстоятельстве, что апостол Павел обличает «неосмотрительность» возражающих против воскресения не какими-либо высшими чудесами, как, например, решением соответствующих вопросов относительно небесного, солнечного или лунного тел, или относительно звезд, эфира, воздуха, воды, земли и т. под., но тем, «что обыкновенно находится при нас и нам обще». Не учит ли тебя земледелие, — так видоизменяет св. епископ Нисский указанные слова св. апостола, — что суетен тот, кто по своей мерке гадает о силе Божьей, превосходящей всякую меру? Отчего из семян вырастают тела? Что предшествует их произрастанию? Не смерть ли, если только разложение составного есть смерть»3). Итак, заключает св. Григорий, как тело колоса рождается из семени, причем только после того, как последнее подвергнется разложению; «так, по слову апостола, и тайна воскресения уже разъясняется через то, что происходит удивительного в семенах»4).
1) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 669AB3; p. пер. ч. VIII, стр. 74—75.
2) Ἀνθρωπος δὲ οὐδέν προσλαμβάνει πλέον ο δὲ εἰχεν ἀπολαμβάνει, καὶ διὰ τοῦτο τῆς γεωργίας τοῦ σίτου, ὁ ἡμέτερος ἀνακαινισμός εὐκολότερος ἀναφαίνεται. Ibid. (Mg. XLVI) col. 669C; p. пер. ч. VIII, стр. 75.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 153АВ; p. пер. ч. IV, стр. 320.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 153C; p. пер. ч. IV, стр. 321.
415 —
В качестве естественного доказательства возможности воскресения мертвых, далее, св. Григорий Нисский, по примеру св. Феофила Антиохийского 1)» приводит аналогию из жизни деревьев. Всматриваясь в жизнь деревьев,— рассуждает он, — мы не можем не заметить, что для них зима ежегодно заменяет смерть. В этот период года с деревьев, как известно, опадают плоды и листья, так что они становятся сухими и свободными от всякой красоты. Но вот наступает весна, и деревья снова покрываются приятным цветом и листьями 2). Ясно, если дерево, подвергшись в зимнее время своего рода смерти, весной в известном смысле приобретает способность к возобновлению, то и человек, разложившийся по закону природы через смерть на свои составные элементы, не лишается возможности в определенное Богом время воскреснуть.
Наконец, для подтверждения возможности воскресения умерших людей св. Григорий приводит аналогию из жизни змей. Как известно,—пишет святитель Нисский,— в зимнее время года жизненная сила змей замирает, и они в течение шести месяцев совершенно неподвижно лежат в норах. Но вот наступает известное время, когда мир оглашается звуками грома. Змеи, приняв громовой удар в качестве условного знака для пробуждения к жизни, быстро выползают из своих нор и начинают обнаруживать свою обычную деятельность 3). Пусть скажет мне,—так св. Григорий выражает смысл данной аналогии в ее применении к акту воскресения мертвых,— пусть скажет мне испытатель и исследователь дел Божьих и научит меня, почему он допускает, что гром воскрешает змей, которые были мертвы, и не желает
1) Стр. выше 44.
2) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 669D; p. пер. ч. VIII, стр. 75—76.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 672A; p. пер. ч. VIII, стр. 76.
— 416 —
допустить одушевления людей при звуке трубы Божьей с небес, как говорит Слово Божие; «вострубите бо и мертвии востанут» (1 Кор. 15, 52). И снова в другом месте яснее: «и послет ангелы Своя с трубным гласом велиим, и соберут избранные Его» (Матф. 24,31)1). Ясно, что ничто не препятствует признать возможность воскресения умерших людей, потому что «проповедь о нем не заключает в себе ничего такого, что не было бы известно из опыта (μηδὲν ἔξω τῶν τῇ πείρᾳ γνωριζομένων τὸ κήρυγμα περιέχειν τῆς ἀναστάσεως)»2).
Β. Сверхъестественные основания возможности всеобщего воскресения мертвых.
Св. Григорий, однако, не ограничивается обоснованием возможности воскресения мертвых одними только естественными данными. Он выдвигает в качестве подтверждения возможности этого догмата христианского вероучения также сверхъестественные основания, предполагая участие в акте воскресения мертвых всемогущества Божия. Участие в деле воскресения мертвых божественной силы, по мнению святителя Нисского, должно положить предел всяким сомнениям относительно его возможности. И в самом деле, если всемогуществу Божью весьма легко (μάλιστα εὐπορον) было привести весь мир из небытия в бытие, то, конечно, гораздо лучше и удобнее (πολλῷ δήπου ῥᾷστον καὶ εὐκολώτατον) ему будет воссоздать, хотя и разрушившееся, но уже раз приходившее в бытие»3). Если всемогуществу
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 672A; p. пер. ч. VIII, стр. 76—77.
2) De hom opif., cap. XXVII (Mg. XLIV) col. 228D; p. пер. ч. I, стр. 191.
3) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 673BC; p. пер. ч. VIII, стр. 79 cp. св. Иустин Муч., стр. выше 36. 38; Афинагор, стр. выше 40; св. Феофил, стр выше 44; св. Ириней, стр. выше 69—70; св. Ипполит, стр. выше 100; Ориген, стр. выше 162—103; св. Мефодий, стр. выше 211. 212; Адамантий, стр. выше 220.
— 417
Божью, по свидетельству Св. Писания, «возможно и несуществующее привести в бытие и существующему свободно сообщить качества», если «мы признаем силу божественной воли достаточной для создания существ из ничего»; то решительно не имеем никаких оснований считать «преобразование созданного этой же силой Божьей чем-либо невероятным»1). Через акт создания человека Бог со всей очевидностью засвидетельствовал, что для Него решительно нет ничего такого, чего Он не мог бы сделать. «Поистине,—пишет св. отец,— прилично только мертвым и бесчувственным рассуждение тех, которые думают, что для Бога существует что-либо невозможное и неудобоисполнимое, и которые собственную немощь переносят на всемогущее величие» 2). Желая поразить дерзость таких безумцев и оправдать возможность для Бога воскрешения подвергшегося смерти человечества, св. епископ Нисский выражает свое удивление пред величием акта создания Им первых людей. «Прошу тебя, пишет он,—тебя, который имеешь стремление обнять своей мудростью все, научи меня, как тонкий рассеянный прах объединился в одно целое, как земля стала телом, как одно и то же вещество стало и костями, и кожей, и жиром, и волосами? Как произошли в одном и том же теле различные виды членов, свойств и связок? Отчего легкое на осязание мягко и по цвету синевато, печень жестка и красна, сердце сжато и самая твердая в теле часть—селезенка рыхла и черна, желудочная оболочка бела и сплетена природой на подобие рыболовной сети? Обратим пи внимание и на то, каким образом первая звена от малой части ребра стала целым живым существом, подобным первому совершенному человеку, и как часть стала доста-
1) De hom. opif., cap. XXIII (Mg. XLIV) col. 212C; p. пер. ч. I, стр. 173.
2) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 664BC; p. пер. ч. VIII, стр. 68.
— 418
точной для всего и малое составило все? Ребро стало головой, руками и ногами, извилистым и разнообразным строением внутренностей, телом, волосами, глазом, носом, устами и,—не желая затягивать речи, скажу просто, — всем?»1) «Все это,—как замечает св. Григорий,—для нас ничтожных существ удивительно и необыкновенно, а у Бога способы устроения удобны и вполне надежны (πάντα θαυμαστὰ καὶ παράδοξα ἡμῖν τοῖς ὀλίγοις , πρόχειροι δὲ παρὰ Θεῷ τῆς κατασκευὴς οἱ λόγοι καὶ λίαν ὁμολογούμενοι). После этого, как признать здравомыслящими тех, которые, допуская, что из ребра произошел человек, не верят, что он может быть воссоздан из всецелого человеческого вещества (ὁλοκλήρου τῆς τοῦ ἀνθρώπου ὕλης)»2). Признавая Бога Творцом, нельзя сказать, что для Него что-либо невозможно, и нельзя подумать, что мудрость Непостижимого постижима для человеческой мысли, потому что для Всевышнего нет ничего беспредельного, а для человека беспредельное не подлежит исследованию 3).
Но даже допустим,—говорит св. Григорий Нисский,— что Бог может сделать лишь то, что находится в области возможного для простого горшечника. Рассудим, что может сделать последний. Взявши не имеющую формы глину, он превращает ее в сосуд и, выставив его на солнце, высушивает и делает твердым. Он лепит блюдо, кувшин, сосуд для вина и проч. Если что-нибудь упадет нечаянно на эти вещи и опрокинет их, то они разбиваются от падения и снова становятся бесформенной землей. Но мастер, если захочет, скоро исправит случившееся. Придав искусно глине форму, он снова делает сосуд нисколько не хуже прежнего. И это совершает простой горшечник—ничтожное Божье создание.
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 664BC; p. пер. ч. VIII, стр. 68—09.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 664C; p. пер. ч. VIII, стр. 69.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 668AB; p. пер. ч. VIII, стр. 72.
— 419 —
Как же после этого не верят Самому Богу, когда Он обещает возобновить умершаго! 1) Ведь, воссоздавая человека во время всеобщего воскресения мертвых, всемогущество Божье, подобно искусству горшечника, восстановляет разбитый сосуд; оно тогда имеет дело как с готовым материалом, так и с готовой известной формой, отпечатлевающейся на этом материале. Поэтому, достаточно силе Божьей, распоряжающейся вселенной, дать знак готовым элементам разложившегося нашего тела объединиться, как они, подобно различным веревкам, прикрепленным к одному началу, подчиняясь влечению единой силы нашей души, сплетаются в одну телесную цепь, «причем каждая ее часть становится вновь сплетенной, согласно с первоначальным и обычным ей состоянием, и облеченной в знакомый ей вид» 2). Таким образом, св. отец не находил никаких препятствий для признания возможности воскресения мертвых, потому что «один и тот же Художник и первого создания и второго преобразования знает, как собственное дело, подвергшееся разрушению, снова привести в прежнее состояние» 3).
_________
Итак, по мнению св. Григория, возможность воскресения умерших людей оправдывается как с точки зрения естественных, так и сверхъестественных оснований.
4. Доказательства действительности всеобщего воскресения мертвых.
Если св. Григорий Нисский с точки зрения естественных и сверхъестественных оснований считал неподлежащей сомнению возможность воскресения мертвых, то действительность последнего он всецело основывал на
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 668D—669A; p. пер. ч. VIII, стр. 73—74 cp. Афинагор, стр. выше 41; св. Феофил, стр. выше 21; св. Мефодий Олимп., стр. выше 209.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 77AB; p. пер. ч. IV, стр. 255—256.
3) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 655AB; p. пер. ч. VIII, стр. 70.
420
непререкаемом авторитете свидетельств Св. Писания и истории домостроительства нашего спасения.
А. Свидетельства Св. Писания о действительности воскресения мертвых.
Св. Григорий Нисский, как это и вполне естественно, при исследовании богословских вопросов питал глубокое уважение к Слову Божью. Признавая вообще громадный авторитет за свидетельствами Св. Писания в деле обоснования догматов христианского вероучения, святитель Нисский считал проповедь Слова Божия о воскресении мертвых «первым и самым важным доказательством его истины». «Достоверность того, о чем говорится в Писании, по словам св. отца, делает несомненным исполнение других предсказаний. Так как Божественное Писание предлагает много всякого рода сказаний, то, рассмотрев, действительно ли лживо, или истинно все остальное, сказанное в нем, можно по этому составить понятие и о догмате воскресения. Ведь, если слова Писания в чем-либо другом являются лживыми и погрешающими против истины, то, конечно, и это слово лживо. Если же все остальное имеет свидетелем своей истинности опыт, то будет последовательным, основываясь на этом, и предсказание о воскресении считать истинным»1). Такую проповедь относительно воскресения он находил как в ветхозаветном, так и новозаветном Откровении.
По воззрению св. Григория, еще царь и пророк Давид свидетельствовал об этом догмате в своих «божетвенных песнях». Так, избрав предметом своей песни - устройство вселенной, в конце ее он говорит: «отимеши дух их, и исчезнут, и в персть свою возвратятся: после-
1) De hom. opif., cap. XXV (Mg. XLIV) col. 213CD; p. пер. ч. I, стр. 176.
421 —
ши Духа Твоего, и созиждутся, и обновиши лице земли» (Пс. 103, 29. 30). В этих словах св. псалмопевца, по рассуждению св. отца, заключается та мысль, что сила Св. Духа оживотворяет тех из людей, в которых она пребывает, и, наоборот, лишает жизни тех, кого оставляет своим пребыванием1). Так как при удалении Св. Духа «происходит исчезновение живых тварей, а при появлении Его — возобновление исчезнувших», причем исчезновение предшествует возобновлению, то, — пишет святитель Нисский,—мы утверждаем, что этим самым возвещается церкви тайна воскресения, как пророческим духом предсказал это благодеяние Давид»2).
Кроме рассмотренного, св. Григорий находил в псалмах Давида еще иное выражение, которое, по его мнению, указывает на будущее воскресение мертвых. «В другом месте (Пс. 117, 27),—пишет св. епископ Нисский,—тот же самый пророк говорит, что Бог вселенной и Господь существ явился нам при составлении праздника во учащающих (ἐν τοῖς πυκάζουσιν)»3). Рассматривая данное выражение св. пророка, св. отец останавливает свое внимание на слове—учащение (πυκασμός), полагая, что им св. псалмопевец указывает на праздник кущей, который, как «узаконенный Моисеевым преданием, хотя всегда совершался, однако, в действительности, еще не был совершен». В образах совершавшегося в этот праздник только загадочно предуказывалась истина. «Самого же истинного праздника кущей еще не было, но ради этого, по пророческому слову, Бог всяческих и Господь явился нам, чтобы для человеческой природы из разоренного нашего жилища составилась куща, снова через собрание стихий телесно учащаемая, потому что слово учащение (πυκασμός),
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 129CD—132A; p. пер. ч IV, стр. 301
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 132A; p. пер. ч. IV, стр. 301.
3) Ibidem.
422 —
по заключающемуся в нем понятию, обозначает одеяние и украшение им» 1). Следовательно, по смыслу данного выражения, наступит некогда время, «когда наша природа через воскресение снова воздвигнется в кущу (ὅταν σκηνοπηχθῇ πάλιν διὰ τῆς ἀναστάσεως ἡμῶν ἡ φύσις)»2).
Так, по мысли св. Григория, пророк Давид из седой древности прозревал будущее воскресение мертвых.
Это великое событие в церкви Христовой, далее, по представлению св. Григория Нисского, пророк Иезекииль изобразил под образом поля, усеянного костями, которые, в силу воздействия на них Животворящего Духа, мало-по-малу ожили. Пророк Иезекииль,—говорит св. отец устами Макрины,—«миновав пророческим, духом все среднее время и его продолжение, останавливается силой своего предведения на самом времени воскресения и, взирая на будущее, как бы на настоящее, представляет его в своем повествовании»3). Описывая самый процесс всеобщего воскресения мертвых, св. пророк рисует пред нашим мысленным взором такую картину. Вот «поле, простирающееся в беспредельность, и на нем кости, то собранные в великую кучу, то разбросанные, как ни попало, по разным местам». Божественная сила объединяет сродные между собой кости, и они входят в свои составы. Они покрываются жилами, телом и кожей, и Св. Дух «животворит и возбуждает все, что лежит на поле» (Иезек. 37, 1—10)4).
Таковы свидетельства относительно действительности будущего воскресения умерших людей, заимствуемые святителем Нисским из ветхозаветного Откровения.
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 132B; p. пер. ч. IV, стр. 302 ср. св. Мефодий, стр. выше 204—205.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 133C; p. пер. ч. IV, стр. 304.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 136AB; p. пер. ч. IV, стр. 305 cp. св. Мефодий, стр. выше 214.
4) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 136B; p. пер. ч. IV, стр. 305—306.
423 —
Не подлежит сомнению, что св. Григорий гораздо большее значение в данном отношении придавал свидетельствам, заимствуемым им из новозаветного божественного Откровения. Он приводит в своих творениях для доказательства действительности будущего воскресения мертвых свидетельства как из эсхатологической беседы Христа Спасителя с Своими учениками, так и из слов св. апостола Павла. Конечно, особый и преимущественный авторитет должно иметь откровение о будущем воскресении мертвых Самого Иисуса Христа. И это потому, что Христос, возвестивший о всеобщем воскресении, пророчески предсказывал и много других событий, которые все исполнились, при этом так, как о них было предсказано. Ведь, если предсказание Христа Спасителя, несомненно, было истинно в известной своей части, то нет никаких оснований сомневаться в его истинности в целом. Наоборот, исполнение предсказания Христа в известной части является верным залогом исполнения его во всем объеме. «Свидетельство дел об одном,—замечает св. отец, — служит доказательством истинности и другого (ἡ ἐν τούτοις διὰ τῶν ἐργων μαρτυρία , καὶ τῆς ἐν ἐκείνοις ἀληθείας ἑστἰν ἀπόδειξις)»1).
Таким образом, признавая несомненную достоверность за той мыслью, что исполнение одного звена в целой цепи пророческих предсказаний с необходимостью влечет за собой осуществление и остальной ее части, св. Григорий останавливается своим вниманием на эсхатологической речи Христа Спасителя, где, между прочим, Он говорит о грядущих ужасах иудейской войны и об имевшем за ней последовать разрушении Иерусалима и храма. «Вспомним, — говорит святитель Нисский, — об одном или двух предсказаниях и сравним с ними
1) De hom. opif., cap. XXV (Mg. XLIV) col. 216CD; p. пер. ч. 1 стр. 178.
— 424 —
осуществление их, чтобы узнать из этого, близко ли к истине это учение» 1). Вспоминая указанную речь Христа, св. отец выделяет из нее предсказание именно о гибели Иерусалима. «Кто не знает, спрашивает он, как в древности процветал израильский народ, противостоявший во вселенной всем царствам? Какие в городе Иерусалиме были царские дома? Какие стены, башни? Какое величественное здание—храм? Все это признавали достойным удивления и ученики Господни и, взирая с удивлением на видимое, как дает понять евангельское повествование, желали обратить внимание Господа, говоря Ему: каковы дела и какова здания» (Мк. 13, 2)? Господь же удивляющимся настоящему показывает будущее запустение места и уничтожение этой красоты, говоря, что вскоре не останется ничего из видимого ими»2). Свое предсказание о гибели Иерусалима Христос Спаситель повторил и в другой раз. «Во время страданий, — читаем у святителя Нисского, — жены следовали за Господом, оплакивая несправедливый о Нем приговор, потому что еще не представляли себе будущего домостроительства. И Господь советует им молчать о том, что делается с Ним, так как это недостойно слез. Он советует отложить сетование и плач до времени, действительно требующего слез, когда город будет обложен осаждающими, а страдания дойдут до такой крайности, что самым счастливым будет считаться не родившийся» 3). Сравнивая же данные предсказания с историческим осуществлением их, св. Григорий спрашивает: «где же теперь эти царские дома? Где сторожевые башни? Где израильское царство? Один здесь, другой там, едва не по всей вселенной рассеяны израильтяне. А с разорением всего этого разрушены и царские дома» 4).
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 213D—216A; p. пер. ч. I, стр. 176.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 216B; p. пер. ч. I, стр. 176—177.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 216B; p. пер. ч. I, стр. 177.
4) Ibid. (Mg. XLIV) col. 216BС; p. пер. ч. I, стр. 177.
425 —
Итак, предсказания Иисуса Христа о гибели Иерусалима исполнились в точности. А отсюда, по убеждению св. Григория Нисского, исполнятся и другие предсказания, заключающиеся в указанной речи Спасителя. «Мне кажется,—так выражает св. отец свой взгляд на значение данных и подобных предсказаний Христовых, — мне кажется, что Господь предсказал это и тому подобное не ради самых происшествий, но чтобы слышавшие, вследствие этого, приобрели доверие и к сказанному о более важном»1), т.-е., в частности, относительно всеобщего воскресения мертвых, о котором Спасителем было предсказано в той же самой речи.
Указанным свидетельством Христа Спасителя св. Григорий не ограничивается. Он приводит еще доказательства и из посланий св. апостола Павла. Особый авторитет в последнем отношении он придает «изображению у св. апостола чудес в момент воскресения». По воззрению последнего, в момент воскресения «по какому-то повелению, по звуку труб, в мгновение времени все мертвое и лежащее вдруг примет состояние бессмертной природы» (ср. 1 Солун. 4, 16) 2).
Таковы свидетельства Св. Писания о действительности будущего воскресения мертвых, приводимые св. Григорием Нисским в своих сочинениях. В виду этих свидетельств, по словам св. отца, «догмат о воскресении должен быть признан истинным, достоверным и неподлежащим сомнению» 3).
В. Свидетельства истории домостроительства нашего спасения о действительности воскресения мертвых.
Не меньше убеждают нас в действительности будущего воскресения мертвых, сравнительно с прямыми
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 216C; p. пер. ч. IV, стр. 177—178.
2) De an. et res (Mg. XLVI) col . 136C ; p . пер. ч. IV , стр. 306.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 108A; p. пер. ч. IV, стр. 261.
— 426 —
свидетельствами Св. Писания о последнем, также факты исцеления Христом смертельно-больных и воскрешение Им умерших людей, представляемые нам историей домостроительства нашего спасения в период земной жизни Христа Спасителя и, наконец, факт воскресения Самого Господа. Более того, данные свидетельства истории домостроительства нашего спасения о действительности будущего воскресения мертвых для неверующих людей бывают гораздо убедительнее, чем прямые свидетельства о нем Св. Писания. На такие свидетельства истории домостроительства нашего спасения за взятое время указывали и другие христианские писатели, предшественники св. Григория Нисского 1) Но у последнего они раскрыты особенно обстоятельно и глубоко.
Во время своей общественной деятельности на земле, по словам св. Григория, «Господь не одним только словом свидетельствует о том, что мертвые воскреснут, но и в действительности Он совершает самое воскрешение (οὐ μόνῳ λόγω φησὶν ὁ Κύριος τοὺς νεκροὺς ἀναστῆσεσθαι , ἀλλὰ καὶ αὐτὴν ἐνεργεί τὴν ἀνάστασιν)»2). «Будучи предусмотрительным в отношении к твари и издалека видя мелочные души неверующих (τὰ τῶν ἀπίστων ψυχάρια), Бог делом утвердил воскресение мертвых, одушевив многие тела умерших» 3). Свое общественное служение человеческому роду Христос закончил, как известно, Своей смертью и воскресением, Все это—как воскрешение Христом мертвых, так и Его собственное воскресение—служит «опытным доказательством воскресения не столько словами, сколько самыми делами» 4). «Что все мы восстанем
1) Св. Игнатий, стр. выше 15; св. Иустин, стр. выше 37. 38. 40; св. Ириней, стр. выше 71, св. Ипполит, стр. выше 100; Ориген, стр. выше 163.
2) De an . et res . (Mg . XLVI) col . 136C ; p . пер. ч. IV , стр. 306.
3) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 665C; p. пер. ч. VIII, стр. 71.
4) De hom. opif., cap. XXV (Mg. XLIV) col. 216D—217A; p. пер. ч. I, стр. 178.
— 427
вскоре, во мгновении ока, в последней трубе (1 Кор. 15, 52), это,—говорит святитель Нисский,—наш Христос Спаситель доказал тем, что Он сделал как с теми, над кем господствовала смерть, так и с Самим Собой»1).
Приготовляя во время Своего общественного служения на земле людей к восприятию величайшей истины—всеобщего воскресения мертвых, Господь наш Иисус Христос в данном случае, по мысли св. Григория, поступал подобно матери, воспитывающей свое дитя. Как мать, сообразно с возрастом дитяти поит его сначала молоком из сосцов, а потом, когда у него появятся зубы, начинает питать его постепенно более твердой пищей; так и Господь приучает человеческий род к вере в действительность будущего воскресения сначала низшими чудесами, а потом и высшими. Христос Спаситель, «питая и напоевая чудесами малодушие человека, как несовершенного какого-нибудь младенца, сперва показывает ему силу воскресения (τὴν τῆς ἀναστάσεως δύναμιν) над отчаянной болезнью» 2). Он сначала показывает человеческому роду животворящую силу, изгоняя «повелением и словом (προστάγματι καὶ λόγῳ)» недуги из смертельно больных 3). Так, Он исцеляет от опасной болезни тещу Симона. «Запретив огню, сильно распалявшему тещу Симонову,—пишет святитель Нисский,—Господь произвол такой переворот в болезни, что стала в состоянии прислуживать присутствующим та, о которой уже думали, что она умрет» (Лук. 4, 39)4). Св. отец приводит еще другой не менее разительный случай исцеления, совершенного Христом над сыном царедворца, который, по евангельскому выражению,
1) De perf. christ, forma (Mg. XLVI) col. 277B; p. пер. ч. VII, 252.
2) De hom. opif., cap. XXV (Mg. ХLIV) col. 217AB; p. пер. ч. I, стр. 178—179.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 137A; p. пер. ч. IV, стр. 306.
4) De hom. opif., cap. XXV (Mg. XLIV) col. 217B; p. пер. ч. I, стр. 179.
— 428 —
имеяше умрети (Ио. 4, 47). Это исцеление Господь совершил над сыном царедворца именно в тот момент, когда все были уверены, что он умрет. В смертельном исходе болезни своего сына уверен был и отец больного, так как он обращался к Иисусу Христу с такой просьбой: «сниди, прежде даже не умрете отроча» (Ио. 4, 49). При таком положении дела, по словам святителя Нисского, Господь «совершил чудо с большим могуществом, потому что Он даже и не приближался к больному, но издали силой повеления послал ему жизнь» 1).
Когда человеческий род, напоенный молоком данных и подобных чудесных исцелений, возрос до восприятия более твердой пищи—чудесных воскрешений мертвых, тогда Христос Спаситель стал возбуждать в нем веру во всеобщее воскресение мертвых этой последней пищей. Впрочем, и тут Он наблюдает меру его способности к восприятию, предлагая постепенно все высшие и высшие виды чудес данного рода. Сначала Он воскрешает умершую непосредственно после ее смерти; потом, дарует жизнь умершему юноше во время торжественно-печального несения его для погребения и, наконец, возвращает жизнь Лазарю, находившемуся уже в течение четырех дней в гробу.
Полагая, что уже наступило время для питания людей твердой пищей воскрешений мертвых, Иисус Христос, когда Его просили исцелить больную, хотя уже и при смерти находящуюся дочь архисинагога, намеренно замедлил на пути, чтобы дать возможность последней умереть. И девица умерла... Господь воскресил ее. «Когда душа уже разлучилась с телом,—так говорит об этом воскрешении св. Григорий,—и находящиеся в состоянии растерянности с плачем жаловались на постигшую их утрату, Господь повелительным словом, как от сна, снова восстановляет девицу к жизни»2).
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 217BC; p. пер. ч. I, стр. 179.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 217C; p. пер. ч. I, стр. 179—180 cp. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 137A; p. пер. ч. IV, стр. 306.
— 429 —
Но более поразительным чудом воскрешения, сравнительно с указанным, является воззвание Христом от смерти к жизни сына наинской вдовы. Это чудо, по выражению св. Григория Нисского, «с особой силой пролагает людям путь к вере в воскресение»1). И действительно, юноша уже в течение продолжительного времени был мертв, потому что мать, оплакивая своего единственного сына-мертвеца, не спешила с погребением его. «Подавляемая страданием, она старалась, как можно дольше, продолжить над ним сетование»2). Но наступило время, когда уже дольше оставлять в доме своего дорогого мертвеца бедная наинская вдова не могла... Его необходимо было предать погребению. И вот, в тот самый момент, когда умершего сына наинской вдовы выносили из дому для погребения, Христос Спаситель приближается к мертвецу и воскрешает его. «Юношу, выносимого уже на погребение» 3),—говорит св. отец,—Господь «возвращает с погребального одра в число живых и отдаст матери»4).
Наконец, самым поразительным из всех чудес данного рода является воскрешение Христом Лазаря. Если воскрешение сына наинской вдовы, по выражению св. Григория, пролагало людям путь к вере в будущее воскресение мертвых, то воскрешение Лазаря, по словам св. епископа Нисского, «еще более приближается к невероятному чуду—воскресению»5). Оно является неопровержимым ручательством нашей веры в общее воскресение мертвых6). В Вифании Христом были пока-
1) De hom . opif ., cap . XXV ( Mg . XLIV) col. 217D; p. пер. ч. I, стр. 180.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 220 В; р. пер. ч. I, стр. 181.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 137A; p. пер. ч. IV, стр. 306.
4) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 665C; p. пер. ч. VIII, стр. 71 cp. De hom. opif., cap. XXV (Mg. XLIV) col. 220BC; p. пер. ч. I, стр. 181.
5) De hom. opif., cap. XXV (Mg. XLIV) col. 220C; p. пер. ч. I, стр. 182.
6) Потому-то св. Православная Церковь в «субботу святого и праведного Лазаря» поет: «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже» (Тропарь).
430 —
заны человеческому роду как бы «предначатки всеобщего воскресения (οἰονεὶ τὰ προτελεια τῆς καθολικῆς ἀναοτάσεως ἐν Βηθανία »1). И в самом деле, уже четыре дня прошло по смерти Лазаря. Над умершим совершили все, чего только требовал иудейский закон, и его тело было предано погребению. А Господь медлил посещением Своего умершего друга... В отсутствие Жизни смерть с помощью болезни успела сделать свое дело над телом умершего. Последнее уже разложилось2). В тот именно момент Господь прибыл к гробу Своего друга. И Лазарь, преданный земле и уже успевший разложиться, по одному только Божью слову, отряжает с себя оковы смерти, слагает тление и восстает, как будто от глубокого сна, из гроба (Ио. 11, 43—44)3). Это ли не залог и начало будущего воскресения мертвых? Да, в этом «самом ясном чуде, по мнению св. отца, дается доказательство невероятного дела—всеобщего воскресения!»4)
По мнению св. Григория, особая доказательная сила данного чуда заключается в том, что здесь «некто восстановляется не от тяжкой болезни, не находящийся при последнем дыхании возвращается к жизни, не девица, только что умершая, оживотворяется, не юноша, сопровождаемый в могилу, снова сходит с одра; но муж преклонных лет, мертвый, уже смердящий, отекший кровью, предавшийся тлению, так что даже его родственникам, вследствие гнусности распадающегося тела на части, казалось недопустимым, чтобы Господь приближался к гробу, оживотворенный одним воззванием удостоверяет в
1) De hom. opif., cap. XXV (Mg. XLIV) col. 220D; p. пер.ч. I, стр. 182.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 220D—221A; p. пер. ч. I. стр. 182.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 221C; p. пер. ч. I, стр. 183 ср. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 137A; p. пер. ч. IV, стр. 306; In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 665C; p. пер. ч. VIII, стр. 71.
4) Τότε τὸ ἀπιστούμενον τῆς καθολικῆς ἀναστάσεως ἔργον δι’ ἐναργεστέρου τοῦ θαύματος εἰς ἀπόδειξιν ἀγεται. De hom. Opif, cap. XXV (Mg. XLIV) col. 221 A; p. пер. ч. I, стр. 182—183.
431
истинности проповеди о воскресении, т.-е. в том, ожидаемом вообще для всех, о чем мы отчасти узнали из опыта» 1).
После чудесного воскресения четверодневного мертвеца—Лазаря не может быть никакого сомнения в действительности будущего всеобщего воскресения. «Если спросишь меня,—пишет св. Григорий Нисский,—каким образом произойдет воскресение тел умерших от века, то тотчас же услышишь обратный вопрос, как был воскрешен четверодневный Лазарь? Ведь, ясно, что здравомыслящий человек, по удостоверению одного примера, не будет сомневаться и во многих» 2).
Как ни велики были чудеса исцелений смертельно больных, как ни удивительны были чудеса воскрешений недавно умерших, как ни поразительно было, наконец, чудо воскрешения разложившегося в гробу Лазаря, однако и после всего этого могло бы еще остаться некоторое место для недоумений и сомнений относительно будущего воскресения мертвых, И это именно произошло бы в том случае, если бы Христос Своего учения о воскресении, которое Он преподал людям в чудесах над телами других, не подтвердил «на воспринятом Им от нас человеке». Ему тогда могли бы сказать: «врачу, исцелися сам» (Лук. 4, 23)3).
Предвидя это, Христос Спаситель сейчас рассмотренное нами необыкновенное событие, связанное в истории домостроительства нашего спасения с личностью праведного Лазаря, повторил на Себе Самом. Измученный страданиями, пригвожденный к кресту, пронзенный смертельным ударом копья, Господь не остался во власти смерти,
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 221 AB; p. пер. л. I, стр. 183.
2) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 668A; p. пер. ч. VIII, стр. 72.
3) De hom. opif., cap. XXV (Mg. XLIV) col. 221C; p. пер. ч. I, стр. 183-184.
432 —
но через три дня смертного покоя освободился от уз смерти, представляя на теле в качестве доказательства
Своего воскресения места от гвоздиных ран и удара копья 1). Желая удостоверяться в действительности Христова воскресения, «воззри,—пишет св. Григорий,—на Того, чьи руки пригвождены гвоздями; воззри на Того, чье ребро пронзено копьем. Наложи, свои персты на оставшиеся следы гвоздей. Вложи свою руку в язву, нанесенную копьем»2). Поистине, воскресши Сам от мертвых, Христос необычайным чудом Своего воскресения самым неопровержимым образом засвидетельствовал истинность будущего воскресения всех людей, ибо «если Он восстал, то прилично будет провозгласить апостольское слово: «како глаголют нецыи, яко воскресения мертвых несть» (1 Кор. 15, 12)3).
Воскресение Христово имеет такое важное значение в деле удостоверения нашей веры в действительность будущего всеобщего воскресения потому, что Христос, воскресши от мертвых, «совоскресил с собой все лежащее (ἅπαν τὸ κείμενον ἑαυτῳ οὐνανέστησε)»4). Он «собственным воскресением разрешил узы смерти»5), или «болезни смерти, дабы и всем нам проложить путь к рождению через воскресение»6); другими словами, «к возрождению от смерти (ὁδοποιηθῆναι τὴν ἐκ τοῦ θανάτου παλιγγενεσίαν)»7). «Его освобождение от смерти и для смертного рода становится началом возвращения к бессмертной
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 137А; p. пер. ч. IV, стр. 307.
2) De hom. opif., cap. XXV (Mg. XLIV) col. 221D; p. пер. ч. I, стр. 184.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 221D—224A; p. пер. ч. I, стр. 181.
4) In Chr. resurr., orat. I (Mg. XLVI) col. 601 В; p. пер. ч. VIII, стр. 27.
5) Contra Ennom., lib. V (Mg. XLV) col. 693C; p. пер. ч. VI, стр. 18.
6) Ibid., lib. IV (Mg. XLV) col, 636C; p. пер. ч. V, стр. 454 cp. In Cant, cant., hom. ХIII (Mg. XLIV) col. 1053C; p. пер. ч. III, стр. 337.
7) Contra Ennom., lib. II (Mg. XLV) col. 501D; p. пер. ч. V, стр. 304.
— 433 —
жизни» 1). Господь « собственным телом дарует природе начало воскресения ( ἀρχὴν δούναι τῇ φύσει τῆς ἀναστάσεως τῷ ἰδίῷ σώματι)» 2). Он в нее влагает «силу воскресения (τῆς ἀναστάσεως τὴν δύναμιν)»3). Эта сила воскресения Христова точно также распространяется на весь человеческий род, как распространилась на него от одного человека и сила смерти. «Как начало смерти, — пишет святитель Нисский,—явившись в одном человеке, перешло во всю человеческую природу, точно также и начало воскресения через одного распространяется на все человечество» 4). Как смерть потенциально перешла от первого Адама на всех людей, так и воскресение от второго Адама— Христа «равным образом переходит потенциально на всю человеческую природу (εἰς πᾶσαν τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τῇ δυνάμει κατὰ τὸ ἴσον διαβαίνει)»5). Это обозначают и слова св. апостола Павла: «Христос воста от мертвых, начаток умерших» и «якоже о Адаме вси умираем, такожде о Христе вси оживаем» (1 Кор. 15, 20. 22)6). При этом нужно заметить, что эта возможность воскресения переходит не на одну какую-нибудь из составных частей человеческой природы, но на всего человека. «Во Христе, совершившееся через воскресение соединение души с телом, по словам св. отца, всю в целости человеческую природу, разделенную смертью на две части—душу и тело, снова приводит через воскресение в единение, устрояя связь между разделенными сущностями (ἡ ἐν ἐκείνῷ τῆς ψυχῆς πρὸς τὸ σῶμα γενομένη διὰ τῆς ἀναστάσεως ἕνωσις , πᾶσαν κατὰ τὸ συνεχὲς τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν)»7). Христос для того и воспринял душу и тело человека, чтобы через Свое воскресение
1) Orat. cat., cap. 25 (Srawley, op. cit., p. 96); p. пер. ч. IV, стр. 67.
2) Ibid., cap. 32 (Srawley, op. cit., p. 116); p. пер. ч. IV, стр. 81.
3) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col . 501C ; p . пер. ч. V , стр. 304.:
4) Orat. cat., cap. 16 (Srawley, op. cit., p. 71); p. пер. ч. IV, стр. 49—50.
5) Ibid. (Srawley, op. cit., p. 72); p. пер. ч. IV, стр. 50.
6) Adv. ApoII. 55 (Mg. XLV) col. 1260A; p. пер. ч. VII, стр. 192.
7) Ibid. 55 (Mg. XLV) col. 1257D—1260A; p. пер. ч. VII, стр. 191—192.
—434 —
«даровать возможность (ἀκολουθίαν) и начало к воскресению из мертвых всей человеческой природе» 1). И это совершается вполне естественно, потому что вся духовно-телесная природа человека представляет собой «как бы одно какое-то живое существо». Ясно отсюда, что воскресение одной его части должно распространиться и на другие 2).
_________
Итак, по мнению св. Григория Нисского, после рассмотренных нами свидетельств Св. Писания и истории домостроительства нашего спасения действительность будущего воскресения мертвых несомненна. После данных свидетельств, по словам св. отца, могут отрицать воскресение мертвых только друзья зла и враги добродетели», боясь непосредственно следующего за ним всеобщего суда 3).
5. Всеобщность воскресения мертвых.
Будущее воскресение мертвых св. церковь всегда считала всеобщим 1). В таком именно смысле она понимала откровенное о нем учение. Эту истину разделял и св. Григорий Нисский. По мнению последнего, некогда воскреснут, с одной стороны, не только праведные люди, но и грешники, а с другой, — не только умершие, но и те, которые останутся в живых до самого конца существования настоящего видимого мира.
По мысли св. Григория, образ земной жизни людей не служит препятствием к их будущему воскресению
1) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col . 548C ; p . пер. ч. V , стр. 354.
2) Orat. cat., cap. 32 (Srawiey, op. cit., p. 116—117); p. пер. ч. IV, стр. 81; vge. Dr. Fr. Böhringer, op. cit., S. 136—137.
3) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 673C; p. пер. ч. VIII, стр. 80.
4) Мужи an, стр. выше 15—16; Апологеты, стр. выше 46; св. Ипполит, стр. выше 101; Ориген, стр. выше 164.—Только хилиасты (Папий Иерапольский, стр. выше 14. 14, прим. 1; Автор послания, известного с именем ап. Варнавы, стр. выше 14; св. Иустин, стр. выше 46 ср. 35; св. Ириней, стр. выше 73 и друг.) допускали два воскресения, сначала лишь праведников, а потом—всеобщее.
— 435 —
из мертвых. Им только обусловливается то или другое их состояние в момент всеобщего воскресения мертвых. Выражая свою твердую уверенность в будущем воскресении как праведников, так и грешников, хотя и в разном их состоянии, св. отец пишет: «добродетельная жизнь тем будет отличаться от порочной, что еще здесь, в течение настоящей жизни, заявившие себя добродетелью тотчас станут совершенным колосом (εὐθὺς ἐν τελείῳ τῷ στάχυῒ φαίνονται). А у кого, — продолжает святитель Нисский, — в течение настоящей жизни сила душевного семени стала по причине порока какой-то истощенной и увядшей, те..., хотя и произрастут через воскресение (κάν φύωσι διὰ τῆς ἀναστάσεως), однако найдут у Судьи большую строгость» 1) по отношению к себе.
Что же касается действия воскресения на живых людей, то оно будет состоять в том, что их телесный организм подвергнется изменению. Телесный организм живых людей в день всеобщего воскресения мертвых, по словам св. Григория, «подобно изменяемым через воскресение», изменится в мгновение ока, когда «прозвучит труба воскресения, пробуждающая умерших и оставшихся в живых» 2). Это изменение телесного организма живых людей силой воскресения предсказывает и св. апостол Павел, когда говорит: «се тайну вам глаголю: вси бо не успнем, вси же изменимся: вскоре, во мгновении ока, в последней трубе» (1 Кор. 15, 51. 52)3).
6. Тожество воскресших тел с настоящими.
Вопрос о тожестве воскресших тел с настоящими всегда привлекал к себе большое внимание. Если неко-
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 157B.157D—160A; p. пер. ч. IV, стр. 324—325.
2) De hom. opif., cap. XXII (Mg. XLIV) col. 208A; p. пер. ч. I, стр. 167.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 205D; p. пер. ч. I, стр. 167.
— 436
торые из богословов времени предшествующего жизни св. Григория 1) допускали полное тожество будущих воскресших тел с настоящими, то святитель Нисский, хотя и не признавал подобного решения данного вопроса, однако, вслед за Оригеном, считал все возможные возражения против тожества в известном смысле воскресших тел с настоящими несостоятельными. Ясно, желая дать вопросу о тожестве воскресших тел надлежащее решение, св. отец должен был критически рассмотреть все существующие и возможные возражения против последнего.
Одно из таких возражений состояло в том, что воскресшее тело будто бы будет состоять вообще из однородных элементов, а не из тех же самых, из каких оно было во время своей земной жизни, ибо после разложения телесного человеческого состава и смешения его элементов с однородными мировыми стихиями уже нет никакой возможности «сойтись между собой стихиям», принадлежащим каждому человеческому телу в отдельности2). Опровергая это возражение, св. Григорий рассуждал, что если в момент всеобщего воскресения мертвых каждому человеку не будут возвращены его собственные телесные элементы, но, вместо последних, он заимствует себе из общей массы мировых стихий «нечто однородное», то воскресшее тело не будет тожественно с умершим: «такое действие будет уже не воскресением, но созданием нового человека (οὐκέτι ἄν εἴη τὸ τοιοῦτον ἀνάστασις , ἀλλὰ καινοῦ ἀνθρώπου δημιουργία)»3). — В своем месте4) мы уже видели, что св. Григорий учил о
1) Св. Иустин, стр. выше 45; Афинагор, стр. выше 40. 4L 45; св. Ириней, стр. выше 72; св. Петр Ал., стр. выше 195; св. Мефодий, стр. выше 212—215.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) cot. 76C; p. пер. ч. IV, стр. 254—255 cp. Адамантий, стр. выше 219—220.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 76C; p. пер. ч. IV, стр. 225 cp. св. Петр Ал., стр. выше 195; св. Мефодий Олимп., стр. выше 210—211.
4) Стр. выше, 292—293.
— 437 —
познавательном загробном пребывании души при элементах ее разложившегося тела. Это учение о загробном охранении душой элементов своего тела служит прямым основанием для разрешения изложенного нами препятствия к признанию тожества будущих воскресших тел с настоящими. И действительно, хотя индивидуальные элементы после разрушения тела обыкновенно смешиваются с общими стихийными элементами, как, например, частная теплота растворяется с общей стихийной теплотой, однако, когда последует на это распоряжение воли Божьей, они, выделившись из общей стихийной массы, в силу сопребывания с ними их души, объединятся около последней и, таким образом, составят вполне знакомый ей организм. «Если распоряжающаяся вселенной Сила даст знак разложившимся стихиям снова соединиться, то, как прикрепленные к одному началу различные веревки, все вместе и одновременно следуют за влекущим их, так, вследствие влечения одной силой души различных стихий, при внезапном стечении относящегося в ее собственности, будет составлена душой цепь нашего тела, причем каждая часть будет вновь составлена, согласно с первоначальным обычным ей состоянием, и примет знакомый ей вид” 1). Таким образом, будущие воскресшие тела составятся из своих прежних стихийных элементов, а не создадутся вновь. Поэтому, по своей сущности, и они будут тожественными с настоящими телами, а в отношении своих душ — не чужими, но их собственными.
Установив вообще материальное тожество воскресших тел с настоящими, св. Григорий Нисский должен был считаться с перетолковываниями этого положения и с нелепыми из него выводами. Все эти возражения касались той или другой комбинации материальных элементов. Они
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 77AB; p. пер. ч. IV, стр. 255—256.
438
таковы. Если каждый человек воскреснет,—говорили противники тожества воскресших тел, — действительно, и том же самом теле, в каком он был в самом конце своей земной жизни, то будущее воскресение мертвых представит собой самую жалкую картину, потому что в таком случае оно ничего другого не доставит человеку, кроме возвращения невыразимых бедствий его прошлой земной жизни. И в самом деле, может ли быть какое-нибудь более жалкое зрелище, чем то, какое представляет тело человека, истощенное старостью? Оно согбенно, покрыто морщинами, его кожа присохла к костям, жилы, не питаемые естественной влагой, стянулись, голова наклонилась к колену, руки, неспособные к естественной деятельности, дрожат и т. дал. Что может, далее, представлять более жалкую картину, чем тело, изнуренное продолжительными болезнями, только тем отличающееся от голых костей, что оно кажется прикрытым тонкой и уже изветшавшей кожей? Что может быть безобразнее того вида, какой имеет тело, изувеченное во время землетрясения, войны или каких-либо других несчастных случаев? Наконец, что беспомощнее и печальнее тела новорожденных младенцев, подкидываемых, задушаемых или вообще погибающих от внезапной смерти?1) Таким образом, если после всеобщего воскресения мертвых тела людей окажутся во всем тожественными с настоящими, то будущее воскресение принесет с собой для нас великое бедствие. «Если, действительно, так будет, то, я,— пишет св. отец, — сказал бы, что лучше избежать людям надежды на воскресение» 2). Однако,—продолжают противники тожества воскресших тел,—так, по-видимому, и должно быть. Ведь, если допустим, что после воскре-
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 137ВС— 140АВ; p. пер. т. IV, стр. 307—308 ср. Адамантий, стр. выше 219.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 137B; p. пер. ч. IV, стр. 307.
— 439
сения тела не будут тожественны с настоящими, то воскресший будет кем-то другим, но не лежащим во гробе (ἄλλος τις ὁ ἐγειρόμενος ἔσται παρὰ τὸν κείμενον)1). И в самом деле, если, вместо ребенка, восстанет совершенно взрослый, вместо старика,—цветущий возрастом, вместо изможденного,—здоровый, вместо иссохшего,—дородный и т. дал., то в таком случае нельзя будет сказать, что воскрес тот самый человек, который был положен в гроб, но что из земли создан совершенно новый человек 2). Тогда воскресение мертвых уже не будет иметь к живущим теперь людям никакого отношения. «Что для меня воскресение,—выступает св. Григорий в роли возражающего,—если, вместо меня, возвратится к жизни некто другой? Как мне узнать себя самого, видя в себе уже не себя? Не буду, в действительности, я, если не буду по всему тот же с самим собой (εἰ μὴ διὰ πάντων εἴην ὁ αὐτὸς ἐμαυτῳ)». Эта мысль находит для себя пояснение и в настоящей обыденной жизни. Ведь, и в настоящей жизни, если мы помним отличительные черты какого-нибудь человека, положим, что он плешив, с большими губами, курнос, с голубыми глазами, с сединой в волосах, с морщинистым телом и проч., и, отыскивая его, увидим человека молодого, с длинными волосами, с горбатым носом и другими противоположными характерными чертами, то, смотря на последнего, мы не признаем его за первого3). Таким образом, «если тело оживет,—так заключает данное недоумение св. епископ Нисский,—не таким, каким оно было, когда предавалось земле, то не мертвое воскреснет, но земля снова претворится в иного человека» 4).
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 140B; p. пер. ч. IV, стр. 308.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col 140 ВС; р. пер. ч. IV, стр. 308—309.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 140C—141A; p. пер. ч. IV, стр. 309.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 140C; p. пер. ч IV, стр. 309.
— 440
Данными недоумениями все возможные препятствия к признанию тожества воскресших тел с настоящими не исчерпывались. Были, кроме этих, по мнению св. Григория, еще гораздо большие затруднения к разрешению рассматриваемого вопроса. Как известно, телесная природа человека испытывает постоянный обмен веществ. В ней с момента рождения человека на свет и до самой его смерти происходит непрерывное движение и изменение телесного состава. «Кому неизвестно, — спрашивает св. отец,—что человеческая природа подобна какому-то потоку? Человек от рождения до смерти постоянно находится в каком-то движении. И это движение в нем прекращается, когда он перестает существовать»1). При этом необходимо заметить, что данное «движение есть не какаялибо местная перестановка, не сама из себя вытекает природа, но движется вперед через изменение. Изменение же, пока оно продолжается, не останавливается иа одном и том же». С природой нашего тела в данном случае происходит нечто подобное тому, что мы наблюдаем над огнем. Последний, по-видимому, всегда бывает одним и тем же, но, на самом деле, огненная материя в нем постоянно сменяет одна другую, так что «дважды прикасающемуся в одном и том же месте к пламени нель> зя в оба раза коснуться одного и того же» 2). Если иметь все это в виду в отношении к телу человека, то при признании тожества воскресших тел с настоящими придется придти к нелепым или несправедливым выводам. И в самом деле, если, с одной стороны, тело человека в течение его земной зкизни, подобно огню, переживает очень много состояний, а с другой,—в момент всеобщего воскресения мертвых оно восстанет таким же, каким
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 141A; р. пер. ч. IV, стр. 300—310 ср. Ориген, стр. выше. 169.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 141A-C; p. пер. ч. IV, стр. 310.
— 441
было за все время своей земной жизни, то в таком случае ожидаемое воскресение восстановит человека не в виде одного лица, а в качестве целой толпы людей. «Если человек и после вчерашнего дня уже не тот же самый, но, по причине изменения, становится другим, то, когда воскресение снова возвратит наше тело к жизни, тогда один человек, без сомнения, станет какой-то толпой людей, так что в воскресшем всё будет без недостатка—младенец, ребенок, отрок, юноша, муж, отец, старец и всякий средний возраст» 1).—Подобного рода недоумения относительно воскресших тел возникают и с точки зрения справедливого распределения будущих наград и наказаний за те добрые или худые дела, в совершении которых принимало значительное участие тело, как, например, в целомудрии и распутстве. То и другое, как известно, совершается человеком при участии его тела, при этом в том его виде, в каком оно в данный момент находится. Поэтому, для того, чтобы сохранилась полная справедливость при будущем воздаянии, необходимо воскреснуть человеческому телу в том самом виде, в каком им был совершен подвиг воздержания или греховное падение. В этом случае, «каким образом на суде может быть сохранена справедливость? Ведь, если один и тот же человек в данный момент согрешит; потом, очистится через покаяние и, если случится, снова впадет в грех, а оскверненное и неоскверненное тело, в силу естественной последовательности, изменится..; тогда, какое тело у распутного подвергается наказанию? Покрывшееся ли морщинами во время своей старости перед смертью?—Но это уже иное тело, а не то, с помощью которого совершен грех... Может быть, оскверненное страстью? — Но где же тогда старец? Поэтому, или не воскреснет он, и воскресение
1) Ibid . ( Mg . XLVI) col . 141CD ; p . пер. ч. ІV, стр 311.
— 442 —
недействительно, или он будет воскрешен, и избежит наказания подлежащий ему»1).
Наконец, противники тожества будущих воскресших тел с настоящими выставляют в защиту своего взгляда на данный вопрос такие соображения. «Природа, говорят они, ни одной части нашего тела не оставила без соответствующего ей назначения. В одних из них, каковы, например, сердце, печень, мозг, легкие, чрево и др., сосредоточена жизненная сила; другим предназначено в удел чувственное движение; третьим—деятельность и перехожденне с места на место; четвертым—способность к произведению потомства и т. дал. Если следующая за настоящей жизнь будет иметь нужду в данных отправлениях, то «перемена будет напрасной (πρὸς οὐδέν ῆ μετάστασις γίνεται)»2). Если будущая жизнь будет существенно отличаться от настоящей, и отправление последней жизни не будет иметь в ней места, то «почему или для него будет и устроенное для них (τὰ δι ’ ἐκείνα γενομένα πῶς ἡ ὑπὲρ τίνος ἔσται)»3). Вследствие же этого,—так передает св. епископ Нисский мнение противников тожества воскресших тел с настоящими,—если не будет в теле того, что нисколько не может содействовать будущей жизни, то необходимо, чтобы в ней не было ничего такого, что составляет в настоящее время тело, потому что тогда жизнь будет другая». Если же ни один из членов настоящего тела во время жизни после всеобщего воскресения мертвых не будет иметь места, то такой радикальной перемены в нашем теле нельзя будет даже назвать воскресением из мертвых. Но допустим,—так полагают противники тожества воскресших тел,—что у людей после воскресения из мертвых окажутся те же самые телесные члены... В таком случае Виновник воскресения совершит в полной мере
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 141D— 144AB; p. пер. ч. IV, стр. 311—312.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 144BC; p. пер. ч. IV, стр. 312 cp. Ориген стр. выше 173.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 144D—145A; p. пер. ч. IV, стр. 313.
443 —
напрасное и бесполезное дело. «Если воскресение,—скажем словами святителя Нисского, выступающего в роли возражающего,—окажет свое действие на все члены, то Виновник воскресения совершит то, что является ненужным для нас и бесполезным для будущей жизни»1).
Таковы недоумения, которые во время жизни св. Григория выставлялись противниками тожества будущих воскресших тел с настоящими.
Св. Григорий Нисский, однако, не считал их настолько сильными, чтобы они могли поставить исследователя рассматриваемого нами вопроса в безвыходное положение. Все указанные телесные недостатки в человеке, различие возрастов, течение элементов, наличность разных органов св. отец не считает относящимися к человеческой природе по существу, как она была создана Богом. Все это привнесено грехом и, поэтому, уничтожение всего этого не нарушит тожества воскресших человеческих тел с настоящими, ибо тогда устранятся только посторонние наросты. Исходным пунктом в данных рассуждениях св. отца служит указание на цель воскресения, заключающуюся в восстановлении людей в первобытное состояние. С этой именно точки зрения он и старается объяснить все представленные им возражения. Если «воскресение есть восстановление нашей природы в первобытное состояние»2), то ясно, что каким был человек по своему телу до грехопадения, таким он должен быть в отношении своей телесной природы и после всеобщего воскресения мертвых. «Во время же первой жизни, Создателем которой был Сам Бог, не было, как вероятно, ни старости, ни детства, ни страданий от разнообразных болезней, ни какого-либо другого бедственного телесного поло-
1) Εἰ δὲ πάντων ἔσται τούτων ἐναργὴς ἡ ἀνάστασις, μάταια ἡμῖν καὶ ἀνόνητα πρὸς τὴν ζωὴν ἐκείνὴν δημιουργήσει ὁ ἐνεργῶν τὴν ἀνάστασιν. Ibid. (Mg. XLVI) col. 145A; p. пер. ч. IV, стр. 313.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 145CD—148A; p. пер. ч. IV, стр. 314.
— 444 —
жения, потому что Богу не свойственно создавать что-либо подобное» 1). Что же касается изменений возраста и самых разнообразных болезней, то они вошли в телесную природу человека после его грехопадения, когда Бог, имея в виду премудрые и спасительные планы уврачевания человека, наложил на него «одежду из свойств неразумных животных»2). Пока люди не согрешили, то, по словам св. епископа Нисского, человеческая природа была в известном роде Божьим достоянием (θεῖόν τι χρῆμα ἦν ἡ ἀνθρωπίνη φύσις)”. И только после грехопадения в ней нашли себе место разные возрасты и болезни. «Все это,—пишет св. Григорий,—вторгнулось в нас вместе со входом порока (ταῦτα δὲ πάντα τῇ εἰσόδῳ τῆς κακίας ἡμῖν συνεισέβαλεν)»3). Только после того, как человеческая природа стала подверженной страсти, она встретилась с необходимыми последствиями страстной жизни, она восприняла «кожу» бессловесных созданий, а вместе с ней и такие необходимые явления, как «плотское смешение, зачатие, рождение, нечистота, сосцы, пища, извержение, постепенное достижение совершенного возраста, зрелость возраста, старость, болезнь и смерть»4). Поэтому, различия между людьми в последнем отношении несущественны; они имеют значение только при оценке их жизни, при суде, но к воскресению вовсе не относятся. Отсюда, возражения против тожества воскресших тел с настоящими на том основании, что признание его ведет к нелепым или несправедливым выводам, не имеют силы. Само собой понятно, что допущенное Богом в человеческой природе лишь в промы-
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 148A; p. пер. ч. IV, стр. 314—315.
2) De mortuis (Mg. XLVI) col. 524D; p. пер. ч. VI, стр. 518.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 148A; p. пер. ч. IV, стр. 315.
4) Ἐστι δὲ ἃ προσέλαβεν ἀπὸ τοῦ ἀλόγου δέρμιτος, ἡ μίξις, ἡ σύλληψις, ὁ τόκος, ὁ ῥύπος, ἡ θηλὴ, ἡ τροφή, ἡ ἐκποίησις, ἡ κατ’ ὀλίγον ἐπὶ τὸ τέλειον αὐξησις, ἡ ἀκμή, τὸ γῆρας, ἡ νόσος, ὁ θάνατος. Ibid . ( Mg . XLVI) col. 148 D —149А; р. пер. ч. IV, стр. 316.
445 —
слительных целях уврачевания человека и являющееся в ней необходимым лишь во время его земной жизни не может быть признано существенным, а потому оно некогда должно будет прекратить свое бытие. Земное должно, будет остаться на земле. На небо же человек должен будет перейти таким, каким он вышел из рук своего Творца. Вот почему все части человеческой телесной природы, предназначенные только чувственным ее нуждам в течение земной жизни человека, как возникшие вследствие уклонения последнего на путь порочной жизни, после всеобщего воскресения мертвых обязательно исчезнут. И это потому, что в потусторонней жизни не будет иметь места порок. «Беспорочная жизнь,—пишет св. Григорий Нисский,—не будет иметь никакой нужды в том, что произошло вследствие порока (οὐδεμίαν ἀνάγκην ἐξει ὁ ἀνευ κακίας βίος ἐν τοῖς διὰ ταῦτα συμβεβηχὁσιν εἶναι)»1). По мнению св. отца, было бы ошибочным «искать в будущей жизни того, что явилось в нас следствием (συμβεβηκότα) страсти»2). Данную свою мысль святитель Нисский старается приблизить к пониманию через такое сравнение. «Подобно тому, как имеющий на себе взорванный хитон, сбросив с себя эту одежду, не увидит уже на себе неблагообразия того, что сброшено; так,—говорит св. Григорий,—когда и мы освободимся от этого смертного и гнусного хитона, наложенного на нас из кож бессловесных животных, тогда мы вместе с совлечением хитона сбросим с себя все то, что находилось на нас составленного из бессловесной кожи (πάντα ὅσα τοῦ ἀλόγου δέρματος)»3).
Таким образом, по представлению св. Григория Нисского, все изложенные выше возражения против тожества воскресших тел с настоящими могут показаться имеющими силу и значение только для людей слабого ума. В
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 148A; p. пер. ч. IV, стр. 315.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 148C; p. пер. ч. IV, стр. 315—316.) Ibid. (Mg. XLVI) col. 148C; p. пер. ч. IV, стр. 316.
446 —
действительности же они также нелепы, как отрицание тожества человека, у которого пропал образовавшийся на лице загар или следы обморожения. Зной и стужа являются в своем роде пороком, так как от первого происходит загар, а от второй—обморожение. Загар и обморожение—это следы порока, это человеческие страсти. Подобно тому, как с прекращением действия зноя или холода, пропадают загар и обморожение, так с прекращением действия порока должны уничтожиться и все следствия его1).
Однако, данные рассуждения св. Григория, направленные против недоумений и возражений, выставляемых противниками тожества будущих воскресших тел с настоящими, не устраняли последних без остатка. Дело в том, что если в момент всеобщего воскресения мертвых ни многих членов настоящего человеческого тела, ни различия возрастов, ни внешнего различия не будет, то по-видимому, не может быть речи о тожестве настоящих тел с воскресшими, ибо трудно указать, что же будет в этих телах тожественного. Этого недоразумения не мог не заметить святитель Нисский. Устраняя его, он выдвинул учение о т. наз. телесном облике человека.
Св. Григорий Нисский различал в телесной природе человека, с одной стороны, σῶμα , а с другой,— εἶδος , причем под телом он разумел в человеке грубую материальную массу, а под εἶδος ’ом— характеристические черты данной массы 2). По воззрению св. епископа Нисского, хотя этот εἶδος является характеристической чертой телесной природы человека, однако отпечаток от него после смерти человека остается при его душе. Подтверждение для этой своей мысли он находит в евангельской притче о богатом и Лазаре, в которой передается известный загробный разговор этих последних лиц 3). Ясно,
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 148BC; p. пер. ч. IV, стр. 315.
2) Cp. стр. выше 408 сн. Ориген, стр. выше 169—170.
3) De hom. opif., cap. XXVII (Mg. XLIV) col. 225C; p. пер. ч. I, стр. 188.
— 447
отсюда, что при душах притонных лиц оставался некоторый телесный признак, с помощью которого они узнали друг друга в то время, когда их тела находились в гробах. Этот телесный признак, по мнению св. отца, сохраняется при душе каждого человека до самого воскресения из мертвых. Поэтому, когда наступит время все общего воскресения мертвых, когда «распоряжающаяся вселенной Сила даст знак разложенным стихиям снова соединиться, то подобно тому, как прикрепленные к началу разные веревки, все вместе и в одно время следуют за влекомым; так, по причине влечения одной силой души различных стихий, при внезапном стечении собственно принадлежащего, сплетется тогда душой цепь нашего тела, причем каждая часть будет вновь сплетена, согласно с первоначальным и обычным ей состоянием, и облечена в знакомый ей вид» 1).
Такое тожество будущих воскресших тел с настоящими святитель Нисский защищает с особым усердием. Во время его жизни были люди, которые полагали, будто отличительные признаки сгнивших и уже истлевших тел в настоящее время ежедневно передаются рождающимся детям. Имея в виду рассуждения таких людей, св. отец заявляет, что, по его мнению, «крайне неуместно и неразумно допускать, что отличительные признаки сгнивших и уже истлевших тел воскресают в ежедневно в настоящее время рождающихся детях и будто чужое переходит в других, и вместе с тем не признавать, что собственные особые свойства каждого в
1) Εἰ δὲ γένοιτο πάλιν παρὰ τῆς τὸ πᾶν οἰκονομούσης δυνάμεως τοῖς διαλυθεὶσι πρὸς τῆν συνδρομὴν τὸ ἐνδόσιμοντότε καθάπερ εἰ μιᾶς ἀρχῆς ἐξαφθεὶεν σχοἵνοι διάφοροι, ὁμοῦ καὶ κατ’ αὐτὸν αἱ πᾶσαι τῷ ἐφελκομένῳ συνέπονται οὕτως ἐν μιᾶ τῇ τῆς ψυχῆς δυνάμει, τῆς τῶν στοιχείων διαφορᾶς ἐλκομένης, ἀθρόως ἐν τῇ συνδρομῇ τῶν οἰκείων, ἡ τοῦ σώματος ἡμῶν σειρὰ διὰ τῆς ψυχῆς συμπλακῆσεται, καταλλήλως ἐκάστου πάλιν πρὸς τὸ ἀρχαῖον καὶ σύνηθες πλακουμένου, καὶ περιπτυσσομένου τὸ γνώριμον. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 77AB; p. пер. ч. IV, стр. 255—256 ср. проф. В. Несмелов, ор. cit., стр. 602—603.
— 448 —
тех самых лицах, которые их некогда приобрели, не возобновятся и не оживут, но, напротив, отвергать это и оспаривать, считая вымыслом, а не словом обетования Того, Кто все это нами видимое составил и украсил, как захотел»1), Желая еще более приблизить к нашему разумению будущее тожество воскресших тел с настоящими, св. епископ Нисский сравнивает последнее с тем тожеством, которое существует между тем, что вырастает из зерна, и самым зерном, из которого это нечто выросло. Бесспорно, между выросшим из зерна и самым зерном существует известная связь, насколько зерно в потенции содержит в себе все то, что из него вырастает. «Где было то, что возникло из зерна пшеницы, прежде чем оно разложилось в земной глыбе? Это,—так отвечает св. Григорий на данный вопрос,—было в зерне»2). Ясно, что между зерном и вырастающим из него сохраняется генетическая связь. «В начале миротворения,—пишет святитель Нисский,—как об этом мы узнаем из Писания, сначала, как говорит Слово, произвела земля былие травное (Быт. 1, 12); потом, из ростка произошло семя, из которого, когда оно пало на землю, снова взошел тот же самый родя произросшего первоначально. Это, говорит божественный апостол, совершится во время воскресения»3).
Итак, св. Григорий Нисский, утверждая тожество будущих воскресших тел с настоящими, признавал его, как это справедливо замечает наш отечественный богослов4), в отношении их основной субстанции. Он при-
1) In Chr. resurr., orat. IV (Mg. XLVI) col. 680D—681A; p. пер. ч. VIII, стр. 87.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 153BC; p. пер. ч. IV, стр. 321.
3) ... ἐκ τῆς βλάστης σπέρμα ἐγένετο, οὐπερ ἐπὶ τῆν καταῤῥυέντος, τὸ ἀ ὑτὸ πάλιν εἶδος τοῦ ἐξ ἀρχῆς φυέντος ἀνέδραμε φησὶ δὲ τοῦτο ὁ θεῖος Ἀπόστολος καὶ ἐπὶ τῆς ἀναστάσεως γίνεσθαι. Ibid. (Mg. XLVI) col. 1560; р. пер. Ч. IV, стр. 322—323.
4) En. Сильвестр, ор. cit., стр. 382—383; vgl. Dr. Al. Stöckl, op. cit., S. 313.
— 449 —
знавал тожество материальных элементов именно того тела, которое было похоронено, но не всех, а в таком объеме и в такой комбинации, которой требует εἶδος , отвергая, таким образом, тожество для случайных признаков, каковы—увечья, болезни, различие возраста, пола и проч.
7. Действие всеобщего воскресения мертвых—
Как мы уже видели, всеобщее воскресение мертвых имеет своей цепью восстановление всей человеческой природы в ее первобытное состояние. В виду последнего, всеобщее воскресение мертвых оказывает свои преобразовывающие действия как на телесную, так и на духовную природы человека. «Не одно только воскресение, по словам св. Григория, проповедует нам Слово Божье, но Божественное Писание ручается и за то, что обновленные через воскресение должны подвергнуться изменению (I Кор. 15, 51. 52)1).
А.—на тело
Признавая тожество воскресших тел с настоящими по их основной субстанция, св. Григорий Нисский считал первые весьма отличными от последних по их второстепенным качествам и совершенству. По представлению св. отца, человеческое тело после всеобщего воскресения мертвых будет так же отлично от земного тела, как воздух или эфир по своей тонкости и подвижности от земли, камня и т. под. «Телесное покрывало (души), разрушенное теперь смертью, по словам святителя Нисского, снова будет соткано из того же вещества, но не в этом грубом и тяжелом составе, а так, что его нить
*) Οὐ μόνης τῆς ἀναστάσεως ἡμῖν παρὰ τῶν θείων λόγιων κεκηρυγμένης, ἀλλὰ καὶ τὸ δεῖν ἀλλαγῆνα: τοὺς ἀνακαινισθέντας διὰ τῆς ἀναστάσεως, τῆς θείας διεγγυωμένης Γραφῆς. De mortuis (Mg. XLV I) col. 532В; р. пер. ч. VII, стр. 526.
— 450 —
будет состоять из чего-то легкого и воздушного, почему оно снова восстановится в лучшей я самой желанной красоте»1). Ясное указание на данное отличие будущего воскресшего нашего тела от настоящего, при основном их тожестве, по воззрению св. Григория, находится в том сравнении тела, имеющего воскреснуть, с истлевающим в земле семенем, которое (сравнение) св. апостол Павел предложил коринфским христианам с целью уянения способа и образа всеобщего воскресения мертвых. Несомненно, растение, по своему внутреннему строению и внешней форме, значительно отличается от того зерна, которое было брошено в землю для его произведения. Таким именно образом человеческое тело после всеобщего воскресения мертвых, по своим качествам и свойствам, будет отличаться от земного тела, которое после смерти человека предается земле. Сеется,—пишет своим читателям св. апостол языков, — в тление, востает в нетлении: сеется в немощи, востает в силе: сеется не в честь, востает в славе: сеется тело душевное, востает тело духовное (ср. 1 Кор. 15, 42—44)2). Это отличие будущего воскресшего тела от настоящего, которое полагается в гроб, прекрасно представлял себе св. епископ Нисский. Имея в виду данное сравнение св. апостола Павла, он охарактеризовал его в следующих выражениях. «Как тело колоса, говорит он, происходит из семени, потому что сила Божья из этого последнего творчески производит первое, и оно и не вполне тожественно с первым и совершенно от него не отлично»; так во время всеобщего воскресения мертвых
1) Ὄψει τοῦτο τὸ σωματικόν περιβύλαιον τὸν νῦν διαλυθέν τῷ θανάτῳ ἐκ τῶν αὐτῶν πάλιν ἐξυφαινόμενον, οὐ κατὰ τῆν παχυμερῆ ταύτην καὶ βαρεῖαν κατασκευήν, ἀλλ’ ἐπὶ τὸ λεπτότερόν τε καὶ ἀερῶδες μετακλωσθέντος τοῦ νήματος, ὡστε σοι... καὶ ἐν ἀμείνονι καὶ ἐρασμιωτέρῳ κάλλει πάλιν ἀποκαθίστασθαι. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 108A; p. пер. ч. IV, стр. 281 cp. Ориген, стр. выше 171.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 153CD; p. пер. ч. IV, стр. 321 cp. Ориген, стр. выше 164—165; сн. со. Мефодий Олимп., стр. выше 214.
— 451
«сила Божья не только тебе снова возвращает разложившееся, но дает тебе при этом нечто великое я прекрасное, через что твоя природа приводится в лучшее состояние»1). Продолжая уяснение отличия воскресших тел от настоящих, св. Григорий пишет: «как пшеничное зерно после своего разложения в земной глыбе, утратив свое количественное ничтожество и качественные свойства наружного вида, не уничтожается, но, пребывая в себе самом, становится колосом, весьма отличным от него величиной, красотой, разнообразием и внешним видом; так я человеческая природа, освободившись через смерть от всех своих отличительных свойств, каких она достигла через свою страстность,... не уничтожается, но превращается, как бы в какой-либо колос, в полнее совершенство, и ее жизнь управляется уже не естественными свойствами, но переходит в какое-то духовное, совершенно бесстрастное состояние» 2). Таким образом, всеобщее воскресение мертвых, как говорит один исследователь3), по мысли св. Григория Нисского, не просто объединяет все элементы человеческого тела в одно целое, но и возвышает телесную природу восстановленного человека.
Что касается более или менее точного изображения отличительных свойств телесной природы человека после всеобщего воскресения мертвых, то это, по представлению св. Григория, является делом невозможным, потому что для подобной цели мы не находим ничего аналогичного на земле. «Необходимо, чтобы от всех было скрыто и всем неизвестно,—пишет святитель Нисский,— во что мы изменимся, потому что в настоящей жизни мы
1) ...τῆς θείας δυνάμεως.., οὐ μόνον ἐκεῖνυ τὸ διαλυθέν σοι πάλιν ἀποδιδούσης, ὰλλὰ μεγάλα τε καὶ καλὰ προστιθείσης, δι’ ὦν σοι πρὸς τὸ μεγαλοπρεπέστερον ἡ φύσις ακατασκευάζεται. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 153C, p. пер. ч. IV, стр. 321.
2) ibid. (Mg. XLVI) col. 153D-156A; p. пер. ч. IV, стр. 321-322.
3) Dr. loh. N. Stigler, op. cit., S. 131.
— 452 —
не находим для ожидаемого никакого подобия» 1). Однако, так как человеческое тело после всеобщего воскресения мертвых возвратится в свое первобытное состояние, то, в виду этого, св. отец находит возможным наметить его свойства несколько определеннее. Это он делает преимущественно отрицательным путем, именно через, устранение из него тех свойств, которые стали в нем, необходимыми после грехопадения наших прародителей, но в которых не было никакой нужды во время первобытного состояния человечества.
Отожествляя тела, которыми будут обладать люди, после всеобщего воскресения мертвых, с тем телом, какое имели наши прародители в раю, св. Григорий полагает, что они в противоположность земной телесной природе человека, будут отличаться нетлением (τῇ ἀφθαρσία). Мы были в лице наших прародителей, — говорит святитель Нисский,—как бы полным колосом, но после их грехопадения «нас засушил зной порока». Однако, земля, приняв в свои недра нас, разложенных смертью на составные части, во время всеобщего воскресения мертвых снова произведет из голого зерна нашего тела «колос рослый, ветвистый, прямой и простирающийся в. небесную высоту, украшенный, вместо соломы или стебля, нетлением (ἀντὶ καλάμης ἡ ἀνθέριζος τῇ ἀφθαοσία), согласно е словом св. апостола: подобает бо тленному сему облещися в нетление» (1 Кор. 15, 53)2).
По мнению св. Григория, воскресение из мертвых есть именно такой акт, через который «все тленное облекается в нетление (τὸ φθαρτὸν ἀπαν ἑνδύσὴται ἀφθαρσίαν)3) и мертвенное —в бессмертие (καὶ τὸ θνητόν τὴν ἀθανασίαν)»4). Если
1) De mortuis (Mg. XLVI) col. 532C; p. пер. ч. VII, стр. 526.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 157Л; p. пер. ч. IV, стр. 323 cp. Ориген, стр. выше 171.
3) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col. 5480, p. пер. ч. V, стр. 351 cp. In Cant, cant., hom. I (Mg. XLIV) col. 777A; p. пер. ч. III, стр. 25—26.
4) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col. 548C; p. пер. л. V, стр. 354.
— 453
через акт всеобщего воскресения мертвых все человеческие тела станут нетленными и бессмертными, то, таким образом, последует переход человечества из тленного и земного состояния в бесстрастное и вечное (ἀπὸ τοῦ φθαρτού καὶ γεώδους ἐπὶ τὸ ἀπαθὲς καὶ ἀιδιον)»1). «Отсюда, истинно говорит Слово Божье, что, когда земная храмина нашего тела разорится, тогда мы обретем ее соделавшейся созданием от Бога, храминой нерукотворенной, вечной на небесех» (2 Кор. 5, 1) 2).
Кроме нетления, человеческие тела после всеобщего воскресения мертвых, по убеждению св. Григория Нисского, будут обладать «и прочими достойными божества признаками (καὶ τοῖς λοιποῖς τῶν θεοπρεπῶν γνωρισμάτων)»3). К числу последних он относит — славу» честь и силу. Освободившись в акте воскресения из мертвых от свойств, приобретенных вследствие «страстного расположения», человеческое тело, по словам св. отца, «изменяется, как бы в какой-нибудь колос, в славу, честь и силу (καὶ τῆν δόξαν , καὶ τὴν τιμὴν , καὶ τὴν δύναμιν)»4). «Совершенство тел, вырастающих из посеянного, по словам апостола,—пишет святитель Нисский,—состоит в нетлении, славе, чести и силе (ἐν ἀφθαρσία τε καὶ δόξῃ , καὶ τιμῆ , καὶ δυνάμει)»5). «Нетление, слава, честь и сила (ἡ δὲ ἀφθαρσία , καὶ ἡ δόξα , καὶ ἡ τιμή , καὶ ἡ δύναμις), как исповедуем,—говорит св. Григорий в другом месте,—принадлежат собственно божественной природе, и они прежде были у созданных по образу (Божью) и снова ожидаются (καὶ εἰσαῦθις ἐλπίζεται)»6) Если человеческие тела после всеобщего воскресения мертвых будут в определенной Творцом мере сиять сла-
1) De hom. opif. cap. XXIV (Mg. XLIV) col. 205С; р. пер. ч. I, стр. 167.
2) De mortuis (Mg. XLVI) col. 532B; p. пер. ч. VII, стр. 526 cp. Ориген, стр. выше 171—172.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 157A; p. пер. ч. IV, стр. 323.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 156A; p. пер. ч. IV, стр. 322 cp. Ориген, стр. выше 171.
5) De an. et res. ( Mg . XLVI) 160 B ; p . пер. ч. IV , стр. 325.
6) Ibid. (Mg. XLVI) col. 157A; p. пер. ч. IV, стр. 323.
— 454 —
вой, честью и силой Божьими, то, само собой понятно, в. них тогда не будут иметь места какие-либо недостатки, безобразия и уродства, которые и в настоящем нашем теле признаются за изъян, трудно стушевываемый даже кистью ретушера. О телах умерших людей ни в каком случае нельзя думать или говорить, что они воскреснут с морщинистой, присохшей к костям кожей, с стянутыми жилами, с преклонной к колену головой, с трясущейся, почти совершенно неспособной к деятельности рукой и другими изувеченными и изуродованными членами или, наконец, в образе очень мало развитого младенца. Морщиноватость и дородность тела, сухощавость, полнота и все, что бывает с изменяющейся природой тел, что общего, — спрашивает св. Григорий, — имеет с той жизнью, которая чужда изменчивого и скоропреходящего препровождения настоящей жизни?» 1) Все названные и подобные недостатки, которыми, как бы какими-нибудь кожаными узами, была наделена телесная природа людей после грехопадения наших прародителей, по причине стыда последних, и которых она не имела в период первобытного состояния человечества, в наших телах после всеобщего воскресения мертвых не будут иметь места. Ни старости, ни детства, ни страданий от разнообразных болезней, ни вообще какого бы то ни было бедственного телесного состояния не будет в нашем теле после ожидаемого воскресения мертвых так же, как этих недостатков не замечалось и при первоначальной жизни тела.
И так и должно быть, потому что к этому ведет вся жизнь человека на земле. Все разнообразные явления в настоящей телесной жизни людей не являются самоцелью ее, а лишь только путем к той главной цели восстановления подобия Божия, каким люди в лице своих прародителей обладали во время их райской жизни. «На-
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 149B; p. пер. ч. IV, стр. 316.
— 455 —
стоящее,—говорит святитель Нисский,—постоянно имеет несомненно полезную и необходимую цель для чего-либо другого, но не служит само целью, ради которой мы произошли. Ведь, Создатель предназначил нам пребывать не в виде зародышей, равным образом и не младенческая жизнь является цепью нашей природы, а также и не следующие за ней возрасты, в которые постоянно попеременно приводит нас природа, изменяя с течением времени наш вид, наконец, и не происходящее через смерть разрушение тела: но все это и тому подобное — части того пути, которым мы идем. Что же касается цели и последнего предела такого шествия, то ими служит — воз становление в первобытное состояние, которое есть не что иное, как уподобление Божеству»1). Данную свою мысль святитель Нисский поясняет аналогией, заимствованной им из жизни растений. Как известно, по закону природы» из семени вырастают, кроме колоса, злак, растительные покровы, ости и стебли, ради которых совершенно не трудится земледелец, но которые вырастают для того, чтобы с их помощью колос имел возможность достичь своей зрелости; так, — полагает св. отец, — и «все, что мы в настоящее время наблюдаем в телесной жизни— смерть, старость, юность и образование во чреве,—все это, как бы какие-то злаки, ости и стебли, составляет путь, последование и силу ожидаемого совершенства» 2). Таким образом, в акте всеобщего воскресения мертвых человеческие тела освободятся от рассмотренных бедственных состояний, которые не были присущи телам наших прародителей во время райской жизни.
1) Πάντα ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα, τῆς ὁδοῦ δι’ ἦς πορευόμεθα μέρη ἐστίν ὁ δὲ σκοπὸς καὶ τὸ πέρας τῆς διὰ τούτων πορείας, ἡ πρὸς τὸ ἀρχαἵον ἀποκατάστασις, ὅπερ οὐδἐν ἕτερον, ἢ ἡ πρὸς τὸ θεῖόν ἐστιν ὁμοίωσις. De mortuis (Mg. XLVI) col. 520CD; p. пер. ч. VІІ, стр. 512—513.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 520D—521A; p. пер. ч. VII, стр. 513.
456 —
В творениях св. Григория Нисского есть такие выражения, которые на первый взгляд дают основание полагать, что он учил о совершенном исчезновении у воскресших людей их телесной природы. Однако, это недоумение при ближайшем рассмотрении этих выражений св. отца исчезает. Чтобы убедиться в истинности последнего, мы приведем данные выражения святителя Нисского.
Так, на основании Св. Писания, которое проповедует не только воскресение из мертвых, но и изменение через воскресение, св. Григорий высказывает мысль о том, что воскресшие тела будут существенно отличаться от настоящих, именно у них не будет тяжести, этого самого существенного свойства человеческого тела во время земной жизни. В настоящее время, — рассуждает святитель Нисский, — все твердое и грубое обладает естественным стремлением вниз, тогда же, после изменения, тело станет стремящимся вверх (τότε δὲ πρὸς τὸ ἀνωφερὲς ἡ μεταποίησις τοῦ σώματος γίνεται), потому что Слово Божие говорит, что после изменения природы во всех оживших через воскресение мы восхищени будем на облацех в сретение Господни на воздусе: и тако всегда с Господем будем (1 Солун. 4, 17)1) На небе не может иметь места что-либо грубо-материальное, а потому, но выражению св. Григория, мы можем взойти на него «не иначе, как освободивши свою душу от гнетущего нас, — разумею эту тяжелую земную ношу (μὴ τοῦ βαροῦντος ἡμᾶς , τοῦ ἐμβριθοὺς λέγω τούτου καὶ γεώδους φορτίου)»2), Отсюда, кроме тяжести, и прочие свойства материального состава человеческой природы, каковы, например, «цвет, вид, очертание и все другие (индивидуальные отличия) должны измениться в нечто более божественное» 3).
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 532C; p. пер. ч. VII, стр. 526.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 105CD; p. пер. ч. IV, стр. 280—281.
3) Λοιπὰ τῶν ἰδιωμάτων τοῦ σώματος, πρὸς τι τῶν θειοτέρων συμμετατίθεται, τὸ χρῶμα, τὸ σχῆμα, ἡ περιγραφή, καὶ τά καθ’ ἐκαστον πάντα. De mortuis (Mg. XLVI) col. 532CD; p. пер. ч. VII, стр. 527 ср. De an, et res. (Mg. XLVI) col. 108A; p. пер. ч. IV, стр. 281.
— 457 —
Таким образом, нет никакой нужды допускать между измененными через воскресение телами такое различие, каким, в силу последовательной смены своих состояний, по необходимости обладает наша природа в настоящее время 1). Правда, св. отец сознается, что ясно доказать отсутствие этого различия нельзя, потому что мы не знаем, во что изменятся свойства настоящих человеческих тел2). Однако, это не мешает св. епископу Нисскому утверждать, что люди тогда примут один, общий для всех, телесный вид. Тогда, — пишет св. Григорий Нисский,—«все мы, несомненно, станем одним Христовым телом, принявши один образ и вид, потому что во всех одинаково будет сиять свет божественного образа» 3). Если бы кто-нибудь стал утверждать противоположное, именно то, что отличительный вид и образ каждого из нас в момент всеобщего воскресения мертвых снова восстановится, то с этой мыслью, — заявляет святитель Нисский,—он не мог бы согласиться. И это по той простой причине, что внешний вид человека не составляет в нем чего-либо существенного, так как он в зависимости от возраста или состояния организма человека, подлежит изменению. «Если кто скажет, — пишет св. отец,—что в момент воскресения человек останется в том же самом виде 4), то такое представление приведет к большой нелепости, потому что по виду и отличительным чертам тот же человек не остается всегда одним и тем же, принимая с различием возрастов и
1) Οὐδεμίαν ἀνάγκην ὁρῶμεν τοῖς ἀλλαγεῖσι διὰ τῆς ἀναστάσεως ἑνθεωρεῖσθα τῆν τοιαὑτην διαφοράν, ὴν νῦν διὰ τὴν τῶν ἐπιγινομένων ἀκολουθίαν ἀναγκαίως ἑσχεν ἡ φύσις. De mortuis (Mg. XLVI) col. 532D; p. пер. ч. VII, стр. 527.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 532D; p. пер. ч. VII, стр. 527.
3) ἐν σῶμα Χριστοῦ οἱ πάντες γενώμεθα, τῷ ἐνὶ χαρακτὴρι, μεμορφωμένοι, οὐκ ἀμφιβάλλομεν, πᾶσι κατὰ τὸ ἴσον τὴς θεία; εἰκόνος ἐπιλαμπούσης. Ιbid. (Mg. XLVI) col. 532D; р. пер. ч. VII, стр. 527.
4) В данном случае εἶδος нужно понимать не в смысле εἶδοσ’а, как чего-то постоянного в человеке, а в смысле внешнего вида, очертаний в их индивидуально-случайных изменениях (χαρακτήρ).
458 —
болезней то тот, то другой вид. Один вид имеет младенец, другой — отрок, а третий —дитя, муж, человек среднего возраста, пожилой и старик. Все эти возрасты взаимно отличаются один от другого. Различаются также между собой пораженный желтухой, раздутый водянкой, иссушенный чахоткой, отучневший от какого-либо худосочия, страдающий желчью, полнокровием, обилием дурных влаг. Так как каждый из последних имеет вид, соответствующий преобладающему в нем болезненному состоянию, то нет оснований думать, что настоящий вид каждого сохранится после всеобщего воскресения» 1). Гораздо разумнее, по мнению св. епископа Нисского, полагать, что все люди после всеобщего воскресения мертвых примут «более совершенный вид (τὸ εἶδος εὐκολον)», о котором в настоящее время мы не можем составить себе понятия, потому что верим, что ожидающие нас блага превышают зрение, слух и мысль (ἡμῖν προκειμένων ἀγαθών , ὑπὲρ ὀφθαλμόν , καὶ ἀκοὴν , καὶ διάνοιαν εἶναι πεπιστευμένων)»2).
В смысле желания утвердить мысль о преображении воскресших человеческих тел в более совершенный вид, сравнительно с настоящим их видом, нужно понимать и те рассуждения св. Григория, в которых он, по-видимому, устраняет взаимное телесное различие между воскресшими человеческими телами и как бы допускает у людей после всеобщего воскресения мертвых одно только их различие по нравственному характеру, принадлежащему собственно душе 3). И в самом деле, признавая, хотя и не вполне уверенно, что тела всех людей после своего воскресения из мертвых будут иметь один об-
1) De mortuis (Mg. XLVI) col. 533BC; p. пер. ч. VЦ, стр. 528—529.
2) Ibid. (Mg. XLV 1) col. 533C; p. пер. ч. VII, стр. 529.
3) Против проф. A. Мартынова, полагающего, что св. Григорий Нисский, по-видимому, устраняя взаимное телесное различие между воскресшими человеческими телами, будто бы учил, что последние будут до противоположности отличаться от нынешних и потеряют, таким образом, даже малейшую связь (ор. cit., стр. 336—337 ср. 337—338).
459 —
щий вид, св. епископ Нисский пишет: «если кто-либо скажет, что отличительным видом каждого будет качественное, нравственное свойство, тот не совсем ошибется. Ведь как теперь различие отличительных свойств в каждом ив нас происходит по причине изменения в нас стихий, потому что свойственный каждому облик получает то или другое очертание и цвет, смотря по увеличению или уменьшению различных стихий; так, кажется мне, и в той жизни будут сообщать каждому отличительный облик не данные стихии, но особенности порока или добродетели, качественное взаимное смешение которых и сообщит тот или другой отличительный характер виду» 1). Нечто аналогичное мы можем наблюдать и в настоящей жизни, когда внешнее выражение лица человека указывает на его душевное состояние, в силу чего мы легко узнаем человека, испытывающего гнет печали, волнуемого гневом, пылающего страстью или, наоборот, веселого, незлобивого, украшенного почетным качеством целомудрия и проч.2). «Как во время настоящей жизни, говорит св. отец, известное сердечное настроение выражается в облике, а внутренняя страсть отпечатлевается во внешнем виде человека, так, кажется мне, после изменения нашей природы в более совершенное состояние, нравственные качества человека будут причиной того или другого его вида»3). Впрочем, святитель Нисский считает необходимым заметить, что если во время настоящей жизни отпечатлеваются на внешнем облике человека только особенно сильные движения, причем
1) Ἡ τάχι γνωριστικὸν εἶδος ἐκάστου τὴν ποιὰν ἰδιότητα τῶν ἡθῶν εἰπών τις, οὐ τοῦ παντὸς ἀμαρτήσεται... οὕτω μοι δοκεῖ τὰ εἰδοποιοῦντα τότε τὴν ἐκάστου μορφὴν οὐ ταῦτα τά στοιχεία γίνεσθαι, ἀλλὰ τὰ τῆς κακίας ἡ τῆς ἀρετῆς ἰδιώματα, ὧν ἡ ποιὰ πρὸς ὰλληλα μίξις, ἢ οὕτως ὴ ἐτέρως τὸ εἶδος παρασκευάζει χαρακτηρίζεσθαι. De mortuis (Mg. XLVI) col. 53SCD; p. пер. ч. VII, стр. 529 vgl. Dr. Fr. Hilt, ор. cit., S. 235.
2) De mortuis (Mg. XLVI) col. 533D; p. пер. ч. VЧ, стр. 529—530.
3) Οὕτω μοι δοκεῖ πρὸς τὸ θειότερον ὑπαλλαγείσης τὴς φύσεως εἰ δοποιεῖσθαι διὰ τοῦ ἤθους ὁ ἄνθρωπος, οὐκ ἄλλο τι ὢν καὶ ἄλλο φαινόμενος. Ibid. (Mg. XLVI) col 536A; p. пер. ч. VII, стр. 530.
— 460 —
они произвольно также могут быть скрываемы, то в будущей жизни человек обязательно «всем откроется таким, каков он есть (ὅπερ ἐστὶ τοῦτο καὶ γινωσκόμενος), как-то: разумным, праведным, кротким, чистым, полным любви, обладающим всеми совершенствами, или украшенным только одним из них, или обладающим большей их частью или, наконец, обладающим одним совершенством в меньшей, другим в большей степени»1). В зависимости от этих душевных качеств, «относящихся как к совершенству, так и к тому, что ему противоположно, по словам св. Григория, каждый получит отдельный и отличный от другого вид до тех пор, пока не испразднится, как говорит апостол, последний враг (1 Кор. 15, 26) и после совершенного уничтожения зла из всех существ снова воссияет боговидная красота, по образу которой мы в начале были созданы» 2).
Отожествляя будущие воскресшие тела людей с райским телом наших прародителей, св. Григорий Нисский полагал, что в жизни после всеобщего воскресения мертвых не будет иметь места процесс питания, так что чрево перестанет служить для пищи, а последняя больше не будет существовать для чрева. Может быть,—так рассуждает св. отец,—кто-нибудь смущается тем обстоятельством, что наша жизнь, подобно животным, поддерживается пищей, и готов, вследствие этого, отвергать создание человека по образу Божью; пусть такой человек надеется, что наша природа, соответственно потребностям будущей жизни, будет освобождена от этого служения (ἑλπιζέτω τῆς λειτουργίας ταύτης
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 536A; p. пер. ч. VII, стр. 530.
2) Ἐκ τούτων γὰρ καὶ τῶν τοιοὑτων τῶν τε κατὰ τὸ κρεῖττον καὶ τῶν κατὰ τὸ ἐναντίον ἐπιθεωρουμένων ἰδιωμάτων, εἰς διαφόρους ἰδέας οἱ καθ’ ἐκαστον ἀπ’ ἀλλήλων μερίζονται, ἕως ἄν τοῦ ἐσχατου ἐχθροῦ καταργηθέντος, ὥς φησιν ὐ Ἀπόστολος, καὶ τῆς κακίας καθόλου πάντων τῶν ὄντων ἐξοικισθείσης, ἐν τὸ θεοειδὲς κάλλος ἐπαστράψη τοῖς πᾶσιν, ᾧ κατ’ ἀρχὰς ἐμορφώθημεν. Ibid. (Mg. XLVI) col. 536AB; p. пер. ч. VII, стр. 530—531 cp. Ориген, стр. выше 172.
— 461 —
ἀτέλειαν δοθῆσεσθαι τῇ φύσει ποτέ, κατὰ τῆν προσδοκωμένην ζωὴν), потому чтонесть, как говорит апостол, царствоБожиебрашноипитие ( Рим. 14, 17). Да и Господь сказал: не о хлебе едином жив будет человек, но о всяком глаголе, исходящем из уст Божиих (Мф. 4, 4)1). Этой свободой от необходимости принимать вещественную пищу пользовались, по представлению св. епископа Нисского, основанному на свидетельстве Св. Писания, наши прародители во время своего пребывания в раю. Пища, которая служила источником их жизни, была особой, именно духовной. Ею являлось всякое древо райское, которое ни в каком случае нельзя считать материальным растением, дававшим вещественные плоды. Напротив, оно давало и представляло собой совокупность духовных плодов. Это была полнота чисто духовных благ, питавших дух человека2). Питаясь этой пищей, человек, подобно ангелам, жил созерцанием божественного, откуда и черпал он силы как для продолжения своего существования, так и для развития своей деятельности. В таком именно состоянии полной свободы от необходимости принятия материальной пищи для поддержания своего бытия и способности к деятельности будут находиться все люди, когда они через акт воскресения из мертвых снова возвратятся в первобытное состояние. Их жизнь тогда будет подобна, ангельской. «В воскресение,—так определяет св. Григорий словами Господа будущее состояние людей,—равни бо суть ангелом (ἐν τῇ ἀναστάσει ἰσάγγελοι εἰσιν) (Мф. 22, 30; Лук. 12, 25; 20, 36) 3). Если такова, по словам Христа Спасителя, будет жизнь людей после их воскресения из мертвых, то, очевидно, они тогда будут свободны от необходимости принимать вещественную пищу, «так как для ангелов не
1) De hom. opif., cap. XVIII (Mg. XLIV) col. 196A; p. пер. ч. I, стр. 153 cp. Ориген, стр. выше 173.
2) Ibid., cap. XIX (Mg. XLIV) col. 1960; p. пер. ч. I, стр. 155.
3) Ibid., cap. XVII (Mg. XLIV) col. 188C; p. пер. ч. I, стр. 146.
— 462
существует пищи»1). Люди, освободившись со времени всеобщего воскресения мертвых от необходимости принятия настоящей материальной пищи, по мысли св. епископа Нисского, будут питаться другим брашном, имеющим лишь некоторое сходство с телесной пищей, наслаждение которым простирается только на одну душу2). Об этой пище св. Григорий находит немало свидетельств в Св. Писании (Притч. 9, 4; Ис. 25, 6; Ио. 7, 37), смысл которых, по его мнению, сводится к тому, что данное брашно будет утолять голод «не от какого-нибудь недостатка в хлебе и воде, но от лишения слова, потому что говорится: «не глад хлеба, ни жажду воды, но глад слышания слова Господня» (Ам. 8, 11)3). Ясно, что воскресшие тела не будут иметь нужды, подобно настоящим, в вещественной пище, ибо люди после воскресения из мертвых утолят свои естественные потребности духовным брашном.
Из подобных рассуждений св. Григория также следует, что человеческое тело после всеобщего воскресения людей из мертвых вполне освободится от т. наз. растительной жизни. В настоящих телах людей, животных и растений, как известно, происходит обмен веществ, в котором собственно и состоит особенность настоящего «душевного тела». Вот этому-то изменению вещества человеческие тела после всеобщего воскресения мертвых подлежать не будут4).
Проводя аналогию между состоянием человеческого тела после всеобщего воскресения мертвых и перво-
1) Τὴς ἀναστάσεως ἰσάγγελον ἡμῖν ὑποδεικνυούσης τὸν βίον, βρώσεως δὲ παρὰ τοῖς ἀγγέλοις οὐκ οὔσης, ἱκανή πίστις τοῦ ἀπαλλαγήσεσθαι τῆς τοιαύτης λειτουργίας τὸν ἀνθρωπον, τὸν καθ’ ὁμοιότητα τῶν ἀγγέλων ζησόμενον. Ibid., cap, XVIII (Mg. XLIV) col. 196AB; p. пер. ч. I, стр. 153—154.
3) Ibid.. cap. XIX (Mg. XLIV) col. 196C; p. пер. ч. I, стр. 154.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 1960; p, пер. ч. I. стр. 154—155.
4) Αὕτη γὰρ ἐστιν ἡ τοῦ ψυχικοῦ σώματος ἰδιότης, ἀεὶ διὰ τινος ῥοῆς καὶ κινήσεως ἀπὸ τοῦ ἐν ᾧ ἐστιν ἀλλοιοῦσθαι, καὶ μεταβάλλειν εἰς ἐτερον. Ἂ γὰρ οὗν οὐκ ἐπ' ἀνθρώποις μόνον ὁρῶμεν, ἀλλὰ καὶ ἐν φυτοῖς καὶ ἐν βοσκήμασι, τούτων οὐδὲν ἐν τῷ τῷδε βίῳ ὑπολειφθήσεται. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 156B; p. пер. ч. IV, стр. 322.
— 463 —
бытным, св. Григорий Нисский решительно отвергает значение различия полов у воскресших людей1). Через утрату полового различия человечество после всеобщего воскресения мертвых достигнет той совершеннейшей формы своего телесного состояния, в какой оно мыслилось я было создано Богом первоначально. По представлению св. отца, различие полов не входило в планы Творца, потому что оно не имеет для себя ничего аналогичного в Божественном Первообразе. И только Бог, «сведый вся прежде бытия их» (Дан. 13,42), как говорит пророчество, сообразуясь или, лучше сказать, предугадывая силой предведения то, к чему склонно движение человеческого произвола.., изобретает для Своего образа различие мужеского и женского пола, которое не имеет никакого отношения к Божественному Первообразу (ἐπιτεχνᾶται τῇ εἰκόνι τὴν περὶ τὸ ἀῤῥεν καὶ θῆλυ διαφοράν , ἥτις οὐκέτι πρὸς τὸ θεῖον ἀρχέτυπον βλέπει)»2). Однако, в раю не было брака, ни болезни рождения, ни самого рождения (γάμος ἐν τῷ παραδείσιο οὐκ ἦν , οὔτε ὠδίς , οὔτε τόκος)»3). В это именно совершеннейшее состояние, по мнению св. Григория, возвратится человечество после всеобщего воскресения мертвых. Тогда, говорит он, эту «жизнь заменит некоторое другое состояние (καὶ τις ἑτέρα κατάστασις τὴν ζωὴν διαδέχεται)», отличное от нынешнего, заключающегося в брачных сношениях 4). Для утверждения данной мысли св. епископ Нисский ссылается на слова Христа Спасителя. Господь, как пишет св. отец, «вразумляя не только саддукеев, но л открывая всем после них тайну жизни по воскре-
1) Однако, св. Григорий, епископ Нисский, не утверждает, что после всеобщего воскресения все люди будут одного мужеского пола. На это, по справедливому замечанию Fr. Hilt'a, в творениях св. отца нет никаких указаний (ор. cit., S. 235, Anm. 2).
2) De hom. opif., cap. XVI (Mg. XLIV) col. 181D—185A; p. пер. ч. I, стр. 143 cp. Ориген, стр. выше 173.
3) De hom. opif., cap. XVII (Mg. XLIV) col. 188AB; p. пер. ч. I, стр. 145.
4) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 128C; p. пер. ч. IV, стр. 299.
— 464
сении, говорит: «в воскресение бо ни женятся, ни посягают» (Мф. 22, 30; Мк. 12,25; Лук. 20, 36) 1). По воззрению св. Григория, после всеобщего воскресения мертвых рождение детей при помощи двух полов будет заменено «рождением духа спасения». Так как наша природа,— говорит святитель Нисский,—обладает различием мужеского и женского полов не для чего другого, как для рождения детей, то об этом предмете в отношении некоторых достойных обещанного Богом, Сокровищем благих, может быть признано то, что сила их природы, способная к рождению, станет служить тому рождению детей, к которому был причастен великий Исаия, сказавши: «от страха Твоего, Господи, во чреве прияхом, и поболехом и родихом дух спасения Твоего, егоже сотворихом на земли» (Ис. 26, 18)2). Проникая в смысл данного выражения св. пророка, св. отец замечает, что «если подобное рождение детей является прекрасным и чадородие бывает причиной спасения, как говорит апостол (1 Тим. 2, 15), то никто, однажды достигший через такое рождение обилия благ, никогда не перестанет рождать духа спасения (οὐδέποτε τὸ πνεῦμα τῆς σωτηρίας γεννών τις παύεται)»3). Отсюда ясно, что значение различия полов после всеобщего воскресения мертвых не будет иметь места.
Итак, по мнению св. Григория Нисского, как прекрасно выражает его один исследователь4), после всеобщего воскресения мертвых из человеческой телесной природы все иррациональные силы, которые соединились с ней после грехопадения наших прародителей, будут исключены.
1) De hom. opif., cap. XVII (Mg. XLIV) col. 188C; p. пер. ч. I, стр. 146.
2) De mortuis (Mg. XLVI) col. 533A; p. пер. ч. VII, стр. 527—528.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 533A; p. пер. ч. VII, стр. 528.
4) Dr. Al. Stöckl, op. cit., S. 314.
— 465 —
Отрицая принадлежность воскресшим телам тех качественных свойств, которые настоящей телесной природе человека стали присущи только с момента грехопадения наших прародителей, и, таким образом, отожествляя воскресшие тела с первобытными, св. Григорий этим самым дал основание одному из ученых1) предполагать, будто бы он учил, что у воскресших людей не будет телесных очертаний. Однако, такое предположение не имеет для себя достаточных оснований. Оно было бы справедливо только в том случае, если бы святитель Нисский, с одной стороны, отрицал тело у наших прародителей в раю, а с другой,—своими выражениями о свойствах будущих воскресших тел, действительно, предполагал исчезновение телесной природы у всех людей со времени их воскресения из мертвых. Н ο ни того, ни другого мы у св. отца не находим.
Несомненно, св. Григорий признавал телесную природу у наших прародителей во время их райской жизни. Это видно из его сочинений2). Правда, он далек был от мысли, чтобы отожествлять в качественном отношении райское тело наших прародителей с тем телом, какое они получили после грехопадения3). Святитель Нисский считал райское тело наших прародителей, как это можно судить на основании уже выше изложенных замечаний, в известном смысле духовным или прославленным. И в самом деле, когда он отрицает принадлежность им таких явлений, как, например, разные возрасты, рождение детей, питание, разные телесные бедствия, смерть и т. под., и считает все это возникшим в них
1) S. H. Tillemont, Mémoires....à l’histoire ecclésiastique des pères de l’église (Paris 1703) art. XVI, p. 615 vgl. Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 233, Anm. 2.
2) См., например, κατὰ τὴν ψυχὴν προτερήμασι καὶ αὐτῷ τῷ τοῦ σώματος σχήματι τοιοῦτον εἶναι παρασκευάσας. De hom. opif., cap. IV (Mg. XLIV) col. 136B; p. пер. ч. I, стр. 88.
3) Vgl. Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 114.
— 466
лишь со времени грехопадения, то этим он ясно выражает то, что телесная природа наших прародителей в течение их райской жизни, по его мнению, была прославленной1). Ясно, св. Григорий не сомневался в том, что наши прародители в раю обладали телесной природой, хотя и считал последнюю прославленной.
Равным образом св. Григорий Нисский не допускал мысли о совершенном исчезновении человеческого тела после всеобщего воскресения мертвых. Если у него и встречаются выражения, которые, по-видимому, говорят о таком уничтожении, то они, как это с полным правом полагает один исследователь2), объясняются исключительно желанием св. отца утвердить возможно основательнее ту мысль, что во время всеобщего воскресения мертвых человеческие тела преобразятся в более совершенное состояние сравнительно с настоящим 3). Что, действительно, такие выражения св. епископа Нисского не говорят о совершенном исчезновении телесной природы людей после их всеобщего воскресения из мертвых, а только о
1) Ibid. ор. cit., S. 232.
Поэтому, напрасно проф. А. Мартынов (op. cit., стр. 338) охотно соглашается с мнением Bitter’a, будто мысль св. Григория о полним тожестве будущих человеческих тел с райскими телами наших прародителей должна быть отнесена на счет «неточности формулы употребляемой им» (Geschichte der christlichen Philosophie (Hamburg 1841) Theil II, S. 133). Равным образом ошибочно мнение и Prof. Ad. Hatnack’a, по которому святитель Нисский, говоря о высшем состоянии, т.-е. об имеющем наступить через воскресение—εἰς τὸ ἀρχαῖον τῆς φύσεως ἡμῶν ἀποκατάστασισ’е, будто бы разумел под последним до-райское состояние, которого до сих пор никто из людей еще в осуществил (Lehrbuch der Dogmengeschichte. Zweiter Band. Vierte Auflage (Tübingen 1909), S. 150).
2) Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 233.
3) Поэтому, ошибаются наши отечественные исследователи, когда полагают, что св. отец допускает противоречие, отвергая будто бы через данные свои воззрения на природу воскресших людей настойчиво проводимое им в других местах своих сочинений учение об отличительном телесном облике воскресшего человека и, следовательно, о тожестве воскресших тел с настоящими (проф. В. Несмелов, ор. cit., стр. 604 и дал. ср. проф. А. Мартынов, ор. cit., стр. 337 и дал.).
— 467
преображении последней из грубо-материального состояния в более возвышенное,—это видео из того обстоятельства, что он весьма часто говорит в своих творениях о воскресении тела1) вообще и о необходимости его существования после всеобщего воскресения мертвых «ради надежды на ожидаемые нами блага» 2) или для восприятия наказания 3). В таком именно смысле эти и подобные свои выражения объясняет и сам св. Григорий, когда говорит, что каждый из нас телесное покрывало своих душ, разрушенное смертью, увидит «снова сотканным из того же, но не в этом грубом и тяжелом составе, а так, что его нить будет составлена из него-то очень легкого, воздушного»4). Обозначая данное состояние воскресших человеческих тел, св. епископ Нисский и считает последние духовными5). Отсюда ясно, что, усвояя такое свойство воскресшим человеческим телам, св. Григорий этим не отрицает существования их телесности в основной ее субстанции. Последняя, по мнению св. отца, несомненно, будет существовать и после всеобщего воскресения мертвых, но присущие ей во время земной жизни грубые материальные свойства, вследствие воздействия на них акта воскресения мало-по-малу уничтожатся6). Телесность воскресших людей, конечно, будет свободна и от каких бы то ни было болезней и смертности. Таким образом,
1) καὶ ἁπλῶς πάντα τὰ σώματα , ὅσα μετὰ τὴν γένεσιν ἡφάνισεν ἡ φθορά ἀνελλιπῆ καὶ ἀκέραια δοθήσεται ἐκ τὴς γῆς . In Chr. resurr., orat. ΙΙΙ (Mg. XLVI) col. 660C; p. пер. ч. VIII, стр. 64.
2) ὅτι οὐκ ἀχρήστως πρὸς τὴν προσδοκωμένην τῶν ἀγαθῶν ἐλπίδα, οὐδὲ ἡ τοῦ σώματος φύσις ἔχει. De mortuis (Mg. XLVI) col. 521D; p. пер. ч. VII, стр. 515.
3) Εἰ— ψυχὴ— μόνη καὶ γυμνή διήμαρτε, μόνην καὶ κολάσει εἰ δὲ φανερόν ἔχει τὸν συνεργὸν,— σῶμα— οὐκ ἀφήσει τοῦτον ὑ κριτὴς δίκαιος ὤν. In Chr. ressur., orat. III (Mg. XLVI) col. 680A; p. пер. ч. VIII, стр. 85.
4) ἐκ τῶν αὐτῶν πάλιν ἐξυφαινόμενον, οὐ κατὰ τὴν παχυμερῆ ταύτην καὶ βαρεῖαν κατασκευὴν, ἀλλ’ ἐπὶ τὸ λεπτότερόν τε καὶ ἀερῶδες μετακλωσθέντος τοῦ νήματος. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 108A; p. пер. ч. IV, стр. 281.
5) De mortuis (Mg. XLVI) col. 532C; p. пер. ч. VII, стр. 562 cp. Ориген, стр. выше 171.
6) Vgl. Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 234.
468 —
ясно, что человеческое тело, по учению святителя Нисского, после воздействия на него акта воскресения не уничтожится, но лишь освободится от своей материальной грубости и станет, следовательно, телом прославленным, именно таким, каково было, по мнению св. отца, райское тело наших прародителей.
Итак, нет никаких оснований предполагать, будто св. Григорий Нисский учил о совершенном исчезновении у воскресших людей их телесной природы, так как, во-первых, отожествляя воскресшие тела с райскими телами наших прародителей, он не считал последних свободными от телесной природы, а во-вторых, все те выражения св. отца, которые, по-видимому, говорят об исчезновении у воскресших людей их телесной природы в действительности, свидетельствуют только об его желании утвердить мысль о преображении в момент всеобщего воскресения мертвых человеческих тел в более совершенное состояние сравнительно с настоящим.
и В—на душу.
Акт воскресения, возвращая человека, по учению св. Григория Нисского, в первобытное состояние, простирает свое преобразовывающее действие не только на его тело, но и на душу. Если во время первобытного состояния души наших прародителей по своей основной природе сияли образом и подобием своего Творца, то также души всех людей после всеобщего воскресения мертвых будут отражать собой образ и подобие Божьи. Тогда они снова будут сиять силой, славой и честью, одним словом, полным совершенством1), «восходящим к первоначальной благодати (πρὸς τῆν ἐξ ἀρχῆς ἐπανιέναι χάριν)»2).
Впрочем, необходимо заметить, что действие полного восстановления в «первоначальную благодать» во время всеобщего воскресения мертвых коснется только тех
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 156A; p. пер. ч. IV, стр. 322.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 156D; p. пер. ч. IV, стр. 323.
— 469
душ, которые принадлежат людям вполне добродетельным. Таким образом, в то время как души людей, проводивших на земле добродетельную жизнь в самый момент всеобщего воскресения мертвых достигнут обладания полным благодатным совершенством, души людей, погрязавших в течение своей земной жизни в разнообразных пороках, в это время таким обладанием не воспользуются, а достигнут его только после соответствующего их греховному состоянию очищения в адских мучениях1).
8. Двоякое воскресение мертвых и его порядок.
В тесной связи с учением св. Григория Нисского о действии всеобщего воскресения мертвых как на телесную, так и на духовную природы людей стоит учение о двояком воскресении2). Как это уже видно из сказанного выше, св. отец различает, с одной стороны, освобождение телесной человеческой природы от разрушения и тления, а с другой,—восстановление человеческой души от смерти греха к жизни 3).
Воскресение человеческого тела в смысле освобождения его от следствий греха, другими словами, в смысле восстановления его первобытной красоты, по учению святителя Нисского, будет простираться в одинаковой мере на всех людей, независимо от их добродетельной или порочной жизни, при этом непосредственно после всеобщего воскресения мертвых 4) Всеобщее воскресение мертвых, таким образом, очистит телесную природу всех людей от всего того, что ей не было присущим в эпоху райской жизни человечества5). «Когда наша природа,— говорит св. Григорий, — через воскресение снова воз-
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 169BC; p. пер. ч. IV, стр. 325—326.
2) Cp . Ориген, стр. выше 174.
3) Vgl . Dt. Fr, Huber, op . cit ., S . 208; Dr. Fr. Hilt. op . cit ., S . 237 ff ; Fr. Böhringer, op . cit ., S . 138.
4) De an . et res . (Mg. XLVI) col. 160A; p. пер. ч. IV, стр. 325.
s) De mortuis (Mg . XLVI) col . 529A ; p . пер. ч. VII , стр. 523.
— 470 —
двигается в кущу», тогда «уничтожится вея испорченность, существ, произведенная пороком»1).
Кроме воскресения из мертвых телесной природы человека, св. Григорий Нисский, как мы сказали, различает еще восстановление человеческой души от смерти греха к жизни. Если телесная природа всех людей непосредственно после воскресения достигнет своего полного восстановления, то по отношению к душам порядок восстановления их райского состояния несколько иной. Полное восстановление образа Божия я возвращение первобытного блаженства душам, освободившимся от порочных наклонностей, совершится, как и восстановление телесной природы всех людей в первобытное состояние, во время всеобщего воскресения мертвых. Души же, запятнавшие себя греховными сквернами, подобной участи удостоятся только после надлежащего очищения от последних. Что настоящий порядок восстановления душ от смерти греха к жизни не является совне навязанным св. Григорию, это видно как из того, что он находится в полном согласии со всей его системой 2), так,—и это главным образом,—из того, что он сам прямо говорит об этом. Святитель Нисский, как мы уже знаем, утверждает, что воскресению из мертвых должно безусловно предшествовать очищение от грехов или в таинстве св. крещения, или в огне3). Следовательно, если человек не освободится от своих грехов через таинство св. крещения на земле или через огонь в период времени от смерти до всеобщего воскресения мертвых, то само собой понятно, что освобождение его души от смерти греха должно будет произойти после его воскресения из мертвых, когда последняя закончит свое очищение.
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 133C; p. пер. ч. IV, стр. 304.
2) Vgl. Dr. Fr. Hilt, op. cit, S. 238.
3) Orat. cat., cap. 38 (Srawley, op. cit., p. 135—139); p. пер. ч. IV, стр. 94—95.
471
ГЛАВА III.
Учение о всеобщем суде.
Несмотря на то, что св. Григорий Нисский определяет всеобщее воскресение мертвых, как восстановление людей в первобытное состояние, однако он не считает его заключительным актом мировой истории. По представлению св. отца, непосредственно за всеобщим воскресением людей из мертвых следует всеобщий суд, который представляет собой главную цель второго пришествия Христа на землю. Определяя время будущего всеобщего суда, святитель Нисский говорит, что «для достойных сохраняется наследство до восьмого дня, в который совершится праведный суд Божий»1).
Таким образом, по рассуждению св. Григория, вместе со вторым пришествием Христа на землю и всеобщим воскресением мертвых, страшный всеобщий суд Божий совершится в «восьмой день» истории домостроительства нашего спасения, другими словами, после окончания настоящего мира.
1. Судья всеобщего суда.
Рассматривая всеобщий суд в качестве главной и существенной цели второго пришествия Христа на землю, св. Григорий тем самым уже преднаметил и То Лицо, Которое произведет этот страшный суд. Впрочем, у святителя Нисского мы находим и более определенные раз-
1) In psalm. VI (Mg. ХLIV) col. 612АВ; р. пер. ч. II, стр. 197—198.
— 472
суждения относительно будущего Судии всех людей. Признавая самый большой авторитет в деле решения богословских вопросов за Св. Писанием, св. отец при решении рассматриваемого вопроса обратился к свидетельствам Божественного Откровения. Тут он встретился с данными, по-видимому, противоречащими друг другу. По словам Св. Писания, с одной стороны, все подлежит суду Бога Отца, а с другой, — Отец не судит никому же (Ио. 5, 22). Устраняя это видимое противоречие, св. епископ Нисский полагает, что Бог Отец, хотя и будет участвовать во всеобщем суде, однако не самолично, а только через Своего Сына. «Узнав из Писания, говорит он, что Бог всяческих судит всей земли (Быт. 18, 25), утверждаем, что Он—Судья вселенной через Сына (αὐτὸν εἶναι διὰ τοῦ Υἱοῦ φαμεν). И слыша снова, что Отец не судит никомуже (Ион. 5, 22), не думаем, что Писание само себе противоречит, потому что Судяй всей земли совершает это через Сына (μάχεσθαι ... διὰ τοῦ Υἱοῦ), Которому Он предоставил весь суд» 1). Чтобы кому-нибудь из слушателей или читателей св. Григория не показалось, что всеобщий суд, по его мнению, будут производить Два Лица, причем Одно из них в данном случае будет обладать меньшей силой и властью, чем Другое, святитель Нисский продолжает свою речь в том смысле, что «все совершаемое Единородным во время страшного суда относится к Отцу, так что Он является Судьей вселенной и никого не судит, потому что весь суд, как сказано, Он отдал Сыну, и всякий суд Сына не чужд Отеческой воле; поэтому, никто не имеет основательной причины: или назы-
1) Quod non sint tres Dii (Mg. XLV) col. 128AB; p. пер. ч. I, стр. 123 cp. Апологеты II-го века, стр. выше 48—49; св. Ириней, стр. выше 80; Ориген, стр. выше 181 си. Мужи ап., стр. выше 17—18; св. Ипполит, стр. выше 102—103; Климент Ал., стр. выше 118—119; св. Дионисий, Ал., стр. выше 194, прим. 1; св. Василий В» стр. выше 231; св. Григорий В., стр. выше 249.
— 473 —
вать Двух Судей, или Одного из них в отношении к суду признавать чуждым власти и силы»1), какой обладает Другой.
Такое предоставление Богом Отцом будущего суда Своему Сыну, по мнению св. Григория, имеет глубокий внутренний смысл. В данном случае мы должны видеть речь не о простой замене Отца Сыном, но о том, что Бог во время мирового суда поступится требованиями абсолютной Божьей правды в пользу требований неизмеримой любви Божьей. Если бы Бог Отец производил всеобщий суд самолично, то Он в данном случае, при оценке человеческих поступков руководился бы Своей абсолютной правдой,—и тогда,—так как пред абсолютной Божьей правдой все люди являются неизмеримо виновными,—никто из людей не мог бы достигнуть спасения. Но Бог Отец не желает человеческой погибели, а потому Он предоставляет производство страшного суда Человеческому Сыну. Бог Отец предоставляет производство всеобщего суда Своему Сыну, Который, будучи на земле, жил человеческой жизнью, испытав на Себе все ее трудности и страдания, Который, хотя Сам и не согрешил, однако знает, что человеку очень трудно сохранить Себя чистым от грехов. Это последнее обстоятельство собственно и побудит Его поступиться требованиями абсолютной Божьей правды в пользу требований неизмеримой любви Божьей. Это последнее обстоятельство побудит Его произнести Свой справедливый приговор, исследовав все обстоятельства земной жизни человека, т.-е., приняв во внимание «страсть, утрату, болезнь, старость, зрелость, юность, богатство, убожество, хорошо или худо, находясь в каждом из этих обстоятельств, проводил человек доставшуюся ему в удел жизнь, и долгое ли время он испытывал много благ или зол, или
1) Quod non sint tres Dii (Mg. XLV) col. 128B; p. пер. ч. IV, стр. 124.
— 474 —
же совсем не коснулся я начала тех и других, окончив жизнь еще в несовершенном разуме”1)
Ясно, что Бог Отец, предоставляя совершение всеобщего суда Своему Сыну, имеет в виду сохранить человечество от вечной погибели. Но, кроме данной цели, Премудрость Божия в данном случае имеет еще и другую цель, именно — явить во всем могуществе и славе всему миру Сына Человеческого. «В будущем веке, — пишет св. епископ Нисский, — суд над всеми вручен Сыну (ἡ ἐν τῷ μέλλοντι αἰώνι κατὰ πάντων δίκη ἑγκεχείρισται τοῦ Υἱῷ), потому что сказано: «Отец не судит никомуже, но суд весь даде Сынови: да вси чтут Сына, якоже чтут Отца» (Ио. 5, 22—23)2). Потому-то, по мнению св. отца, и допускает Св. Писание такие выражения, как, например, что Сын Божий в свое время придет судить во славе Отца 3).
2. Объект всеобщего суда.
Будущий мировой суд будет простирать свое действие на все существа; как увидим ниже, не только на людей, но также и на нечестивых духов.
Полагая, что на всеобщий суд явятся все согрешившие разумно-свободные существа, св. Григорий Нисский, однако, говорит в своих сочинениях преимущественно о людях, как подлежащих без всяких исключений будущему суду. В определенное время, по словам св. отца, Христос Спаситель «придет судить всякую душу (ἕξει κρῖναι πᾶσαν ψοχὴν)»4). Изображая в поэтически-образных
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 149C; p. пер. ч. IV, стр. 317—318. Против проф. В. Несмелова, который полагает, что св. Григорий Нисский, говоря о предоставлении Богом Отцом суда Своему Сыну, будто бы тем самым хотел высказать идею о замене абсолютной Божьей правды относительной человеческой правдой (ор. cit., стр. 607).
2) Adv. Arium et Sabell. 6 (Mg. XLV) col. 1289C; p. пер. ч. VII, стр. 10.
3) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col. 476A; p. пер. ч. V, стр. 273.
4) Ibidem.
— 475 -
выражениях будущий страшный суд, он представляет вам отдельные моменты его в таких выражениях. Вижу, — так восклицает он в одном церковном поучении, — вокруг престола славы, на котором восседает Судья, «все человеческие племена, какие только ни приходили в бытие, освещались солнцем и вдыхали этот воздух, разделенные на две части и предстоящие суду»1). «Снова останавливаюсь,—так святитель Нисский выражает ту же мысль в другом своем слове, — перед картиной страшного явления Царя, которую представляет Евангелие! Снова потрясается душа, прислушиваясь к странным словам! Она... как бы видит и Самого великого и грозного Царя, от невыразимой славы склоняющего Свой взор на человеческую природу и на все поколения людей, когда-либо бывших, от начала до времени этого страшного явления Царя, собирающего их к Себе» 2). Без всяких колебаний святитель Нисский словами Откровения утверждает: «Веруем и, действительно, веруем, что весь человеческий род предстанет пред судящем Христовым, да приимет кийждо, яже с телом содела, или блага, или зла» (2 Кор. 5, 10)3). Таким образом, по мысли и выражению св. отца, после всеобщего воскресения мертвых пред престолом производящего суд Сына Божия «предстанет весь человеческий род от первой твари до всей полноты приведенных в бытие, в страхе и надежде на будущее, недоумениях, многократно приводимый в ужас исполнением ожидаемого»4).
1) De pauper, amand., orat. I (Mg. XLVI) col. 460D—461A; p. пер. ч. VII, стр. 402.
2) Ibid., orat. II (Mg. XLVI) col. 472AB; p. пер. ч. VII, стр. 413.
3) ... πεπίστευται, καὶ ἀληθῶς πεπίστευται, πᾶσαν παραστήσασθαι τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν τῷ βήματι τοῦ Χριστοῦ, ἵνα κομίσηται ἐκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος, πρὸς ἃ ἔπραξεν, εἴτε ἀγαθὸν, εἴτε φαῦλον. De beatitud., orat. V (Mg. XLIV) col. 1260E> p. пер. ч. ΙΙ, стр. 432.
4) Ibid. (Mg. XLIV) col. 1261B; p. пер. ч. II, стр. 433.
476 —
Утверждая, что на страшный суд явятся все люди, св. Григорий Нисский при этом отмечал то обстоятельство, что каждый человек в этот момент будет обладать как духовной, так и телесной своими природами. «В день преобразования, говорит он, когда будут одушевлены мертвые, каждый из живших предстанет для отчета сложным, состоящим, как прежде, из души и тела» 1). Так как душа человека, по своей природе, не подлежит смерти, то явление ее в определенное время на всеобщий суд, естественно, совершится без всяких затруднений. Но и для тела, которое до всеобщего суда воскреснет из мертвых, также не составит труда явиться на последний 2). Ясно, как для тела, так и для души будет полная возможность предстать на суд. Мало того, по воззрению св. отца, явление человека на страшный суд в гармоническом единении его обеих природ должно быть признано не только возможным, но и необходимым. Эта необходимость имеет для себя все основания. Прежде всего, по мнению святителя Нисского, как духовная, так и телесная природы людей должны предстать на всеобщий суд по той простой причине, что только их взаимное единение, действительно, составляет полного человека 3). Далее, св. Григорий полагает, что явление полного человека на страшный суд требуется тем обстоятельством, что в совершении поступков, с одной стороны, порока, а с другой,—добродетели принимала участие не одна какая-нибудь из двух составных частей человека, а обе вместе. «Прибавим, — пишет св. епископ Нисский,—размышление и такого рода. То, что совершают
1) ὅταν ἡ μετακόσμησις, ψυχωσασα τοὺς νεκροὺς, πρὸς τὰς εὐθύνας ἐκαστον τῶν βεβιωμένων ἀναγάγη, σύνθετον ὸντα καθὼς πρότερον, καὶ διὰ ψυχῆς καὶ σώματος αὐνεστῶτα. In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 676C; p. пер. ч. VIII, стр. 82 ср. св. Иустин Муч., стр. выше 49; Афинагор, стр. выше 50.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 676CD—677A; p. пер. ч. VIII, стр. 82—83.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 677A; p. пер. ч. I, стр. 83.
— 477 —
люди, как-то: блуд, убийство, хищение и все, чем сопровождаются эти пороки, или, наоборот, целомудрие, воздержанне и все поступки, противоположные злым, — называем ли мы действиями обоих (т.-е. тела и души), или приписываем совершение этих дел одной только душе? Но истина в данном случае очевидна. Ведь, никогда душа отдельно от тела не совершает воровства, не подкапывает стен, она никогда не подает голодному хлеба, не напаивает жаждущего, не спешит немедленно в темницу, чтобы оказать помощь страждущему в заключении, но при всяком деле душа и тело объединяются друг с другом и вместе совершают то, что делают. Если это так, то, — спрашивает св. Григорий,— каким образом, допуская, что будет суд за жизненные дела, ты отторгаешь одно от другого. И тогда как сделанное составляет общую принадлежность того и другого, ты назначаешь судилище для одной души?»1). Таким образом, по учению святителя Нисского, не подлежит сомнению, что душа, «имеющая сообщником своих дел смертное (тело), во время воздаяния от праведного Судьи снова вселится в своего сотрудника, чтобы вместе с ним воспринять общие награды и наказания»2).
Мысль, что на всеобщий суд человеческие души явятся вместе с своими телами, св. Григорий обосновывает довольно подробно. Она, по его мнению, должна быть принята по той причине, что в теле, во-первых, часто заключается первая причина греха, а во-вторых, оно часто исключительно одно «переносит бедствия за добродетель». «Кто,—пишет святитель Нисский,—хочет быть строгим
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 677AB; p. пер. ч. VIII, стр. 8384 cp. Афинагор, стр. выше 42—43.
2) ...θνητὸν ἔχει τὸ κοινωνὸν τῶν πραγμάτων... παρὰ τῷ δικαίῳ κριτῇ ἐν τῷ καιρῷ τῶν εὐθυνῶν ἐνοικὴσει πάλιν τῷ συνεργῷ, ἵνα μετ’ ἐκείνου κοινὰς δέξητβι τὰς κολάσεις ἢ τὰς τιμάς. De Chr. resurr., orat. ΙΙI (Mg. XLVI) col. 677A; p. пер. ч. VIII, стр. 83.
478
судьей человеческих прегрешений и внимательно присмотрится, откуда возникают первые причины греха, то, может быть, найдет, что первая причина беспорядка заключается в теле. Ведь, часто, когда душа бывает в спокойном состоянии и наслаждается невозмутимым миром, глаз страстным взором взглянет на то, на что лучше было бы не смотреть, и, сообщив душе недуг, превращает в бурю и волнение ее тишину. Подобным образом и ухо, прислушавшись к каким-либо бесстыдным и возбуждающим словам, как бы через какие-нибудь каналы, проводит в мысли нечистоту своего движения и нестроения. Бывает, что и нос посредством чувства (обоняния) и вдыхания заносит во внутреннего человека великое и неизобразимое зло. И когда я, — так святитель Нисский заканчивает изложение данной своей мысли, — таким образом мало-по-малу начинаю производить исследование и разузнавать, то нахожу, что тело виновно во многих грехах» 1). Если, с одной стороны, тело человека во многих случаях бывает причиной его греха, то, с другой— оно, как мы уже сказали, по выражению св. Григория, «переносит также бедствия за добродетель и во время подвигов терпит страдания, будучи секомо железом, палимо огнем, поражаемо бичом, подвергаемо тяжелым узам и всякого рода мукам, чтобы не изменить священной любви к мудрости, которая, как какой-либо украшенный прекрасными стенам и башнями город, окружена бранью со злом»2). Ясно, если тело при достижении совершенства вместе с душой переносит разные бедствия, а также участвует вместе с ней в худых делах, то
1) Τὶς ἀκριβὴς γένοιτο δικαστὴς τῶν ἀνθρωπίνων πλημμελημάτων, καὶ σκοπήσειεν ἐπιμελῶς, πόθεν φύονται αἱ ποῶται τὴς ἀμαρτίας αἰτίαι, τάχα πρώτον ἀτακτοῦν ἐν τοῖς ἐγκλήμασιν εὐρήσει τὸ σῶμα .. καὶ μοι κατὰ μικρὸν οὕτως ἐπιόντι καὶ σκοπουμένω ὑπαίτιον εὐρίοκεται τῶν πολλῶν ἀμαρτιῶν τὸ σωμάτιον. Ibid. (Mg. XLVI) col. 677CD; p. пер. ч. VIII, стр. 84.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 677D, p. пер. ч. VIII, стр. 84—85.
— 479 —
нет основания думать, что на всеобщий суд явится только одна человеческая душа. Наоборот, есть полное основание полагать, что пред страшным судилищем Христовым предстанет человек в гармоническом единении своих тела и души, и они тогда понесут соответствующее степени их виновности наказание, причем, «если душа одна, без тела, согрешила, одна будет и наказана; если же она имела явного сотрудника, то и его не оставит без наказания праведный Судия» 1).
Наконец, по мнению св. Григория Нисского, подтверждением той мысли, что на всеобщий суд явится не одна лишь душа человека, но обязательно вместе с своим телом, служит то обстоятельство, что наказание, которое будет определено на этом суде, по своей сущности, имеет большее отношение к материальной природе человека, чем к духовной. «Я слышу,—пишет св. отец,—что Писание говорит еще и то, что осужденные будут подвергнуты справедливым казням: огню, мраку и червю. Все это—наказания для сложных и вещественных тел; самой же души некогда не коснется огонь, а мрак — для нее не может быть тяжелым, потому что она не имеет глаз и зрительных органов. Что мог бы сделать ей и червь, который способен вредить телу?» 2).
Таким образом, по учению св. Григория, на страшный суд явятся все люди, которые через рождение придут в мир, причем в этот момент они будут обладать не одной только душой, но и телом.
Когда предстанут на страшный суд все люди, то вместе с ними окажется и виновник мирового уклонения от требований святой воли Божией — диавол. В творени-
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 677D—680A; p. пер. ч. VIII, стр. 85.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 680A; p. пер. ч. VIII, стр. 85. Св. Григорий Нисский, как это показано выше (стр. 364—367), признавал духовный характер мучений. Поэтому, в приведенном сейчас его выражении нужно видеть гомилетический риторизм: его нельзя понимать буквально.
— 480 —
ях св. Григория есть ясное указание на то, что и злые духи будут приведены на страшный суд, во время которого им будет определено соответствующее степени их виновности наказание. В день пришествия Царя и Судьи «виновник возмущения, возмечтавший о достоинстве Владыки, явится пред очами всех рабов непрестанно бичуемым, влекомым ангелами па казнь, и все служители и соучастники его злобы подвергнутся приличным им наказаниям и казням» 1).
Итак, по воззрению св. Григория Нисского, объектом страшного суда будут все люди и все злые духи2),
3. Изображение всеобщего суда.
Останавливаясь своим вниманием на самом процессе всеобщего суда, св. Григорий описывает две его стороны—внешнюю и внутреннюю. Правда, изучая творения святителя Нисского, нельзя не подметить, что внешняя сторона страшного суда его интересовала значительно меньше, чем внутренняя. Однако, нельзя сказать, что он оставлял ее без всякого внимания. Там и здесь в его творениях мы находим отдельные замечания и о внешней стороне будущего суда. Объединяя их в одно целое, мы можем себе представить такую картину. Вот возвышается престол славы (θρόνος δόξης ἀνυψούμενος)3); он «величественен (μεγαλοπρεπὴς)»4) и «превознесен (υψηλός)5). На этом престоле славы грозно восседает Небесный Царь (ἐπὶ τοῦ θρό -
1) Τότε καὶ ὁ τῆς ταραχὴς ὑπαίτιος ὁ τὴν τοῦ Δεσπότου φαντασθεὶς ἀξίαν, μαστιγίας οἰκέτης ὁρθὴσεται πᾶσιν, παρ’ ἀγγέλων πρὸς τὴν τιμορίαν συρόμενος, καὶ πάντες οἱ τὴς ἐκείνου κακίας ὑπὴρέται καὶ συνεργοί, ταῖς πρεπούσαις κολάσεσι καὶ δίκαις ὑποβληθήσονται. In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 653C; p. пер. ч. VIII, стр. 57—58.
2) Cp. Ориген, стр. выше 181.
3) De pauper, amand., orat. I (Mg. XLVI) col. 460D; p. пер. ч. VII, стр. 402.
4) Ibid., orat. II (Mg. XLVI) col. 472A; p. пер. ч. VII, стр. 413.
5) De beatitud., orat. V (Mg. XLIV) col. 1261B; p. пер. ч. II, стр. 433.
481
νου τῆς δόξῃς φοβερῶς προκαθήμενος ὁ οὐρανῶν βαοιλεὺς)1), являя Себя царствующим над тварью всему человеческому роду (ὁ βασιλεύων τῆς κτίσεως ἑαοτόν ἀνακαλύψη τῇ ἀνθρωπίνη φύσει)2). Его окружают бесчисленные тьмы ангелов 3), а, вместе с ними все люди, когда-либо жившие на земле 4), разделенные на две части. Те из последних, которые стоят на правой стороне, носят название овец, а те, которые занимают противоположную, левую сторону,—в виду сходства их нравов с нравами козлов,—носят имя последних 5). Всему этому бесчисленному собранию, по словам св. отца, «открывается невыразимое в слове небесное царство, а также, в противоположность ему, показываются и страшные мучения»6).
Ограничиваясь только немногими попутными замечаниями относительно внешней стороны будущего суда, св. Григорий Нисский, как мы уже сказали, уделяет гораздо больше внимания изображению его внутренней стороны. Имея в виду последнюю сторону страшного суда, он очень часто и настойчиво отмечает ту ее непременную черту, по которой рассматриваемый акт в истории Христовой Церкви будет отличаться полной справедливостью. Эту черту внутренней природы будущего суда св. епископ Нисский оттеняет, прежде всего, когда говорит о втором пришествии Христа на землю с целью судити. вселенней в правду и людем в правоте (ср. Пс. 9, 9) 7).
1) De pauper, amand., orat. II (Mg. XLVI) col. 472A; p. пер, ч. VII стр. 413.
2) De beatitud., orat V (Mg. XLIV) col. 1261B; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 433.
3) De pauper, amand., orat. II (Mg. XLVI) col. 472A; p. пер. ч. VII, стр. 413 cp. De beatitud., orat. V (Mg. XLIV) col. 1261B; p. пер. ч. II, стр. 433.
4) De beatitud.,orat. V (Mg. XLIV) col. 1261B; р. пер. ч. ΙΙ, стр. 433; De pauper, amand., orat. I (Mg. XLVI) col. 460D; p. пер. ч. VII, стр. 402; ibid., orat. II (Mg. XLVI) col. 472A; p. пер. ч. VII, стр. 413.
5) De pauper, amand., orat. I (Mg. XLVI) col. 461A; p. пер. ч. VII, стр. 402.
6) De beatitud., orat. V (Mg. XLIV) col. 1261B; p. пер. ч. II, стр. 433.
7) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col. 504D; p. пер. ч. V, стр. 306.
—482 —
Далее, на этот неотъемлемый атрибут всеобщего суда св. отец указывает, когда он называет будущего нашего Судью «возвещающим суд каждому по достоинству жизненных дел (κατὰ τὴν ἀξίαν τῶν βεβιωμένων ἐκάοτω τὴν κρισιν ἐπάγοντα)»1), а относительно существ, подлежащих будущему суду, выражается, что «подлежащие суду осуждаются правдой Божьей (κρινόμενοι τῇ δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ τὴν κρίσιν ὑπέ χουσαν), потому что Христос есть Правда Божья, открываемая благовествованием» (ср. Рим. 1, 17)2). Наконец, святитель Нисский ту же самую свою мысль о характерной черте внутренней природы будущего суда отмечает, когда говорит, что Праведный Судья на всеобщем суде «воздаст каждому по достоинству (κατ ’ ἀξίαν ἐκάστῳ)»3), по делам его (κατὰ τὰ ἐργα ἀὐτοῦ) (Мф. 16, 27)4), что Праведный Судья «в день суда по достоинству жавших (κατ ’ ἀξίαν τῶν βεβιωμένων) произнесет приговор над судимыми» 5).
Такому характеру внутренней природы всеобщего суда будет вполне соответствовать и самый процесс его производства. Характерным признаком справедливого суда является его беспристрастие. «Вот самый крайний предел справедливого суда,—так пишет св. Григорий Нисский,—не от себя, по какому-либо пристрастию, выносить приговор подсудимым, но сначала выслушивать подлежащих суду, а потом уже выносить о них приговор»6). Этому требованию справедливого суда вполне будет удовлетворять всеобщий суд. И в самом деле, «Истинный Судья (ὁ ἀληθὴς κριτὴς) всего мира... говорит о
1) De pauper, amand., orat. II (Mg. XLVI) col. 472В; р. пер. ч. VII, стр. 413.
2) Contra Eunom., lib. VI (Mg. XLV) col. 724D; p. пер. ч. VI, стр. 51.
3) In psalm., lib. II, cap. VIII (Mg. XLIV) col. 525D; p. пер. ч. II, стр. 101.
4) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col. 484D; p. пер. ч. V, стр. 284.
5) Ibid., lib. V (Mg. XLV) col. 693D; p. пер. ч. VI, стр. 18.
6) In Gant, cant., hom. VII (Mg. XLIV) col. 909A; p. пер. ч. III, стр. 176.
483 —
Себе; «Отец не судит никомуже, но суд весь даде Сынови» (Ио. 5, 22) и «не могу Аз о Себе творити ничесоже, якоже слышу, сужду, и суд Мой праведен есть (καὶ ἡ κρίσις ἡ ἑμή δικαία ἐστίν)» (Ιο . 5,30)1) Поэтически возносясь своей мыслью к процессу будущего страшного суда, св. отец, между прочим, замечает: «Слышу там речи Судьи к подсудимым и ответы судимых Царю»2).
Мысль о полной справедливости всеобщего суда подтверждается и более частными чертами внутренней природы его процесса. По представлению св. Григория, Бог во время всеобщего суда примет во внимание все дела, совершенные человеком в течение его земной жизни, «Праведный суд Божий,—пишет святитель Нисский,—простирается на все, соразмеряет с тяжестью долга необходимость взыскания и самой малости не оставляет без внимания» 3). Праведный Судья, во время страшного суда, примет во внимание не только все поступки человека, но Он также не оставит без внимания и всех тех обстоятельств его земной жизни, при которых он их совершил. Прежде чем произнести свой приговор над проведенной жизнью человека, Бог примет во внимание не только то, что он жил и грешил, но и то, почему именно он грешил. Он не оставит без внимания, взрослый ли человек был грешником, или еще глупый ребенок, бедствия ли жизни заставили его согрешить, или ему послужили во вред блага богатства4). Совершитель всеобщего суда в конце настоящего мира, таким образом, примет во внимание все то, что может и должно облегчить или увеличить вину подсудимых,— и только после
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 909A; p. пер. ч. III, стр. 175—176.
2) Do pauper, amand., orat. I (Mg. XLVI) col. 461A; p. пер. ч. VII, стр. 402.
3)Ἡ τοῦ Θεοῦ δικαία κρίσις διὰ πάντων διεξιέναι, καὶ τῷ βάοει τοῦ ὀφλήματος συνεπιτείνουσαν τὴν ἀνάγκην τῆς ἀπχιτήσεως, καὶ οὐδέ τῶν σμικροτάτων ὑπερορῶσαν. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 101BC; p. пер. ч. IV, стр. 276.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 149D; p. пер. ч. IV, стр. 317—318.
— 484 —
этого Он произнесет Свой справедливый приговор. «Божественный суд, по словам св. отца, следуя неподкупному праведному приговору, сообразно с нашим произволением, уделит каждому, что всякий сам себе приобретет (θεία κρίσις ἀδεκάστω καὶ δικαίῳ ψήφῳ τῆς κατὰ τὴν ἡμετέραν πρόθεσιν ἐπομέην , ἐκείνο νέμειν ἐκάστω , ὅπερ ἄν ἑαυτῳ τις παρεχόμενος τύχη)»1). Мысль о том, что Бог на страшном суде воздаст каждому, соответственно его достоинству, св. Григорий старается уяснить и утвердить в сознании своих читателей, как несомненную, через сравнение. «Как тонные зеркала, говорит он, показывают изображения лиц такими, каковы лица в действительности: у веселого—веселыми, а у угрюмых—угрюмыми, и никто не станет пенять на свойство зеркала, если окажется угрюмым изображение лица, поникшего от унылости; так и праведный суд Божий сообразуется с нашими расположениями, и каково то, что в вашей воле, таким же будет и его воздаяние»1).
По воззрению св. Григория, на последнем суде «человек некоторым образом сам себе будет судьей (τρόπον τινά ἑαυτοῦ δικαστὴν εἶναι τὸν ἀνθρωπον)»3). Каким он будет на земле, таким останется и на том свете 4); Пробудившись от смертного сна, каждый человек вспомнит все, что им было сделано в течение земной жизни, и даст всему этому надлежащую оценку 5). Естественно,
1) Da beatitud.. orat. V (Mg. XLIV) col. 1256B; p. пер. ч. II, стр. 427.
2) ...οὕτω καὶ ἡ δικαία τοῦ Θεοῦ κρίσις ταῖς ἡμετέραις διαθέσεσιν ἐξομοιοῦται, οἷά περ ἄν τὰ παρ’ ἡμῶν ἦ, τοιαῦτα ἡμῖν ἐκ τῶν ἰδίων παρέχουσα (Ibid. (Mg. XLIV) col. 1256C; p. пер. ч. II, стр. 427).—Из данного выражения следует что на всеобщем суде будет произведен суд не столько над делами людей, сколько над их настроением, направлением воли, породившим эти дела.
3) De beatitud., orat. V (Mg. XLIV) col. 1260С; р. пер. ч. II, стр. 433.
4) In psalm., lib. ΙΙ, cap. XVI (Mg. XLIV) col. 608A; p. пер. ч. II, стр. 192.
5) In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 661A; p. пер. ч. VIII,. стр. 65 cp. Ориген, стр. выше 183.
485 —
поэтому, думать, что все люди явятся на страшный суд с полным сознанием как своих заслуг, так и виновности. Это сознание наложит соответствующую печать и на их внешний вид. В то время как внешний вид одних будет отличаться совершенством, которое, по словам св. апостола, будет состоять в славе, нести и проч., внешний вид других отобразит на себе противоположные качества—бесславие, бесчестие и проч.1) В силу последнего, собственно и обнаружится двойство состояний на всеобщем суде. «Не одинаковое состояние,—говорит св. епископ Нисский,—ожидает всех восставших из земного праха (οὐ ἴση κατάστασις πάντας τοὺς ἐκ τοῦ τῆς γῆς χώματος ἀναστάντας ἐκδέξεται), но пойдут, как говорит Писание, сотворшии благая в воскрешение живота, а сотворшии злая в воскрешение суда» (Ио. 5, 29)2).
Вместе с двояким состоянием людей на будущем всеобщем суде произойдет и отделение праведников от грешников. Праведный Судья на всеобщем суде одним, которые во время жизни выбирали то, что справедливо, дарует стояние одесную, а неправым и отверженным определит жребий, соответствующий делам их жизни» 3). Он дарует «овым, как говорит апостол, по терпению дела благаго, славы и чести ищущим, живот вечный, а противляющимся истине, повинующимся же неправде: гнев, скорбь и все, что именуется строгим воздаяннем» (Рим. 2, 7. 8)4). «Приидите, благословеннии Отца Моего,—такой «сладостный глас изречет» Судья всего мира «руконосным и кротким овцам»,—«наследуйте
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 160BC; p. пер. ч. IV, стр. 325—326.
2) De perf. christ, forma (Mg. XLVI) col . 277B ; p . пер. ч. VII , стр. 253.
3) De pauper, amand. orat. II (Mg. XLVI) col . 472 B ; p . пер. ч. VII , стр. 413—414.
4) De beatitud., orat. V (Mg. XLIV) col. 1256BC; p. пер. ч. ІI, стр. 427 cp. De pauper, amand., orat. I (Mg. XLVI) col. 461A; p. пер. ч. VIII, стр. 402.
— 486 —
уготованное вам царствие от сложения мира» (Мф. 25, 34)1), а обратившись к стоящим по левую сторону козлищам, Он скажет: «идите, проклятии» (Мф. 25, 41)2),—вот, заключительные слова того страшного приговора, которым закончит Сын Божий Свой всеобщий суд в конце мира.
4. События, следующие непосредственно после всеобщего суда.
После всеобщего суда, в силу справедливого приговора, какой произнесет на нем Сын Божий, весь человеческий род, как мы сейчас видели, сподобится двоякой участи. В то время как люди, проводившие на земле добродетельную жизнь или очистившие свои души от греховных наростов до момента страшного суда, после данного приговора, удостоятся блаженства на небе, грешники, не успевшие еще к рассматриваемому времени очиститься от всех своих грехов, по приговору Праведного Судьи, и после страшного суда будут продолжать свое очищение через адские мучения, длительность которых, однако, не будет вечной, но лишь соответствующей степени греховности подлежащих им людей3).
Что вопрос о том, будут ли адские мучения для некоторых грешников продолжаться и после всеобщего суда, решается в творениях св. Григория в положительном смысле, это не подлежит сомнению. Этот вопрос мог бы иметь решение отрицательного характера только
1) In Cant, cant., hom. III (Mg. XLIV) col. 808B; p. пер. ч. III, стр. 61; ibid. XV (Mg. XLIV) col. 1113A; p. пер. ч. III, стр. 401; De panper. amand., orat. II (Mg. XLVI) col. 472B; p. пер. ч. VII, стр. 414; De beatitud., orat. V (Mg . XLIV) col. 1256С; p . пер. ч. ΙΙ, стр. 427.
2) De pauper, amand., orat. II (Mg. XLVI) col. 482B; p. пер. ч. VII, стр. 414; De beatitud., orat. V (Mg . XLIV) col . 1256C ; p . пер. ч. II , стр.. 427 cp. In Cant, cant., hom. XV (Mg. XLIV) col. 1113A; p. пер. ч. ІІІ, стр. 401.
3) Cp . стр. выше 381 и дал., 377—380.
— 487
в том случае, если бы можно было утверждать, что всеобщее воскресение, предшествующее страшному суду, является для всех людей переходным моментом из состояния мучения в состояние блаженства. Но этого допустить нельзя, потому что наступление всеобщего воскресения мертвых, по представлению св. отца, как мы уже видели1), не стоит в связи с очищением через адские мучения всех людей. И если бы, действительно, всеобщее воскресение мертвых совпало с окончанием очищения всех людей от греховных скверн, то его нужно было бы считать лишь случайным. Следовательно, нет оснований и для решения рассматриваемого вопроса в отрицательном смысле. Кроме того, святитель Нисский, основываясь на ясном свидетельстве св. апостола Павла: «се тайну вам глаголю, вси бо не успнем: вси же изменимся: вскоре, во мгновении ока, в последней трубе» (1 Кор. 15, 51. 52)2), учил, что в момент всеобщего воскресения мертвых останутся целые поколения людей живых. Разумеется, не будет чем-либо далеким от истины, если мы предположим среди последних наличность не только не свободных от грехов, но и значительно погрязших в сквернах порока. Такие люди, несомненно, не могут наследовать небесного блаженства непосредственно после страшного суда. Так как они не очистят своих душ ни через смерть, ни через адские мучения, в которых очищаются другие грешники до момента всеобщего суда, то, само собой понятно, для них будет полная необходимость в адских мучениях после страшного суда, потому что на праведном суде Божьем не оставляется без наказания даже самый незначительный грех3).
1) Стр. выше 402.
2) De hom. opif., cap. XXII (Mg. XLIV) col. 205D, p. пер. ч. I, стр. 167.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 101BC; p. пер. ч. IV, стр. 276.
— 488 —
Таковы косвенные основания, по которым можно не сомневаться в том, что адские мучения, по воззрению св. Григория, будут продолжаться и после страшного суда, сохраняя за собой свой воспитательно-исправительный характер.
Однако, то утверждение, что св. Григорий Нисский не ограничивает действия загробных мучений на грешников в воспитательно-исправительном смысле временем до всеобщего суда, кроме косвенных оснований, имеет в его творениях и прямую опору. Помимо того, что уже общим характером эсхатологической системы св. отца предполагается, что адские мучения в загробной жизни вообще будут иметь воспитательно-исправительный характер, а также такими они останутся и после страшного суда, на котором будет определена их мера в зависимости от степени греховности каждого человека1), св. епископ Нисский в разных местах своих сочинений учение о действии в указанном смысле адских мучений после всеобщего суда выражает ясно и определенно. Так, говоря о том, что воскресение мертвых, непосредственно предшествующее страшному суду, будет всеобщим, св. Григорий замечает, что хотя и все люди в этот момент воскреснут, однако только добродетельные «тотчас произрастут в совершенный колос» 2), а грешники, хотя и воскреснут, все-таки, «найдут большую строгость у Судьи»3). Последний на всеобщем суде, по выражению святителя Нисского, «грешным и отверженным определит участь, соответствующую делам их жизни (τοῖς σχαιοῖς καὶ ἀπόβλητόις , τὴν κατάλληλον τοῖς βεβιωμένοις ἀπαχληροῦντα ψῆφον)»4).
1) Д. Тихомиров, op. cit., стр. 375 vgl. Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 263.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 157B; p. пер. ч. IV, стр. 324.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 157C; p. пер. ч. IV, стр. 324 vgl. Dr. Fr. Hilt., op. cit., S. 263—264.
4) De pauper, amand., orat. II (Mg. XLVI) col. 472B; p. пер. ч. VII, стр. 414.
— 489
В нем будет состоять та строгость Судьи, которая ждет грешников на всеобщем суде, и какова будет участь «грешников и отверженных» после данного суда, это св. отец уясняет в других местах своих творений. Приведя слова из послания св. апостола Павла: «в откровении Господа Иисуса с небесе, со ангелы силы Своея, во огни пламенне дающего отмщение неведущим Бога и непослушающим благовествования Господа нашего Иисуса Христа» (2 Солун. 1, 7. 8), он замечает: «смотри, как непослушающие, по словам апостола, понесут наказание» вечную погибель (ὀλεθρόν αἰώνιον)1), когда Он придет прославиться в святых Своих» 2). Что же касается, наконец, вопроса, в чем будет состоять «вечная погибель», которой подвергнутся грешники после второго пришествия Христова, то его св. епископ Нисский решает совершенно ясно, когда он говорит, что Праведный Судья на всеобщем суде, назначая награду каждому человеку, предоставит «человеконенавистникам и злым огненное мучение» 3).
Таким образом, не только в виду косвенных оснований, но также и в силу прямых свидетельств, находящихся в сочинениях св. Григория, адские мучения, по мнению последнего, будут иметь место и после страшного суда.
Правда, по учению св. Григория Нисского, и после всеобщего суда адские мучения, вследствие своего воспитательно-исправительного характера, не будут продолжаться вечно. Так как адский αἰώνιον πῦρ будет постепенно истреблять
1) Αἰώνιος в данном месте, как и в других местах сочинений св. Григория, по принятому нами пониманию (стр. выше 386—388), указывает лишь на значительную продолжительность.
2) Adv. Arium et Sabell. 6 (Mg. XLV) col . 1289C ; p . пер. ч. VII , стр. 10.
3) De pauper, amand., orat. I (Mg. XLVI) col. 461A; p. пер. ч. VII стр. 402.
— 490 —
греховные наросты из душ умерших грешников, то, в конце концов, после долгих периодов времени (μακροῖς περιόδοις), он возвратит их в состояние первобытной благодатной красоты 1). Ясно, что тогда прекратятся и адские мучения. Поэтому, по воззрению св. отца, наступит некогда такое время, когда окажутся блаженными не только праведники, но и грешники. Впрочем, блаженными κατ ’ ἐξοχὴν он называет только тех из людей, «в ком немедленно, едва только они произрастут через воскресение, начинает сиять совершенная красота колосьев» 2).
Итак, по учению св. Григория Нисского, и после всеобщего суда адские мучения будут продолжаться для тех из людей, которые будут иметь нужду в очищении своих душ от грехов, но они тогда не будут вечными в абсолютном смысле этого слова, а лишь временными, хотя для тяжких грешников и очень продолжительными3).
5. Этическое значение учения о всеобщем суде.
Хотя, по учению св. Григория, адские мучения и после всеобщего суда будут иметь временный характер, однако это нисколько не мешает св. отцу придавать учению о страшном суде громадное этическое значение. То или иное представление человека о своей участи после страшного суда, по мнению святителя Нисского, невольно должно вселять в его душу страх, сопровождающийся для нее благодетельными последствиями. Все они сводятся, с одной стороны к тому, что люди, имея в виду следствия всеобщего суда, предохраняют свои души от пороков, а с другой,—украшают их поступками добродетели.
Раскрывая первую благодетельную сторону учения о будущем всеобщем суде, св. Григорий Нисский обращает
1) De an . et res . ( Mg . XLVI) col . 157 D ; p . пер. ч. IV , стр. 325.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 157D—160A; p. пер. ч. IV,' стр. 325.
3) Cp. En. Сильвестр, op. cit., стр. 140.
— 491
внимание на участь, которая на нем ожидает грешников. По мнению св. отца, как бы ни были незначительны грехи человека и ожидающие его душу после всеобщего суда адские мучения, тем не менее они будут вызывать в ней естественное чувство страха за будущую участь. Только «такая душа,—говорит св. отец,—которая не чувствует за собой вины, за которую она должна предстать, на суд не боится геенны, не трепещет суда. Она пребывает без страха и трепета, потому что ее чистая совесть не возбуждает в ней страха 1). Если же душа запятнана даже незначительными грехами и, значит, подлежит соответствующим мучениям в аду после всеобщего суда, то она, естественно, испытывает страх и печаль, а это побуждает ее призадуматься над своей греховностью, предохранять и очищать себя от нее. Поэтому, святитель Нисский вполне справедливо замечает, что «будущий суд для слабых людей—угроза и увеличение печалей, дабы страхом болезненного воздаяния побудить нас к избежанию зла»2). Таким образом, учение о всеобщем суде, по мнению св. Григория, представляя печальную участь грешников после этого суда, тем самым для многих из последних служит к спасению, побуждая их беречься зла» 3).
Что касается другой благодетельной стороны учения о будущем всеобщем суде, то ее св. Григорий Нисский раскрывает, имея в виду ту награду, которая ожидает праведников после этого суда. По воззрению св. отца, если адские мучения, определяемые грешникам на страшном суде, предохраняют человека от грехов, то небе-
1) In funer. Pulch. orat. (Mg. XLVI) col. 869C; p. пер. ч. VIII, стр 394—395.
2) Ἡ μετὰ ταῦτα κρίσις... ο τοῖς μὲν χαυνοτέροις ἀπειλὴ καὶ σκυθρωπῶν ἐστίν ἐπανόρθωσις, ὡς ἄν φόβῳ τῆς τῶν ἀλγεινών ἀντιδόσεως πρὸς τὴν φυγὴν τῆς κακίας σωφρονισθείημεν. Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 47); p. пер.. H. IV, стр. 31—32 cp. Ориген, стр. выше 153.
3) In Cant. cant. hom. I(Mg. XLIV) col. 765B; p. пер. ч ІІІ, стр. 12.
— 492
сные награды, ожидающие праведников после данного суда, служат для последних побуждением к совершению добродетельных поступков. «Иные, — пишет св. епископ Нисский,—преуспевают в добродетели в надежде па награду, даруемую живущим благочестиво, стремясь к доброму не из любви, но в ожидании воздаяния»1). Мысль об этическом значении учения о всеобщем суде, и частности, учения о будущем воздаянии праведникам, раскрывается и в других местах сочинений св. Григория. Говоря о том, что для достижения участия в лике праведных, кроме крещения, необходимо еще «вести борьбу с плотью и диаволом и мужественно противостоять всем стремлениям лукавых духов», святитель Нисский замечает, что лучшим наставлением для нас в данном случае служат слова Самого Господа, которые Он произнесет на будущем всеобщем суде. «Что Он говорит? — спрашивает св. отец. Приидите, благословеннии Отца Моею, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира (Мф. 25, 34). За что? — Не за то, что облеклись одеждой нетления, но за то, что совершали дела любви, — и тотчас следует список накормленных, напоенных и одетых»2). Еще яснее ту же самую свою мысль, но только с большей решительностью св. епископ Нисский выражает, когда он в одном из своих поучений, представив картину будущего всеобщего суда, прибавляет: «это строгое судилище живо изображено словом не для чего-либо другого, как для того, чтобы научить нас пользе благотворительности»3), которая является одной из величайших добродетелей.
_________
1) Ibid . ( Mg . VLIV) col . 765B ; p . пер. ч. ІІІ, стр. 12—13.
2) De bapt. (Mg. XLVI) col. 420D; p, пер. ч. VII, стр. 449.
3) De pauper, amand., orat. I (Mg. XLVI) col. 461A; p. пер. ч. II, стр. 402—403.
493
ГЛАВА IV.
Учение о конечной судьбе мира.
Вместе с всеобщим воскресением мертвых и страшным судом св. Григорий Нисский допускал также и будущее усовершенне мира. По его мнению, настоящий мир в известное время должен будет прекратить свое существование, обновиться и, наконец, открыть собой, таким образом, наступление «царства славы».
1. Время кончины мира и ее возможность.
Кончина настоящего мира, по представлению св. Григория, находится в тесной временной связи со вторым пришествием Христа на землю. Этот последний акт, по словам св. отца, будет иметь место в мировой истории именно в конце настоящего мира и начале будущего1). Определяя более точно время кончины настоящего мира, святитель Нисский полагает, что оно наступит тогда, когда прекратится размножение человеческого рода настоящим, обычным его способом, который ни в каком случае не может считаться естественным и вполне приличным для человека. «Тот,— пишет св. Григорий,—Кто видит будущее одинаково с настоящим, вследствие этого предусмотрел и необходимое для устройства людей время, чтобы появлению определенного числа душ соответствовала и продолжительность времени, — и тогда оста-
1) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col. 504C; p. пер. ч. V, стр. 306.
— 494 —
новится текучее движение времени, когда через него прекратится распространение человеческого рода. А когда прекратится этот способ рождения людей, то с окончанием его прекратится и время (τελεσθείσης δὲ τῆς τῶν ἀνθρώπων γενέσεως , τῷ τελει ταύτης συγκαταλῆξαι τὸν χρόνον)»1) Если же некогда наступит прекращение времени, то, естественно, полагал святитель Нисский, должна будет наступить и кончина настоящего временного мира 2).
Что касается вопроса, действительно ли настоящий мир, в конце концов, должен будет прекратить свое существование, то он, по мнению св. Григория, несомненно, может быть решен только в положительном смысле. И в самом деле, если не будет времени и необходимых временных процессов жизни, одним словом, если наступит, на самом деле, непоколебимая устойчивость, то ясно, что все временное бытие прекратится и исчезнет. «Мы научены, — пишет св. отец, — что небо и земля существовали не от вечности и не вечно будут существовать, так что отсюда ясно, что все существующее с известного начала получило свое бытие и с некоторого предела совершенно перестанет существовать» 3). По представлению святителя Нисского, возможность кончины мира стоит в непосредственной связи с фактом его начала. Насколько несомненна и обязательна для нашего разума истина начала мира, настолько же принудительно обязательна для него и истина его кончины. «Если кто,—говорит св. Григории,—взирая на настоящее течение мира, совершающееся в известной последова-
1) De hom. opif., cap. XXII (Mg. XLIV) col. 205C; p. пер. ч. I, стр. 166.
2) In psalm., lib. II, cap. V (Mg. XLIV) col. 504D—505A; p. пер. ч. II, стр. 79. 80.
3) Μεμαθήκαμεν γὰρ ὅτι οὔτε ἐξ ἀϊδίου ἦν ὁ οὐρανὸς ἡ γῆ, οὔτε εἰς τὸ ἀϊδιον ἔσται ὡς ἐκ τοῦτο δήλον εἶναι, ὅτι καὶ ἀπὸ ἀρχῆς τινος τὰ ὄντα ἤρξατο, καὶ εἰς τι πάντως καταλήξει πέρας. Contra Eunom., lib. VIII (Mg. ХLV) col. 793D; p. пер. ч. VI, стр. 131.
— 495 —
тельности, в которой замечается временное продолжение, скажет, что указанная остановка движущегося невозможна, тот, очевидно, не верит, что небо и земля в начале созданы Богом. Ведь кто приписывает движению начало, тот обязательно не усомнится и относительно его конца, а кто не допускает конца, тот не принимает и начала»1). Но что касается вопроса, каким образом произойдет кончина настоящего мира, то «это, по словам св. отца, должно быть изъято из предметов нашего любопытства (ἑξαιρετέον τῆς πολυπραγμοσύνης)»2). По воззрению св. Григория, конец настоящего мира так же непостижим, как непостижимо и его начало. Однако, как по отношению к творению, оставя в стороне исследование непостижимого, мы принимаем верой совершение видимого от неявляемых (Евр. 11, 3), хотя наш разум представляет нам большое разнообразие поводов к сомнению в том во что мы верим, так той же неподлежащей сомнению верой мы должны принять и догмат о кончине мира, не входя в рассудочные исследования того, как она произойдет3).
2. Обновление мира.
Трактуя о будущей кончине настоящего мира, св. Григорий Нисский не разумел под последней уничтожения мира, а только прекращение нынешнего его образа и порядка бытия. Другими словами, св. отец, говоря о кончине настоящего мира, имел в виду его будущее изменение в смысле обновления. «Когда прекратится, говорит он, этот способ рождения людей, то с окончанием его пре
1) Ὅ γὰρ ἀρχὴν τῇ κινήσει διδοὺς, οὐκ ἀμφιβάλλει πάντως καὶ περὶ τέλους καὶ ὁ τὸ τέλος μὴ προσδεχόμενος, οὐδέ τὴν ἀρχὴν παρεδέξατο. De hom. opif., cap. XXIII (Mg. XLIV) col. 209B; p. пер. ч. I, стр. 170.
2) Ibid. (Mg. XLIV) col. 209C; p. пер. ч. 1, стр. 170.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 209BC; p. пер. ч. I, стр. 170—171.
— 496 —
кратится и время и, таким образом, совершится обновление вселенной (καὶ οὕτω τῆν τοῦ παντὀς ἀναστοιχείωσιν γενέσθαι)»1)
Само собой понятно, что мысль о преобразовании мира с трудом укладывается в рамки обычного человеческого разумения. Это сознавал, по-видимому, и св. Григорий, а потому он и старался данное свое учение аргументировать. По его мнению, не может быть никакого сомнения в факте будущего преобразования мира по той причине, что это всецело дело рук Божьих. И действительно, если Бог мог создать мир, то, бесспорно, Он в состоянии будет и сообщить ему те качества, которые будут угодны Его желанию. «Мы, — пишет святитель Нисский, — слыша, что говорит Писание, уверовали, что все от Бога, о том же, каково оно было в Боге, как о превышающем наш разум, не смеем любопытствовать, будучи уверены в том, что все возможно для всемогущества Божия: возможно и несуществующее привести в бытие и существующему, по произволению, сообщить качества. По той же причине, как представляем себе силу Божьей воли достаточной для создания из ничего существ, так и преобразование созданного, возводя к той же силе, не считаем чем-либо невероятным (οὕτω καὶ τὴν ἀναστνιχείωσαν τῶν συνεστώτων εἰς τὴν αὐτὴν ἀνάγοντες δύναμιν εἰς οὐδὲν ἐξω τοῦ εἰκότος τὴν πίστιν παραληψὀμεθα)»2). Кроме того, св. отец полагал, что будущее обновление мира не может возбуждать к себе какого-либо недоверия по той причине, что о нем мы находим прямые свидетельства в Св. Писании 3).
Что касается вопроса, в чем будет состоять данное преобразование мира, то решение его в полной мере
1) Ibid., cap. XXII (Mg. ХLIV) col. 205С; р. пер. ч. I, стр. 162 ср. Ориген, стр. выше 176.
2) Ibid., сар. ХХIII (Mg. ХLIV) col. 212ВС; р.пер. ч. 1, стр. 172—173.
3) Ibid., cap. XXIV (Mg. ХLIV) col. 213С; р. пер. ч. I, стр. 175.—Вероятно, в данном случае св. Григорий имеет в виду такие места Св. Писания, как, например, Пс. 101, 26. 27; Мф. 24, 6. 14. 32. 33; Мк. 13, 7; Лк. 21, 9; 2 Петр, 3, 7. 10. 12. 13; Рим. 8, 19—23; 1 Кор. 7, 31; Ап. 21, 1 и друг.
— 497
св. Григорий считал невозможным 1). Правда, это нисколько не препятствовало ему высказывать относительное представление о будущем обновленном мире. По его мнению, мир после своего обновления будет отличаться от настоящего века тем, что он совершенно освободится от постоянного течения времен, так как будет представлять собой только один необъятный день, который будет носить название «восьмого» дня. «Когда, — говорит святитель Нисский,—прекратится и это быстро движущееся и преходящее время..., тогда, несомненно, окончится и эта седмица, измеряющая время, и ее место заступит восьмой день (ἡ ὀγδόη), т.-е. последующий век, который весь представляет собой один день (ὁ ἐφεξῆς αἰών , ὅλος μία ἡμέρα γενόμενος), как говорит некто из пророков, назвав ожидаемую жизнь днем великим (Иоил. 2, 11)»2). «Согласно с верой, — пишет св. отец в другом своем сочинении,—следующая за этой жизнь является какой-то постоянной и неразрушимой, неизменяемой ни рождением, ни тлением»3).
3. Открытие царства славы.
С обновлением всего настоящего мира, по мнению св. Григория Нисского, наступит возвращение в первобытное состояние не только всех разумно-свободных существ, но равным образом и всей твари. Тогда восстановится та стройная гармония, которая господствовала во всем: творении Божьем, прежде чем зло и порок ее разрушили. Когда восстановится эта гармония, тогда, по представлению святителя Нисского, откроется то «царство славы», которое
1) De hom. opif., XXIII (Mg. XLIV) col. 209BC; p. пер. ч. І, стр. 175.
2) In psalm., lib. II, cap. V (Mg. XLIV) col. 504D—505A; p. пер. 4. II, стр. 79. 79—80.
3) ἐστῶσά τις καὶ ἀδιάλυτος ἡ μετὰ ταῦτα ζωὴ δι’ ἀκολουθίας προφαίνεται, οὔτε ὑπὸ γενέσεως, οὔτε ὐπὸ φθορᾶς ἀλλοιουμένη. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 128C; p. пер. ч. IV, стр. 299.
— 498 —
в настоящий момент мировой истории является предметом всеобщего ожидания.
Св. Григорий не представил нам полной картины этого всеми ожидаемого «царства славы». В его сочинениях мы находим только краткие и отрывочные указания на некоторые отдельные его моменты. Так, по мысли святителя Нисского, со времени открытия «царства славы» наступит взаимное объединение всей твари. Тогда, говорит он, «составится одно собрание всей твари из горних и дольних» стран1). Это взаимное объединение будет простираться как на все существующее вообще, так особенно на разумно-свободные существа, в которых покоится истинная цель мира. Тогда составится из последних одно общее собрание, подобное тому, какое они представляли собой до райского грехопадения. «Было некогда, пишет св. отец,—что разумная природа представляла собой одно собрание, которое взирало на одного Главу собрания и через исполнение заповеди приводило себя в согласие с той стройностью собрания, какую его Начальник устанавливал Своим движением. Но после того, как божественное согласие собрания расстроил вторгшийся грех и, подпивши под ноги первых людей, составлявших вместе с ангельскими силами одно собрание, нечто, сделавшее их склонными к обольщению, привел их к падению, и человек лишился общения с ангелами, потому что через падение прекратилось их единомыслие,—падшему стало потребно много трудов и пота, чтобы, поборов и освободившись от простершего на него свою власть во время падения, снова восстать, получив в качестве награды за победу над противником право на участие в бо-
1) Εἰς μίαν χοροστασίαν συναρμοσθῇ πᾶσα ἡ κτίσις, τῶν τε ὑπερκειμένων, τῶν τε ὑποβεβηκότων ἀπάντων. In psalm., lib. I, cap. IX (Mg. ХLIV) col. 485C; p. пер. ч. II, стр. 60.
499 —
жественном собрании»1). Тогда,—полагает святитель Нисский,—«соединятся вместе ангельская и наша природы» и, таким образом, «из этого соединения составится божественный полк (καὶ ἀναλαβοῦσα ἑαυτὴν ἐκ τῆς συγχύσεως ἡ θεία παράταξις)»2). В конце концов, в этом собрании примет участие и сам «изобретатель зла (ὁ τῆς κακίας εὐρετὴς)»3).
По воззрению св. Григория, никто из участников этого общего собрания никогда уже не омрачит своего состояния грехом4). Поэтому, все существа с открытием «царства славы» будут сиять «боговидной красотой», все они будут наслаждаться «одной благодатью» и, наконец, все будут разделять взаимную «одну и ту же радость». «По совершенном устранении зла из всех существ,— пишет св. отец, — во всех снова воссияет боговидная красота (τὸ θεοειδὲς κάλλος), по образу которой мы были созданы в начале. А эта красота представляет собой свет, чистоту, нетление, жизнь, истину и тому подобное. Ведь, неприлично им не быть и не казаться чадами дня и света. Что же касается света, чистоты и нетления, то в них не произойдет никакого изменения или различия в отношении к однородному. Напротив, для всех воссияет одна благодать (μία χάρις), когда они, ставши сынами света, просветятся, яко солнце (Мф. 13, 43), по неложному слову Господа. Что все, согласно обетованию Бога Слова, достигнут одинакового совершенства, — это обозначает то же самое, что во всех явится одна и та же самая благодать, так что каждый будет разделять с ближним одну и
1) Τούτου χάριν πολλῶν ἱδρώτων χρεία τῷ πεπτωκότι καὶ πόνων , ἵνα τὸν ἐπικείμενον αὐτοῦ τῷ πτώματι καταγωνισάμενός τε καὶ ἀνατρέψας , πάλιν ἀνορθωθῇ , γέρας τῆς κατὰ τοῦ παλαίοντος νίκης τὴν θείαν χοροστασίαν δεξάμενος . Ibid ., lib . II , cap . VI ( Mg . XLIV) col . 508ВС; p . пер. ч. ΙΙ, стр. 83.
2) Ibid., lib. I cap. IX (Mg. XLIX) col . 485С; p . пер. ч. II, стр. 60.
3) Orat . cat ., cap . 26 (Srawley , op . cit ., p . 101); p . пер. ч. IV , стр. 70.—Это ясно видно из сказанного ниже об участии всей твари в прославлении Бога.
4) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 133CD; p. пер. ч. IV, стр. 304.
— 500
ту же радость ( ὡς τῆν αὐτὴν εὐφροσύνην ἐκαστον τῷ πἑλας ἀντιχαρίζεσθαι). Вследствие этого всякий сам будет радоваться и, видя красоту другого, будет сообщать свою радость последнему, потому что уже никакое зло не изменит душевного облика в безобразный вид (μηδεμιᾶς κακίας μεταμορφούσης τὸ εἶδος εἰς εἰδεχθῆ χαρακτῆρα)»1). Таким образом, вся разумно-свободная тварь после обновления настоящего мира объединится на одном общем празднике. «Когда наша природа,—так полагает св. Григорий,—снова воздвигнется в кущу» и будет уничтожено всякое растление существ, произведенное пороком, тогда для собравшихся вокруг Бога откроется общий праздник, во время которого всех ожидает одно и то же веселие, потому что никакое различие не будет более разделять разумной природы, участвующей в одинаковых благах»2).
Во время этого общемирового праздника, по представлению св. Григория Нисского, активным проявлением мысли и чувства всей разумно-свободной твари будет слово благодарения Спасителю за уничтожение зла и за восстановление всех в первобытное состояние. Тогда все разумно-свободные существа возгласят песнь, как свидетельствует великий апостол: «всяк язык исповесть небесных, и земных и преисподних, яко Господь Иисус Христос во славу Бога Отца» (Филип. 2, 11). По совершении этого, звук кимвалов, издаваемый общим собранием, провозгласит победную песнь, а после окончательного уничтожения и обращения врага в небытие, всяким дыханием беспрепятственно будет совершаема достодолжная хвала Богу»3).
1) De mortuis (Mg. XLVI) col. 536BC; p. пер. ч. VII, стр. 530—531 ср. Ориген, стр. выше 172.
2) ... τότε κοινὴ συστήσεται ἡ περὶ τὸν θεὸν ἐορτή τοῖς διὰ τῆς ἀναστάσεως πυκασθεῖαιν, ὡς μίαν τε καὶ τὴν αὐτὴν προκεῖσθαι πᾶσι τῆν εὐφροσύνην μηκέτι διαφορᾶς τινος τῆς τῶν ἴσων μετουσίας, τῆν λογικὴν φύσιν διατεμνοὑσις... De an. et res. (Mg. XLVI) col. 133CD; p. пер. ч. IV, стр. 304.
3) In psalm., lib. I, cap. IX (Mg. XLIV) col. 685BC; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 60 cp. In Chr. resurr., orat. III (Mg. XLVI) col. 653BC; p. пер. ч. VIII, стр. 57.
— 501 —
Такое благодарение Богу всей разумно-свободной твари вполне понятно и с обыденной, человеческой точки зрения. Эта всемирная хвала Богу, по воззрению св. Григория, подобна нашей обычной благодарности, какую мы выражаем кому-либо за оказанное им нам то или иное благодеяние. Данную свою мысль святитель Нисский иллюстрирует таким сравнением. «Как в настоящее время, говорит он, кому во время лечения делают нарезы и прижигания, те, мучимые от резания болью, негодуют на врачей, но, если они от этого выздоравливают и болезненное ощущение от прижигания проходит, то приносят благодарность совершившим над ними это врачевание;—томно таким же образом, когда по истечения долгого времени будет истреблено из природы зло, в настоящее время к ней примешавшееся и сроднившееся с ней», тогда раздастся «единогласное благодарение Богу со стороны всей твари, всех претерпевших мучение при очищении и не имевших от начала нужды в очищении»1)
Это благодарение и прославление Бога всей тварью составит момент открытия «царства славы». Оно вместе с ничем не помрачаемым блаженством будет характеристическим признаком и его вечного существования.
1) Κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον ταῖς μακραῖς περιόδοις ἐξαιρεθίντος τοῦ κακοῦ τῆς φύσεως , τοῦ νῦν αὐτῇ καταμιχθέντος καὶ συμφυέντος ... ὁμόφωνος ἡ εὐχαριστία παρὰ πάσης ἔσται τῆς κτίσεως καὶ τῶν ἐν τῇ καθάρσει κεκολασμένων καὶ τῶν μηδὲ τὴν ἀρχὴν ἐπιδεηθέντων καθάρσεως , Orat . cat ., cap . 26 (Srawley , op . cit ., p . 100) p . пер. ч. IV , стр. 69—70.
502
ГЛАВА V.
Учение о всеобщем апокатастасисе.
1. Сущность учения о всеобщем апокатастасисе.
Заключительным аккордом богословско-философского круга мыслей св. Григория Нисского, как и Оригена1), является его учение о всеобщем апокатастасисе. Это учение св. отца стоит в тесной связи с его воззрением на адские мучения, не как только на наказание для грешников, но и как на средство уврачевания их от грехов. Само собой понятно, если адские мучения имеют в виду очищение душ от греховных наростов, то рано или поздно они достигнут этой цели. Грешники, отсылаемые после своей смерти в ад для очищения от грехов, наконец, очистятся от последних. При этом нужно заметить, что в адских мучениях достигнут очищения от греховных скверн не отдельные личности, не какой-либо определенный класс или часть человечества, а решительно все люди, имеющие нужду в очищении. Различие будет состоять только в том, что одни из людей в адских мучениях достигнут очищения раньше, а другие позже. Если принять во внимание, что часть человечества, по мнению святителя Нисского, сразу после смерти окажется чистой от порока, а умершие в младенческом возрасте в течение своей земной
1) Стр. выше 184.
503 —
жизни не совершат ничего ни доброго, ни злого, то, в конце концов, путем очистительных мучений в аду будет достигнута та цель, которую имеет в виду вся история домостроительства нашего спасения. «А цель у Бога,—пишет св. Григорий,—одна: когда людьми, одним после другого, будет достигнута полнота нашей природы и когда одни сразу после этой жизни окажутся чистыми от порока, другие в надлежащие после этого времена испытают врачевание огня, а иные окажутся такими, которые во время настоящей жизни не совершают ни добра, ни зла, — то всех ожидает участие в благах, в Нем сущих, которых, как говорит Писание, ни око не видит, ни слух не слышит и которые бывают недоступны для мысли (1 Кор. 2, 9). А это, по моему разумению,—говорит святитель Нисский устами Макрины,—не что иное обозначает, как пребывание в самом Боге, потому что благо, превосходящее слух, око и сердце, будет выше всего» 1), а высочайшее благо — Бог. Наступит, таким образом, по воззрению св. отца, время, когда все человечество возвратится в то состояние, в каком оно находилось в лице своих прародителей в раю. Эту мысль св. Григорий выражает во многих местах своих творений, но особенно ясно и определенно в следующем. Сказавши о том, что одни из людей «уже здесь, в течение жизни в теле, преуспели в духовной жизни, в бесстрастии», он утверждает, что «остальные путем исправительного воспитания в последующей жизни, освободившись в очистительном огне, в силу добровольного стремления к тому, что благо, от пристрастия к вещественному, возвратятся к благодати, предназначенной в удел нашей природе с самого начала» 2). Кроме людей, святитель Нисский, как увидим
1) De an . et res . (Mg. XLVI) col. 152A; p. пер. ч. IV, стр. 318.
2) Τῶν λοιπών διὰ τῆς εἰς ὕστερον ἀγωγῆς ἐν τῷ καθαρσίῳ πυρὶ ἀποβαλόντων τὴν πρὸς τὴν ὕλην προσπάθειαν, καὶ πρὸς τὴν ἐξ ἀρχῆς ἀποκληρωθεῖσαν τῇ φύσει χάριν, διὰ τῆς τῶν ἀγαθῶν ἐπιθυμίας ἐκουσίως ἐπανιόντων. De mortuis (Mg. XLVI) col. 525C; p. пер. ч. VIII, стр. 519.
— 504 —
ниже, допускал также возвращение через адские мучения в первобытное состояние и злых духов. Одним словом, св. отец полагал, что «в конце концов, после долгих вековых периодов, порок исчезнет и ничего не останется вне добра (τῆς κακίας ποτά ταῖς μακραῖς τῶν αἰώνων περιόδοις ἀφανισθείσης , οὐδὲν ἔξω τοῦ ἀγαθού καταλειφθὴσεται)»1), что, «по совершенном устранении зла из всех существ, во всех снова воссияет богоподобная красота, по образу которой мы были созданы в начале (ἐν τὸ θεοειδὲς κάλλος ἐπαστράψῃ τοῖς πᾶσιν , ᾧ κατ ’ ἀρχὰς ἑμορφώθημεν)»2), что «в том веке всякое дыхание восхвалит Господа (πᾶσα πνοὴ αἰνέοει τὸν Κύρων)» (Сир. 15, 6) и будет пребывать в общении с Богом, так как «тогда не будет грешника, потому что не будете и греха (ἁμαρτωλὸς τότε οὐκ ἔσται τῆς ἀμαρτίας οὐκ οὐσης)»3) То положение, в котором окажется человечество после своего всецелого освобождения от зла, как бы совершенно сольется с его первобытным состоянием. Оно окажется как бы непосредственным продолжением последнего. Когда сама природа зла, обратившись в ничто, прекратит свое существование, тогда божественное добро, неподлежащее уничтожению, распространит свое действие на всякую разумную природу. Когда всякое зло, подобно выпаркам, будет устранено через очистительный огонь из всех разумно свободных тварей, тогда последние снова возвратятся в то состояние, в котором они были сотворены, когда еще не было в мире зла 4). Таким обра-
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 72B; p. пер. ч. IV, стр. 250.
2) De mortuis (Mg. XLVI) col. 536B; p. пер. ч. VII, стр. 530—531.
3) In psalm., lib. I, cap. IX (Mg. XLIV) col. 494D; p. пер. ч. II, стр. 59—Многие другие выражения св. Григория, заключающие в себе мысль о всеобщем апокатастасисе, приводятся ниже, по другим поводам, например, в опровержение Винченци.
4) Ὅτι ποτὲ πρὸς τὸ μὴ ὂν ἡ τοῦ κακοῦ φύσις μεταχωρήσει, παντελώς ἐξαφανισθεῖσα τοῦ ὄντος, καὶ πᾶσαν λογικὴν φύσιν ἡ θεία τε καὶ ἀκήρατος ἀγαθότης ἐν ἐαυτῇ περιέξει, μηδενὸς τῶν παρὰ τοῦ Θεοῦ γεγονότων τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἀποπίπτοντος, ὅταν πάσης τῆς ἐμμιχθείσὴς τοῖς οὔσι κακίας οἴόν τινος ὕλης κιβδὴλου, διὰ τῆς τοῦ καθαρσίου πυρὸς χωνείας ἀναλυθείσης, τοιοῦτον γένηται πᾶν, ὁ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἔσχε τὴν γένεσιν, οἴον ἐξ ἀρχῆς ἡν, ὅτε οὐπω τὴν κακίαν ἐδέξατο. In illud, tunc ipse filius subjiciet., etc., orat. (Mg. XLIV) col. 1313A.
— 505
зом, по учению св. Григория Нисского, некогда λογική κτίσις через освобождение от зла возвратится в свое первобытное состояние блаженства.
Возникает вопрос, от какого зла произойдет освобождение разумной твари в акте восстановления ее в первобытное состояние. Один исследователь, допуская в собственном смысле устранение из природы разумных тварей через данный акт только физического зла, называл рассматриваемое учение св. Григория «слабым местом ( die wunde Stelle)»1) в общем круге его богословско-философских воззрений. Однако, Фр. Хильт 2) полагает, что некогда, по мнению святителя Нисского, люди освободятся не от одних только физических недостатков. И в самом деле, ведь, не физическое зло служит для человека главным препятствием при его вступлении на небо, а нравственное. Поэтому, в акте восстановления людей в первобытное состояние произойдет очищение последних не только от физического зла, но — и это преимущественно—от нравственного. Как через искупление, совершенное Христом, происходит освобождение человечества не от физических его недостатков, но от греха, произведшего их, так и через акт восстановления людей в первобытное состояние произойдет очищение разумных тварей от морального зла, имеющего своим источником ἀβουλία или κακοβουλία . Наличность данной мысли в творениях св. Григория не является чем-либо странным, потому что такая мысль implicite заключается в учении св. отца об очищении на том свете грешных душ от грехов через адские мучения. Далее, святитель Нисский для обозначения того зла, от которого человеческий род окончательно освободится через акт
1) Dr. Ad. Krampf, Der Urzustand des Menschen nach der hehre des hl. Gregor von Nyssa (Würzburg 1889), S. 47, Anm. 5 cp. Dr. G. Herrmann, Gregorii Nysseni sententiae de salute adipiscenda (Halae 1875), p. 20,—Мнениеповзятомувопросупроф. Винченци будет приведено ниже.
2) Ор. cit., S. 280.
— 506 —
восстановления людей в первобытное состояние, употребляет, как это мы уже неоднократно и раньше видели, термины— ἡ κακία или τὸ κακόν , обнимающие собой все роды зла, в частности, и грех, как моральное зло. Потом, св. отец предполагает истребление зла — τῆς κακίας в злых духах. Само собой понятно, так как последние, как духовные существа, свободны от физических следствий греха, то св. епископ Нисский в данном случае мог иметь в виду только моральное зло1). Наконец, если бы акт восстановления людей в первобытное состояние простирал свое действие лишь на физическое зло и если, бы только это последнее, как полагает один исследователь2), препятствовало человеку в деле достижения им небесного блаженства, тогда апокатастасис в самый момент всеобщего воскресения мертвых, имеющего своей целью очищение человечества от физических следствий греха, достиг бы своего завершения. Между тем, как мы уже видели 3), по учению св. Григория, еще в течение долгого времени и после всеобщего воскресения мертвых многие из грешных людей продолжают свое очищение от грехов в аду. Таким образом, несомненно, что святитель Нисский, утверждая восстановление некогда всех людей в первобытное состояние их блаженства, в данном акте мировой истории предполагал, главным образом, освобождение всей разумной твари от морального зла, а потому решительно нет никаких оснований считать данное учение св. отца «слабым местом» в его богословско-философской доктрине.
Итак, сущность учения св. Григория о всеобщем апокатастасисе сводится к тому, что некогда вся разумная тварь, освободившись не только от физических след-
1) Ibid., ор. cit, S. 280, Anm. 3.
2) Dr. G. Herrntann, op. cit., 20 ff.
3) Стр. выше 486—489.
— 507 —
ствий греха, но и от морального зла, снова возвратится в то состояние, в каком ова вышла из рук своего Творца.
2. Доказательства учения о всеобщем апокатастасисе.
Утверждая восстановление всей разумно свободной твари в ля первобытное состояние, св. Григорий Нисский старался дать этому своему учению достаточное обоснование. И действительно, в своих творениях он останавливается на его обосновании весьма часто и подробно. Все основания, которыми св. отец желает утвердить свое учение о всеобщем апокатастасисе, могут быть подразделены на несколько групп.
А. Метафизические основания учения о всеобщем апокатастасисе.
Прежде всего, св. Григорий Нисский, подобно Оригену1), мысль о возвращении всех людей в их первобытное состояние, другими словами, об уничтожении, в конце концов, зла обосновывает путем своего особого философского взгляда на природу добра и зла и на взаимное отношение последних между собой. По представлению святителя Нисского, только одно добро имеет самостоятельное и ни от него независимое бытие, потому что оно ни от него не произошло, но самобытно существует от вечности в Боге. Что же касается зла, то оно, по его мнению, вопреки гностически-манихейским воззрениям, не обладает самостоятельной субстанцией, а следовательно, и бытием, потому что оно, будучи делом свободной воли человека, представляет собой временное явление 2). «Зло
1) Стр. выше 184—185.
2) Dr. loh. В. Aufhauser, ор. cit ., S . 2. 20.71. 76; Dr. Fr. Diekamp, op. cit., S. 207. 37. 208; Dt. W. Votiert, Die Lehre Gregors v. Nyssa v. Guten und Bösen und v. der schliesslichen Ueberwindung des Bösen (Leipzig 1897), S. 40.
508 —
по словам св. отца, есть не что иное, как порок. Всякий же порок не есть что-либо Само по себе существующее и кажущееся самостоятельным, но он характеризуется, как недостаток добра. Ведь, вне свободного произволения нет места для самобытного зла»1). По воззрению св. Григория, добро существует, как явление нормальное, исконное, между тем как зло возникает только тогда, когда исчезает добро. Поэтому, зло не имеет бытия, как особое самостоятельное явление, обладающее способностью существовать одновременно и рядом с добром, как его противоположность, но лишь достигает его после исчезновения добра. Зло является исключительно только отрицанием добра и может быть противополагаемо последнему лишь единственно, как несуществующее существующему. Представляя себе Бога Высшим Благом, святитель Нисский говорит: «это именно Благо или нечто, превышающее благо, Само существует в действительности и от Себя дало и дает существам силу пребывать в бытии. А все представляемое вне Его, является несуществующим. Ведь что пребывает вне Сущего, того нет в бытии. Поэтому, так как зло представляется чем-то противоположным любви, а Бог есть всесовершенная добродетель, то вне Бога—зло, существенное свойство которого состоит не в том, что оно пребывает в бытии, но в том, что оно существует вне добра. По нашему мнению,—так заключает св. отец данные свои рассуждения,—зло есть название того, что вне мысли о добре. Зло является столь же противоположным добру, насколько несуществующее противоположно существующему (τὸ γὰρ ἔξω τοῦ ἀγαθοῦ νοήματος ὄνομα , τὴν κακίαν ἐθέμεθα οὕτως ἀντιθεωρεῖται τῷ ἀγαθῷ ἡ κακία , ὡς ἀντιδιαιρεῖται τὸ μὴ ὅν τῷ ὄντι)»2).
1) Οὑκ ἄλλο τι κακόν εἶναι παρὰ τὴν πονηρίαν ῷὴθησαν. Πονηρία δὲ πᾶσα ἐν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ στερήσει, χαρακτηρίζεται, οὐ καθ’ ἑαυτὴν οὐσα, οὐδὲ καθ’ ὑπόστασιν θεωρουμένη κακόν γὰρ οὐδὲν ἔξω προαιρέαεως ἐφ’ ἑαυτοῦ κεῖται. Orat. cat., cap. VII (Srawley, op. cit, p. 40); p. пер. н. IV, стр. 27.
2) In Eccless., hom. VII (Mg. XLIV) col. 725AB; p. пер. ч. II, стр. .325—326.
— 509 —
Однако, отрицая субстанциальное бытие зла, св. Григорий Нисский не подвергал ни малейшему сомнению его объективной действительности 1). Напротив, положительно ясно и определенно он приписывал злу объективную реальность. «Хотя это и странно (κάν παράδοξον),—так пишет св. отец,—все-таки, я должен сказать, что зло в самом небытии имеет свое бытие, потому что происхождение ала есть не иное что, как лишение Сущего (ἐν τῷ μὴ εἶναι τὸ εἶναι ἔχει οὐ γὰρ ἄλλη τὶς ἐστι καὶ κακίας γένεσις , εἰ μὴ τοῦ ὄντος στέρησις)»2). Рассматривая зло, как— τό μὴ ὅν , святитель Нисский усвоял ему это имя только сравнительно с тем, что называется благом, которое он обозначал— τὸ ὄν3). Поэтому, нельзя думать, что в таких случаях св. Григорий представлял существование в мире зла чем-то призрачным, не обладающим объективным бытием. Зло он считал «несущим» в том смысле, что оно не обладает таким самостоятельным бытием, какое принадлежит добру, имеющему свое бытие в Истинно-Сущем, т.-е. в Боге. «Зло,—говорит св. епископ Нисский,— само по себе не существует, но происходит через лишение добра. А добро всегда одинаково и постоянно существует и происходит без всякого предварительного лишения него-либо» 4). Таким образом, ясно, что зло, по мысли св. отца, имеет реальное, объективное бытие, хотя и приобретает его только после и через «лишение добра».
Зло, обязанное своим происхождением отсутствию добра, в этом последнем также находит и свое бытие
1) Dr. loh. N. Stigler, ор . cit., S. 113.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 93B; p. пер. ч. IV, стр. 269.
3) In Eccles., hom. VII (Mg. XLIV) col. 725AB; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 325—326 cp. De mortuis (Mg. XLVI) col. 528A; p. пер. ч. VII, стр. 520.
4) Ἡ κακία καθ' ἐαυτῆν οὐχ ὑφίσταται, ἀλλὰ τῇ στερήσει τοῦ ἀγαθοῦ παρυφίσταται τὸ δὲ ἀγαθὸν ἀεὶ ὡσαὑτος ἔχει μόνιμόν τε καὶ πάγιον, καὶ οὐδεμιᾶ τινος προηγουμένῃ στερήσει παρυφιστάμενον. In Ессles., hom. V (Mg. XLIV) col. 681BC; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 276-277.
— 510 —
Оно, по воззрению св. Григория Нисского, существуете, как отсутствие добра, как свойство, противоположное последнему. «Пребывать в Сущем,—пишет св. отец,—это значит действительно существовать. Но если что отпало от Сущего, то оно уже не находится в состоянии бытия, потому что пребывать во зле—не значит существовать в собственном смысле. Потому-то зло само по себе не существует, но становится злом небытие прекрасного» 1). Отсюда видно, что зло, хотя и имеет за собой реальное бытие, однако «различие добродетели и порока, по мысли св. Григория, представляется не как различие двух видимых предметов (οὐχ ὡς δύο τινῶν καθ ’ ὑπόστασιν φαινομένων). Напротив, как несуществующему противоположно существующее и нельзя сказать, будто несуществующее ипостасно (καθ ’ ὑπόστασιν) отличается от существующего, но говорим, что небытие противоположно бытию,—точно также и зло противоположно понятию добродетели не как нечто само по себе существующее, но как что-то подразумеваемое под отсутствием лучшего. И подобно тому, как мы говорим, что зрению противоположна слепота, разумея под слепотой не что-либо имеющее место в природе само по себе, но отсутствие прежде существовавшей способности,—точно также утверждаем, что и зло состоит в лишении добра, оно—как бы некоторая тень, появляющаяся по удалении луча» 2). Ясно, что зло, по воззрению св. епископа Нисского, получает не только свое происхождение, но также и бытие в отрицании добра.
1) Ἐν τῷ ὄντι εἶναι , ἀληθῶς ἐστιν εἶναι . Εἰ δὲ τις τοῦ ὄντος ἐκπέπτωκεν , οὐδὲ ἐν τῷ εἴναί ἐστιν . Τὸ γὰρ ἐν κακία εἶναι , οὐκ ἔστι κυρίως εἶναι . Διότι αὐτὴ καθ ’ ἐαοτὴν ἡ κακία οὐκ ἔστιν , ἀλλ ’ ἡ τοῦ καλοῦ ἀνυπαρξία , κακία γίνεται . In psalm., lib. I, cap. VIII (Mg. XLIV) col. 480A; p. пер. ч. II, стр. 52—53.
2) ... κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ κακία τῷ τῆς ἀρετῆς ἀντικαβέστηκε λόγῳ, οὐ καθ’ ἐαυτὴν τις οὐσα, ὰλλὰ τῇ ἀπουσία νοουμένη τοῦ κρείττονος... οὕτω καὶ τὴν κακίαν ἐν τῇ τοῦ ἀγαθοῦ στερήσει θεωρεἵσθαι λέγομεν, οἵόν τινα σκιάν τῇ ἀναχωρήσει τῆς ἀκτῖνος ἐπισὑμβαίνουσαν. Orat. cat., cap. 6 (Srawley, op. cit., p. 33); p. пер. ч. IV, стр. 22.
— 511
Полагая бытие зла в отрицании добра, св. Григорий тем самым давал место для возникновения недоумения, сущность которого сводится к вопросу, почему именно зло является отрицанием добра, а не наоборот, почему добро не является отрицанием зла. Святитель Нисский не мог не предвидеть возможности такого недоразумения, а потому он, желая устранить ее, выдвинул вопрос об отношении явлений добра и зла к абсолютной основе всякого бытия, т.-е. к Богу. Св. Григорий полагал, что в собственном смысле существует только один Бог, а все прочие мировые явления имеют основание своего бытия в Боге. «Отпадение от Истинно-Сущего,—говорит св. отец,?— есть порча и разрушение существующего. Может ли кто-либо существовать, не будучи в Сущем?.. Кто стал вне Сущего, тот разрушил свое собственное бытие» 1) Поэтому, если существует только то, что имеет основание для своего бытия в Боге, то мы не можем считать добро лишением зла, потому что в последнем случае мы должны будем признать Бога виновником зла. Но доказательством той мысли, что Бог не есть виновник ила и не может быть таковым, по мнению св. епископа Нисского, служит самое понятие о Боге. «Бог, по Своей природе, есть всякое благо, какое только можно обнять мыслью или, лучше сказать», Он «выше всякого блага, как мыслимого, так и достигаемого» 2). Как Абсолютное Благо, как «Полнота благ (πλήρωμα ἀγαθών)»3), Он мог и сотворить только то, что согласно с Его природой, а таковым должно быть признано одно только доброе, чуждое всякого зла. И если мы допустим, что зло полу-
1) Φθορὰ γὰρ ἐστιν ὡς ἀληθῶς , καὶ διάλυσις τοῦ συνεστῶτος , ἡ τοῦ ὄντως ὄντος ἀπόπτωσις . Πῶς γὰρ ἂν τις ἐν τῷ εἶναι εἴη , μὴ ἐν τῷ ὄντι ὤν ... ἑαυτοῦ τὸ εἶναι διέφθειρεν , ἔξω τοῦ ὄντος γενόμενος . In psalm ., lib . II , cap . XIII ( Mg . XLIV) col . 565 B ; p . пер. ч. ΙΙ, стр. 145.
2) Θεὸς τῇ ἑαυτοῦ φύσει πᾶν ὅτι περ ἔστι κατ ’ ἔννοιαν λαβεῖν ἀγαθὸν , ἐκεῖνο ἐστιν μᾶλλον δὲ παντὸς ἀγαθοῦ τοῦ νοουμένου τε καὶ καταλαμβανομένου ἐπέκεινα ὤν . De hom. opif., cap. XVI (Mg. XLIV) col. 184A; p. пер. ч. I, стр. 140.
3) Ibid., cap. XVI (Mg. XLIV) col. 184B; p. пер. ч. I, стр. 141.
— 512 —
чило свое начало от Бога, то этим мы вынуждены будем отвергнуть понятие благости в Боге1). Таким образом, если мы признаем зло произведением Самого Бога то вместе с тем мы должны будем возвести в закон божественной жизни беззаконие внутреннего противоречия, а через это должны будем допустить удивительную нелепость в бытии Божьем. Устраняя эту явную нелепость, мы должны признать Бога Источником лишь одного блага, а вместе с тем должны видеть в Нем разумное основание только для одного добра. «Кто благ по Своей природе,—пишет святитель Нисский,—Тот непременно бывает склонен снабжать благами. По этой именно причине всяко древо доброе плоды добрые творите (Мф. 7, 17), не на тернии зарождается грозд и не на виноградной лозе—терние. Доброе по природе не выносит из своих сокровищ ничего лукавого. И добрый человек от избытка сердца не говорит худого, но произносит сообразное с своей природой. Тем более,—спрашивает св. отец,—Источник благ изопьет ли из Своей природы что-либо лукавое? Наоборот, более благочестивый смысл требует понимать это так, что Божье даяние благо» 2). Ясно, если только одно добро имеет свое основание в Самом Боге, то не подлежит сомнению, что лишь оно одно в собственном смысле и существует, как нормальное состояние бытия. А отсюда, зло должно быть рассматриваемо, как возникшее в мире после появления в нем добра и, согласно с сказанным выше, как имеющее свое бытие в небытии добра. «Всякое добро, по словам св. Григория, оканчивается всем тем, что мы считаем противоположным добру.
1) Orat. cat, cap. 7 (Srawley, op. cit., p. 38); p. пер. ч. IV, стр. 25.
2) Πόσῳ οὗν μᾶλλον ἡ τῶν ἀγαθῶν πηγὴ οὐκ ἂν τι τῶν πονηρών ἐκ τῆς ἰδίας φύσεως προχέοι; ἀλλὰ τοῦτο νοεῖν ὑποτίθεται ἡ εὐσεβεστέρα διάνοια, ὅτι τὸ ἀγαθὸν τοῦ Θεοῦ δόμα. In Eccles, hom. II (Mg. XLIV) col. 637D; p. пер. ч. II, стр. 227—228.
— 513
Как конец жизни есть начало смерти, так и остановка в течении по пути добродетели бывает началом течения по пути порока» 1).
Итак, св. Григорий Нисский признавал самостоятельное и ни от чего независимое бытие только за добром. Что же касается зла, то, признавая за ним объективную реальность или, как говорит один исследователь, относительно действительное существование ( beziehungsweise wirkliche Existenz)2), он считал его, как происшедшее через отрицание добра, несамостоятельным по своему происхождению и не обладающим самобытным субстанциальным бытием.
Такое воззрение св. Григория на добро и зло, взятые отдельно и в их взаимном отношении, само собой понятно, должно было привести его, с одной стороны, к мысли о вечном существовании добра, а с другой,—к отрицанию вечного бытия в мире зла. И в самом деле, если сущность зла, действительно, заключается только в одном отрицании добра, а равным образом, соответственно этому, и все его бытие состоит в одном только небытии добра, то, разумеется, оно должно подлежать изменению и, наконец, полному уничтожению. Достаточно положительной силе добра прийти в действие, чтобы отрицательная сила зла, подобно тени, совершенно исчезла, обратившись в абсолютное добро. «Зло,—пишет святитель Нисский,— не настолько могущественно, чтобы оно могло осилить добрую силу, и безрассудство нашей природы не выше и не прочнее Божественной Премудрости. Да и невозможно превратному и изменяемому оказаться выше и прочнее того, что всегда тожественно я крепко утвердилось в
1) Πᾶν ὅλως ἀγαθὸν εἰς πάντα τὰ τοῖς ἀγαθοῖς ἐκ τοῦ ἐναντίου νοούμενα, λήγει. Ὡς γὰρ τὸ τῆς ζοῆς τέλος ἀρχὴ θανάτου ἐστίν οὕτω καὶ τοῦ κατ’ ἀρετὴν δρόμου ἡ στάσις ἀρχὴ τοῦ κατὰ κακίαν γίνεται δρόμου. De vita Moyeis (Mg. XLIV) col. 300D—301A; p. пер. ч. I, стр. 228.
2) Dr. loh. N. Stigler, op. cit., S. 114.
— 514
добре. Божественная воля всегда и во всем неизменна, а превратность нашей природы не прочна даже и во зле»1). Ясно, что зло или,—лучше сказать,—направление человеческой воли, будучи по своей природе превратно и изменчиво, не может обладать достаточной силой устойчивости и в отношении продолжительности своего существования.
Правда, изменчивость еще не заключает в себе необходимости обязательного уничтожения подлежащего изменению. Мы знаем, что все тварные существа подлежат изменению в отношении свойств своей природы. Однако, независимо от этого, они обладают способностью бесконечного существования. Но затруднение, представляемое подобной аналогией, устраняется весьма легко. Дело в том, что все тварные существа произошли от Бога в том виде, к которому может быть приложимо одно только понятие добра. Естественно, отсюда, они могли находить и, действительно, находят поддержку и основание для своего бытия в Боге, почему для них и открывается полная возможность бесконечного существования. Между тем, зло, как мы видели, не находит для себя такой поддержки в Боге, потому что все порочное, как не получившее своего бытия от Бога, совершенно чуждо Его природе. «Что получило свое бытие от Сущего, это,—говорит св. отец,— постоянно пребывает и в бытии. Если же что-либо происходит не от Сущего и его сущность не имеет основания в том, что оно есть, но в том, что оно не добро, то это—какая-то трава, растущая на кровле, не имеющая корня, не посеянная и не возделанная,
1) Οὑχ οὐτως ἐστίν ἱσχυρὸν ἡ κακία, ὡς τῆς ἀγαθὴς ὑπερισχύσαι δυνάμεως οὐδὲ κρείττων καὶ μονιμωτέρα τὴς Θεοῦ σοφία; ἡ τὴς φύσεως ἡμῶν ἀβουλία. Οὐδέ γὰρ ἐστι δυνατόν τὸ τρεπόμενόν τε καὶ ἀλλοιοὑμενον, τοῦ ἀεἰ ὡσαύτως ἔχοντος, καὶ ἐν τῷ ἀγαθῷ πεπηγότος, ἐπικοατέστερόν τε καὶ μονιμώτερον εἶναι ἀλλ’ ἡ μὲν θεία βουλὴ πάντη τε καὶ πάντως τὸ ὀμετάθετον ἔχει, τὸ δι τρεπτὸν τὴς φύσεως ἡμῶν οὐδὲ ἐν τῷ κακῷ πάγιον μένει. De hom. opif., cap. XXI (Mg. XLIV) col. 201В; р, пер. н. I. стр. 160—161.
— 515 —
которая, хотя в настоящее время своим неодолимым прозябанием и причиняет беспокойство, однако в будущем, при восстановлении вселенной в доброе состояние, она уничтожается и исчезает, так что зла, встречающегося нам теперь, в той жизни, на которую мы имеем надежду, не останется и следа» 1). Отсюда понятно, что изменчивость зла должна будет, наконец, привести последнее к «уничтожению и превращению в ничто (ἀφανισμός ἐστι καὶ εἰς τὸ μὴ ὅν μεταχώρησις)»2).
Таким образом, зло, как не имеющее под собой твердой, самостоятельной почвы в собственной природе, носит начало саморазложения и самоуничтожения. Коренясь в свободном произволении разумных тварей и не имея, таким образом, надлежащей опоры в Истинно-Сущем т. е. в Боге, зло некогда уничтожится положительной силой добра, которое, как самобытное начало, «не имея предела (τὸ μὴ ἐχειν αὐτὴν ὅρον)»3), обнимает собой все без исключения. «Зло,—говорит св. епископ Нисский,—некогда должно быть совершенно изъято из существующего, и что, согласно с сказанным выше, существует в действительности, того совершенно не будет. Ведь, если ало не обладает свойством пребывать вне произволения ц все произволение будет в Боге, то зло достигнет своего полного уничтожения, потому что для него не окажется никакого места пребывания» 4).
1) Τοῖς μέντοι καθήκουσι χρόνοις, ἐν τῇ τοῦ παντὸς πρὸς τὸ ἀγαθὸν ἀποκαταστάσει, παρέρχεται τε καὶ ἀφανίζεται, ὡς μηδὲν ἴχνος τοῦ νῦν ἐπιπολάζοντος ἡμῖν κακοῦ ἐν τῇ κατ’ ἐλπίδα προκειμένη ζωῇ ἀπολείπεσθαι. In psalm., lib. II, cap. XIV (Mg. XLIV) col. 585B; p. пер. ч. II, стр. 168.
2) Ibid., lib. ΙΙ, cap. X (Mg. XLIV) col. 540С; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 115.
3) De vita Moysis (Mg. XLIV) col. 300D; p. пер. ч. I, стр. 225.
4) Χρὴ... πάντως ἐξαιρεθῆναί πότε τὸ κακόν ἐκ τοῦ ὄντος, καὶ ὅπερ ἐν τοῖς φθάσασιν εἴρηται, τὸ ὄντως μὴ ὂν, μηδ’ εἶναι, ὅλως. Ἐπειδὴ γὰρ ἔξω τὴς προαιρέαεως ἡ κακία εἶνα, φύσιν οὐκ ἔχει, ὅταν πᾶσα ποοαίρεσις ἐν τῷ Θεῷ γένηται, εἴς παντελῆ ἀφανισμόν ἡ κακία μὴ χωρήσει τῷ μηδὲν αὐτῆς ὑπολειφθῆναι δοχεῖον. Dean, et res. (Mg. XLVI) col. 101A; p. пер. ч. IV, стр. 275.
— 516 —
Итак, св. Григорий Нисский, исходя из своего философского взгляда на природу добра и зла, взятых в отдельности и в их взаимном отношении, полагал, что наступит некогда то время, когда «зло исчезнет из области существующего и станет «несущим» (ἐκδαπανηθέντος τοῦ κακοῦ ἐκ τῶν ὅντων , καὶ εἰς τὸ μὴ ὅν αὖθις μεταχωρήσαντος)»1).
Β. Психологические основания учения о всеобщем апокатастасисе.
Признавая необходимость полного уничтожения зла с тонки зрения метафизических оснований, св. Григорий находил, что это не только не противоречит психическому состоянию грешного человека, но даже предполагается последним. Оно могло бы противоречить ему только в том случае, если бы можно было согласиться с той мыслью, что свободная воля человека может навсегда утвердиться во зле. Но последней мысли нельзя признать справедливой, потому что зло по своей природе, как не имеющее никакого основания для своего бытия в Истинно-Сущем, не может простираться в беспредельность. Напротив, как в отношении начала, так и конца своего бытия о во ограничено «необходимыми пределами (ἀναγκαίοις πέρασι)»2), за которыми следует преемство добра.
По мнению святителя Нисского, всякое разумно-свободное существо подлежит нравственному развитию, которое может совершаться в двух направлениях—или по пути добра, или же по пути зла. Так как совершенство не ограничивается пределами (διότι ἡ τελειότης ὅροις οὐ διαλαμβάνεται), потому что «у добродетели один предел—неограниченность (τῆς δὲ ἀρετῆς εἰς ὅρος ἑστί , τὸ ἀόριστον)»3), то суще-
1) De mortuis (Mg. XLVI) col. 528A; p. пер. ч. VII, стр. 520.
2) De hom. opif., cap. XXI (Mg. XLIV) col. 201C; p. пер. ч. I, стр. 162.
3) De vita Moysis (Mg. XLIV) col. 301B; p. пер. ч. 1, стр. 277 cp. Ориген, стр. выше 185.
— 517
ство, твердо ставшее на путь добра, развивается в этом направлении в бесконечные века, причем оно никогда не достигает полного совершенства. Если же разумно-свободное существо, вместо добра, изберет путем своего нравственного развития зло, тогда оно, так как природа зла ограничена необходимыми пределами» 1), неизбежно достигнет в своем развитии такого пункта, движение вперед дальше которого станет уже невозможным. В виду того, что всякое разумно-свободное существо, будучи тварью, подлежит постоянному развитию в отношении своей нравственной природы, св. Григорий полагал, что ни одно из названных существ не может остановить своего развития на крайнем пределе зла. А отсюда он заключал, что всякое разумно-свободное существо, достигнув самого крайнего предела зла, необходимо перейдет с пути зла на путь добра. Находящееся по необходимости в постоянном движении, если оно на пути к добру, в силу неограниченности этого пути,1 никогда не прекратит своего стремления вперед и не найдет такого пункта, где искомое имело бы свой конец, достигнув которого, оно со временем могло бы остановиться в своем движении. Если же оно уклонилось в противоположную сторону, то, конечно, станет совершать путь зла и, достигнув самой крайней его меры, находящееся в постоянном движении вперед, не находя по своей природе никакого успокоения, как только проходит путь зла, то по необходимости направляет свое движение в сторону добра (τότε τὸ τῆς ὁρμῆς ἀεικίνητον οὐδεμίαν ἐκ φύσεως στάσιν εὐρίσκον , ἐπειδὰν διαδράμη τὸ ἐν κακία διάστημα , κατ ’ ἀνάγκην ἐπὶ τὸ ἀγαθὸν τρέπει τὴν κίνήσιν). Ведь, так как зло не развивается в бесконечность, но ограничено необходимыми пределами, то, в силу этого, за пределом зла следует преемство добра (ἡ τοῦ ἀγαθοῦ διαδοχὴ τὸ πέρας τῆς κακίας
1) De hom. opif., cap. XXI (Mg. XLIV) col. 201C; p. пер. ч. I, стр. 162.
518
ἐχδἐχεται). И таким образом, как сказано, постоянно движущаяся ваша природа, наконец, снова возвратится на путь добра (καὶ οὕτω, καθὼς εἴρηται, τὸ ἀεικίνητον ἡμῶν τῆς φύσεως πάλιν υοτατον ἐπῖ τῆν ἀγαθὴν ἀνατρέχει πορείαν), будучи научаема воспоминанием о прежних несчастиях не отдаваться снова вплен подобным бедствиям. Итак, наш путь снова будет в области прекрасного, потому что природа зла ограничена необходимыми пределами (οὐκοῦν ἔσται πάλιν ἐν καλοῖς ὁ δρόμος ἡμῖν, διὰ τὸ πέρασιν ἀναγκαίοις περιωρίσθαι τῆς καχίας τὴν φύσιν)» 1). Свою мысль о том, что за крайним пределом зла для всякого разумно-свободного существа в процессе развития его нравственной природы начинается с необходимостью путь добра, святитель Нисский объясняет при помощи следующей аналогии, заимствуемой им из физического мира. Зло, полагает он, можно сравнить с конусом тени, которую бросает земля в беспредельном мировом пространстве, наполненном светом. Так как эта тень занимает ограниченное место и со всех сторон окружена светом, то отсюда следует, что если «кто-либо будет в состоянии пройти расстояние, на которое надает тень, то он в таком случае обязательно окажется в свете, не пресекаемом тьмой» 2). Из этой аналогии св. отец делает такое применение к рассматриваемому вопросу. «Так, думаю, необходимо полагать и о нас, что мы, достигнув предела зла, когда окажемся на краю греховной тьмы, то снова станем жить во свете, потому что природа блага неизмеримо превосходит меру зла. Итак, снова рай, снова то дерево, которое есть древо жизни, снова дар образа и достоинство начальства, впрочем, не над тем, кажется мне, что в настоящее время, в силу житейской необходимости, подчинено Богом людям,— но предстоит нам надежда на какое-то иное царство, изобра-
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 201 ВС; p. пер. ч. I, стр. 161—162.
2) Ibid (Mg. XLIV) col. 201CD; p. пер. ч. I, стр. 162—163.
519 —
жение которого в слове является для нас невозможным»1), потому, что «когда будет уничтожено все, что противоположно добру, тогда наступит для нас то состояние, для объяснения которого не найдется ни одного слова, но о котором свидетельствует Слово Божье, что оно выше и знания и чувства»2).
Мысль об уничтожении зла, в виду обращения человека с пути яла на путь добра, св. Григорий Нисский считал основательной особенно потому, что полное исчезновение всех признаков зла, по его мнению, произойдет в будущем мире, где человек будет обладать условиями более благоприятствующими обращению его воли с пути зла на путь добра, нем какими он располагает во время настоящей жизни. Дело в том, что здесь на земле, по мысли св. отца, дух человека обнаруживает сильное тяготение к грубой материи, в котором собственно и заключается сила греха или зла. Это ненормальное соотношение между духовным и материальным началами, это господство материи над духом прекратит свое существование для одних людей во время их смерти и воскресения, а для других—в мгновенном при конце настоящего мира их изменении, потому что тогда настоящая грубая материя одухотворится 3). Таким образом, с прекращением господства материи над духом будет восстановлено равновесие человеческих душевных сил.
Однако, вместе с восстановлением в человеке равновесия душевных сил из его природы еще совершенно не уничтожится нравственное зло. И после восста-
1) Οὕτως οἶμαι δεῖν καὶ περὶ ἡμιῶν διανοεῖσθαι , ὅτι διεξελθόντες τὸν τῆς κακίας ὅρον , ἐπειδὰν ἐν τῷ ἀκρῳ γενώμεθα τῆς κατὰ τὴν ὰμαρτίαν σκιᾶς , πάλιν ἐν φωτὶ βιοτεύσομεν , ὡς κατὰ τὸ ἀπειροπλάσιον πρὸς τὸ τὴς κακίας μέτρον τῆς τῶν ἀγαθῶν φὑσεως περιττευούσης . Πάλιν οὗν ὑ παράδεισος , πάλιν τὸ ξὑλον ἐκεῖνο , ὃ δῆ καὶ ζωῆς ἐστι ξὑύον ... Ibid. (Mg. XLIV) col. 201D—204A; р. пер. ч. I, стр. 183.
2) In psalm., lib. Ι. cap. VIII (Mg. XLIV) col. 480D—481A; p. пер. ч. I, стр. 54—55.
3) De mortuis (Mg. XLVI) col. 532C; p. пер. ч. VII, стр. 526.
520 —
новления человека к нетлению нравственная нечистота в качестве «вещественного нароста (όλώδη περιττώματα)»1) или «изгари (ἡ σκωρία)»2) еще остается в его душе. Да иначе и быть не может, потому что «вещественные излишества» составляют качественные особенности человеческой души, возникшие в ней под влиянием пристрастия к веществу, которые с уничтожением вещества немедленно не могут быть изъяты из природы их душ. Но постепенное очищение от них души после уничтожения некогда принадлежащей ей грубой материи, несомненно, становится более удобным, чем это было до данного момента, потому что теперь душа освобождается от соблазнительных влечений чувственности. Таким образом, в загробной жизни будут отсутствовать—тяготение нашей духовной природы к материальному началу и чувственные влечения.
Вместе с освобождением в загробной жизни человеческих душ от чувственных влечений каждая из них узнает, что без нравственного очищения и обращения воли на путь добра, невозможно достигнуть общения с Богом. Всякий человек,—полагает св. Григорий,— «узнает различие добродетели от порока из невозможности быть причастником Божества, если только очистительный огонь не освободит души от примешавшейся к ней скверны» 3).
Вот те условия, в которых будет находиться человек в загробном мире. При наличности их, люди, по мнению святителя Нисского, и обратятся с пути зла на путь добра.
По представлению св. Григория, при таких условиях не может быть никакого сомнения в будущем обраще-
1) Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 47 -48); p. пер. ч. IV, стр. 32.
2) De mortuis (Mg. XLVI) col. 329D; p. пер. ч. VII, стр. 525.
3)Ὁ... γνοὺς τῆς ἀρετῆς τὸ πρὸς τὴν κακίαν διάφορον ἐν τῷ μὴ δύνασθαι μετασχεῖν τῆς θειότητος, μὴ τοῦ καθαρσίου πυρὸς τὸν ἐμμιχθέντα τῇ ψυχῇ ῥύπον ἀποκαθὴραντος. Ibid. (Mg. XLVI) col. 525A; p. пер. ч. VII, стр. 518.
— 521
нии человечества на путь добра. И это потому, что оно в данном случае не только найдет в себе внешнюю поддержку, но, более того, к оставлению пути зла оно будет вынуждаться свойствами своей природы. В нашей природе, как это показывает наблюдение и над настоящей действительностью, «одно только сродное и однородное навсегда остается для нее желанным и любимым (μόνον τὸ συγγενὲς καὶ ὁμόφυλον ποθεινόν καὶ ἐράσμιον εἰς ἀεὶ διαμένει)». Все же «ей несвойственное, с чем природа сама по себе от начала не имела общения (τὸ μὴ ἴδιον , οὐ μὴ κατ ’ ἀρχὰς ἔσχεν ἐν ἑαυτῆ τὴν κοινωνίαν ἡ φύσις)»,—все это ее «пресыщает и обременяет (πλήομιον καὶ προσκορὲς ἐστιν)»1). Само собой понятно, что совершенно несродным и чуждым свойством нашей природы является то, что мы называем злом. Естественно, оно, постепенно пресыщая собой нашу природу, тем самым вынуждает ее волю к обращению на путь добра. И это обращение, в конце концов, при таких обстоятельствах и должно будет произойти, потому что в нашей природе, по словам св. отца, «не навсегда останется страстное желание того, что ей чуждо (οὐ γὰρ εἰς ἀεὶ παραμένει τῶν ἀλλοτρίων ἡ ἐπιθυμία τῇ φύσει)»2).
Обратившись, таким образом, на путь добра, человечество навсегда освободится от того зла, которому теперь подвержена его природа. Зло, после того как человек направит свою волю в сторону добра, лишится своего источника и основания. Если наша воля,—рассуждает св. епископ Нисский,—порвет связь с несуществующим в действительности (τὸ ἀνύπαρκτον) и сблизится с Сущим (τῳ Ὄντι), то и «то, что в настоящее время находится во мне, не имея более бытия, совершенно перестанет обладать бытием и во мне, потому что зло, взятое
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 525C; p. пер. ч. VII, стр. 519.
2) Ibidem .
— 522 —
вне произволения, само по себе не существует» 1) После обращения человечества к Истинно-Сущему, т.-е. к Высочайшему Благу, по воззрению св. отца, зло не только лишится свойственного ему бытия, но даже не сохранит о себе памяти 2).
Таким образом, по мнению св. Григория Нисского, и с точки зрения психологических оснований не только нет побуждений сомневаться в исчезновении некогда зла, но, напротив, необходимо предполагать его будущее всецелое уничтожение.
С. Телеологические основания учения о всеобщем апокатастасисе.
Свое утверждение, что мировая история завершится уничтожением всякого зла, св. Григорий считал справедливым и с точки зрения телеологических оснований. По рассуждению св. отца, человек вышел из творческих рук Божьих, во-первых, прекрасным созданием, а во-вторых, он был создан с доброй целью. «Человек,— пишет святитель Нисский,—это прекрасное дело Божье, и он приведен в бытие еще для более прекрасного (Θεοῦ ἐργον ὁ ἄνθρωπος , καλὀν τε καὶ ἐπὶ καλλίστοις γενὀμενον)»3), Для последней своей мысли св. Григорий находил подтверждение в Св. Писании, где бытописатель замечает, что после творения мира и человека виде Бог вся, елика сотвори: и се вся добра зело (Быт. 1, 31)4). Подобным же образом Слово Божье свидетельствует и в другом месте, когда св. апостол Павел в одном из своих посланий говорит: «всякое создание Божие добро, и ничтоже отметно
1) Ἐκεῖνο μὲν τὸ ἐν ἐμοὶ μηκέτι εἶναι ἔχουσα, οὐδὲ τὸ ἐν ἐμοὶ ὅλως ἕξει. Κακόν γὰρ ἔξω προαιρέαεως ἐφ’ ἑαυτοῦ κείμενον οὐκ ἔστιν. In Eccles., hom. VII (Mg. XLIV) col. 725B; p. пер. а. II, стр. 326.
2) Ibid, hom. II (Mg. XLIV) col. 636AB; p. пер. ч. II, стр. 224.
3) Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op cit., p. 50); p. пер. ч. IV, стр. 34.
4) In hexaem. lib. (Mg. XLIV) col. 81D—84A; p. пер. ч. I, стр. 26.
523
(l Тим. 4, 4)1). Не ограничиваясь данными и подобными свидетельствами Св. Писания, св. епископ Нисский находил» что справедливость рассматриваемой мысли оправдывается самым понятием о Боге. «Бог, говорит он, по Своей природе, есть всякое благо, какое только можно постигнуть мыслью», или, лучше сказать, — Он «выше всякого блага, мыслимого и достигаемого» 2). Как Абсолютное Благо, как «Полнота благ (πλήρωμα τῶν ἀγαθων)»3), Он мог а сотворить только то, что согласно с Его природой, т.-е. только доброе, и предназначить последнему соответствующие требованиям Его природы цели 4).
Что касается цели, для которой Бог создал человека, то ее св. Григорий полагал в блаженной жизни последнего через восприятие божественных благ. «Для того,— говорит святитель Нисский,—приведена в бытие разумная природа, чтобы богатство божественных благ не пребывало в состоянии бездействия; но все устроившей Премудростью приготовлено нечто в роде сосудов и произволением одарены приемники душ, дабы существовало известное вместилище, воспринимающее в себя» 5). Такова была воля Божья при творении мира о человеке в отношении его создания и цели назначения. И эта божественная воля неизменна, потому что «совет Божий всегда и во всем непреложен (θεία βουλὴ πάντη τε καὶ πάντως τὸ ἀμετάθετον)»6).
Эта божественная цель творения людей может быть достигнута только тогда, когда последние во всей своей
1) De virg., cap. XII (Mg. XLVI) col. 372A; p. пер. ч. VII, стр. 343.
2) De hom. opif, cap. XVI (Mg. XLIV) col. 184A; p. пер. ч. I, стр. 140.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 184B; p. пер. ч. I, стр. 141.
4) Orat. cat., cap. 7 (Srawley, op. cit., p. 38); p. пер. ч. IV стр. 25.
5) Τούτου γὰρ ἔνεκεν ἡ λογική φύσις ἦλθεν εἰς γένεσιν, ὡς τὸν πλούτον τῶν θείων ἀγαθῶν μὴ ἀργὸν εἶναι ἄλλ’ οἶον ἀγγεῖά τινα προαιρετικὰ τῶν ψυχῶν δοχεῖα, παρὰ τῆς τὸ πᾶν συστησαμένης σοφίας κατεσκάσθη, ἐφ’ ᾦτε εἶναι τι χώρημα δεκτικόν ἀγαθῶν. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 105A; p. пер. ч. IV, стр. 279—280.
6) De hom. opif., cap. XXI (Mg. XLIV) col. 201 В; p. пер. ч. I, стр. 161.
— 524 —
полноте, действительно, примут участие в блаженстве. Между тем, мы видим множество людей, которые пребывают во зле и, следовательно, могут надеяться на блаженную участь только после очищения от него. Такое очищение их от всякого зла, по мнению св. Григория, бесспорно, так как в противном случае «превратность» нашей природы, непостоянной даже и во зле, оказалась бы выше и прочнее божественной премудрости 1). Бесспорно, премудрость Божия достигнет своей цели, так как она располагает средствами, необходимыми для удаления из мира всего того, что возникло в нем против ее намерений и желаний. Бог, по Своему всеведению, знал, что человек употребит во зло дарованную ему свободную волю. Он предвидел также и те средства, при помощи которых можно будет снова воззвать «человека к добру»2). Как вся «цепь необходимой последовательности вещей», так и «все отдельно взятое в устройстве вселенной направлено» к этой «цели, потому что всему необходимо в известном порядке и последовательности, согласно с истинной мудростью Управляющего, прийти в согласие с божественной природой (τῇ θεία προσοικειωθῆναι φύσει)»3).
Таким образом, ничто не может воспрепятствовать божественной премудрости в деле достижения ею своей цели, сущность которой сводится к желанию—«всем предоставить участие в Его (Божьих) благах (πᾶσι προθεῖναι τὴν μετουσίαν τῶν ἐν αὐτίῦ καλών), которых, как говорит Писание, око не видело, ухо не слышало и которые бывают недоступны для мыслей» (1 Кор. 2, 9) 4).
1) Ibid. (Mg. XLIV) col. 201B; p. пер. ч. I, стр. ΙβΟ . 161 ср. Ориген, стр. выше 188.
2) Ἀλλ ’ ὥσπερ τὴν παρατροπὴν ἐθεάσατο , οὕτω καὶ τὴν ἀνάκλησιν αὐτοῦ πάλιν τὴν πρὸς τὸ ἀγαθὸν κατενόησε . Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 49); p. пер. ч. IV, стр. 33.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 105A; p. пер. ч. IV, стр. 279.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 152A; p. пер. ч. IV, стр. 318.
— 525 —
Д. Искупление—основание для учения о всеобщем апокатастасисе.
Кроме рассмотренных оснований для утверждения учения о всеобщем апокатастасисе, мы находим в сочинениях св. Григория Нисского указание на плоды искупления, которые, по его мнению, дают полное основание для утверждения мысли о всецелом некогда истреблении зла из разумно-свободных существ 1). По представлению св. отца, Единородный Сын Божий для того сходил с неба, принимал на Себя человеческую природу, страдал и умер, чтобы избавить все разумно свободные существа от всякого зла и смерти 2). И действительно, Он совершил это избавление... Отсюда ясно, что в искуплении, совершенном Христом, дано полное ручательство того, что зло некогда вполне прекратит свое существование.
Таким образом, следствия искупительного дела Христова, по учению св. Григория, необходимо представлять в таком смысле, что Единородным Сыном Божиим через крест и страдания разрушено вечное господство смерти над разумно-свободными существами3). Эту мысль св. епископ Нисский подтверждает ссылкой на рассуждения св. апостола Павла (1 Кор. 15), который возможность вечной человеческой жизни выводит из факта воскресения Христа 4). Вместе же с истреблением последнего вра-
1) Данное основание для учения о всеобщем апокатастасисе приводится и у Оригена (стр. выше 189—192), причем у последнего оно раскрыто полнее, чем у св Григория.
2) Ἐπειδὴ τοίνυν ἐν ἐκείνῳ πᾶσα κακίας φύσις ἐξηφανίσθη... ἀρχὴν ἔλαβεν ἀπ' ἐκείνου ὅ τε τῆς κακίας ἀφανισμός, καὶ ἡ τοῦ θανάτου κατάλυτις. In illud, tunc ipse filius subjiciet., etc., orat (Mg. XLIV) col. 1313B.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 1313C.
4) Οὕτω τοίνυν αὐτοῦς— τοὺς δεξαμένους τὸν λόγον— συλλογιστικῶς πρὸς τὴν παραδοχὴν τοῦ δόγματος συναναγκάσας, ἐκ τοῦ εἰπεὶν, ὅτι εἰ μὴ ἐστιν (τὸ γὰρ καθόλου μὴ ὄν, οὐδὲ ἔν τινι δυνατὸν εἶναι εἰ δὲ τοῦτον ἐγηγέρθαι πιστεύομεν, τὴς καθόλου τῶν ἀνθρωπων ἀναστάσεως ἡ περὶ τούτου πίστις ἀπόδειξις γίνεται), καὶ προσθεις ἐκείνο τῷ λόγῳ, ᾧ πᾶσα ἡ περὶ τοῦ δόγματος τούτου κατασκευή συμπεραίνεται, τὸ ὡσπερ ἐν τῷ
526
га (1 Кор. 15, 26), под которым св. отец, вместе с св. апостолам Павлом, разумел смерть1), по мнению св. Григория, произойдет и освобождение природы разумно-свободных существ от господства над ней зла 2), которое служит причиной смерти, — и тогда «снова воссияет во всех богоподобная красота, по образу которой мы были созданы в начале (ἐν τὸ θεοειδὲς κάλλος ἐπαστράψῃ τοῖς πᾶσιν , ᾧ κατ ’ ἀρχὰς ἑμορθώθημεν)»3).
По представлению св. Григория Нисского, истребление мирового зла через акт искупления, подобно его возникновению, будет иметь троякий характер. Зло будет истреблено в 1) диаволе, в 2) женщине, которая первая дала ему приют в человеческом роде, и, наконец, в 3) мужчине, который через акт рождения дал ему распространение среди всего человечества. «Зло, — пишет св. отец, — зародилось в змие; искушением змия побеждена жена; затем, женой побежден муж; зло, следовательно, получило свое бытие через троих. Зачем,—спрашивает себя св. отец,—я вспоминаю об этом?—Из некоторого порядка во зле,—отвечает он на свой вопрос, — мы поймем известный порядок в добре» 4) Указание на уничтожение зла в трояком порядке святитель Нисский, по-видимому, находит в трехдневном пребывании Христа в недрах могильного покоя 5). «Замечаю, — пишет св. Григорий, — вот эти три сосуда зла: первый, в котором (зло) в начале появилось; второй,—в который перешло; тре-
Αδὰμ πάντες ἀποθνήσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται σαφῶς ἐκκαλὑπτει τὸ περὶ τούτου μυστήριον, πρὸς ὅ τι βλέπει ἐν τοῖς ἐφεξὴς, διὰ τινος ἀναγκαίας ἀκολουθία; πρὸς τὸ πέρας τῶν ἐλπιζομένων διεὐθύνων τὸν λόγον. Ibid. (Mg. XLIV) col. 1312CD.
1) Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 278.
2) Ἐως ἄν τοῦ ἐσχάτου ἐχθροῦ καταργηθέντος, ῶς φησιν ὁ Ἀπόστολος, καὶ τῆς κακία; καθόλου πάντων τῶν ὄντων ἐξοικισθείσης. De mortuis (Mg. XLVI) col. 536AB; p. пер. ч. VII, стр. 530.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 536B; p. пер. ч. VII, стр. 530—531.
4) In Chr. resurr., orat. I (Mg. XLVI) col. 609C; p. пер. ч. VIII, стр. 36.
5) Vgl. Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 279.
527 —
тий,—в котором затем оно возросло. Таким образом, так как зло распространилось в этих трех (сосудах), т.-е. в диавольской природе, в женском поле и, наконец, в мужском поле, то, поэтому, и болезнь уничтожается, соответственно с этим, в три дня. Каждому роду заболевших злом для врачевания определяется один день: в один день избавляются от болезни мужи; в другой — врачуется женский пол; в последний — будет истреблен последний враг — смерть, а вместе с ним прекратят свое существование и его спутники: начала, власти и силы главных враждебных сил»1). Таким образом, по выражению св. епископа Нисского, по крайней мере, потенциально2) «в три дня будет истреблено зло из существующего — из мужчин, из женщин и из рода змий, в которых первых нашла себе приют природа зла» 3).
Е. Свидетельства Св. Писания—основание для учения о всеобщем апокатастасисе.
Придавая громадное значение всякого рода логическим основаниям для утверждения учения о всеобщем апокатастасисе, св. Григорий, однако, не мог не сознавать того, что все эти основания, как бы они ни были сильны, все-таки, не могут иметь для христианского мыслителя абсолютного значения. Христианин все свои умозаключения должен сверять с требованиями смысла Св. Писания. Руководясь, по-видимому, подобными соображениями, св. отец и старается отыскать опору для своего учения о будущем восстановлении всех разумно свободных существ в первобытное
1) In Chr. resurr., orat. I (Mg. XLVI) col. 609CD; p. пер. ч. VIII, стр. 36—37.
2) Vgl. Dr. Er. Hilt, op. cit., S. 280.
3) Ἐν τρισὶν ἡμέραις τῶν ὄντων τὸ κακὸν ἐξοικίζεται , ἐξ ἀνδρῶν , ἐκ γυναικών , καὶ τοῦ γένους τῶν ὁψεων , ἐν οἴς πρώτοις ἡ τῆς κακίας φύσις ἔσχε τὴν γένεσιν . In Chr. resurr., orat. I (Mg. XLVI) col. 612A; p. пер. ч. VIII, стр. 37.
— 528
состояние в Божественном Откровении. И действительно, оставляя в стороне вопрос о правильности понимания святителем Нисским Св. Писания, мы должны сказать, что он нашел основания для рассматриваемого учения в Слове Божьем, при этом как Ветхого, так и Нового Заветов.
Обосновывая свое учение о всеобщем апокатастасисе на авторитете Св. Писания Ветхого Завета, св. Григорий Нисский останавливает свое внимание, прежде всего, на выражении псалмопевца: «еще мало, и не будет грешника: и взыщеши место его, и необрящеши» (Пс. 3610)1). Но мнению св. отца, в этих словах священного гимна прикровенно указывается на уничтожение греха, как не обладающего постоянной и непреходящей природой. Грех, по словам святителя Нисского, «и в начале не вместе с тварью приведен в бытие все Сотворившим и Осуществившим, и он не бывает постоянно с существующим» 2). Он находит для себя приют в человеческой природе, вопреки божественной воле. Поэтому, он в ней пребывает только до обращения людей к Богу, Который снисходит к ним и их спасает, обращая всякое зло, присущее их природе, в ничто. Естественно, значит, ожидать наступления такого момента в мировой истории, когда даже «следа не останется зла (μηδέν ἴχνος τοῦ κακοῦ ἀπολείπεσθαι)»3).
Далее, по воззрению св. Григория Нисского, в пользу учения о всеобщем апокатастасисе говорит псалмопевец, когда выражается: «да не прибудет Тебе престол беззакония, созидаяй труд на повеление» (Пс. 93, 20)4). По смыслу этих слов,—как полагает святитель Нисский,— Бог не является виновником зла, потому что последнее
1) In psalm., lib. II, cap. XIV (Mg. XLIV) col. 585B; p. пер. ч. II, стр. 168.
2) Οὖτε κατὰ τὸ πρώτον συνυποστᾶσα τῇ κτίσει παρὰ τοῦ τὸ πᾶν ὑποστηααμένου καὶ οὐσιώσαντος, οὔτε πρὸς τὸ διηνεκὲς τοῖς οὐσι συνδιαμένουσα. Ibid. (Mg. XLIV) col. 585 ΑΒ; р. пер. ч. II, стр. 167—163.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 585В; р. пер. ч. II, стр. 168.
4) Ibid., lib. ІІ, cap. VIII (Mg. XLIV) col. 525С; p. пер. ч. II, стр. 101.
— 529
не совечно Ему. Обращаясь к Богу, св. отец пишет: «не вместе с Тобой замечается начало зла (οὐ συνθεωρεῖταί σοι ἡ τῆς κακίας ἀρχὴ), потому что (этим) началом является престол, устанавливающий грех через приказание (ἀρχὴ γὰρ ὁ θρόνος ὁ τὴν ἀμαρτίαν κτίζων διὰ προστάγματος)»1). Отсюда следует, что «зло не от вечности, и оно не вечно будет существовать (τὸ μὴ ἐξ ἀϊδίου τὴν κακίαν εἶναι , μηδὲ εἰς ἀεὶ παραμένειν αὐτὴν ἑνεδείξατο), потому что то, что не всегда было, то и не вечно будет (ὁ γὰρ μὴ ἀεὶ ὴν , οὐδὲ εἰς ἀεὶ ἔσται)»2). Наступит время, когда Бог уничтожит зло из человеческой природы через смерть Своего Единородного Сына и нашего Господа. Что касается времени его более или менее окончательного истребления, то оно произойдет на будущем всеобщем суде, когда Бог, воздавая каждому по достоинству, истребит грехи, причем Он не коснется Своей истребляющей рукой природы грешников. «Указывает же пророк, — пишет святитель Нисский, — способ уничтожения зла, предсказывая истребление зла в момент убиения Господа иудеями. Ведь он говорит: «уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят» (Пс. 93, 21). Но эта кровь будет для меня спасительной, потому что осужденный на смерть Господь через нее становится для меня прибежищем, и в помощь упования поставляется верующим сей Бог (ср. Пс. 93, 22), Который, воздавая на праведном суде каждому по достоинству, уничтожит испорченность согрешивших, но не природу (ἀφανιεῖ τὴν πονηρίαν τῶν ἡμαρτηκότων , οὐχὶ τὴν φύσιν)» их3). Таким образом, — так заканчивает св. Григорий раскрытие смысла.
1) Ibidem.
2) Ibidem.
3) Ibid. (Mg. XLIV) col. 525CD; p. пер. ч. II, стр. 101.—В данном выражении св. Григория Нисского, конечно, нужно находить указание, только на потенциальное истребление зла во время смерти Господа и в весьма значительном числе людей во время Его праведного суда, так как и после последнего будет продолжаться врачевание тяжких грешников через адские мучения.
— 530 —
рассматриваемого выражения псалмопевца, — когда не будет зла и соответствующих ему образов, так что ни в ком не окажется не истребленным призрак этого зла, тогда «все примут вид, подобный Христу, и во всех воссияет один образ, какой с самого начала был заложен в природу» 1).
Наконец, св. Григорий Нисский приводит в своих сочинениях в качестве подтверждения своего учения об апокатастасисе такое выражение, заимствованное у псалмопевца: «Бог Господь и явися нам: сотворите праздник во учащающих до рог алтаревых» (Пс. 117, 27)2). Проникая в таинственный смысл настоящего выражения, св. отец полагал, что оно «таинственно указывает на составление всей разумной тварью одного праздника, на котором низшие вместе с высшими торжествуют в собрании добрых» 3). По мысли св. епископа Нисского, приведенное выражение имеет преобразовательный смысл. Псалмопевец в данном случае заимствует образ от Моисеевой скинии. Как известно, не все люди могли входить во все части скинии, но некоторым из них, как, например, язычникам и иноплеменникам, запрещен был вход даже внутрь внешней ограды скинии. Да и между евреями, которым дозволялось входить во внутрь, наблюдалось различие. В то время как очистившиеся через соответствующие окропления могли входить в более внутренние ее места, не совершившие над собой такого обряда туда не допускались. При этом нужно заметить, что и между входи-
1) Τῆς γὰρ κακίας οὐκ οὐσης, οὐδὲ ὁ κατ’ αὐτὴν μεμορφωμένος ἔσται ἀπολομένης οὗν τῆς κακίας, καὶ ἐν μηδενὶ τοῦ τοιούτου χαρακτῆρος ὑπολειφθεντος, πάντες κατὰ Χριστόν μορθωθὴσονται, καὶ μία πᾶσιν ἐξαστράψει μορφή, ἡ ἐξ ἀρχῆς ἐπιβληθεῖσα τῇ φύσει. In psalm., lib. H, cap. ΥΊΠ (Mg. XLIV) col. 528A; p. пер. ч. II, стр. 101—102.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 132C; p. пер. ч. IV, стр. 302.
3) Ὡπερ δοκεῖ μοι προαναφωνεῖν δι’ αἰνίγματος, τὸ μίαν ἐορτὴν παση τῇ λογικῇ κτίσει συνίστασθαι τῶν ὑποδεεστέρων τοῖς ὑπερέχουσιν ἐν τῇ τῶν ἀγαθών συνόδῳ συγχορευόντων. Ibidem.
— 531
вшими в более внутренние места скинии также была своего рода градация, так как только «одним священникам дано было законное право, по нужде священнодействия, бывать внутри завесы», в этой самой внутренней части скинии. Наконец, была одна часть в ветхозаветной скинии— это «святое святых, куда был запрещен вход даже священникам, кроме одного первосвященника. «А та,—пишет св. Григорий, — недоступная и сокрытая часть храма, в которой был устроен алтарь, украшенный какой-то оградой из рогов (κεράτων), была закрыта и для входа самих священников, кроме одного предстоятельствовавшего среди священников, который однажды в год, в один назначенный законом день, совершая какое-то таинственное, невыразимое в словах священнослужение, один входил в самую внутрь» 1). Данное устройство ветхозаветной скинии, по представлению святителя Нисского, «служит образом и подобием духовного состояния (εἰκών καὶ μίμημα τῆς νοητῆς καταστάσεως)», в котором находятся разумно-свободные существа в настоящее время. Действительно, и теперь некоторые из разумных существ, подобно святому алтарю, занимают место в «святилище Божества», другие из них, по своему нравственному состоянию, их превосходят, выступая, подобно рогам, из их среды, а третьи, наконец, около последних в известном порядке занимают первые и вторые места. Что же касается человеческого рода, то он, в виду его прирожденной греховности, изгнан из «божественной ограды»2). Однако, пророк, призывая всю разумно-свободную тварь к составлению праздника, обращает свой взор не к настоящему состоянию людей, а к тому, которое наступит после «разрушения преград, которыми зло отделило нас от того, что внутрь завесы (τὰ μετὰ ταῦτα παραφράγματα λύεσθαι , δι
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 132AC—133A; p. пер. ч. IV, стр. 302—303.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 133C; p. пер. ч. IV, стр. 303—304.
532 —
ὧν ἡμᾶς ἡ κακία πρὸς τὰ ἑντὀς τοῦ καταπετάσματος ἀπετείχισεν)» 1), другими словами, псалмопевец созерцает то время, когда « будет уничтожено всякое растление существ, произведенное пороком ( πᾶσα ἡ κατά κακίαν ἑγγινομένη διαφθορά ἑξαφανισθῆ τδν ὅντων)» 2). Тогда именно «вокруг Бога составится общий праздник, во время которого всех ожидает одна и та же радость, потому что никакое различие не будет разделять разумной природы в деле ее участия в одинаковых благах, но даже и те, которые в настоящее время, в силу своей греховности, пребывают пне, некогда будут находиться внутри святилища божественного блаженства и соединятся между собой алтарными рогами, т.-е. превосходнийшими из премирных благ»3).
Не ограничиваясь рассмотренными свидетельствами, заимствованными из Псалтири, св. Григорий Нисский находил опору для своего учения о всеобщем апокатастасисе и в другой ветхозаветной книге, именно Екклезиасте. Из этой книги в пользу данного своего учения он объясняет следующее выражение: «несть память первых, и последним бывшим не будет их память» (Еккл. 1, II)4). По смыслу этого выражения,—полагает св. отец,—зло, происшедшее в человеческом роде после грехопадения наших прародителей, в конце концов, будет уничтожено, так что даже и всякое воспоминание о нем прекратится. «Воспоминание о том, что было после первоначального благоденствия и от чего человечество погрузилось во зло, это,—пишет св. Григорий,—изгладит то, что, наконец, по истечении долгого времени, произойдет. Ведь прекратится воспоминание об этом после того, что, наконец, совершится. Это значит, что полное уничтожение воспоминания относительно испорченности природы будет
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 133C; p. пер. ч. IV, стр. 304.
2) Ibidem.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 133GD—136A; p. пер. ч. IV, стр. 304.
4) In Eccles., hom. I (Mg. XLIV) col. 636A; p. пер. ч. II, стр. 221.
— 533 —
произведено последним восстановлением о Христе Иисусе ( τουτέστιν ἡ ἑσχάτη κατάστασις ἀφανισμόν παντελῆ τῆς τῶν κακῶν μνήμης ἐποῦησε τῆς φύσεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ)» 1)
Кроме изложенных мест Ветхозаветного Откровения, св. Григорий Нисский находил подтверждение для своего учения о всеобщем апокатастасисе также в разных местах Нового Завета.
Прежде всего, в смысле данного своего учения он понимает известное место из послания св. апостола Павла к филиппийцам, где говорится, что некогда Христу всяко колено поклонится небесных, и земных, и преисподних, и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос во славу Бога Отца (2, 10—II)2). По разумению св. отца, этими словами апостол говорит не о пространственном различии духовно-разумных существ, а о качественном. Он различает «три состояния разумной природы—одно, в начале получившее в удел бесплотную жизнь, которое мы называем ангельским; другое, соединенное с плотью, которое мы называем человеческим; третье, освободившееся от плоти через смерть, как это бывает с душами»3). Ясно, что святитель Нисский в рассматриваемых словах св. апостола под небесными разумел ангельский и небесный чин (τὸ ἀγγελικόν τε καὶ ἐπουράνιον)»4), под земными—живых людей, а под преисподними—всех умерших. Кроме того, к категории преисподних он также относит «демонов или духов (ἐίτε δαίμονας ἐίτε πνεύματα)»5). Все эти духовно-разумные существа, наконец, обратятся к Богу. По словам св. Григория, некогда «на всех их распространит свою силу один согласный праздник (πάντας μία καὶ αὐμφω -
1) Ibid. ( Mg . XLIV) col . 636AB; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 224.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 136A.; p. пер. ч. IV, стр. 304—305 cp. ibid. (Mg. XLVI) col. 696C; р. пер. н. IV, стр. 249; In psalm., lib. I, cap. (Mg. XLIV) col. 484C; пер. p. ч. H, стр. 58.
3) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 69D—72A; p. пер. н. IV, стр. 249—250 cp. стр. выше 325—326.
4) De an. et res (Mg. XLVI) col. 136A; p. пер. ч. IV, стр. 305.
5) Ibid. (Mg. XLVI) col. 72A; p. пер. ч. IV, стр. 250.
— 534 —
νος ἑορτὴ κατακρατήσει »1) во время которого «каждый будет разделять с ближним одну и ту же радость» 2).
Однако, не в последнем и не в изложенных выше местах Св. Писания св. Григорий находил самое сильное подтверждение своего учения о всеобщем апокатастасисе. По его мнению, вполне совпадающему с воззрениями Оригена 3), самым важным свидетельством в пользу данного учения служат слова из послания св. апостола Павла к коринфянам: «да будет Бог всяческая во всех (ἴνα Θεὸς τά πάντα ἐν πᾶσιν)» (1 Кор. 15, 28)4). Если,—рассуждает св. епископ Нисский, — в настоящей жизни люди имеют нужду в самых разнообразных предметах, как, например, во времени, воздухе, месте, пище, питье, одежде солнце и т. дал., то в будущей жизни удовлетворение всех этих нужд они найдут в Боге, Который будет для нас всяческая (τὰ πάντα)5). И таким Он окажется не для отдельных личностей, но для всех разумно-свободных существ, потому что Он будет всяческая во всех ( τὰ πάντα ἐν πᾶσιν). «Кто,—пишет св. отец,—бывает всем, Тот бывает и во всех (ὁ δὲ πάντα γινόμενος καὶ ἐν πᾶσι γίνεται)»6). Если же, по свидетельству Св. Писания, Бог некогда будет во всех (ἐν πᾶσιν), то «этим, по словам святителя Нисского, Писание учит о совершенном уничтожении зла, потому что, если во всех существах будет Бог, то, несомненно, в них не будет зла (κακία). Если же кто-либо допустит, что в них будет зло, то как сохранится во всей силе сказанное, что во всех существах Бог? Ведь изъятие его (зла) из общего числа делает недостаточ-
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 136A; p. пер. ч. IV, стр. 305.
2) De mortuis (Mg. XLVI) col 536C; p. пер. ч. VII, стр. 531 cp. In psalm., Jib. I, cap. IX (Mg. XLIV) col. 481CD; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 58—59.
3) Стр. выше 190.
4) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 104A; p. пер. ч. IV, стр. 277.
5) Ibid. (Mg. XLVI) col. 104AB; p. пер. ч. IV, стр. 277278.
6) Ibid. (Mg. XLVI) col. 104В; p. пер. ч. IV, стр. 278.
— 535
ным понятие все» 1). Если мы допустим, что в каких-нибудь существах будет зло, то в них не будет Бога. Но тогда станет ложным и то положение, что Бог будет во всех, потому что Бога нельзя мыслить в одном месте со злом, которое по своей природе—ничто 2). Таким образом, св. Григорий на основании рассматриваемого выражения св. апостола приходил к такому заключению, что некогда по необходимости исчезнет долгая вражда между добром и злом, а вместе с ней также исчезнет и разделение всей разумно-свободной твари на праведников и грешников. Так как зло безусловно будет уничтожено, то никаких грешников тогда не будет. Тогда будут одни только святые. Тогда, наконец, завершится восстановление всей твари в ее первобытное состояние.
Итак, св. Григорий Нисский находил опору для своего учения о восстановлении всей разумно-свободной твари в первобытное состояние в Св. Писании как Ветхого, так и Нового Заветов.
Правда, нельзя не заметить, что св. Григорий, обосновывая свое учение о всеобщем апокатастасисе на одних свидетельствах Божественного Откровения, по-видимому, впадал в противоречие с другими его выражениями, в которых говорится о вечности будущих наказаний. Наличность данного противоречия в творениях св. отца, по замечанию Хильта3), допускается очень многими исследователями, признающими учение святителя Нисского о всеобщем апокатастасисе вытекающим из его мировоззрения
1) Ἐν τούτῳ δὲ μοι δοκεῖ τὸν παντελῆ τῆς κακία; ἀφανισμόν δογματίζειν ὁ λόγος. Εἰ γὰρ ἐν πᾶσι τοῖς οὐσιν ὁ Θεὸς ἔσται, ἡ κακία δηλαδὴ ἐν τοῖς οὐσιν οὐκ ἔσται. Εἰ γὰρ τις ὑπόθοιτο κάκείνην εἶναι, πῶς σωθήσεται τὸ ἐν πᾶσι τὸν Θεὸν εἶναι; Ἡ γὰρ ὑπεξαφεσις ἐκείνης, ἐλλιπῆ τῶν πάντων ποιεῖ τὴν περίληψιν. Ibid. (Mg. XLVI) col. 104BC—105A; p. пер. ч. IV, стр. 278—279 cp. In illud, tuncipse filius subjiciet., etc., orat. (Mg. XLIV) col. 1310CD.
2) Такпонимает приведенные слова св. Григория Dr. Fr. Hilt (ор. cit., S. 276).
3) Dr. Fr, Hilt, op. cit., S. 285.
— 536 —
Констатируя указанное противоречие учения св. Григория Слову Божью, эти исследователи, однако, не обнаруживают попыток к его устранению. Только Хильт, по справедливому замечанию проф. О. Барденхевера1), дал основательное исследование учения св. епископа Нисского о всеобщем апокатастасисе вообще и указанном видимом противоречии в частности.
И в самом деле, уясняя данное противоречие учения св. Григория о всеобщем апокатастасисе с некоторыми выражениями Св. Писания, названный исследователь обратил внимание, прежде всего, на то, что святитель Нисский в тех своих сочинениях, в которых он настойчиво отрицает непрерывную продолжительность адских мучений, пользуется также выражениями из Св. Писания, которые угрожают вечными мучениями. Это обстоятельство привело его к тому естественному следствию, что для св. отца его учение о всеобщем апокатастасисе и последние выражения Божественного Откровения не казались несовместимыми. Теперь лишь возникал вопрос, каким образом св. епископ Нисский мог в одних и тех же сочинениях высказывать свое учение о всеобщем апокатастасисе и пользоваться выражениями св. Писания, говорящими о вечности будущих наказаний. В виду того, что данный вопрос не имеет для себя ответа в творениях св. Григория, Хильт прибегает к очень остроумным догадкам, на основании которых старается устранить противоречие святителя Нисского Св. Писанию 2).
По мнению названного ученого, не только отсутствие действительного противоречия между учением св. епископа Нисского о всеобщем апокатастасисе и теми выражениями Св. Писания, которые говорят о вечности будущих наказаний, но, напротив, и полная связь между ними становится
1) Prof. О. Baredenhewr, Geschichte, Bd. ІІІ , S. 217; Patrologie, Aufl. 3, S. 265.
2) Dr. Fr. Hilt, op. cit, S. 285—286.
— 537 —
совершенно понятной в том случае, если мы допустим, что св. отец выражениям Божественного Откровения, трактующим о вечности адских мучений, приписывал пророческий характер. Всякое пророчество, по воззрению Хильта, предполагает наличность известных условий, которые не всегда открыто выражаются. В зависимости от существования этих условий находится исполнение стоящего с ними в тесной связи пророчества. Это ясно утверждается в Св. Писании, когда последнее представляет нам примеры неисполнения пророчеств при неосуществлении тех условий, которые им обязательно должны предшествовать. Так, известно, что не исполнилось пророчество о разрушении Ниневии, когда ее жители покаялись. То же самое, по мнению названного ученого, мы должны представлять себе и относительно тех выражений Св. Писания, которые св. Григорий, несмотря на заключающуюся в них мысль о вечности адских мучений, ставил в полное согласие с своим учением о всеобщем апокатастасисе, а вместе с тем—и с другими выражениями Божественного Откровения, которые он приводил в качестве подтверждения этого своего учения. По мысли св. Григория Нисского, как ее представляет себе Хильт, выражения Св. Писания, трактующие о вечности будущих наказаний, заключают в себе смысл пророческих выражений и, действительно, говорят о вечности адских наказаний, но только в том случае, если грешники навсегда утвердятся в своих грехах. Ясно, что только при условии ожесточения грешников в их беззакониях св. отец допускал для них вечность адских мучений. Наоборот, если это условие потеряет свою силу, то, по его мнению, не может быть никакой речи о вечности будущих наказаний.
Таким образом, св. Григорий, пользуясь в своих сочинениях такими выражениями Божественного Откровения,
-538-
которые говорят о вечности будущих наказаний, не впадал в противоречие 1).
Возможно и другое объяснение видимого противоречия учения о всеобщем апокатастасисе тем местам Св. Писания, которые трактуют о вечности будущих мучений. Можно думать, что св. Григорий Нисский, подобно Оригену 2), полагал, что Св. Писание выдвигает угрозы о будущем наказании страшными и веяными мучениями с педагогической целью воздействия на грешников, с целью вынуждения последних к исправлению 3). Чтобы убедиться в справедливости данного взгляда св. Григория на будущие наказания грешников, достаточно вспомнить несколько мест из его сочинений. Так, говоря о будущем суде и мучениях грешников, святитель Нисский выражается таким образом. «Для слабых людей—это угроза и восстановление печалей, дабы мы страхом болезненного воздаяния образумились вплоть до уклонения от зла» 4). А в другом месте своих сочинений, поэтически представив картину страшного суда, согласно описанию ее, какое дает нам св. евангелист (Мф. 25, 31—46), и сказав, что во время данного суда праведный Судья назначит «человеконенавистникам и злым вечное огненное наказание (τιμωρία πυρὸς καὶ διαιωνίζιυσα)», св. отец делает такое замечание. «Все это, говорят он, описано тщательно. И это строгое судилище живо изображено в
1) Ibid., ор. cit., S. 288—287. Этому своему объяснению данного видимого противоречия у св. Григория Нисского Фр. Хильт придает тем большее значение, что и бл. Августин, говоривший, по его мнению, в своих творениях о всеобщем апокатастасисе (напр., De civit. Dei, lib. XXI. cap. 18), также рассматривал те выражения св. Писания, которые говорят о вечности будущих мучений грешников, в пророческом смысле (Ibid., ор. cit., S. 287).—Однако, ссылка Фр. Хильта на творения бл. Августина не имеет большой силы, так как воззрения св. Григория Нисского следует изъяснять на основании его собственных сочинений.
2) Стр. выше 153.
3) Dr. Fr. Hilt, ор. cit, S. 288.
4) Orat., cat. cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 47); p. пер. ч. IV, стр. 31—32.
539
слове не для чего иного, как для того, чтобы научить лас пользе благотворительности»1).
Возможно, наконец, и третье объяснение рассматриваемого видимого противоречия в творениях св. Григория Нисского. Выше2) мы показали, что св. отец своеобразно понимал слово « ιών , именно в смысле известного периода времени, а не вечности. Поэтому, весьма вероятно, что св. епископ Нисский, приводя в своих сочинениях такие выражения Божественного Откровения, которые, по обычному мнению, говорят о вечности адских мучений, не считал их стоящими в противоречии с другими выражениями Св. Писания, которые он заимствовал из него для обоснования своего учения о всеобщем апокатастасисе, по той причине, что слово αἰὼν в свидетельствах Слова Божия, угрожающих вечными наказаниями, он мог понимать в смысле лишь известного периода времени.
Однако, как пророческий смысл, так и педагогический характер свидетельств Св. Писания о будущих адских мучениях, а также своеобразное понимание св. Григорием слова αἰών , сами по себе, еще не обусловливают невечности ожидаемых наказаний. Вечные мучения на том свете, о которых говорит св. Писание, и с точки зрения святителя Нисского могут продолжиться в бесконечность, если только окажутся грешники, ожесточившиеся в своих грехах. Поэтому, указание видимого противоречия у св. отца может быть устранено без всякого остатка только в том случае, если мы докажем, что св. Григорий полное загробное ожесточение грешников в их беззакониях считал невозможным. На последнее обстоятельство обратил внимание и Хильт 3). Придавая важное значение данному обстоятель-
1) De pauper, amand., orat. I (Mg, XLVI) col. 461A; p. пер. ч. VIII. стр. 402—403.
2) Стр. 386—388.
3) Dr. Fr. Hilt, ор. cit., S. 289.
— 540 —
ству, он выдвинул вопрос о том, признавал ли святитель Нисский возможность окончательного ожесточения грешников на том свете. Исходя из того положения, что св. отец нигде в своих творениях не говорит о таком загробном ожесточении грешников в своих грехах, названный ученый исследователь утверждает, что он его отрицал. Правда, св. епископ Нисский в одном месте своих творений пишет, что грешники, если они ожесточатся в своих грехах, на том свете, согласно свидетельству Пс. 941), не будут иметь места на небе. Но он, однако, нигде не говорит, что в загробном мире, на самом деле, будут грешники, ожесточившиеся в своих -грехах. Более того, с точки зрения эсхатологических представлений св. Григория ожесточение на том свете грешников в их беззакониях является недопустимым. Дело в том, что святитель Нисский, как об этом подробно мы уже говорили в своем месте 2), учил об очищении людей в загробном мире от грехов через адские мучения3). Наконец, будущее ожесточение людей в грехах, по мнению св. Григория, должно быть признано психологически невозможным. Как мы уже знаем, по представлению св. отца, как зло, так и добро являются делом свободной воли человека. Решительно нет никаких оснований думать, что человеческая воля на том свете сохранит за собой свободу пребывания только во зле. Наоборот, данную мысль необходимо считать совершенно ложной. И это потому, что зло не свойственно человеческой природе, а все чуждое ей, по мысли св. епископа Нисского, служит для него бременем. Естественно, отсюда, предполагать, что человек, обременивши свою природу
1) In psalm ., lib . И cap . IX ( Mg . ХLI V) col . 528ВС; р. пер. ч. II, стр. 102—103.
2) Стр. 368—375.
3) De mortuis (Mg . XLVI) col . 525C ; р. пер. ч. VII , стр. 519 vgl . Dr. Fr. Hilt, op . cit ., S . 290. 290 Anm . 3.
— 541
злом, будет стремиться к возвращению в свое прежнее добродетельное состояние. «Не навсегда,—пишет св. Григорий,—остается в природе страстное желание того, что ей чуждо. Поэтому, каждого пресыщает и обременяет ему несвойственное, с чем в начале природа сама по себе не имела общения. Одно только сродное и однородное остается желанным и любимым до тех пор, пока природа бывает сама по себе неизменной. Если же она подвергнется какому-либо извращению от злой воли, тогда в ней появляется страстное желание того, что ей чуждо, наслаждение чем доставляет удовольствие не природе, но ее страсти. Если же страсть не имеет места, то вместе с ней нет места и для страстного желания того, что не свойственно природе. Наоборот, снова для нее становится страстно желательным и близким то, что ей свойственно» 1). Ясно, что воля человека, по убеждению св. Григория Нисского, только в течение известного времени может устремляться на то, что чуждо его природе. Поэтому, нельзя допустить ожесточения человека в грехах как здесь, так и в загробном мире2).
Таким образом, не может быть никакой речи о противоречии у св. епископа Нисского между его учением о всеобщем апокатастасисе и, следовательно, теми свидетельствами Св. Писания, какие он приводил в своих творениях в качестве доказательства этого учения, с одной стороны, и его пониманием тех мест Божествен-
1) Οὐ γὰρ εἰς ἀεὶ παραμένει τῶν ἀλλοτρίων ἡ ἐπιθυμία τῇ φύσει διότι πλήσμιον ἐκάστῳ καὶ προσκορὲς ἐστι τὸ μὴ ἴδιον , οὐ μὴ κατ ' ἀρχὰς ἔσχεν ἐν ἐαυτῇ τὴν κοινωνίαν ἡ φύσις. μόνον δὲ τὸ συγγενὲς καὶ ὁμόφυλον ποθεινὸν καὶ ἐράσμιον εἰς ἀεὶ διαμένει , ἔως ἄν ἐφ ’ ἐαυτὴς ἡ φύσις ἀπαράτρεπτος μένη εἰ δὲ τινα ἐκτροπὴν πάθοι διὰ μοχθηρᾶς προαιρέαεως , τότε αὐτῇ τῶν ἀλλοτρίων ἡ ἐπιθυμία ἐγγίνεται , ὧν ἡ ἀπόλαυσις ἡδύνει , οὐχὶ τὴν φύσιν , ἀλλὰ τὸ πάθος τὴς φύσεως ἐκχωρήσαντος δὲ τοῦ πάθους , καὶ ἡ τῶν παρὰ φύσιν ἐπιθυμία συνανεχώρησεν , καὶ γίνεται πάλιν αὐτῇ τὸ οἰκεῖον ποθεινὸν καὶ κατάλληλον . De mortuls ( Mg . XLVI) col. 525CD; p. пер. Ч. VII, стр. 519—520; vgl. Dr. Fr. Hilt, op cit ., S . 290—291. 291 Anm . 1.
2) Dr. Fr. Hilt, op . cit ., S . 291.
542
ного Откровения, которые говорят о вечности адских мучений, с другой.—
Итак, св. Григорий Нисский на основании всех изложенных доказательств полагал, что некогда «совершится восстановление пребывающих в настоящее время во зле в первобытное состояние (ἡ εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀποκατάστασις τῶν νῦν ἐν κακία κειμένων γενηται)»1)
3. Ἀποκατάστασιςвсех людей.
Уже на основании сказанного нами до сих пор о восстановлении всей разумно-свободной твари в ее первобытное состояние можно утверждать, что св. Григорий улил о будущем возвращении к общению с Богом, как Источником всякого блага, всего человеческого рода.
И в самом деле, св. Григорий Нисский, считая зло ограниченным известными пределами, полагал, что все люди, достигши этих его пределов, снова вступят на путь добра. Вступивши же на этот последний путь, они будут вести образ жизни совершенно отличный от того, какой мы ведем в настоящее время 2). Тогда, когда каждый человек освободится от всякого зла и ни в ком уже не останется никаких признаков последнего, все люди примут вид, подобный образу Христа, и «во всех воссияет один образ, какой в начале был сообщен нашей природе (μία πᾶσιν ἐξαστράψει μορφή , ἡ ἐξ ἀρχῆς ἐπιβληθείσα τῇ φύσει)3). Не подлежит сомнению, что в данном случае св. отец ведет речь о будущем возвращении всех людей в первобытное состояние, в котором они будут наслаждаться одним лишь небесным блаженством.
1) Orat. cat., cap. 26 (Srawley, op. cit., p. 100); p. пер. ч. IV, стр. 70.
2) De hom. opif., cap. XXI (Mg. XLIV) col. 201CD—204A; p. пер. л. I, стр. 162—163.
3) In psalm., lib. Π, cap. VIII (Mg. XLIV) col. 528A; p. пер. ч. II, стр. 102.
— 543 —
Мысль о том, что некогда все люди возвратятся в состояние первоначального, райского блаженства наших прародителей св. Григорий выражает в своих творениях весьма решительно. По его мнению, ничто из созданного нашим Творцом не будет изгнано из царства Божия, когда через очищающий огонь будет истреблено мировое зло 1), а вместе с ним прекратит свое существование в человеческом роде также и смерть, которая является следствием греха. Когда же, таким образом, господство греха и смерти над человеческим родом прекратится, тогда он покорится одной истинной власти, которая принадлежит Богу. Это покорение человеческого рода Богу совершится через Его Единородного Сына. «Покорение всех людей Богу,—пишет св. епископ Нисский,—когда мы, соединившись друг с другом посредством веры, все станем единым телом находящегося во всех Господа,—это апостол называет покорением Сына Отцу (1 Кор. 15, 28), потому что единодушно всеми: небесными, земными и преисподними совершаемое поклонение Сыну переходит во славу Отца, как говорит Павел, что Сыну поклонится всякое колено небесных и земных и преисподних: и всяк язык исповесть, яко Господь Иисус Христос во славу Бога Отца (Филип. 2, 10. 11). А что после этого, —так заключает св. отец данную свою речь,—находящийся во всех Сын через покорение всех, в ком Он пребывает, Сам покорится Отцу,—это утверждает великая мудрость Павла» 2).
Определяя точнее процесс спасения всех людей, св. Григорий полагал, что он должен быть рассматриваем
1) μηδενὸς τῶν παρὰ τοῦ Θεοῦ γεγονότων τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ ἀποπίπτοντος, ὅταν πάσης τῆς ἐμμιχθείσης τοῖς οὖσι κακίας οἶόν τινος ὕλης κυβδὴλου, διὰ τῆς τοῦ καθαρσίου πυρὸς χωνείας ἀναλυθείσης, τοιοῦτον γένηται πᾶν, ὁ παρὰ τοῦ Θεοῦ ἔσχε τὴν γένεσιν. οἶον ἐξ ἀρχὴς ἦν, ὅτε οὐπω τὴν κακίαν ἐδέξατω. In illud, tunc Ipse filius subjiciet, etc., orat. (Mg. XLIV) col. 1313A; vgl. Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 302.
2) Contra Eunom., lib. II (Mg. XLV) col. 557BC; p. пер. ч. V, стр. 364 cp. Ориген, стр. выше 187. 189.
— 544
с двух сторон, сообразно тому двоякому смыслу, какой св. апостол, по мнению св. отца, усвоял понятию «враг». Святитель Нисский полагал, что, сообразно этому смыслу, одни из врагов будут испразднены (καταργηθήσεται), именно смерть и связанная с нею сила греха, эти враги по естеству, а другие—покорятся (ὐποταγὴσονται) или примирятся, именно люди, уклонившиеся от царства Божия, враждовавшие с Богом. То и другое, естественно, приведет все человечество к спасению 1). Отсюда, все люди, которые в настоящее время противятся Богу, некогда будут приведены к Нему через Его Сына. В силу последнего обстоятельства, тогда покорение всего человеческого рода Богу не будет сопровождаться чем-либо для него унизительным, но оно совершится во всей возможной славе и величии. Поэтому, св. апостол Павел имел полное право высказывать мысль о том, что Тот, Кто жил среди людей, совершил спасение последних, покоривши их Богу 2). «Когда мы будем все Христовы, тогда,— пишет св. Григорий,—и Христос будет Божий, покорив через Себя Отцу всех, которых Он прежде от Него принял, да будет Бог всяческая во всех (1 Кор. 15, 28). Он бывает в известном смысле не покорившимся Отцу, когда вверенные Ему, образ которых Он воспринял, еще Ему не покорились. Когда же Ему покорится все, тогда Он передаст царство Богу и Отцу» 3). «Сын передаст Ему не царское достоинство, как я,— заявляет святитель Нисский,—прежде сказал, но вступивших в Его царство и покорившихся Ему. Представив и передав такое царство, Он скажет: «вот царское священие, язык свят, люди обновления Моею» (1 Петр. 2, 9). И еще: «се аз и
1) In illud, tunc ipse filius subjiciet., etc., orat. (Mg. XLIV) col. 1324CD—1325A.
2) Ibid. (Mg. XLV) col. 1316CD.
3) Adv. Arium et Sabell. 7 (Mg. XLIV) col. 1292CD; p. пер. ч. VII, стр. 12.
—545 —
дети, яже ми дал есть Бог» (Евр. 2, 16), потому что Он дан их Ему, подчинив Ему все народы: «дам ти языки достояние Твое и одержание твое концы земли» (Пс. 2, 6) 1).
Таким образом, через покорение через Христа всех людей Богу восстановится во всей полноте и широте царство Божие и, следовательно, поистине, согласно с свидетельством св. апостола, будете Бог всяческая во всех (1 Кор. 15, 28).
4. Αποκατάστασις злых духов.
В своем месте мы уже видели, что сила доказательств, приводимых св. Григорием Нисским в пользу учения о всеобщем апокатастасисе имеет настолько широкое значение, что действий данного великого акта мировой истории ни в каком случае нельзя ограничивать одними только людьми, не распространяя их в то же время и на злых духов. И в самом деле, если в силу тех аргументов, которые св. отец приводил для обоснования своего учения о всеобщем апокатастасисе, зло, наконец, будет устранено ив всего действительно существующего, то его, несомненно, не будет и в злых духах. Естественно, поэтому, наступит время, когда и диавол возвратится в свое первоначальное блаженное состояние, достигнув снова наслаждения божественным светом.
Однако, для утверждения той мысли, что св. Григорий Нисский, подобно Оригену 2), учил о восстановлении злых духов в их первобытное состояние, было бы недостаточно одних подобных соображений, если бы мы не находили в его сочинениях специальных рассуждений по данному вопросу. Здесь св. Григорий свое положение о спасении, в конце кондов, диавола, виновника мирового зла, не только определенно высказывает, но также и аргументи-
1) Ibid. (Mg. XLV) col. 1292D-1293A; р. пер. ч. VII, стр. 13.
2) Стр. выше, 192—193.
— 546 —
рует. В качестве основания для данной своей мысли, он, подобно Оригену 9, указывает на универсальность искупительной жертвы Сына Божия.
По учению св. Григория Нисского, искупительное дело Христа коснулось не только людей, но отразилось и на злых духах. К последним оно имело отношение,—поскольку Господь избавил людей от их власти,—уже с отрицательной стороны. Проникая в тайну искупления Христом разумно-свободных существ, святитель Нисский высказывал в 26 главе своего «Большого Огласительного Слова» ту мысль, что Бог в этом акте допустил «не. который обман и обольщение (ἀπάτη τις παραλογισμός)»2). И это потому, что данный характер искупления он считал выражением самой точной справедливости и премудрости, соединенных при этом с величайшими благостью и человеколюбием. «У кого,—пишет св. отец,—пред глазами истина, тот согласится, что это именно более всего свойственно справедливости и премудрости. Ведь, дело справедливости—воздавать каждому по достоинству, а дело премудрости—не нарушать справедливости и доброй цели человеколюбия не отделять от праведного суда, но то и другое искусно совмещать между собой, воздавая по справедливости каждому, него кто достоин, а по благости—не отступать от цели человеколюбия» 3). Если закон справедливости требует воздавать каждому по достоинству, а «премудрости свойственно в способе воздаяния подобным не отступать от лучшего», то диавол, «обманувший человека приманкой удовольствия, и сам теперь обманывается человеческим видом»4), но обман, допущенный Богочеловеком, и обман, употребленный врагом человече-
1) Стр. выше 189 и дал.
2) Orat. cat., cap. 26 (Srawley, op. cit., p. 97); p. пер. ч. IV, стр. 67.
3) Orat. cat., cap. 26 (Srawley, op. cit., p. 97); p. пер. ч. IV, стр. 67—68.
4) Ibid., (Srawley, op. cit., p. 98); р.пер. ч. IV, стр. 68.
— 547 —
ского рода, совершенно противоположны по своим целям. «Один, по воззрению св. отца, употребил обман для искажения природы, а Справедливый, вместе с тем Добрый и Премудрый, измышлением обмана воспользовался для спасения испорченного, оказывая через это благодеяние не только погибшему, но и самому виновнику нашей погибели» 1).
Во-вторых, искупительное дело Христа имеет и положительное значение для диавола; оно покажет ему его бессилие и явит ему славу и величие Божьи. По мнению св. Григория, принятие Богом зараженной грехом человеческой природы уничтожит в ней все виды порока, какие только могут возникнуть у «изобретателя зла». Если же зло во всех его видах прекратится, то, естественно, и область господства диавола разрушится. Отсюда, если наш «противник» почувствует на себе самом следствия искупительного дела Христова, то и он признает последнее справедливым и спасительным. «Когда,—говорит св. Григорий,—смерть, тление, тьма и, если есть еще какой-либо вид порока, возникли у изобретателя зла, то приближение божественной силы, совершая, подобно огню, уничтожение противоестественного, оказывает природе благодеяние нетлением. Поэтому, и самому противнику, если он восчувствует благодеяние, не покажется сомнительным, что совершенное справедливо и спасительно» 2). Таким образом, последним следствием искупительного дела Христова, по мысли св. Григория Нисского, будет, с одной стороны, избавление человека от зла (τὸν τε ἀν -
1) Ὁ μὲν γὰρ ἐπι διαφθορά τὴς φύσεως τὴν ἀπάτην ἐνήργησεν, ὁ δὲ δίκαιος ἅμα καὶ ἀγαθὸ; καὶ σοφός ἐπὶ σωτηρία τοῦ καταφβαρέντος τῇ ἐπινοία της ἀπάτης ἔχρήσατο, οὐ μόνον τὸν ἀπολωλότα διὰ τούτων εὐεργετών, ἀλλὰ καὶ αὐτὸν τὸν τὴν ἀπώλειαν καθ’ ἡμῶν ἐνεργήσαντα. Ibid. (Srawley.V, op. Cit., р. 98) р. пер, ч. IV, стр. 68—69.
2) Ibid. (Srawley, op. cit., p. 99); p. пер. ч. IV. стр. 69.
548
θρωπον τῆς κακίας ἐλεύθερων), а с другой,—уврачевание самого изобретателя зла (καὶ αὐτὀν τὸν τῆς κακίας εὐρετὴν ἰώμενος)1).
Впрочем, несмотря на всю очевидность, с какой св. епископ Нисский утверждает в 26 главе своего «Большего Огласительного Слова» мысль о будущем спасении диавола, один исследователь—проф. Винченци старается всячески доказать, что в данной главе названного сочинения св. отца нет, даже намека на диавола. По мнению этого ученого, здесь необходимо видеть речь только о восстановлении через искупительное дело Христа испорченной человеческой природы (caro peccati), которая служит источником всякого зла, но ни в каком случае — не о диаволе. Все такие выражения, как— ἑχθρός 2), ἐδρετὴς τοῦ κακοῦ 3), εὐρετὴς τῆς κακίας 4), ἀντικείμενος 5), ἐπνβουλεύων 6), ἀπατεών 7) и т. под, по мнению проф. Винченци, означают именно испорченную грехом человеческую природу, но не диавола. Для подтверждения такого своего понимания данной терминологии св. епископа Нисского проф. Винченци приводит аналогичные выражения из послания св. апостола Павла к римлянам (гл. 6 и 7), где, действительно, под термином, например, ἔχθρός , разумеется греховная плоть или, по выражению св. апостола, тот «ветхий человек», который находится в постоянной борьбе с духом, т.-е. с «внутренним человеком»8).
Помимо аналогичных апостольских выражений, названный исследователь старается найти подтверждение для.
1) Ibid. (Srawley, ор. cit., p. 101); p. пер. ч. IV, стр. 70.
2) Ibid. (Srawley, ор. cit., p. 97).
3) Ibid. (Srawley, op. cit, p. 99).
4) Ibid. (Srawley, op. cit., p. 101).
5) Ibid. (Srawley, op. cit., p. 99).
6) Ibid. (Srawley, op. cit, p. 97).
7) Ibid. (Srawley, op. cit., p. 98).
8) Prof. Al. Vincenzi, S. Gregorii Nysseni et Origenis de aeternitatepoenarum in vita futura cum dogmate catholico concordia (Romae 1864), p. 23-24.
—549 —
своего мнения также и в тех рассуждениях, какие св. Григорий Нисский нам предлагает в связи с указанными своими выражениями. «Эти рассуждения св. отца, по воззрению проф. Винченци, не могут относиться к диаволу, иначе пришлось бы понять многие выражения святителя Нисского в том смысле, что Бог вошел в диавола. Так, например, св. Григорий говорит, что «Бог не открытым божеством, но, скрывшись под человеческой природой, неузнанный врагом, входит к обладающему (ἐντὸς τοῦ κρατοῦντος γενέσθαι)»1). Если же мы признаем, что в данном случае под «обладающим» св. отец разумеет диавола, то, по рассуждению проф. Винченци, мы должны будем согласиться с тем, что Сын Божий, приняв человеческое тело, вошел в диавола. Разумеется, последняя мысль будет самым грубым богохульством 2). Что в данном случае св. епископ Нисский разумеет общение Господа не с диаволом, а с плотью греха, на это проф. Винченци видит указание в дальнейших словах св. отца3), где, действительно, идет речь о греховном человеческом естестве: «от приближения смерти к Жизни, тьмы к Свету, тления к Нетлению происходит уничтожение худшего и превращение в ничто, а от этого бывает польза для очищаемого» 4) от всего указанного.
Таким образом, проф. Винченци в рассмотренных нами выше выражениях св. Григория Нисского не находил мыслей о восстановлении злых духов в их первобытное состояние.
1) Orat. cat., cap. 26 (Srawley, op. cit., p. 96—97); p. пер. ч. IV, стр. 67.
2) Ptof. Al. Vincenzi, op. cit., p. 24.
3) Ibid., op. cit., p. 27.
4) Ἐκ γὰρ τοῦ προσεφγίοαι τῇ ζωῇ μὲν τὸν θάνατον, τῷ φωτὶ δὲ τὸ σκότος, τῇ ἀφθαισία δὲ τὴν φθοράν, ἀφανισμὸς μὲν τοῦ χείρονος γίγνενται καὶ εἰς τὸ μὴ ὂν μεταχώρησις, ὠφέλεια δὲ τοῦ ἀπὸ τούτων καθαιρομένου. Orat, cat., cap. 36 (Srawley, op. cit., p. 98—99); p. пер. ч. IV, стр. 69.
— 550 —
Но попытка проф. Винченци сообщить указанный смысл изложенным нами в своем месте отдельным выражениям св. Григория в 26 главе его «Большого Огласительного Слова» должна быть признана несостоятельной, так как все основания, приводимые им для подтверждения его, лишены всякой силы и значения.
И в самом деле, утверждение проф. Винченци, что такие термины святителя Нисского, как например, ἑχθρός , εὐρετὴς τοῦ κακοῦ и т. дал., обозначают испорченную человеческую природу, должно быть решительно отвергнуто. Как мы видели, он приводит в качестве доказательства этого своего мнения аналогии из послания св. апостола Павла к римлянам. Действительно, св. апостол в этом своем послании говорит о законе греха и похоти плоти в человеке. Но эти мысли св. апостола Павла, все-таки, не могут служить полной аналогией при выяснении смысла тех терминов св. отца, какие он употребляет в рассмотренных местах своих сочинений 1). Впрочем, вся ошибочность понимания проф. Винченци указанной терминологии св. епископа Нисского открывается не из того, что аналогии, приводимые им в пользу того значения, какое он ей усвояет, слабы и недостаточны, а главным образом из того, что смысл, приписываемый им этой терминологии св. Григория не оправдывается параллельными местами в его сочинениях. Конечно, святитель Нисский в своих творениях некоторые из рассматриваемых нами терминов, действительно, иногда мог употреблять для обозначения испорченной человеческой природы или ее склонности к худому, но, несомненно, большая часть из них в творениях св. отца в той текстуальной связи, в какой они находятся, не может быть признана простым
1) Dt. Fr. Hilt, op. cit., S. 309.—Способ изъяснения терминологии св. Григория на основании посланий сл. апостола Павла едва ли может считаться в данном случае методологически правильным.
— 551 —
выражением греховности или испорченности нашей природы 1). Такие выражения, как— ἐχθρός , ὁ τοῦ ψεύδους πατήρ , εὐρετὴς θανάτου , ὁ τοῦ θανάτου δημιουργός , ὁ τῆς κακίας εὁρετὴς и т. под., могут относиться только к диаволу. Чтобы убедиться в этом, мы приведем несколько примеров. Так, характеризуя диавола, св. Григорий пишет, что отцу лжи, виновнику смерти, изобретателю зла, созданному умной и бесплотной природой, эта природа не воспрепятствовала стать тем, что она есть 2). Или: «для духовной природы истинную жизнь составляет общение с Богом, а отпадению от Него принадлежит наименование — смерть. По. этому, и родоначальное зло, диавол, называется и смертью и изобретателем смерти. Апостол же говорит, что он имеет и державу смерти (Евр. 2, 14)»3). Или в других местах св. отец говорит, что демоны, «блуждая и днем и ночью по воздуху, являются творцами и слугами зла (κακίας εἰσὶ ποιηταὶ καὶ ὁπηρέται)»4), что «Писание изображает нам змия начальником и изобретателем зла (τῆς κακίας ἀρχηγὸν καὶ εὐρετῆν)»5), что «змий есть изобретатель зла (τοῦ εὐρετοῦ τῆς κακίας ὄφεως)»6). Из всех сейчас приведенных выражений св. Григория ясно следует, что он такие термины, как, например, εὑρετὴς τῆς κακἑας и т. под., употреблял для обозначения диавола, потому что они при другом зна-
1) Dr. Fr. Hilt, ор. cit., S. 310. 310 Anm. 1.
2) ὅτι καὶ ὁ τοῦ ψεύδους πατήρ , ὁ τοῦ θανάτου δημιουργός , ὁ τὴς κακίας εὑρετὴς , κτιστός ὢν ἐν νοερᾷ τε καὶ ἀσωμάτῳ φύσει , οὐκ ἐκωλὑθη ὐπὸ τὴς φύσεως διὰ μεταβολὴς γενέσθαι , ὅπερ ἐστίν . Contra Eunom., lib. IV (Mg. XLV) col. 632B; p. пер . ч . V. стр . 449.
3) Ἐπὶ δὲ τὴς νοερᾶς φύσεως , ἡ πρὸς τὸ θεῖον οἰκείωσις , ἡ ἀληθὴς ἐστι ζωή καὶ ἡ τούτου ἀπόπτωσις θάνατον ἔχει τὸ ὁνομα , Διὰ καὶ τὸ ἀρχέφονον κακὸν ὁ διάβολος , καὶ θάνατος λέγεται , καὶ εὐρετὴς θανάτου ἀλλὰ καὶ κράτος ἔχειν θανάτου παρὰ τοῦ Ἀποστόλου λέγεται . Ibid., lib. III (Mg. XLV) col. 797CD; p. пер. л. VI, стр. 135—136.
4) De pauper, amand., orat. I (Mg. XLVI) col. 456AB; p. пер. ч. VII, crp. 397.
5) Adv. Apoll. 7 (Mg. XLV) col. 1137C; p. пер. ч. VII, стр. 73.
6) De profes. christ. (Mg. XLVI) col. 248B; p. пер. ч. VII, стр. 221.
552
нении в той текстуальной связи, в какой мы их находим в творениях св. отца, были бы непонятны1). Если же таков смысл данной терминологии св. Григория Нисского вообще, то, разумеется, нет никаких оснований думать, что святитель Нисский в 26 главе своего «Большого Огласительного Слова» отступил от него, обозначив рассматриваемыми терминами испорченную человеческую природу 2). Наконец, как справедливо замечает наш отечественный исследователь3), все уясняемые нами термины 4) 26 главы названного сочинения указывают на такие черты, которые могут принадлежать только живому и разумному существу, которое при этом обладает «собственным произволением (ἡ ἰδία προαίρεσις)»5).
Что касается других аргументов проф. Винченци, то они также не основательны. Как мы видели, названный ученый полагает, что будто бы мы, допустивши в данном месте сочинений святителя Нисского речь о диаволе, тем самым вынуждаемся согласиться с тем, что св. отец признает связь между Богом и диаволом. Но подобная аргументация проф. Винченци не выдерживает решительно никакой критики. Дело в том, что те выражения св. епископа Нисского, в которых при допущении речи о диаволе будто бы необходимо видеть связь между Богом и диаволом, заключают в себе совершенно другие мысли. Так, выражение св. Григория: «Бог не открытым божеством, но, скрывшись под человеческой природой, неузнанный врагом, входит к обладающему (ἑντὀς τοῦ κρατοῦντος γενέσθαι)»6), вопреки мнению проф. Винченци,
1) Dr. Fr. Hilt, ор., cit., S. 311.
2) Ibid., op. cit, S. 310.
3) Проф. A. Мартынов, op. cit., стр. 362.
4) Ἀπατεῶν—обольститель; ἐπιβουλεύων—злоумышленник; εὐρετὴς τοῦ κακοῦ—изобретатель зла: ἀντικείμενος—противник и т. под.
5) Orat. cat., cap. 26 (Srawley, op. cit., p. 981; p. пер. ч. IV, стр. 68.
6) Ibid. (Srawley, op. cit., p. 96—97); p. пер. ч. IV, стр. 67.
553 —
и при допущении в рассматриваемом месте его сочинений речи о диаволе вовсе не заключает в себе той мысли, что будто бы Сын Божий с принятием плоти вошел в диавола. Действительный смысл настоящего выражения святителя Нисского, как он открывается из его грамматической конструкции и связи речи, тот, что Сын Божий через Свое воплощение вошел в область (ἑντὸς) владычества диавола, а не в последнего1)
Наконец, мысль проф. Винченци о том, что в 26 главе «Большого Огласительного Слова» св. Григория Нисского нет речи о диаволе, а только об испорченной человеческой природе, не оправдывается и общим течением мыслей св. отца в данной главе. Более того, она совершенно противоречит последнему2). В рассматриваемом месте св. отец выражает свой взгляд на способ осуществления Богом Своего плана искупления. По представлению святителя Нисского, Бог, освобождая людей из-под власти диавола, как бы обманул последнего (ὁ ἀπατεὼν ἀνταπατᾶται)3). Ясно, течение мыслей св. Григория в 26 главе «Большого Огласительного Слова» предполагает речь именно о диаволе 4). Это также очень наглядно видно из приводимого здесь св. отцом сравнения. «Как злоумышляющий на жизнь, так и исцеляющий подвергшегося злоумышлению одинаково примешивают к пище состав, различаясь только тем, что один из них примешивает яд, а другой врачество от яда, и способ врачевания нисколько не вредит цели благодеяния. Хотя тот и другой примешивают в пищу состав, однако, обращая внимание на их цель, мы одного хвалим, а на другого негодуем; так и здесь, по закону справедливости, обманщик воспринимает то, чему семена он заложил
1) Проф. А. Мартынов, ор. cit ., стр. 361.
2) Prof. I. Schwane, ор. cit., Bd. II, S. 604.
3) Orat. cat., cap. 26 (Srawley, op. cit., p. 97); p. пер. ч. IV, стр. 68.
4) Dr. Fr. Hilt, op. cit, S. 312.
554 —
по собственному изволению, потому что он, обманувший человека приманкой удовольствия, и сам обманывается человеческим видом»1)
Как ни ясно, что св. Григорий, приводя данное сравнение, имел в виду, между прочим, диавола, все-таки, и здесь проф. Винченци желает видеть речь не о диаволе, а лишь относительно испорченной человеческой природы. Он полагает, что в данном выражении св. епископа Нисского греховная человеческая плоть служит, с одной стороны, ядом, который погубил человечество, а с другой,— средством, с помощью которого Сын Божий даровал последнему спасение2). Но такое понимание отдельных выражении в рассматриваемом сравнении св. отца с необходимостью ведет к недоразумениям. И в самом деле, если мы согласимся в данном случае с проф. Винченци, то должны будем приписывать святителю Нисскому нелепую мысль, что обманщик приводится в заблуждение Сыном Божьим через плоть, которая, по мнению названного ученого, по своему существу, представляется обманщиком. Ясно, что смысл, сообщенный проф. Винченци приведенному выше сравнению св. Григория, основывается на полном непонимании его отдельных выражений3). А поэтому, мысль названного ученого, что в данном сравнении святителя Нисского говорится не о диаволе, а только относительно испорченной человеческой природы, должна быть совершенно оставлена.
Таким образом, мы, согласно с подавляющим большинством исследователей4), полагаем, что св. Григорий Нисский в 26 главе своего «Большого Огласител-
1) Orat. cat, cap. 26 (SrawIey, op. cit., p. 97); p. пер. ч. IV, стр. 08 vgl. Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 313—314.
3) Prof. Al. Vincenzi, op. cit., p. 25 cf. 26.
1) Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 314.
4) Prof. I. Schwane, op. cit., Bd. JI, S. 240. 604—805; Dr. Ioh. N. Stigler, op. cit, S. 133, Anm.; Dr. W. Vollert, op. cit., S. 49; Dr. A. Ktampf, op. cit, S. 58, Anm. 3; проф. A. Мартынов, op. cit, стр. 357 и друг.;
— 555 —
него Cлова» не только ведет речь о диаволе, но и допускает восстановление его в первобытное состояние.
Помимо данного своего сочинения, св. Григорий учит о восстановлении злых духов в состояние их первобытного блаженства также в трактате—«О душе и воскресении». Утверждая мысль о будущем апокатастасисе злых духов, святитель Нисский, подобно Оригену1), находит, правда, косвенные намеки на нее, в словах св. апостола Павла, что Иисусу Христу всяко колено поклонится небесных, и земных и преисподних (Филип. 2, 10) 2). По мнению св. отца, под термином «преисподние (καταχθόνιοι)» св. апостол разумеет не только умерших людей, но также и злых духов—демонов (δαίμονας). Это, по воззрению св. Григория, подтверждается как Св. Писанием, так и общим мнением. «На основании общего мнения и предания Писаний,—пишет святитель Нисский,— принимается, что вне подобных тел есть какая-то природа, враждебно расположенная к добру и вредная для человеческой жизни, добровольно уклонившаяся от лучшего жребия и через отступление от доброго осуществившая на себе то, что считается противоположным добру, и ее-то апостол, говорят 3), причисляет к преисподним, обозначая этим словом то, что, наконец, после долгих вековых периодов зло исчезнет и ничто не будет существовать вне добра (οὐδἐν ἔξω τοῦ ἀγαθοῦ καταλειφθήσεται); напротив, и преисподними единогласно будет исповедано господство
Д. Тихомирова, ор. cit ., стр. 342—343; проф. В. Несмелова, ор. cit ., 617; Dr . Fr. Diekamp, op . cit ., S . 256; Dr. Ft. Hilt, op . cit ., S . 308 ff .; Dt. loh. B. Aufhauser, op . cit ., S . 205.
1) Стр. выше 192.
2) ...καταχθόνιον δὲ τὸ δισκεκρυμμένον ἤδη τοῦ σώματος, ἢ δή τις (εἰ δὲ τις) καὶ ἄλλη παρὰ τὰ εἰρημένα φύσις ἐν λογικῇ θεωρείται, ἣν εἴτε δαίμονας, εἴτε πνεύρατα, εἴτε τοιοῦτον ἐθέλοι τις κατινομάζειν. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 69C—72A; p. пер. ч. IV, стр. 249—250.
3) В данном случае св. Григорий имеет в виду, очевидно, Оригена, приведенное мнение которого он вполне разделяет.
— 556 —
Христа»1). Ясно, что и в своем трактате— «О душе и воскресении» св. отец учит о будущем обращении злых духов к Богу, другими словами, о восстановлении последних в их состояние первобытного блаженства.
Как ни очевидна в приведенном выражении св. епископа Нисского мысль о будущем апокатастасисе злых духов, тем не менее, проф. Винченци и тут не видит речи о последних2). Выражение— δαίμονες , которое, по-видимому, должно препятствовать всякой попытке сообщить рассматриваемому нами выражению толкование, устраняющее из него речь о злых духах, нисколько не смутило названного ученого исследователя. Последний, настаивая на том, что в приведенных выражениях святителя Нисского нет речи о злых духах, термину св. отца— δαίμονες приписывает своеобразный смысл, относя его к душам умерших людей или вообще к душам, как, например, к гениям или языческим демонам, но ни в каком случае не к падшим ангелам3). Что же касается того «поклонения Христу всякого колена небесных, и земных и преисподних», о котором пишет св. апостол Павел, то его, по мнению проф. Винченци, св. епископ Нисский понимал в смысле простого исповедания Христа Сыном Божьим, подобно тому, какое совершали, по словам свв. евангелистов, демоны, изгоняемые Спасителем из людей, и сущность которого выразил св. апостол Иаков, когда сказал: «и беси веруют и трепещут» (2, 19) 4).
Однако, слабость данной аргументации проф. Винченци очевидна. Прежде всего, под выражением св. Григория— δαίμονες ни в каком случае нельзя разуметь душ умерших людей. И это потому, что святитель Нисский со всей
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 72AB; p. пер. ч. IV, стр. 250.
2) Prof. Al. Vincenzi, op. cit., p. 35.
3) Ibid., op, cit., p. 34.
4) Ibid., op. cit., p. 33.
— 557
определенностью отличает особый класс демонов как от добрых ангелов, так и от душ умерших людей. Небесным,—говорит св. отец,—св. апостол «называет бесплотную ангельскую природу, земным—соединенное с телом, а преисподним—уже отделившееся от тела или, если в разумной природе замечается, кроме указанного, и нечто иное, что будет угодно кому-либо назвать демонами»1) А что под демонами нельзя разуметь гениев или языческих демонов, но только злых духов в библейском смысле,—это следует из описания частных свойств их природы. Демоны, по выражению св. Григория, представляют собой «природу, враждебно расположенную к добру и вредную для человеческой жизни, добровольно уклонившуюся от лучшего жребия и через отступление от доброго осуществившую на себе то, что считается противоположным добру» 2). Правда, проф. А. Винченци в последних выражениях святителя Нисского видит свою излюбленную мысль о «плоти греха»3). Однако, такой взгляд на это место в творениях св. отца после того, что мы уже сказали в своем месте4), едва ли может возбуждать к себе доверие.—Что же касается мнения проф. А. Винченци, что будто бы св. епископ Нисский апостольскому выражению о поклонении Христу всякого нелепа небесных, и земных и преисподних усвоял смысл простого, чисто внешнего исповедания Христа Сыном Божьим, то оно также не основательно. Дело в том, что св. Григорий то поклонение Христу, о котором говорит св. апостол, отожествлял с понятием «согласия в добре всей разумной природы, какое некогда произойдет» 5), т.-е. тогда, когда исчезнут все виды зла. Если же в данном
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 72A; p. пер. ч. IV, стр. 250.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 72AB; p. пер. ч. IV, стр. 250.
3) Prof. Al. Vincenzi, op. cit., p. 33.
4) Стр. выше 550 идал.
5) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 72A; p. пер. ч. IV, стр. 350.
558 —
«согласии в добре», вместе с другими разумными существами, будет принимать участие и диавол, то отсюда ясно, что и он в этот момент мировой истории будет чист от зла и будет наслаждаться тем блаженством, какое имел до своего падения, во время первобытного состояния.
Таким образом, вопреки мнению проф. Винченци, св. Григории Нисский, как это допускает большинство исследователей 1), несомненно, учил в указанном месте своего трактата — «О душе и воскресении» о будущем восстановлении злых духов в их первобытное состояние.
Наконец, св. Григорий Нисский и в одном своем «Слове на святую Пасху», как об этом отчасти мы уже говорили выше 2), распростирает искупительное дело Христа и на злых духов. По его выражению, в данном месте, Христос, соответственно Своему трехдневному пребыванию во гробе, совершил спасение всех разумно-свободных существ в таком порядке: сначала, Он искупил от греха и смерти мужчин, потом,—женщин и, наконец,—диавола 3). «В три дня,—говорит св. епископ Нисский,—будет истреблено зло из всего существующего— из мужчин, из женщин и из рода змей (ἐξ ἀνδρῶν , ἐκ γυναικῶν , καὶ τοῦ γένους τῶν ὅφεων), в которых первых нашла свое бытие природа зла» 4). Не подлежит сомнению, что в указанных местах в «Слове на святую Пасху» св. отец, между прочим, ведет речь и о будущем спасе-
1) Dr. Fr. Hilt, ор. cit., S. 306—307; Dr. Fr. Preger, op. cit., S. 20; Д. Тихомиров, op. cit., стр. 343—344. 344, прим. 1; проф. B. Несмелов, op. cit., стр. 363 и друг.
2) Стр. выше 526.
3) Ἐν τοῖς τρισὶ τούτοις ἡ κακία ἐπλήμμυρε, τῇ διαβολικῇ, λέγω, φύσει, καὶ τῷ τῶν γυναικῶν γίνει, καὶ τῷ πληρώματι τῶν ἀνδρῶν τούτου χάριν ἀκολούθως ἐν τρισὶν ἡμέραις ἡ νόσος ἐξαφανίζεται. In Chr. resurr., orat. I (Mg. XLVI) col. 609C; p. пер. ч. VIII, стр. 36.
4) Ibid. (Mg. XLVI) col. 612A; p. пер. ч. VIII, стр. 37.
— 559 —
нии диавола. И это потому, что под такими терминами, как διαβολικὴ φύσις , γένος τῶν ὅφεων и т. под., если принять во внимание, что выше св. Григорий говорил о павших людях, может быть мыслим только диавол 1).
Итак, св. Григорий Нисский, по нашему мнению, согласному с воззрениями большинства исследователей2), учил, что наступит такой момент в мировой истории, когда возвратятся в свое первобытное состояние и злые духи.
5. Мнения древних церковных писателей и новейших исследователей о всеобщем апокатастасисе в творениях св. Григория Нисского.
Мы видели, что учение о всеобщем апокатастасисе находится во многих сочинениях св. Григория Нисского3). Однако, несмотря на это, не все церковные писателя и исследователи признают его искренним убеждением св. отца. Можно сказать, что вопрос о всеобщем апокатастасисе в творениях св. Григория принадлежит к числу таких пунктов его эсхатологической системы, по поводу которого существует столько различных мнений, сколько было отдельных лиц, так или иначе касавшихся его. Впрочем, как ни разнообразны суждения различных лиц по данному вопросу, тем не менее, они могут быть распланированы, хотя и не без
1) Dr. Fr. Hilt, ор. cit., S. 156 Anm. 1. 308.
2) Кроме уже указанных исследователей, разделяют мнение, что св. Григорий Нисский учил о будущем спасении, помимо прочих разумно-свободных существ, также и диавола и—Dr. Al. Stöckl, ор. cit., S. 316; Prof. O. Bardenhewer, Geschichte, Bd. III, S. 218. 219; Patrologie, Aufl. 3, S. 265; Prof. H. Kihn, Patrologie (Paderborn 1908) Bd. II, S. 166.
3) В нашем исследовании в учении о всеобщем апокатастасисе делаются ссылки на следующие сочинения св. Григория: 1) De anima et resurrectione, 2) De mortuis, 3) Oratio catechetica, 4) De hominis opificio, 6) In psalmos, 6) In Ecclesiasten Solomonis, 7) In illud, tunc ipse filius subjicietur, etc., oratio и 8) In Cliristi resurrectionem orat. I.
— 560 —
остатка, на три группы. Так, прежде всего, одни признавали, что св. Григорий, действительно, учил о всеобщем апокатастасисе, указывая на то, что он не мог быть непогрешимым. Затем, другие, соблазняясь нецерковным раскрытием и решением эсхатологических вопросов в творениях св. Григория, считали эсхатологические сочинения последнего испорченными оригенистами. Наконец, третьи находили в трактатах св. отца особенную высоту его философских умозрений, а потому считали лишь необходимым комментировать это учение. Все эти три группы воззрений на учение св. епископа Нисского о всеобщем апокатастасисе имели своих представителей как в древнее, так и в новейшее время.
Самый ранний взгляд на учение св. Григория о всеобщем апокатастасисе был высказан в VI веке, во время т. наз. оригенистических споров. Он принадлежит св. Варсонофию († ок. 550 г.), который полагал, что св. Григорий, ошибаясь, действительно, учил о восстановлении всей разумно-свободной твари в ее первобытное состояние. Поводом к такому открытому суждению св. Варсонофия об апокатастасисе в творениях святителя Нисского послужило то обстоятельство, что оригенисты начали ссылаться на сочинения св. Григория в подтверждение своего мнения об имеющем некогда последовать восстановления всего в первоначальное состояние. Ссылка в данном случае на авторитет св. епископа Нисского, естественно, набрасывала тень на православный образ мыслей этого знаменитого отца церкви. Смущенные последним, ученики преп. Варсонофия предложили ему вопрос относительно обвинения св. Григория в учении об апокатастасисе. Св. Варсонофий в ответ на это высказал такие суждения, из которых со всей очевидностью следует, что он не сомневался в принадлежности святителю Нисскому подобного учения. «Не думайте,—так говорил св. Варсонофий,—чтобы люди, хотя и святые, могли совершенно по-
— 561 —
стигнуть все глубины Божьи; ведь, св. апостол Павел говорит: «отчасти разумеваем и отчасти пророчествуем» (1 Кор. 13, 9) и еще: «овому убо дается Духом то и то, но не все (дарования) одному человеку. Ов убо сице, ов же сице. Вся же действует един и тойжде Дух» (1 Кор. 12, 8—11). Зная, что действия Божьи непостижимы, апостол взывал: «о, глубина богатства и премудрости и разума Божия! Яко неиспытани судове Его, и неизследовани путие Его! Кто бо разуме ум Господень? или кто советник Ему бысть?» (Рим. 11, 33—34). Святые, ставши учителями, или сами собой или принуждаемые к тому другими людьми, весьма преуспели, превзошли своих учителей и, получив утверждение свыше, изложили новое учение; но вместе с тем сохраняли и то, что приняли от прежних учителей своих, т.-е. учение неправое. Преуспев впоследствии и сделавшись учителями духовными, они не помолились Богу, чтобы Он открыл им относительно первых их учителей, Духом ли Святым внушено было то, что они им преподали, но, слитая их премудрыми и разумными, не исследовали их слов и, таким образом, мнения учителей их перемешивались с их собственным учением, И эти святые говорили иногда то, чему научились от своих учителей, иногда же то, что здраво постигали собственным умом; впоследствии же те и другие слова приписаны были им... Итак, когда слышишь, что кто-либо из них говорит о себе, что он возвещает слышанное от Духа Святого, то это несомненно, и мы должны этому верить. Если же (святой муж) говорит о вышеуказанных (мнениях), но не найдешь, чтобы он подтверждал свои слова, как бы имея утверждение свыше, то они имеют своим источником учение прежних его учителей, и он, доверяя знанию и премудрости их, не вопрошал Бога, истинно ли это» 1). Из этих рассуждений преп. Варсонофия
1) Doctrina circa Origenis, Evagrii et Didymi (Migne, ser. gr.. (1865), t. LXXXVI) col. 901B; p. пер. (Преподобных отцов Варсонофия и Иоанна руководство к духовной жизни, Москва 1855), стр. 510—512.
562 —
видно, что, по его мнению, св. Григорий Нисский, действительно, ошибочно учил о всеобщем апокатастасисе, доверившись в данном случае «прежним учителям»1).
Это мнение преп. Варсонофия относительно учения св. Григория о всеобщем апокатастасисе не осталось одиноким в церковной литературе. К нему преимущественно склонялись церковные писатели в последующее время. Так, Нил Солунский (XII в.) в споре с латинянами, ссыпавшимися на авторитет св. Григория в подтверждение своего учения о чистилище, не указывает на повреждение первоначального текста сочинений святителя Нисского. Равным образом, он также не старается доказать, что св. отец был чужд мнения о совершенном уничтожении зла в будущей загробной жизни и о прекращении адских мучений. Напротив, названный церковный писатель полагает, что св. епископ Нисский, действительно, учил о всеобщем апокатастасисе. И это по той причине, что догмат относительно вечности загробных мучений во время жизни св. Григория еще не был прочно формулирован церковью. «Пока не касались вопроса о вечном наказании, — писал Нил Солунский, — и он (св. Григорий Нисский) представляется с той мыслью, что мучения будут иметь конец»2).
Мнение Нила Солунского относительно учения св. Григория Нисского о всеобщем апокатастасисе через 300 лет почти повторил и Марк Ефесский на Ферраро-Флорентийском соборе (1436—1437). Он, доказывая несостоятельность ссылок латинян на сочинения некоторых отцов в подтверждение их учения о чистилище, коснулся в конце своей речи также и святителя Нисского, на которого тоже указывали католики. «Остается, — заметил он, — блаженный Григорий, предстоятель нисской церкви,
1) Несомненно, имеется в виду Ориген.
2) Филарета, архиеп. Черниг., Историч. учен. об отцах церкви, т. ΙΙ, изд. 2 (СПБ. 1882), стр. 153.
— 563
который, по-видимому, более других говорит в вашу пользу. Хотя лучше было бы почтить его слова молчанием и не вынуждать нас к открытому их защищению, однако должно сказать, сколько позволено, соблюдая все уважение к отцу. Он был человек, а человеку, хотя бы он достиг верха святости, невозможно не погрешить я особенно в таких предметах, о которых прежде не было наследования и не было дано отцами общего соборного решения. Итак, когда еще не был исследован вопрос о вечном мучении, по-видимому, и он держался мнения о восстановлении грешников и допускал конец мучения, признавая его не чем другим, как только очищением, переплавлением, влечением к Богу посредством мук и страданий, как будто некогда должно быть совершенное восстановление всех и даже демонов, да будет Бог всяческая во всех, по слову апостола (1 Кор. 15, 28)»1).
Мысли относительно учения св. Григория Нисского о всеобщем апокатастасисе, высказанные преп. Варсонофием и повторенные в своей основной сущности впоследствии Нилом Солунским и Марком Ефесским, в новейшее время нашли себе самое большое число приверженцев среди ученых. К числу последних принадлежат — Dallaeus 2), Schroekh 3), M ünscher 4), Rupp 5), Heyns 6), Stigler7), Huber 8), St ö ckl9), Kleinheidt10), Weiss 11), Hayd 12),
1) Cl. Salmasii opera. Nili Archiep. Thessalonicensis de primatu papae Romani libri duo. De purgatorio (1645), p. 81—82.
2) De poenis et satisfactionibus humanis (Amsterdam 1649), p. 374.
3) Christliche Kirchengeschichte. Theil 14 (Leipzig 1790), S. 142.
4) Op. cit., Bd. IV, S. 446—447.
5) Op. cit., S. 243.
6) Op. cit., p. 175.
7) Op. cit., S. 133. 134 Anm.
8) Op. cit., S. 210 Anm.
9) Op. cit, S. 316.
10) Op. cit.. p 5].
11) Die grossen Kappadocier Basilius, Gregor von Nazianz und Gregor von Nyssa als Exegeten (Braunsberg 1872), S. 11.
12) Bibliothek der Kirchenväter: Gregor von Nyssa (Kempten 1874), S. 79.
— 564
Bautz1), архиеп. Филарет2), Н. Барсов3), проф. А. Мартынов4), проф. В. Несмелов5), Д. Тихомиров6), проф. Ad . Harnack 7), Н. Виноградов8), Fr . Hilt9), преосв. Сильвестр10), Стуков11), Schwane 12), K ö stlin 13), Fr . Diekamp 14), Vollert15), проф. И. Попов16), Holl 17), Aufhauser18), свящ. Филевский19), проф. О. Bardenhewer20) и друг.
Впервые высказал мнение о том, что эсхатологические трактаты св. Григория Нисского испорчены руками оригенистов, константинопольский патриарх Герман († 733). Он написании по этому поводу специальное сочинение под заглавием—« Ἀνταποδοτικὸς ἡ Ανόθευτος . Это сочинение до нашего времени не сохранилось в своем целом
1) Die Hölle (Mainz 1882), р. 48.
2) Op. cit. Τ. II, изд. 2, стр. 153.
3) Св. Григорий Нисский, как проповедник (Хр. Чт. 1887) т. II, стр. 320.
4) Ор. cit, стр. 371. 376 и друг.
5) Ор. cit, стр. 620 и друг.
6) Ор. cit., стр. 374 и друг.
7) Ор. cit, Bd. II, S. 165.
8) О конечных судьбах мира и человека (Москва 1889) изд. 2 стр. 304.
9) Ор. cit., S. 321 ff.
10) Ор. cit., т. V, стр. 474.
11) Происхождение в церкви христианской мнений, противоречащих православно-христианскому учению о вечности мучений, их сущность и влияние на раскрытие этого учения (Правосл. Соб. 1892) т. І, стр. 417.
12) Ор. cit., Bd. II, S. 605.
13) Apokatastaeis y A. Hauck's, Realencyclopädie für protestantische Theologie und Kirche (Leipzig 1896) Bd. I, S. 617.
14) Op. cit., S. 259.
15) Op. cit., S. 51.
16) «Григорий Нисский» в «Православной богословской энциклопедии» (Петроград 1903). Изд. А. П. Лопухина. T. IV, стр. 460.
17) Ор. cit., S. 208.
18) Ор. cit., S. 204 Anm. 1.
19) Цельс и Ориген (отд. оттиск из ж. «Вера и Разум» за 1910) стр. 15.
20) Geschichte, Bd. IΙΙ, S. 217—219; Patrologie, Aufl. 3, S. 265.
— 565
виде, а известно по рецензии в «Библиотеке» патриарха Фотия († 887) 1). По словам последнего, в названном сочинении патриарх Герман доказывал, что творения святителя Нисского, как и он сам, всецело свободны от заблуждений Оригена. «Но те, кому нравилась та нелепость, что будто для демонов и для людей, подверженных вечному наказанию, нужно некогда ожидать избавления,—так как знали Григория за мужа, славившегося ученостью и знаменитого в красноречии, и видели ясное свидетельство его святости, произносимое устами всех,—приступили к чистым и здравым его творениям и примешали темный и гибельный яд оригеновых бредней, к добродетели и учению знаменитого мужа тайно присоединили еретическое безумие»2). Это они сделали как через ложные прибавки, так и через искажение правильных доказательств св. отца. Данное мнение патриарха» Германа об интерполяции догматических трактатов св. епископа Нисского считал вполне основательным и всецело его разделял также патриарх Фотий. «Против них (т.-е. интерполяторов сочинений св. Григория),—замечает последний, — Герман, радетель благочестия, обнажил острый меч истины и, повергши раненных врагов, выставил победителем того, против которого еретический сброд построил свои козни» 3). По словам патриарха Фотия, св. патриарх Герман доказывал свое мнение об интерполяции еретиками некоторых сочинений святителя Нисского как контекстом речи, так особенно тем
1) Biblioth ., cod . 233 (Migne , ser . gr . (1860), t . C III , 292a -б) col . 1105—1108.
2) Prolegomena (Mg . XLIV) col . 51ВС,—К числу сочинений, интерполированных еретиками, св. патриарх Герман относит—De anima et resurrectione (Dialogus ad Macrinam sororem de anima). Oratio catecbetica (Liber catecheticus) и De perfecta vita (Ibid, (Mg. XLVI) col. 52A), вероятно, разумея под последним трактат—In psalmos, так как в теперешнем тексте сочинения— De perfecta vita ( De perfecta Christiani forma) учения об апокатастасисе нет.
3) Ibid. (Mg. ХLIV) col. 51С.
566 —
соображением, что сочинения св. отца во многих своих местах содержат правильные воззрения1).
Мнение св. патриарха Германа нашло себе представителей и среди ученых исследователей новейшего времени. Так, его всецело разделяет Тильмон. По его рассуждению, попытка объяснить приписываемое св. Григорию Нисскому учение о всеобщем апокатастасисе через интерполяцию может быть признана заслуживающей внимания, с одной стороны, потому, это родство мыслей св. Григория о будущей судьбе всех разумно свободных существ с воззрениями но данному вопросу Оригена остается необъяснимым2), а с другой, — это главным образом, — по той причине, что V-ый вселенский собор, осудивший Оригена, одобрительно высказался как о самом святителе Нисском, так и относительно его творений 3). Данную гипотезу об интерполяции творений св. Григория поддерживает также Удэн († 1717). Впрочем, он, исходя из того соображения, что почти во всех сочинениях св. епископа Нисского, кроме трактата — In illud: quando sibi subjecerit..., есть выражения, говорящие о различной участи праведников, полагал, что еретики очень удачно интерполировали все творения св. Григория Нисского, а особенно — его названный трактат4). Кроме указанных ученых, также Селье полагает, что ориренистические мысли внесены в эсхатологические трактаты последнего руками еретиков. В подтверждение этого своего мнения он ссылается, с одной стороны, на авторитет в данном отношении св. патриарха Германа, а с другой, — указывает на то положение, каким пользовались сочинения св. отца в церкви и во мнении отцов V-го все-
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 51D—52A.
2) Op. cit., p. 564.
3) Ibid., op. cit., p. 602.
4) Oudinus, Commentarius de scriptoribus ecclesiae antiquis etc. (Lipsiae 1722), p . 600.
—567—
ленского собора. Помимо этого, он отмечает и то, что император Юстиниан, этот ревностный противник оригенистов, не считал св. епископа Нисского в числе последних1). Наконец, еще укажем на нашего отечественного исследователя, который, согласно с мнением «древних, достойных, по его выражению, уважения читателей творений св. Григория»2), считает некоторые места в сочинениях святителя Нисского испорченными оригенистами. По мнению этого ученого, особенно подверглись порче трактаты св. отца—«О душе и воскресении», «Большое Огласительное Слово» и «О жизни Моисея законодателя.»3). — Вот более видные представители как древние, так и новейшие того мнения, что эсхатологические трактаты св. Григория Нисского в тех своих частях, в которых говорится о всеобщем апокатастасисе, интерполированы.
Это мнение об интерполяции некоторых сочинений св. Григория Нисского, однако, не может быть признано справедливым. Оно, как этого нельзя было не подметить при изложении воззрений защитников его, всецело держится на авторитете св. патриарха Германа. Но, по нашему мнению, свидетельство св. Германа в данном случае не может иметь большого значения.
й это потому, что неизвестно, предпринимал ли патриарх Герман критическую работу по изучению текста сочинений св. Григория и указал ли он места, испорченные оригенистами. Последнее, конечно, он мог бы сделать только в том случае, если бы в его время были такие манускрипты сочинений св. епископа Нисского, кото-
1) R. P. Ceillier, Histoire générale des auteurs sacrés ecclésiastique (Paris 1740) t. VIII, p. 423.
2) Имеются в виду—св. патриарх Герман и друг.
3) Проф. И. Скворцова, op. cit., Тр. К. Д. Ак. 1863. т. ІІІ, стр. 130.—Уместно заметить, что в сочинении св. Григория—«О жизни Моисея законодателя» в теперешнем тексте мыслей об апокатастасисе нет.
— 568 —
рые ясно показывали бы порчу последних рукою интерполятора. Но судя по тому, что св. Герман, по свидетельству патриарха Фотия, старался доказать свое мнение только снесением параллельных мест из сочинений св. Григория, можно утверждать, что у него под руками таких манускриптов не было. Отсюда, естественно, что указанное утверждение св. Германа является только его предположением, но не фактом, установленным путем сличения рукописей.
Слабость самой мысли об интерполяции, впрочем, очевидна сама по себе. Мысли св. Григория Нисского о всеобщем апокатастасисе рассеяны не только в его трактате — De anima et resurrectione, Oratio catechetica и De perfecta vita (=in psalmos), как утверждает св. Герман, но почти в каждом его сочинении. Как мы уже видели, учение о всеобщем апокатастасисе, кроме названных сочинений, св. епископ Нисский высказывает еще в таких своих поучениях и трактатах, каких патриарх Герман не знал в числе поврежденных оригенистами, каковы: In Christi resurrectionem orat. I 1), In illud, tunc ipse filius subjicietur, etc ., oratio2), De mortuis3), In Ecclesiasten Solomonis *) и De hominis opificio 5). Затем, странно, почему оказались интерполированными в оригенистическом духе сочинения святителя Нисского, между тем как сочинения других отцов, не менее знаменитых, нем св. Григорий, были оставлены без всяких повреждений. «Я,—говорит Гейнс,— не вижу причины, почему бы такая участь постигла одного Григория; почему в тех же видах оригенисты не сочли нужным испортить памятники других мужей, пользовавшихся большой славой
1) Стр. выше 526. 527. 558.
2) Стр. выше 525. 534—535. 543. 544.
3) Стр. выше 503. 504. 516. 519. 521. 526. 534. 540. 541.
4) Стр. выше 532—533.
5) Стр. выше 516. 517.
— 569 —
в древней церкви»1). Наконец, интерполяция творений св. Григория представляется мало вероятной с чисто практической точки зрения. Несомненно, что оригенисты могли подвергнуть порче только те сочинения св. епископа Нисского, которые были в обращении среди них. Что же касается тех экземпляров творений св. отца, которые находились у христиан, свободных от оригенистинеских тенденций, то они должны были сохраниться чистыми от всякой примеси. И так как творения святителя Нисского были весьма распространены в древнехристианском мире, то, естественно, должны были существовать в большом количестве экземпляров и неповрежденные их списки. Между тем, уже во время оригенистических споров как у оригенистов, так и у православных оказались только испорченные экземпляры сочинений св. Григория.
Кроме разобранного недоумения, защитники мнения св. патриарха Германа о всеобщем апокатастасисе в творениях св. Григория ссылаются, как мы видели, также и на то обстоятельство, что св. епископ Нисский как до V-го вселенского собора, так и на последнем в кафолической церкви считался православным. Отсюда, — заключают они, — он не мог быть сторонником эсхатологических воззрений Оригена. Против этого Хильт замечает, что св. Григорий, придерживаясь оригенистических воззрений в области эсхатологии, еще этим не давал достаточных оснований к тому, чтобы его можно было не считать православным. И это по той причине, с одной стороны, что святитель Нисский, высказывая учение о всеобщем апокатастасисе, не желал сознательно противоречить смыслу Св. Писания, а с другой,—он в данном случае не отвергал какого-либо церковного догмата2).
1) Ор. cit, р. 176.
2) Dr. Fr. Hilt, ор. cit., S. 326.
— 570 —
Что же касается того обстоятельства, что и V-ый вселенский собор не нашел оснований для исключения св. Григория из числа православных отцов, то и это мало говорит в пользу известного мнения св. патриарха Германа. V-ый вселенский собор был созван для решения вопроса «о трех главах», а также для определения числа православных отцов и их творений 1). Ясно, что настоящий собор мог признать правильность только христологии св. епископа, так как относительно других пунктов его богословской системы, в частности, относительно его эсхатологии, он не имел прямого повода высказать то или другое свое суждение. Отсюда следует, что он учения св. Григория о всеобщем апокатастасисе не одобрил и не осудил 2). Правда, может показаться, что V-ый вселенский собор, осудивши учение об апокатастасисе в сочинениях Оригена, тем самым осудил данное учение и в творениях святителя Нисского. Но это, по мнению Хильта 3), не может быть признано справедливым. Дело в том, что названный собор касался учения о всеобщем апокатастасисе, принадлежащего исключительно Оригену 4). Последнее видно из составленного на этом соборе анафематствования апокатастасиса. «Кто, — пишут отцы V-го вселенского собора, — утверждает предсуществование душ и находящийся в связи с ним апокатастасис, да будет анафема» 5). Само собой понятно, что данное анафематствование учения о всеобщем апокатастасисе в творениях св. Григория Нисского, который не только не учил, но даже опровергал мнение о предсуществовании душ 6), касаться
1) С. I. Hefele, Conciliengeschichte (Freiburg 1855) Bd. II, S. 84 Г. vgl. Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 327.
2) Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 327; vgl. L. Kleinheidt, op. cit., p. 50.
3) Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 327 ff.
4) C. 1. Hefele, op. cit., 835 ff.
5) I. D. Mansi, Amplissima coli, concit (Paris—Leipzig 1901), t. IX, col. 396.
6) Стр. выше 301.
571 —
не может.. Если же V-ый вселенский собор не говорит о св. Григории Нисском, как стороннике учения о всеобщем апокатастасисе, то это еще не значит, что он его совершенно не знал. Напротив, это только свидетельствует о том, что данный собор считал святителя Нисского, несмотря на его приверженность к учению о восстановлении всех разумно-свободных существ в их первобытное состояние, в общем православным. Таким образом, и сейчас рассмотренный аргумент нисколько не мешал Хильту разделять мысль о том, что св. Григорий был сторонником учения о всеобщем апокатастасисе.
Защитники теории св. патриарха Германа не допускают, чтобы св. Григорий мог учить об апокатастасисе и изложить его в своих сочинениях также в силу того соображения, что св. епископ Нисский не мог учить о всеобщем восстановлении в первобытное состояние в то время, когда другие отцы не признавали или, по крайней мере, открыто не защищали последнего учения. Но и этот аргумент не имеет силы. Опровергая его, Хильт полагает, что нельзя было бы считать удивительным, если бы какой-нибудь один отец защищал учение о всеобщем апокатастасисе. Такое явление, по его мнению, не только вполне было бы естественным, но даже и необходимым в то время, когда церковь еще не формулировала решения данного вопроса. Во время же богословской деятельности святителя Нисского вопрос о конечной участи грешных разумно-свободных существ не только не был окончательно решен церковью, но, наоборот, мнение о всеобщем апокатастасисе, высказанное незадолго до этого Оригеном, имело своих последователей. И св. Григорий, действительно, был в лице их, так как пристрастие к Оригену и его богословским занятиям было характерной чертой ученой фамилии, к которой он принадлежал. Впрочем, судя по тому, что св. епископ
— 572 —
Нисский некоторые сомнительные, по его мнению, пункты в богословской системе Оригена, как, например, учение о предсуществовании душ, отвергал, нельзя думать, что он был слепым подражателем Оригена. Св. Григорий подпал наиболее сильному влиянию именно его эсхатологического учения, которого он нигде в своих творениях не только не отвергает, но даже в некоторых его частях всецело повторяет 1).—Что касается той стороны разбираемого аргумента, приводимого в пользу теории патриарха Германа, что будто бы св. Григорий Нисский только один в свое время высказывал учение о всеобщем апокатастасисе, то это, по мнению Хильта, далеко не отвечает действительности 2). Учение о всеобщем апокатастасисе, высказанное Оригеном, в эпоху жизни и -богословской деятельности св. Григория Нисского нашло себе сочувственный отклик в творениях и других отцов и учителей церкви, строгое православие которых не подлежит сомнению. Так, св. Василий в приписываемом ему комментарии на книгу пророка Исаии говорит, согласно с воззрениями Оригена и св. Григория Нисского, что адский огонь на том свете не истребляет грешников, но только их очищает (οὐκ ἀφανισμὸν ἀπειλεῖ , ἀλλὰ τὴν χάθαρσιν , ὑποφαίνει κατὰ τὸ παρὰ τῷ Ἀποστόλω εἰρημένον) (1 Кор. 3, 15)3), а св. Григорий Богослов иногда замечает в своих творениях об «очистительном огне (πῦρ καθαρτήριον)4), истребляющем вещество и злые навыки (ἀναλωτιχὸν τῆς ὕλης καὶ τῆς πονηρᾶς ἐστιν ἕξεως)»5). Ясно, что, кроме св. Григория, так или иначе склонялись к оригеновскому учению о всеобщем апокатастасисе и некоторые другие
1) Dr. Fr. Hilt, ор. cit., S. 321 ff.
2) Ibid., op. cit., 324 ff.
3) Comm. in le. proph., cap. IX, 19 (Mg, XXX, 554) col. 521C; p. пер. 4. II, стр. 274.
4) Orat. XL, 36 (Mg. XXXVI) col. 409D; p. пер. ч. 111, стр. 255.
5) Ibid. (Mg. XXXVI) col. 412A; p. пер. ч. Щ, стр. 256; vgl. Prof. C. Ullmann, op. cit., S. 504.
573 —
отцы и учители церкви. Таким образом, рассматриваемый аргумент, приводимый в качестве доказательства известного мнения св. патриарха Германа относительно учения св. Григория Нисского о всеобщем апокатастасисе, в действительности, основывается только на одном недоразумении.
При всем том необходимо заметить, что идеи σ всеобщем апокатастасисе рассеяны по сочинениям св. Григория Нисского так, что внутренняя, логическая связь и грамматический строй речи не позволяют считать их вставленными рукой интерполятора1). Мнение о всеобщем апокатастасисе святитель Нисский высказывает в своих сочинениях не случайно или мимоходом. Напротив, она глубоко коренится в других основных его воззрениях, как, например, на природу и сущность зла, на учении σ возможности загробного развития, об исправительном характере адских мучений и проч. Важное значение в данном случае имеет и то обстоятельство, что мысли о всеобщем апокатастасисе находятся решительно во всех, списках некоторых сочинений св. Григория, какие сохранились до настоящего времени. «В некоторых сочинениях Григория,—говорит Филарет, архиеп. Черниговский,— по всем спискам так часто повторяется мысль о восстановлении всего в прежний вид и в таком соотношении с окружающими мыслями, что надобно говорить, правду—нельзя признать ее вносной»2). Против мнения об интерполяции эсхатологических трактатов и мест в сочинениях святителя Нисского, наконец, говорит то обстоятельство, что на протяжении всех сочинений св. отца заметно однообразие стиля 3).
Итак, попытка объяснить учение св. Григория Нисского о всеобщем апокатастасисе интерполяцией его эсха-
1) Dr. Fr. Hilt, ор. cit ., S . 326.
2) Op . cit ., т. II , изд. 2, стр. 153.
3) Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 319. 326; Prof. I. Schwane, Bd . II , op . cit ., S. 605.
574
тологических трактатов со стороны оригенистов должна быть отвергнута. Мы не имеем никаких оснований для признания того положения, что сочинения этого св. отца интерполировались и что этот святитель не учил об апокатастасисе. Напротив, все данные говорят за неповрежденность сочинений св. Григория Нисского и за то, что учение об апокатастасисе могло принадлежать этому св. епископу Нисскому и, действительно, принадлежало.
Если довольно древним является, с одной стороны, убеждение, что сочинения св. Григория сохранились неповрежденными и, следовательно, принадлежат св. отцу, а с другой,—мнение об интерполяции эсхатологических трактатов и мест в творениях святителя Нисского в смысле оригеновского апокатастасиса; то не менее древним является и третье мнение, занимающее средину между двумя вышеизложенными. По этому последнему мнению, все те места в творениях св. Григория, в которых, по-видимому, говорится о всеобщем апокатастасисе, в действительности, не заключают учения о последнем, а лишь особенно возвышенные, философские умозрения св. отца, несомненно, православного характера.
Последнее суждение о всеобщем апокатастасисе в творениях св. Григория Нисского по основной своей сущности принадлежит св. Максиму Исповеднику (†13 авг. 662). Этот св. отец, оправдывая святителя Нисского, говорит: «церковь знает три восстановления. Под одним разумеется восстановление каждого в отношении к требованиям добродетели: восстановляется тот, кто исполнил лежащие на нем требования добродетели. Другое относится к восстановлению всей природы во время воскресения,— это восстановление к нетлению и бессмертию. Третье, о котором преимущественно и говорит в своих сочинениях Григорий Нисский, есть восстановление душевных сил, подпавших греху, в то состояние, в каком они созданы. Ибо надлежит, чтобы как вся природа в ожи-
— 575 —
даемое время, в воскресение плоти, полудила нетление, так и поврежденные силы души в течение веков удалили находящиеся в ней порочные образы, и чтобы душа, достигши предела веков и не нашедши покоя, пришла к Богу беспредельному,—и, таким образом, познанием, а не участием в благах (τῇ ἐπιγνώσει , οὐ τῇ μεθέξει τῶν ἀγαθών) она возвратила себе силы, восстановилась в первобытное состояние и ясно было, что Творец не есть виновник греха»1) Из данных слов св. Максима Исповедника следует, что, по мнению этого писателя, в творениях св. Григория Нисского нет мысли о всеобщем апокатастасисе, потому что у него термин— ἀποκατάστασις употребляется в смысле восстановления познавательных сил человека в то состояние правильного отношения к истине, в каком они вышли из творческих рук своего Создателя.
Данное мнение св. Максима Исповедника нашло себе более подробное раскрытие, а также и обоснование в исследованиях проф. Винченци. Этот ученый полагает, что св. Григорий совершенно был нужд каких бы то ни было заблуждений. Если же он, по-видимому, учил о восстановлении всех разумно-свободных существ в их первобытное состояние, то этим он не хотел сказать, что вся тварь некогда будет наслаждаться тем блаженством, какое наши прародители испытывали в раю. По мнению проф. Винченци, святитель Нисский через подобные выражения высказывает лишь свою уверенность в том, что некогда все разумно-свободные существа теоретически и чисто внешним образом признают власть Христа и чисто внешне покорятся Богу. Сообразно с этим, названный ученый, как мы это видели в своем месте 2), по-
1) Quaest. et dubia, interr. 13 (Migne, ser. gr., (1865), t. XC, 304) col. 796A-C; cp. преп. ФеодорСтудит, Ep. 160 (Migne, ser. gr., (1860), t. XCIX) col. 1500D—1501 AB; p. пер. (Творения преп. Феодора Студита С.-Петербург 1867) ч. II, стр. 406—407.
2) Стр. выше 556.
— 576 —
лагает, что св. отец, объясняя слова св. апостола Павла: «о имени Иисусове всяко колено поклонится небесных, и земных и преисподних» (Филип. 2, 10. 11), не имеет в виду мысли об обращении злых духов ко Христу, но говорит только об общем признании всеми власти Христа и Его божественного достоинства. Кроме указанного понимания апокатастасиса, проф. Винченци разделяет и другое — «восстановление поврежденного человека к нетлению, что будет в общем всех людей воскресении»1). Правда, св. епископ Нисский в своих творениях часто говорит об очищении от порочности, которую он обозначает терминами— ἡ κακία или τὸ κακὸν . Но это, по мнению проф. Винченци, не только не говорит против его понимания выражений св. Григория о всеобщем апокатастасисе, но даже его подтверждает. И это потому, что под терминами— ἡ κακία или τὸ κακὸν , как думает названный ученый святитель Нисский разумеет не грех, как нравственное зло, но грех или порок в плоти, физические следствия греха, другими словами тленность греховной плоти ветхого человека, противоюющей духу (caro peccati). Очищение в смысле освобождения человеческой природы от ее физической испорченности, по учению св. Григория, как его понимает проф. Винченци, произойдет в момент всеобщего воскресения мертвых, так как эго последнее св. отец представляет, как восстановление всей разумно-свободной твари в ее первобытное состояние. Это освобождение человеческой природы от ее испорченности совершится, по мнению названного ученого, не по свободному желанию человека, но по воле и силе
1) На это именно восстановление, по мнению проф. Винченци, указывает и св. апостол Павел, когда говорит: «сеется в тление, востает в нетление; сеется не в честь, востает в славе; сеется в немощи, востает в силе; сеется тело душевное, востает тело духовное» (I Кор. 15, 42. 43).
— 577 —
Творца. Бог, очистивши в момент всеобщего воскресения человеческую природу от ее испорченности, откроет для всех людей возможность вступления в новое состояние, которое святитель Нисский представляет под видом всеобщего блаженства. Сущность этого всеобщего блаженства, по мнению проф. Винченци, в свою очередь также будет состоять в освобождении всех людей от следствий грехов во время всеобщего воскресения, которое св. Григорий часто называет— μακαριότης в двух значениях. С одной стороны, под μακαριότης он разумеет восстановление человеческой природы в момент всеобщего воскресения in integrum , а с другой,— небесное блаженство. По мнению проф. Винченци, св. Григорий μακαριότης считал будущим достоянием всех людей только в первом значении. В этом последнем смысле проф. Винченци объясняет и все такие выражения святителя Нисского, как, например,— «воскресение есть восстановление в первобытное состояние»1) и т. под. В смысле освобождения человечества от испорченности его природы названный ученый, как мы уже видели2), понимал и такие выражения св. отца, в которых говорится о будущем участии в всеобщем блаженстве также и злых духов.
Таким образом, по воззрению представителей последнего мнения, в тех эсхатологических трактатах и местах творений св. епископа Нисского, в которых он говорит о всеобщем апокатастасисе, заключается речь о восстановлении лишь познавательных сил всей разумно-свободной твари, которое выражается в теоретическом признании последней Бога, как Бога, и поклонении Ему, с одной стороны, а с другой,-как это полагает исключительно проф. Винченци,—об освобождении, человеческой природы от ее испорченности (caro peccati).
1) Prof. Al. Vincenzi, op. cit., p. 20—48; 58—69.
2) Стр. выше 548 cp. 553—554.
578 —
Но изложенное мнение как в первой своей половине, так и во второй решительно не может быть признано справедливым. Прежде всего, ни в каком случае нельзя согласиться с той мыслью, что в учении св. Григория о всеобщем апокатастасисе заключается речь исключительно только о восстановлении одних познавательных сил разумно-свободной твари. Несомненно, святитель Нисский учит о восстановлении всего человечества «в состояние блаженное, божественное и далекое от всякой печали (τῆν ἐπὶ τὸ μακάριόν τε καὶ θεῖον , καὶ πάσης κατηφείας κεχωρισμένων ἀποκατάστασιν)»1), достижение которого является возможным только при участии свободной воли человека и при наличности действия благодати св. крещения. «Ведь, не все, пишет св. отец,—что через воскресение снова приходит в бытие, воспринимает одну и ту же жизнь (τὸν αὐτὸν βίον), но существует большое различие между очистившимися и имеющими нужду в очищении (ἀλλὰ πολύ τὸ μέσον τῶν τε κεκαθαρμένων , καὶ τῶν τοῦ καθαρσίου προσδεομένων ἐστίν). Для кого в этой жизни предшествовало очищение баней крещения, тем предстоит участие в сродном. Чистому принадлежит бесстрастие. А что с бесстрастием соединяется блаженство,—это не подлежит сомнению. Но в ком загрубели страсти и не произведено никакого очищения от скверны— ни таинственной водой, ни призыванием божественной силы, ни исправлением через покаяние,—тем по всей необходимости должно пребывать в соответствующем этому состоянии. Но поддельному золоту прилично горнило, дабы, по истреблении примеси к ним порока (ὡς τῆς ἐμμιχθείσης αὐτοῖς κακίας ἀποτακείσης), впоследствии в течение долгих веков их природа сохранилась чистой пред Богом»2). Из данных суждений св. Григория ясно видно, что его учение о всеобщем апокатастасисе, который бу-
1) Orat. cat., cap. 35 (Srawley, op. cit., p. 138); p. пер. ч. IV, стр. 94.
2) Ibid. (Srawley, op. cit., p. 138—139); p. пер. ч. IV, стр. 94—95.
— 579
дет иметь место в мировой истории после всеобщего воскресения мертвых и произойдет независимо от последнего, не исчерпывается лишь мыслью о восстановлении одних только познавательных сил человека. Впрочем, эта несомненная истина еще яснее открывается из других рассуждений св. отца. Так, в одном из своих сочинений св. епископ Нисский высказывает то свое воззрение, что после всеобщего воскресения мертвых и изменения живых, несмотря на то, что природа воскресших и изменившихся людей преобразится в духовную и нетленную, однако они будут отличаться друг от друга, так как «отличительным видом каждого» человека будут его нравственные свойства,—«особенности порока или добродетели, качественное взаимное смешение которых сообщит тот или иной отличительный характер виду»1). Противополагая, далее, на основании этого нравственного различия, добрых злым, св. Григорий говорит, что это различие между добрыми и злыми будет существовать до тех пор, пока (ἕως) не испразднится, по слову св. апостола, последний враг (1 Кор. 15, 26) и пока, по совершенном изъятии зла из всех существ, во всех не будет снова восстановлен тот божественный образ, который был напечатлен на нас при нашем создании 2). Тогда «все достигнут одинакового совершенства, по обетованию Бога Слова», другими словами, «во всех явится одна и та же благодать (τὸ μίαν καὶ τῆν αὐτὴν τοῖς πᾶσιν ἐπιφανὴσεσθαι χάριν), так что каждый будет разделять с ближним одну и ту же радость (τὴν αὐτὴν εὐφροσύνην). Вследствие этого каждый будет и сам радоваться, видя красоту другого, и сообщать свою радость другому, потому что тогда никакое зло (μηδεμιᾶς κακίας) не изменит облика души в безобразный вид» 3). На основании данных суждений святителя
1) De mortuis (Mg. XLVI) col. 533CD; p. пер. ч. VII, стр. 529.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 536AB; p. пер. ч. VII, стр. 530.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 536BC; p. пер. ч. VII, стр. 531.
580 —
Нисского, конечно, ни в каком случае нельзя утверждать, что он ограничивал апокатастасис восстановлением одних только познавательных сил.
Что касается той стороны рассматриваемого мнения (проф. Винченци) относительно учения св. Григория о всеобщем апокатастасисе, по смыслу которой будто бы данное учение святителя Нисского нужно понимать в смысле «восстановления поврежденного человека к нетлению, что произойдет во время всеобщего воскресения», то и она должна быть признана несостоятельной. Указанное мнение основывается на своеобразном понимании зла— ἡ κακία или τὸ κακόν , о котором весьма часто св. епископ Нисский говорит в своих творениях. В усвоении проф. Винченци такого смысла терминологии св. отца— ἡ κακία или τὸ κακόν и заключается его коренное заблуждение, а также и вся слабость утверждающегося на нем его мнения.
Проф. Винченци, как мы уже видели 1)» полагает, что св. Григорий под злом— ἡ κακία или τὸ κακόν разумел тленность нашей поврежденной грехом природы или, другими словами, «грех в плоти (peccatum in carne)». Понимая таким образом воззрение св. епископа Нисского на зло, названный ученый должен был приписать св. отцу мысль, что будто бы зло, но его представлению, заключается в теле человека, а не в душе. Он должен был приписать святителю Нисскому мысль, что с уничтожением тела уничтожается и самое зло. Но св. Григорий совершенно был чужд подобных мыслей. Он, напротив, с особенной силой утверждает, что зло коренится не в материальном начале вашей природы, но в духовном, именно в свободной воле, за пределами которой зла в собственном смысле не существует (κακόν γὰρ οὐδἐν ἔξω προαιρέσεως ἐφ ’ ἑαυτοῦ κεῖται)2). Поэтому и говорит св. епи-
1) Ср. стр. выше 576.
2) Orat. cat., cap. 7 (Srawley, op. cit., p. 40); p. пер. ч. IV, стр. 27.
— 581
скоп Нисский, что «не тело—причина страстей, но свободная воля, производящая страсти (οὐ τὸ σῶμα τῶν καθημάτων αἴτιον , ἀλλ ’ ἡ προαίρεσις ἡ δημιουργοῦσα τὰ πάθη)»1). Правда, св. отец придавал немалое значение и материальному началу человеческой природы в деле происхождения зла; но только в том смысле, что воля произвела зло, преклонившись пред чувственностью и умножив его также через свое послушание чувственности, вместо послушания духу. Таким образом, человеческая природа, по учению святителя Нисского, служит только основанием, на котором утверждается производимое нашей волей зло, или, по выражению св. Григория, «веществом зла— κακίας ὕλη »2). Отсюда ясно, что св. епископ Нисский, говоря о восстановлении всех людей через освобождение их от зла в первобытное состояние, не мог разуметь под последним испорченности нашей телесной природы, а только исключительно моральное зло. Следовательно, мнение проф. Винченци должно быть признано несостоятельным, потому что оно вынуждает нас приписывать святителю Нисскому такие воззрения, которых он положительно не высказывал и не разделял.
Что представление проф. Винченци об учении св. Григория о всеобщем апокатастасисе, как об освобождении некогда телесной человеческой природы от ее испорченности, является, действительно, ошибочным, это следует также и из терминологического основания. Приводимое им в качестве доказательства воззрение на зло— ῆ κακία или τὸ κακόν , как на «грех в плоти (peccatum in carne)» или как на следствия греха, как морального зла, не оправдывается теми или другими частными мыслями св. епископа Нисского. По терминологии св. отца,— ἡ κακία или со κακόν преимущественно обозначает моральное зло. Это
1) De mortuis (Mg. XLVI) col. 528AB; p. пер. ч. VII, стр. 521.
2) Contra Eunom., lib. V (Mg. XLV) col 700D; p. пер. ч. VI, стр. 25; De mortuis (Mg. XLVI) col . 524D ; p . пер. ч. VII , стр. 518.
— 582 —
видно из многих его выражений, например, когда он говорит о том, что на том свете наказания будут соответствовать степени греховности каждого человека; что эти наказания будут иметь очистительный характер, в силу чего они будут продолжаться только до тех пор, пока грехи из существ не будут совершенно истреблены 1), или увещевает, в виду будущих весьма мучительных очистительных наказаний, беречься грехов ἡ κακία)2), или когда термин— ἡ κακία употребляет для обозначения первородного греха 3). Особенно характерно выражение св. Григория, когда он, с одной стороны, противополагает людей, освобождающихся от своих грехов (ἡ κακία) в настоящей жизни, тем людям, которые в течение долгого периода времени на том свете очищаются через адский огонь 4), а с другой,—добродетельную жизнь (ἡ κατ ’ ἀρετήν) — грешной (ἡ κατά κακίαν βίος)5). Не подлежит сомнению, что в этих двух противоположениях находящийся термин— ἡ κακία может обозначать только нравственное зло, а не «грех в плоти (peccatum in carne)». Таким образом, вопреки мнению проф. Винченци, термины— ἡ κακία или τὸ κακόν в творениях св. отца обозначают не следствия греха, например, испорченность телесной природы человека, но самый грех, как моральное зло.
Что касается, далее, термина — μακαριότης , то его, действительно, св. Григорий в своих творениях употребляет в двух указанных проф. Винченци значениях. Однако, нельзя не заметить того, что этот термин, главным образом, св. епископ Нисский употребляет в
1) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 100CD—101 A; p. пер. ч. IV. стр. 275.
2) Ibid. (Mg. XLVI) col. 101 B; p. пер. ч. IV, стр. 276.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 148A; p. пер. ч. IV, стр. 315.
4) Ibid. (Mg. ХLVІ) col. 152A; p. пер. ч. IV, стр. 318.
5) Ibid. (Mg. XLVI) col. 152 AB; p. пер. ч. IV, стр. 318.
— 583
своих творениях для выражения мысли о всеобщем освобождении от грехов. Так, в одном из своих сочинений он говорит, что некогда наступит время, когда «составится общий праздник, во время которого всех ожидает одна и та же радость (εὐφροσύνη), потому что никакое различие не будет разделять разумной природы в деле ее участия в одинаковых благах, но даже и те, которые в настоящее время, в силу своей греховности, пребывают вне, некогда будут находиться внутри святилищ божественного блаженства (μακαριότητος)»1).
Наконец, суждения проф. Винченци должны быть признаны несостоятельными по той причине, что против них ясно говорят те места в творениях святителя Нисского, где он трактует об участии в акте восстановлении всех разумно свободных существ в первобытное состояние также и диавола 2). Нельзя не отметить в заключение наших критических замечаний о рассматриваемом мнении проф. Винченци и того обстоятельства, что этот ученый исследователь в интересах своих воззрений удивительно много терминов, находящихся в творениях св. отца, понимает в смысле peccatum carnis 3). Неестественность такого явления очевидна сама собой!
Итак, мнение проф. Винченци о том, что будто бы св. Григорий Нисский под своим учением о всеобщем апокатастасисе разумел только освобождение человеческой природы от ее испорченности (caro peccati), должно быть признано несостоятельным 4).
1) Ibid. (Mg. XLVI) col. 133CD; p. пер. ч. IV, стр. 304 cp. ibid. (Mg. XLVI) col. 152B; p. пер. ч. IV, стр. 318; In psalm., lib. ІI, cap. X (Mg. XLIV) col. 540CD; p. пер. ч. H, стр. 116.
2) Например, In Chr. resurr., orat. I (Mg. XLVI) col. 609C; p. nepч. VIII, стр. 36; ibid. (Mg. XLVI) col. 612A; p. пер. ч. VIII, стр. 37.
3) Таковы, например,— ἡ κακία, τὸ κακόν, ὑ ἀντικείμενος, εὑρετὴς κακίας, εὐρετὴς θανάτου, θάνατος, ἀπατεών, ἐχερός, ἐπιβουλεύων, φύσις ἔξω σωμάτων, ὑπεναντίως προς τὸ καλὸν διακειμ- ένηит. под.
4) Таковымегосчитают—Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 335 ff.; Prof. I. Schwane, op. cit., Bd. II, S. 604. 605 Anm.; Bautz, op. cit., S. 48; vgl. Dr. Fr. Hilt, op. cit., S. 342.
584 —
К третьей группе мнений относительно учения св. Григория о всеобщем апокатастасисе можно отнести также суждение о последнем, принадлежащее Крампфу. Этот исследователь полагает, что святитель Нисский учит только об объективном будущем прекращении зла, но не субъективном. По его мнению, в будущей жизни для всех со всей ясностью обнаружится, что зло есть небытие что Бог—единое истинное благо, к которому естественно влечется тварное бытие. Тогда праведники найдут в этом своем влечении славу, а грешники — мучение. Самым фактом мучения, сознанием невозможности войти в общение с Богом, они будут служить к прославлению величия Божия, так что в отношении к славе Божьей огонь, их мучающий, будет их очищать от их вины, осужденные будут очищены в том смысле, что будут служить прославлению Божию, будут доказывать своими мучениями, что один только Бог есть истинное благо. По пониманию Крампфа, по учению св. Григория, грех или моральное зло вечно будет лишь фиксироваться в своей злобе 1). В качестве иллюстрации этой последней своей мысли он указывает на Иуду, осужденного, по мнению святителя Нисского, на наказание в аду, которое должно будет продолжаться в бесконечность. Бесконечность осуждения указывает на то, что с субъективной стороны предатель Христов постоянно будет фиксироваться в своем зле, а с объективной, — находясь в постоянной злобе и, следовательно, в постоянном мучении, Иуда находится в очистительном состоянии для славы Божьей, доказывая этим, что Бог и Его дело свято и праведно 2). Таким образом, по мнению Крампфа, святитель Нисский полагает, что некогда вся тварь будет участвовать в прославлении Бога, очищаясь от зла только в объективном смысле.
1) Dr. А. Kpampf, ор. cit., S. 59 Anm.
2) Ibid. op. cit., S. 59 —60 Anm.
585
Крампф предлагает и свое понимание учения св. Григория Нисского относительно — ἀφανισμὸς τῆς κακίας и ἀποκατάστασις τῶν πάντων . Опорным пунктом из Крампфа является положение, что это учение ев. отцом было направлено исключительно против манихеев. Последние, как известно» смотрели на зло, как на нечто совечное доброму началу в мировой жизни. Имея в виду последнее воззрение манихеев, святитель Нисский, как полагает названный ученый, и выдвинул учение о временном характере зла. Оно, по воззрению св. Григория, не только имеет начало в воле диавола, но также и конец. Последней гранью зла служит день всеобщего воскресения и суда. Только до мирового суда, по учению св. епископа Нисского, как его представляет себе Крампф, созданная Богом тварь может служить τῇ κακία . Что же касается времени после всеобщего суда, то тогда решительно все разумно-свободные существа будут служить добру, но только с тем различием, что одни будут прославлять Бога через свое блаженство на небе, а другие — через свое мучение в аду1). Это потому, что зло тогда будет лишено своего активного существования. Средством, которое делает невозможным возникновение зла в загробном мире, служит, по представлению названного ученого, адский огонь, действие которого, в силу последнего, св. отец называет «врачеванием (ἰατρεία)», «очистительным (ἑκκαθαρθέντων)» и т. под. В этом именно последнем смысле, по мнению Крампфа, и сам εὐρετὴς τῆς κακίας , диавол, представляется святителю Нисскому в будущем времени уврачеванным от зла— τῆς κακίας , так как тогда и для него дальнейшее и новое изобретение и распространение последнего на создание Божье станет уже невозможным. В этом также смысле, по воззрению названного ученого, св. Григорий признавал и «согласие всей падшей ангельской твари
1) Ibid. ор. cit., S. 105.
— 586 —
в исповедании господства Иисуса Христа». Все, таким образом, после суда так или иначе будет направлено к прославлению величия Божия. Если же св. Григорий Нисский говорит словами Св. Писания, что некогда наступит время, когда Bois будет всяческая во всех (1 Кор. 15, 28), то этим, — полагает Крампф, — он не имеет в виду выразить мысли, что в загробном мире произойдет перемена в субъективном моральном состоянии осужденных на адские мучения1)
Таким образом, по мнению Крампфа, св. Григорий учил о прекращении некогда только активности зла, которую манихейский дуализм считал вечной.
Однако, и мнение Крампфа об учении св. Григория Нисского о всеобщем апокатастасисе не может быть нами принято. Не подлежит сомнению, что св. отец учил о будущем уничтожении не только активности зла, но и его актуальности в воле разумно-свободных существ. Это ясно следует из его собственных суждений. Так, например, он говорит, что «Господь будет Владыкой концов земли, когда уничтожится царствовавший некогда над многими грех, который у пророка назван грехом уст их и словом устен, и гордынею, и клятвой и ложью (Пс. 58, 14)»2). Далее, св. Григорий полагает, что люди некогда не только освободятся от грехов, но также примут участие в наслаждении небесными благами3). По мнению святителя Нисского, и грешники, очистившись через адские мучения от грехов, в конце концов, достигнут спасения4), следствием чего будет.
1) Ibid., ор. cit., S. 105—106.
2) Μηδαμῶς γὰρ ὑπολειφθείσης κακίας, πάντως ἔσται τῶν περάτων δεσπότης ὁ Κύριος, τῆς νῦν βασιλευούσης τῶν πολλῶν ἀμαρτίας ἐκ ποδῶν γενομένης. In psalm., lib. II, cap. XVI (Mg. XLIV) col. 608A; p. пер. ч. II, стр. 192.
3) In illud, tunc ipse filins subjiciet., etc., orat. (Mg. XLVI) col. 1316AB; ibid. (Mg. XLIV) col. 1316CD; ibid. (Mg. XLIV) col. 1317A;
4) Orat. cat., cap. 8 (Srawley, op. cit., p. 47); p. пер. ч. IV, стр. 31—32.
587
их общение с Богом1) В своем трактате — «О душе и воскресении» св. отец объясняет происхождение мучительности адских наказаний для грешников тем обстоятельством, что последних Бог, в силу их, все-таки, до известной степени родства с Ним, влечет к Себе2). В том же сочинении несколько ниже св. Григорий замечает, что большая или меньшая степень продолжительности адских мучений в отдельных случаях зависит от степени греховности каждого грешника 3); значит, некогда и мучения и греховность прекратятся. Наконец, св. епископ Нисский решительно учит о будущем прекращении зла. Имея в виду слова св. псалмопевца: «да не прибудет тебе престол беззакония, созидаяй труд на повеление» (93, 20), он пишет: «этим пророк показал, что зло не от вечности, и оно не вечно будет существовать, потому что то, что не всегда было, то и не вечно будет»4). Все это такие мысли св. Григория, которые ни в каком случае не могут позволить нам согласиться с вышеизложенным мнением Крампфа, так как они ясно говорят за то, что св. отец признавал очищение некогда грешников от зла не в объективном только смысле, но также — и это главным образом—и в субъективном.
Что же касается аргументации Крампфа, что будто бы св. Григорий вопреки манихеям учил об имеющем некогда наступить прекращении лишь деятельной стороны зла, то она представляется нам странной. Дело в том, что манихеи, как это признает и Крампф5), защищали мысль, что зло является в мировой жизни таким же веч-
1) De mortuis (Mg. XLVI) col. 525A; p. пер. ч. VIII, стр. 518.
2) De an. et res. (Mg. XLVI) col. 97C; p. пер. ч. IV, стр. 273.
3) Ibid. (Mg. XLVI) col. 100C; p. пер. ч. IV, стр. 275.
4) Δι’ ὤν τὸ μὴ ἐξ ἀϊδίου τὴν κακίαν εἶναι, μηδὲ εἰς ἀεὶ παραμένειν αὐτὴν ἐνεδείξατο. Ὅ γὰρ μὴ ἀεὶ ἦν, οὐδὲ εἰς ἀεὶ ἔσται. In psalm., lib. II, cap. VIII. (Mg. XLIV) col. 525C; p. пер. ч. ΙΙ, стр. 101.
5) Dr. A. Krampf, op. cit., S. 105.
— 588 —
ным началом, каким служит в ней добро. Отсюда, как это справедливо говорит Хильт1), гораздо естественнее было бы св. епископу Нисскому в полемике с манихеями утверждать мысль о будущем прекращении самого зла, а не одной лишь его деятельной стороны.
Коренная ошибка Крампфа заключается в том, что он не принял во внимание того обстоятельства, что св. Григорий, говоря о будущем обращении зла в «небытие», имел в виду не только прекращение его деятельности, но также и его уничтожение в воле разумно свободных существ. Ведь, по мнению святителя Нисского, как это справедливо отмечает Хильт 2), зло некогда прекратит свое существование не в том смысле, что станет μὴ ὅν т.-е. бытием в несобственном смысле, но в том, что и совсем не будет иметь бытия, даже в этом несобственном смысле. «Зло, — говорит св. отец, — некогда должно быть совершенно изъято из существующего, а что не имеет бытия в собственном смысле слова, того совершенно не будет» 3). И это потому, что «зло не обладает свойством пребывать вне произволения, а все про» изволение в Боге». Итак, «зло достигнет своего полного уничтожения, потому что для него не окажется никакого места для пребывания» 4).
Итак, мнение Крампфа об учении св. Григория Нисского о всеобщем апокатастасисе должно быть отвергнуто.
Наконец, изложим еще воззрение на учение св. Григория о всеобщем апокатастасисе, принадлежащее отече-
1) Dr. Fr. Hilt, ор. cit., S. 346 ff.
2) Ibid., op. cit., S. 343—344.
3) Χρὴ γὰρ πάντη καὶ πάντως ἐξαρεθῆναί ποτε τὸ κακὸν ἐκ τοῦ ὄντος, καὶ ὅπερ ἐν τοῖς φθάσασιν εἴρηται, τὸ ὄντως μὴ ὂν μηδ’ εἶναι ὅλως. De an. et res. (Mg. XLVI) col. 101 А; p. пер. ч. IV, стр. 275.
4) Ibidem. Что касается ссылки А. Крампфа на Иуду, то смысл данного примера в творениях св. Григория вытекает из сказанного нами выше (стр. 379).
— 589 —
ственному исследователю — прот. И. Скворцову. Этот ученый, признавая, как мы уже имели случай упомянуть об этом выше 1), сочинения святителя Нисского интерполированными оригенистами 2), полагал, что последний далек был от мысли, чтобы допускать возможность очищения, в будущей жизни всех разумно-свободных существ, а затем их переход в блаженную жизнь. «Поводом к приписанию такого мнения св. Григорию, думаем,—так пишет прот. И. Скворцов,—были следующие его истинно-философские, но не понятные оригенистами мысли о нравственном зле: это зло само по себе, говорит он (св. Григорий), не есть что-либо существенное, т.-е. оно не про исходит от Единого Сущего, оно противно свойствам бытия и жизни; но он же замечает, что нравственное зло (κακία) в настоящей жизни является нам не само но себе, а всегда под видом добра, или, что то же у св. Григория, под видом существенного. Так как истинно сущее, истинное благо есть один Бог, то не трудно понять мысль св. философа, когда он говорит: зло нравственное должно, наконец, быть изгнано из области сущего, т.-е. это зло будет обнажено от всякого вида существенности или блага, предоставится само себе и, таким образом, зло будет злом самому себе, не заражая более очищенного творения Божия» 3). Таким образом, по мнению прот. И. Скворцова, уничтожение зла св. Григорием понимается лишь в смысле обнаружения для всех, что зло есть зло и небытие; другими словами, оно заключается лишь в снятии с него личины добра и бытия.
Данное воззрение прот. И. Скворцова на учение св. Григория Нисского о всеобщем апокатастасисе, как это справедливо отметил другой наш отечественный исследо-
1) Стр. 567.
2) Ор. cit. (Тр. К. Д. Ак. 1863) т. III, стр. 130.
3) Ibid., стр. 159—160.
— 590
ватель—Д. Тихомиров 1), только в первой своей половине соответствует мыслям святителя Нисского. Что же касается второй заключительной его части, то она не имеет для себя никаких оснований в творениях св. Григория. Прежде всего, святитель Нисский нигде в своих сочинениях не говорит, что совершенное уничтожение зла будет состоять лишь в обнажении его «от всякого вида существенности» 2) и в предоставлении его самому себе. Но предположим, вместе с прот. И. Скворцовым, что св. отец действительно учил об этом. Тогда спросим, что составляет по учению св. Григория, призрак добра в зле? Таким призраком, по мнению святителя Нисского, служит чувственное удовольствие. Но, ведь, возможность наслаждения чувственным удовольствием, как таковым, прекратится для человека непосредственно после его смерти, так как его тело с наступлением последней начнет свое разложение. Ясно, что тогда нравственное зло уже перестанет прикрываться призраком добра или, по выражению прот. И. Скворцова, оно «обнажится от всякого вида существенности или блага». А если так, то нет никаких оснований к предположению, будто бы мысль св. Григория требует допущения и после смерти значительного времени, чтобы зло стало свободным от призрака чувственного удовольствия 3). Кроме того, необходимо заметить, что чувственное удовольствие, по мнению св. епископа Нисского, является чисто случайным признаком зла, потому что зло, по своей основной сущности, заключается в противлении воли тварных существ божественной воле. Что это так. это видно из того, что зло остается злом и в том случае, когда чувственное удовольствие прекращается,
1) Ор. cit., стр. 372.
2) См., приведенные выше (стр. 586—587) места из творений св. Григория Нисского, в которых говорится об актуальном уничтожении зла.
3) Д. Тихомирова, ор cit , стр. 372—373.
— 591
именно до тех пор, пока оно не уничтожится через послушание воле Божьей. Ясно, что сколько бы ни обнажалось зло от призрака добра, оно через это не уничтожится1). Наконец, нельзя не отметить того, что чувственное удовольствие не может служить, по учению святителя Нисского, общим свойством зла, так как оно не простирается на всю сферу последнего. Зло, как известно, существует, кроме человеческого мира, также и в мире злых духов. Но в то время как человек, по мысли св. Григория, впал в зло, будучи прельщен призраком добра в последнем, заключающегося и чувственных удовольствиях, диавол согрешил по причине своей зависти к человеку. Само собой понятно, отсюда, что уничтожение призрака, не обнимающего собой всей области зла, не может быть даже сущностью уничтожения зла2).
Таким образом, мнение прот. И. Скворцова относительно учения св. Григория о всеобщем апокатастасисе не имеет для себя прочных оснований.
Из рассмотрения нами всех более или менее видных мнений о всеобщем апокатастасисе в творениях святителя Нисского со всей очевидностью открывается, что св. Григорий, действительно, допускал некогда полное уничтожение зла и, следовательно, восстановление всех разумно-свободных существ в их первобытное состояние нравственной чистоты и блаженства.
1) Ibid., ор. cit., стр. 373—374.
2) Ibid., ор. cit., стр. 373.
592
Заключительная часть
Раскрытие эсхатологических истин в древнегреческой христианской литературе от времени св. Григория Нисского до V-го вселенского собора.
В творениях св. Григория Нисского эсхатологические истины нашли свое сравнительно полное и обстоятельное раскрытие. После св. Григория они с такой полнотой и обстоятельностью уже не раскрывались. Своеобразные мнения, высказанные и раскрытые святителем Нисским в согласии с эсхатологическими воззрениями Оригена, греческими церковными писателями в это время или прямо отвергаются, хотя и без упоминания имени св. Григория, или совершенно замалчиваются и ео ipso осуждаются, так как проводятся совершенно иные воззрения. Эсхатологические истины теперь раскрываются в общем согласно с общецерковным учением. Конечно, глубокая обработка св. Григорием многих эсхатологических вопросов в согласии с последним учением при этом не могла пройти бесследно. Однако, трудно установить с точностью степень данного влияния святителя Нисского на последующее богословие. Наилучшим способом определения, взаимоотношения эсхатологических воззрений греческих церковных писателей взятого времени к эсхатологии св. Григория Нисского является, конечно, систематическое обозрение тех пунктов святоотеческой письменности данного периода, где затрагиваются и так или иначе ре-
— 593
шаются эсхатологические вопросы. По-видимому, в взятое время эсхатология больше других писателей интересовала св. Епифания Кипрского († 403), св. Иоанна Златоуста († 14 сент. 407), бл. Феодорита Кирского († 458) и Энея Газского († в начале VІ-го века).
594
I. Эсхатология св. Епифания Кипрского.
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти.
Св. Епифаний Кипрский, в согласии с св. Григорием Нисским и некоторыми другими церковными писателями1), утверждал, что «смерть есть не что иное, как разлучение и отделение души от тела (οὐδεν ἄλλο ὁ θάνατος ἢ διάζρισις καὶ διαχωρισμός ψυχῆς ἀπὸ σώματος)»2). В согласии с тем же святителем Нисским и другими свв. отцами 3), он также улил, что «смерть устроена не на какое-либо зло человеку (τὸν θάνατον τῷ ἀνθρώπω μεμηχανῆσθαι μὴ ἐπὶ κακῷ τινι)»4); напротив, она для него—хорошее дело (καλόν ὁ θάνατος)5); она служит средством, которым Бог врачует человеческую природу от примешавшегося к ней греховного яда. «Для искоренения и уничтожения греха Истинный Заступник и Врач наш Бог, подобно противоядию, допустил смерть, дабы зло, возникнув в нас, как бессмертных, не было вечно бессмертным, а если мы, изувеченные и, подобно больным, лишенные собственной силы, не остались на долго в этом состоянии, питая
1) Стр. выше 259. 259, прим. 5.
2) Adv. haeres., lib. II, haer. LXIV, cap. XXII (Migne, ser. gr. (1863), t. XLI, 545) col. 1104C; p. пер. (Творения св. Епифания Кипрского, Москва, 1872) ч. III, стр. 130; cp. ibid. (Mg. XLI, 545) col. 1105A; p. пер. ч. III, стр. 131.
3) Стр. выше 281—290. 281, прим. 4.
4) Adv. haeres., lib. II, haer. LXIV, cap. XXIX (Mg. XLI, 552) col. 1116C; p. пер. ч. ІІІ, стр. 143.
5) Ibid., cap. XXII (Mg. XI,I, 545) col. 1104D; p. пер. ч. ІІІ, стр. 131.
— 595 —
в постоянно пребывающих и бессмертных телах великую болезнь греха..., то Бог изобрел смерть на подобие врачебного очистительного средства, дабы мы сделались поистине непорочными и невредимыми»1). «Художник Бог разрушает храм Свой—человека, произрастившего грех, на подобие дикой смоковницы, умерщвляя его временным попущением смерти, как написано, и оживотворяя, дабы по иссушении греха плоть с теми же членами, подобно возобновленному храму, восстала бессмертной и неповрежденной после совершенного и окончательного уничтожения греха. Ведь, пока еще живет тело до смерти, необходимо жить с ним вместе и греху, который скрывает внутри нас свои корни, хотя бы отвне и подвергался ударам со стороны здравых мыслей и внушений 2). Бог «изгнал (человека) из рая не для того, чтобы он не жил во веки, вкушая от древа жизни, но, чтобы через смерть прежде всего был умерщвлен грех, дабы таким образом по истреблении греха человек, восстав чистым после смерти, вкушал жизнь»3), «дабы через разрушение и распадение тела грех весь до основания погиб, как бы вырванный с корнем, дабы не осталось ни малейшей части корня, от которой снова пошли бы новые отрасли грехов» 4). Свой взгляд на смерть, как на благодетельное в человеческой жизни явление, св. Епифаний старается пояснить при помощи наглядных примеров. Кроме сравнения человеческого тела, отравленного грехом, с глиняным сосудом, переделываемым горшечником с целью устранения из него недостатков 5),
1) ibid., cap. XXVI (Mg. XLI, 549) col. 1112ΒC; р. пер. ч. ІІІ, стр. 138.
2) Ibid., cap. XXV (Mg. XLI, 548) col. 1109В; р. пер. ч. ІІІ, стр. 136.
3) Ibid., сар. ХXIII (Mg. XLI, 547) col. 1108BC; р. пер. ч. III, стр. 134.
4) Ibid., cap. XXIV (Mg. XLI, 547) col. 1109Л; р. пер.ч. IΙΙ, стр. 135. ср. ibid., XXII cap. (Mg. XLI, 545) col. 1105ВС; р.пер. ч. ІІІ, стр. 132.
5) Ibid., сар. ХХVIII (Mg. XLI, 551) col. 1113CD—1116А; p. пер. Ч. IΙΙ, стр. 141; ср. 199. 200.
— 596 —
примера, встречающегося также у свв. Феофила Антиохийского 1) и Григория Нисского2), у святителя Кипрского мы находим еще другой пример. Он уподобляет отравленное грехом наше тело статуе, поврежденной из зависти злым человеком, и рассуждает так. «Если художник желает, чтобы статуя, над которой он трудился с таким усердием и заботой, не была совершенно испорчена и обезображена, то он снова постарается, расплавивши ее, сделать такой же самой, какой она была и раньше... Таким же представляется мне и домостроительство Божие относительно нас. Ведь, увидев, что человек, прекраснейшее произведение Божие, поврежден злыми наветами зависти, Бог, по Своему человеколюбию, не захотел оставить его таким, дабы он, нося в себе неизгладимое смертью пятно, не подвергся вечному позору, но разложил его снова в первоначальное вещество, чтобы через воссоздание истребилось и уничтожилось в нем все позорное. Ведь, что там расплавление статуи, то здесь разложение тела; что там новая форма или переделка вещества, то здесь воскресение после смерти» 3).
Трактуя о физической смерти человека и ее назначении, св. Епифании Кипрский в своих творениях ничего не говорит об участи дуга умерших людей до второго пришествия Христа на землю. Да и о последнем он лишь случайно упоминает в своих творениях4). Зато святитель Кипрский уделяет довольно много внимания учению о всеобщем воскресении мертвых, стараясь опроверг-
1) Стр. выше 21.
2) Стр. выше 285.
3) Adv. haeres., lib. II, hier. LXIV, cap. XXVII (Mg. XLI, 549—550) col. 1112CD—1113АВ; p. пер. ч. ІІІ, стр. 138—140.
4) Ibid., haer. LVII, cap, I (Mg. XLI, 480) col. 996C; p. пер. ч. III, стр. 3; ibid., haer. XXIV, cap. VI (Mg. XLI, 517) col. 1097CD; p. пер. ч. III, стр. 68; ibid., haer. LXIV, cap. VII (Mg. XLI, 519) col. 1060C; p. пер. ч. ІІІ, стр. 69; Anacephal. (Migne, ser. gr. (1863), t. XLII, 1139) col. 885A; p. пер. (Москва 1882) ч. V, стр. 404.
597 —
нуть смелые рассуждения по данному вопросу Оригена и отчасти tacite св. Григория Нисского.
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых.
Ориген, как это было известно св. Епифанию Кипрскому из творений св. Мефодия Олимпского, относил будущее воскресение не к вещественному человеческому телу, а к духовному1). Принимая во внимание, что наше тело в отношении своего материального состава не бывает одинаковым даже в течение немногих дней, а сохраняет лишь известный характеризующий его вид (εἶδος), он полагал, что будущее воскресение коснется только одного вида (εἶδος) человека2), который окажется, впрочем, возвышенным в более славное состояние, так что он окажется уже не в тленном теле, но в бесстрастном и духовном, каким, например, было тело Иисуса Христа во время Его преображения, когда Он взошел на гору с Петром, Моисеем и Илией, явившимися Ему3). Свое учение о сущности будущего воскресения мертвых Ориген, по словам св. Епифания, старался обосновать на Св. Писании. Стоит, говорил он, остановить внимание и на том, что иное сеется, а иное востает: сеется тело душевное, востает тело духовное (1 Кор. 15, 44). К этому апостол присоединяет учение, что мы имеем, так сказать, сложить с себя земное качество, тогда как вид
1) Adv. haeres., lib. ΙΙ, haer. LXIV, cap. XVII (Mg. XLI, 539) col. 1096BC; p. пер. ч. III, стр. 105 cp. ibid., haer. LXVII , cap . II (Mg . XL II , 711) col . 176A ; p . пер. (Москва 1880) ч. IV , стр. 81.
2) Ibid., haer. LXIV, cap. XIV (Mg. XLI, 536) col. 1089D—1092AB; p. пер. ч. ІІІ, стр. 99—100; ibid., cap. XVII (Mg. XLI, 540) col. 1096C; p. пер. ч. ІІІ. стр. 106; ibid., cap. XXXVIII (Mg. XLI, 561) col. 1129CD; p. пер. ч. ІІІ, стр. 107; cp. ibid., cap. X (Mg. XLI, 533) col. 1085B-D—1089A; p. пер. ч. III. стр. 97—98.
3) Ibid., cap. XXXVIII (Mg. XLI, 561) col. 1129D—1132A; p. пер. ч. III, стр. 108; cp. ibid., cap. XIV ( Mg . XLI , 537) col . 1092B С; p . пер. ч. III , стр. 101.
598 —
( εἶδος) тела сохранится во время воскресения: «сие же глаголю, братия, яко плоть и кровь царствия Божия наследити не могут, ниже тление нетления» (1 Кор. 15, 50)1) Так как защитники будущего воскресения вещественных человеческих тел также ссылались на выражения Св. Писания, то Ориген доказывал, что последние не подтверждают их мнения. «Если кто из сомневающихся, указав на тело Христово, так как Христос называется первенцем из мертвых и начатком умерших (Ап. I, 5; 1 Кор. 15, 20), скажет, что как Он воскрес, так надобно полагать о всех, что они воскреснут подобно Ему, да яко Христос воскресе, тако и Бог умершие в Иисусе приведет с Ним (1 Солун. 2, 14), а тело Иисуса воскресло с тоя же плотью и костями, какие Он имел, как убедился в этом и Фома; то мы, - говорит Ориген,— на это скажем, что тело Христово было не от похоти мужския (Ио. 1, 13), не от услаждения сном сошедшагося (Прем. 7, 2), не в беззакониих зачатое и во гресех рожденное (Пс. 50, 7), но от Духа Святого, и силы Вышнего (Лук. 1, 35) и от Девы, тогда как твое тело есть сонь, успокоение и скверна» 2). Далее, Ориген считал неуместной и ссылку на слова Иезек. 37, 1—6, приводимую в защиту будущего воскресения наших вещественных тел. И это по той причине, что «по буквальному их смыслу не будет и воскресения плоти, а только воскресение костей, кожи и жил». Кроме того, Ориген тут обращал внимание и на то, что не везде, где говорится в Св. Писании о костях, под именем последних должно разуметь кости в общепринятом значении (напр., Пс. 140, 21, 15; 6, 3)3).
Затем, Ориген отмечает, что и выражение: «ту будет
1) Ibid., cap. XV (Mg. XLI, 537) col. 1092CD; р.пер. ч. III, стр. 101.
2) Ibid., cap. XXXIX (Mg. XLI, 562) col. 1132AB; p. пер. ч. III, стр. 108.
3) Ibid., cap. XV (Mg. XLI, 537—538) col. 1092C—1093A Β; p, пер. 4. ІІІ, стр. 102.
— 599
плачь и скрежет зубом» не может быть понимаемо в буквальном смысле. Наконец, он высказывал предположение, что «изречение: «убойтесь могущего и душу и тело погубити в геенне» (Мф. 10, 24), может быть, указывает на то, что душа бестелесна, и, может быть, показывает и то, что она без тела не будет мучиться»... Что же касается выражения св. апостола: «оживотворит и мертвенная телеса наша», то, по мнению Оригена, оно,—так как наше тело смертно и непричастно истинной жизни,—означает то, что телесный вид (τὸ σωματικόν εἶδος).., по своей природе, смертен, а когда явится Христос, живот наш (Кол. 3, 4), то и его из состояния смертного тела Он переменит в оживотворенное (состояние), так что силой Животворящего Духа оно станет духовным. Равным образом слова: «но речет некто: како востанут мертвии, коим же телом приидут?»—ясно показывают, что прежнее существо тела не восстанет. Ведь, если хорошо мы поняли тот пример (о семени), то нужно сказать, что сила семени в зерне пшеницы, овладев окружающим веществом, проникнув его всецело, вкоренившись в самом его виде, придаст силы, какие имеет, тому, что прежде было землей, водой, воздухом и огнем, и, одолев их качества, изменит в то самое, которого само бывает производителем, и таким образом наполняется колос, который чрезвычайно отличается от первоначального зерна величиной, видом и разнообразием» 1)
Представляя себе таким образом сущность воззрений Оригена на будущее воскресение мертвых2), св. Епифаний Кипрский старался всячески доказать, что «мы воскреснем с этим телом и этой душой, со всем нашим сосудом (ἀναστησὁμεθα σὺν σώματι τούτω , σὺν ψυχη ταύτη , σὺν πάντι τή ἡμετέρω
1) Ibid., cap. XVI (Mg. XLI, 538) col. 1093B-D—1096A; p. пер. ч. III, стр. 103—104.
2) Cp. Ориген, стр. выше 162—174.
— 600
σκεύει)»1). Этого, прежде всего, он старается достигнуть отрицательным путем. Так, святитель Кипрский утверждает, что человек не может не воскреснуть по той причине, что он принадлежит к числу происходящих или рождающихся существ, потому что к последним относятся и ангелы и души, которые не погибают, так как они, по воле Создателя, бессмертны и неразрушимы 2) Нельзя также думать, что нам нужно быть после воскресения без тел, и потому, что имеющие улучити воскресение будут в то время, яко ангелы (Лук. 20, 35), ибо человек из своего состояния никогда не перейдет ни в состояние ангелов, ни в состояние других существ, так как «и ангелы не выходят из своего первоначального вида и не изменяются в образ других существ. Да и Христос пришел проповедать не превращение или изменение человеческой природы в иной образ, но возвращение в то состояние, в каком человек был сначала до падения, когда был бессмертен (ἀλλὰ εἰς ὃ ἦν ἐξ ἀρχὴς πρὸ τοῦ ἐκπεσεῖν ἀθάνατος ὡν)»3). Наконец, нельзя допустить, что Бог ошибся, не создавши человека ангелом, не имел сил, чтобы создать, вместо человека, ангела, или, наконец, сделав худшее, отложил лучшее до будущего, потому что подобное предположение в первом случае оказалось бы слабым, во втором—богохульством, а в третьем—нелепостью. Бог «не ошибается в творении прекрасного, не откладывает, не чувствует бессилия, но, как хочет, и когда хочет, имеет возможность сделать, так как Он есть сила. Вот почему, желая, чтобы был человек, Он вначале сотворил человека. Если же Он чего желает, то желает прекрасного, а человек—прекрасное (создание);
1) AnacephaI. (Mg. XLII, 1139) col. 885A; p. пер. ч. V, стр. 404.
2) Adv. haeres., lib. II, haer. LXIV, cap. XXXI (Mg. ХLI, 553) соl. 1117BC; p. пер. ч. ІІІ, стр. 145.
3) Ibid., cap. ХХXIII (Mg. XLI, 556) col. 1121CD—1124A; p. пер. ч. III, стр. 149—150.
601
человеком называется существо, составленное из души и тела; следовательно, человек будет не без тела, но с телом (οὐκ ἔσται ἄρα ἐκτος σώματος ὁ ἄνθρωπος , ἀλλὰ μετὰ σωματος), дабы, помимо одного человека, не появился другой человек. Ведь, Богу нужно сохранять все бессмертные роды, а человек бессмертен. Яко Бог, говорит премудрость, созда человека в нетление, и во образ Своего присносущия сотвори его (Прем. 2, 23). Следовательно, тело не уничтожается, потому что человек состоит из души и тела (οὐκ ἄρα ἀπόλλυται τὸ σώμα ὁ γὰρ ἀνθρωποἑκ ψυχῆς καὶ σώματος)»1).—Далее, будущее воскресение наших тел св. Епифаний доказывал свидетельствами Св. Писания. Он, прежде всего, указывал на евангельскую притчу о жене и семи братьях, которую предложили Христу саддукеи с целью отвергнуть учение о воскресении тела. Заметив, что саддукеи отрицали будущее воскресение мертвых, святитель Нисский рассуждал так. «Если бы не было воскресения плоти, но сохранилась бы одна душа, то Христос согласился бы с ними, как с прекрасно и правильно мыслящими. Но теперь Он отвечает, говоря: «в воскресение ни женятся, ни посягают, но яко ангели Божии на небеси суть» (Мф. 22, 30); не то, что люди тогда не будут иметь тела (οὐ τῷ σάρκα μὴ ἔχειν), но не будут жениться и вступать в замужество, а пребудут в нетлении... Когда Господь говорит, что святые в воскресение будут, как ангелы, то мы понимаем это не так, будто Он обещает, что святые в воскресение будут ангелами, но близкими к тому, чтобы быть ангелами (ἀλλὰ ἐγγὺς τοῦ εἶναι ἀγγἑλους). Поэтому, весьма безрассудно говорить, что в виду того, что Христос возвестил, что святые в воскресение явятся, как ангелы, эти (наши) тела не воскреснут»2). В подтверждение своего учения о будущем воскресении наших тел св. Епифаний
1) Ibid., cap. XXXIV (Mg. XLI, 557) col. 1124ВС; р. пер. ч. III, стр. 150—151 ср. ibid., lib. 1, haer. XIV (Mg. XLI, 32) col. 241AB;'p. пер. (Москва 1863) ч. I. стр. 70.
1) Ibid., lib. II, haer. LXIV, cap. XXXV (Mg. ХLI, 557-558) col. 1124D—1125AB; p. пер. ч. ІІІ, стр. 151—152.
602 —
приводит и 1 Кор. 15, 52 и 1 Солун. 4, 17, причем замечает, что св. апостол Павел в последнем месте словом живущий показал, что тела умерших воскреснут целыми (ὁλοσχερῆ)1). Ради той же цели святитель Кипрский ссылается и на—Пс. 29; Притч. 24, 27; Ио. 2, 192). —Затем, св. Епифаний утверждал, что на будущее воскресение наших тел указывает самое слово ἀνάστασις , потому что оно употребляется в приложении «не к тому, что не упало, а к тому, что упало и встает... Пала же подвергнувшаяся изменению скиния души, опустившись в землю перстную (Дан. 12, 2), потому что спускается вниз не то, что не умирает, а что умирает. Умирает же плоть, так как душа бессмертна. Итак, если душа бессмертна, а тело умирает, то те, которые говорят, что есть воскресение, но только не тела,—отвергают бытие воскресения, потому что не стоящее, а падшее и лежащее встает, как написано: «еда падаяй не востает? или отвращаяйся не обратится?» (Иерем. 8, 4)»3). «Если же,— говорит святитель Кипрский в другом месте,—одна часть тела в воскресение восстанет, а другая будет оставлена, то как будет существовать эта часть? Ведь, не могут быть в теле одни члены воскресшими, а другие—
1) Ibid., cap. LXX (Mg, XLI, 61)1) col. 1193АВ; р. пер. ч. ІІІ, стр. 211.
2) Adv. haeres, lib. ΙΙ, haer. LXIV, cap. LXXI (Mg. ХLI, 602) col. 1193D -1196АВ; p. пер. ч. ІІІ, стр. 215—216; ср. ibid.. lib. I, haer. XL, cap. VIII (Mg. ХLI, 298) col. 689ВС; p. пер. (Москва 1864) ч. II, стр. 121.
Кроме указанных, в творениях св. Епифания Кипрского встречаются еще и другие ссылки па Св. Писание, приводимые в защиту или подтверждение учения о будущем воскресении мертвых (ibid., lib. I, haer. IX, cap. III, (Mg. XLI, 25) col. 225CD—228A; р.пер. ч. I, стр. 59—60; ibid., lib. I, haer. XIV (Mg. XLI, 32) col. 241B; p. пер. ч. I, стр. 70; ibid, lib. I, haer. XXVIII, cap VI (Mg. XLI, 113—114) col. 384B-D—385A; p. пер. ч. I, стр. 197—199; ibid., lib. H, haer. LVI, cap. II (Mg. XLI, 478) col. 992D; p. пер. ч. II, стр. 456).
3) Ibid., lib. II, haer. LXIV, cap. XXXI (Mg. XLI, 558) col. 1125А; p. пер.ч. III, стр. 153 cp. ibid., lib. I, haer. XLII, cap. V (Mg. XLI, 305 —306) col. 701AB; p. пер. ч. II, стр. 133—134.
— 603 —
отложенными и покинутыми»1).—Наконец, св. Епифаний, как и св. Григорий Нисский»), признавал ожидаемое воскресение человеческого тела но той причине, что оно, по его мнению, вместе с душой, должно участвовать в будущем воздаянии. «Если тело, говорить он, вместе с душой участвует в подвигах жизни -в целомудрии, посте и других добродетелях, то не обидлив Бог (Евр. 6, 10), чтобы лишить награды потрудившегося и не воздать мзды телу, потрудившемуся вместе с душой. Иначе и суд окажется неполным. Ведь, если душа окажется совершенно одной, то она, будучи судима, может возразить, что не во мне причина греха, но от того тленного и земного тела происходили блуд, прелюбодеяние и разврат, потому что с тех пор, как тело от меня отделилось, я ничего такого не сделала, и будет она права в защите и не признает суда Божия. А если бы и тело одно Бог привел на суд.., то тело без души не может быть судимо, потому что а оно может возразить, что я не грешило, а душа. Ведь, с тех пор, как она от меня отделилась, я не совершило прелюбодеяния, блуда и идолослужения. Итак, и тело будет возражать основательно. По этой то и по многим другим важнейшим причинам, Бог, по Своей премудрости, наши умершие тела, вместе с другими, снова приведет в бытие, согласно с Своим человеколюбивым обещанием, дабы потрудившийся в святости получил от Бога всякое, доброе воздаяние, а совершившие суетные дела были осуждены, т.-е. тело, вместе с душой, и душа, вместе с телом»3). Таким образом, «если не воскреснет тело, то и душа ничего не наследует, потому что одно общение
1) Ibid., lib. ІІ, Laer. XLIV, cap. LXIII (Mg. ХLI, 592) col. 1180А; p. пер. в. ІІІ, стр. 193.
2) Стр. выше 476—479.
3) Adv. haeres., lib. II, haer. LXIV, cap. LXXII (Mg. XLI, 603) col. 1196CD—1197AB; p. пер. чІІІ, стр. 217—218.
— 604 —
и одна деятельность души и тела»1) —Что же касается отрицания Оригеном будущего воскресения наших тел «а том основании, «что из тела вытекает кровь, теряется ежедневно плоть, волосы и другие вещества вместе с слюной, мокротами я другими извержениями», то относительно этого св. Епифаний замечал, что в данном случае «излишнее откидывается от чистого», потому что всегда «ищут, чтобы все было самое чистое». «И Бог не возвратит этого (того, что вышло из нас) в наш состав, но как пятно, находящееся на одежде и смытое с нее для благоукрашения, оставит без внимания, а самую одежду Зиждитель, по превосходству Своего искусства, возведет к совершенству, так что она не будет иметь ни недостатка, ни излишества, потому что для Него все возможно» 2). «Если бы это было не так,... то наш Спаситель и Господь, Сын Божий, пришедший для того, чтобы утвердить в нас надежду, что мы будем живы, и весьма многое, в подтверждение Им нам сказанного, изобразивший на Себе Самом, мог бы часть Своего тела отложить, а часть воскресит, согласно с твоим, о муж спорливый (Ориген), баснословным построением и собранием множества пустых соображений. Но Он, обличая твой образ мыслей, прямо говорит: «аще зерно пшенично над на земли не умрет, едино пребывает: аще же падет и умрет, много зерен сотворит (Ио. 12, 24). О каком это зерне Он говорит? Всякому ясно и во всем мире признано, что Он говорил это о Себе, т.-е. о теле святой плоти, которую принял от Марии, и о всей Своей человеческой природе. Словами—упасть и умереть, как я словами: «идеже труп, тамо соберутся орли» (Мф. 24, 28), Он указал на тридневное успение Своего тела, как и сам ты при-
1) Ibid, cap. LXIII (Mg. ХLI, 591) col. 1197D; р. пер. ч. III, стр. 192 ср. 214.
2) Ibid., сар. LXVII (Mg. XLI. 597) col. 1185D-U88A; p. пер. ч. III, стр. 203—205.
— 605 —
знаешь... Итак, умерло пшеничное зерно и воскресло. Но все ли это зерно воскресло, или часть его воскресла? Иное ли зерно, отличное от бывшего, или то же самое, которое было, воскресло, т.-е. тело, которое Иосифом было обвито плащаницей и положено в новом гробе? Конечно, ты. этого не отвергаешь, потому что о Ком ангелы благовествовали женам, что Он воскрес? О Ком говорят, Кого ищете? Иисуса Назарянина? восста, несть зде: приидите, видите место (Мк. 16, 6; Мф. 28, 6). Как бы так сказал: «приидите, видите место и вразумите Оригена, что здесь ничего не осталось лежащим, но все воскресло»1).
Признавая будущее воскресение наших вещественных тел, св. Епифаний определенно не высказывался по вопросу, каковы будут наши тела после всеобщего воскресения. Несомненно лишь то, что он предполагал их изменение после будущего воскресения2).
Равным образом святитель Кипрский не говорит в своих творениях об участи воскресших людей. Впрочем, решительно отвергая учение хилиастов о тысячелетнем царстве на земле после воскресения мертвых 3), св. Епифаний различал двоякую участь воскресших людей — блаженную для праведников и мучительную для грешников 4).
1) Ibid.. cap. LXV II (Mg.XLI, 597—598) col. 1188А-С; р. пер. ч. III, стр. 205—206 ср. ibid., cap. LXIV (Mg. XLI, 593) col. 1181 AB; р. пер. и. 111, стр. 195—196; ibid., haer. LVI, cap. II (Mg. XLI, 478) col. 992C; p. пер. ч. II, стр. 455.
Св. Епифаний Кипрский в своих творениях не опровергает других соображений, приводимых Оригеном в защиту своего учения о будущем воскресении мертвых. Равным образом он оставляет без внимания своеобразное объяснение Оригеном некоторых мест. Св. Писания.
2) Ibid., haeres., lib. ІІІ, haer. LXIV, cap. XXXV (Mg. XLI, 558) col. 1124D—1125AB; p. пер. ч. III, стр. 152.
3) Ibid., lib. III, haer. LXXVII, cap. XXXVI—XXXVIII (Mg. XLII, 1031—1033) col. 696C—700A; p. пер. ч. V, стр. 232—235.
4) Ibid., lib. II, haer. LXIV, cap. LXXII (Mg. XLII, 603) col. 1197B; p. пер. ч. ІІІ, стр. 218 cp. 199 сн. Anacephal. (Mg. XL II, 1139) col. 885B; p. пер. ч. V, стр. 404.
606 —
Защищая будущее воскресение наших материальных тел и предполагая их изменение, св. Епифаний Кипрский в то же время утверждал, что некогда и весь мир через огонь очистится и обновится. Указание на будущее преобразование вселенной он находил в Си. Писании (Рим. 8,19— Ис. 66, 22; 45, 18)1). Если же некоторые выражения последнего, как, например: «небо и земля милю идут» (Мф. 24, За); «небо, яко дым, утвердися и земля, яко риза, обветшает» (Ис. 51, 6) и «преходит бо образ мира сего» (1 Кор. 7, 31), по-видимому, говорят об уничтожении вселенной, то св. Епифаний спешит заметить, что «писаниям свойственно называть уничтожением перемену мира из этого состояния в лучшее и славнейшее, потому что прежняя форма с изменением всего в лучший вид пропадает»; что «писаниям свойственно называть уничтожением обращение прежней формы в лучший и благообразнейший вид подобно тому, как если бы кто назвал уничтожением изменение в младенце вида в мужа совершенного, когда возраст младенца изменяется относительно величины и красоты» 2). Святитель Кипрский полагал, что вся вселенная некогда не уничтожится, а изменится, при этом так, что всецело будет соответствовать потребностям воскресших человеческих тел. Вот почему и казалось ему безрассудным отрицание Оригеном воскресения наших тел по той причине, что некогда, не будет ни воздуха, ни земли и ничего другого» 3).
___________
1) Adv. haeres., lib. II, haer. LXIV, cap. ХХХI (Mg. XLI, 553—554) соl. 1117CD-1120A-C; p. пер. ч. III, стр. 145—147.
2) Ibid., cap. ХХХІІ (Mg. XLI, 555) col. 1120D-1121A; р.пер. ч.III, стр. 147—148.
3) Ibid. (Mg. XLI, 555) col. 1121B; p. пер. ч. ІІІ, стр. 148.
607
II. Эсхатология св. Иоанна Златоуста.
I. Учение о конечной судьбе каждого человека в отдельности.
1. Эсхатологическое учение о телесной смерти, бессмертии
души и ее участи на том свете.
Земная жизнь человека заканчивается смертью. Факт человеческой смерти настолько очевиден сам по себе, что св. Иоанн Златоуст не считал нужным на нем особенно останавливаться. Он в своих творениях лишь отмечает, что смерть есть «отделение души от тела (se paratio corporis animae)1), что наше «тело по природе смертно (θνητόν φύσει τὸ σῶμα)»2), что смерть является для нас благодеянием (εὐεργεσίαν)3), так как через нее уничтожается тленность тела 4). Не находим мы в сочинениях св. Златоуста пространной трактации и о бессмертии человеческой души. Св. Иоанн в данном случае ограничива-
1) De consol. morte, sermo II, 1 (Migne, ser. gr. (1862), t. LVI) col. 299; p. пер. (Творения св. Иоанна Златоуста, С.-Петербург 1900) т. VI, кн. 2, стр. 600 ср. св. Григорий Нисский, стр. выше 259, прим. 5.
2) In Gen., sermo VII, 4 (Migne, ser. gr. (1862), t, LIV) col. 614; p. пер. (С.-Петербург 1898) т. IV, кн. 2, стр. 768.
3) In Matth., hom. XXXI (ХХХІІ), 3 (Migne, ser. gr. (1862), t. LVII) col. 374; p. пер. (С.-Петербург 1901) т. VII, кн. 1, стр. 344 ср. св. Григорий Нисский, стр. выше 281—290. 281, прим. 4.
4) De resurr. mort. 7 (Migne, ser. gr. (1862), t. L) col. 429; p. пер. (С.-Петербург 1896) т. II, кн. 1, стр. 471.
— 608 —
ется лишь замечанием, что «душа по природе бессмертна (ἡ ψυχὴ φύσει ἀθάνατος)»1).
Св. Иоанн Златоуст, отвергая, подобно св. Григорию Нисскому2), известную теорию о переселении душ3), учил, что последние, расставшись с своими телами, или удостаиваются блаженной участи или подвергаются мучениям. «Когда отделится душа, которая для телесных глаз невидима, то она,—пишет св. отец,—принимается ангелами и помещается или на лоне Авраама, если она верующая, или в преисподней темнице, если она грешница, до тех пор, пока не наступит определенный день, в который она снова примет свое тело и пред престолом Христа, истинного Судии, отдаст отчет в своих делах»4). «По удалении отсюда (μετὰ τῆν ἐντεῦθεν ἀποδημίαν),— говорит св. -Златоуст в другом месте, — мы предстанем на страшный суд (βήματι παραστησόμεθα φοβερῷ), отдадим отчет во всех своих делах и, если пребудем в грехах, то подвергнемся истязанию и казни, а если решимся хотя мало внимать себе, то удостоимся венцев и невыразимых благ»5). «Никто из живущих на земле,—
1) In Gen., sermo VII. 4 (Mg. LIV) col. 614; p. пер. т. IV, кн. 2, стр. 768 cp. In cap. II Gen., hom. XIII, 3 (Migne, ser. gr. (1862), t. LIII) col. 107; p. пер. (С.-Петербург 1898) т. IV, кн. 1, стр. 104.
2) Стр. выше 300—303; ср. св. Ириней, стр. выше 55—56; Ориген, стр. выше 124—125; св. Василий В., стр. выше 224; св. Григорий В., стр. выше 241—242.
3) In cap. II Gen., hom. XIII, 2 (Mg. LIII) col. 106—107; p. пер. т. IV, кн. I, стр. 103; in Matth., hom. XXVIII, 2-3 (Mg. LV II) col. 353; p. пер. t. VII, кн. 1, стр. 317; In Io., hom., II (I), 2 (Migne, ser. gr. (1862), t. LIX) col. 32; p. пер. (С.-Петербург 1902) т. VIII, кн. 1, стр. 14—15; In Acta Apost., hom. ΙΙ, 5 (Migne, ser. gr. (1862), t. LX) col. 32; p. пер. (С. Петербург 1903) т. IX, кн. 1, стр. 28.
4) In consol. morte, sermo II, 1 (Mg. LVI) col. 299—300; p. пер. т. VI, кн. 2 стр. 600; cp. Ad vid. junior. 3 (Migne, ser. gr. (1862), t. XLVII) col. 602; p. пер. (C. Петербург 1895), т. I кн. 1, стр. 373; In cap. XV Gen., hom. XXXVI, 4 (Mg. LIII) col. 338; p. пер. т. IV, кн. 1, стр. 395.
5) In Matth., hom. XIV, 5 (Mg. LVII) col. 215; p. пер. т. VII, кн. 1, стр. 141 cp. ibid., hom,-XIX, 2 (Mg. LVII) col. 275; p. пер. т. VІІ, кн. 1, стр. 217—218.
— 609 —
говорит св. отец немного ниже,— не получив разрешения в грехах, по переходе в будущую жизнь, не может избежать истязаний за них. Но как здесь преступники приводятся из темниц на суд в оковах, так, по удалении из этой жизни (ὅταν ἐντεύθεν ἀπέλθωσι), все души приведутся на страшный суд (ἐπὶ τὸ βῆμα ἀγονται τὸ φοβερόν), обремененные различными узами грехов»1).—В приведенных выражениях святитель Константинопольский, можно думать, имел в виду т. наз. частный суд, во время которого определяется состояние душ умерших людей до всеобщего суда. Однако, как ни ясно говорит св. Златоуст в данных выражениях о суде на пороге загробного мира, тем не менее вопрос о нем, как у отцов и учителей церкви первых веков вообще, не решается вполне ясно и определенно. Тут не указываются ни об раз его совершения, ни свойства воздаяний на нем праведникам, ни сущность наказаний грешников.
Впрочем, какова бы ни была участь праведников и грешников непосредственно после их смерти, несомненно, однако, то, что она в это время еще не определяется окончательно. Для тех из них, которые не успели во время своей жизни па земле принести плодов покаяния, согласно с апостольским преданием, остается еще известная возможность получить облегчение своей участи и даже освободиться от наказаний через молитвы и благодеяния за умерших со стороны земных членов церкви. «Не напрасно,—говорит св. Иоанн Златоуст,—установили апостолы при совершении страшных тайн поминать усопших; они знали, что от этого им много выгоды, много пользы. Когда весь народ и священный лик стоит с воздеянием рук и когда предлежит страшная жертва, то как не умолим Бога, прося за них? Но это
1) Ibid., hom. XIV, 4 (Mg, LVII) col. 222; p. пер. т. VII, кн. 1, стр. 147.
— 610
(говорим) о тех, которые скончались в вере»1). «Все это, — пишет св. Иоанн в другом месте, — установлено не напрасно; не напрасно мы совершаем при божественных таинствах поминовение об умерших и ходатайствуем за них, умоляя предлежащего Агнца, взявшего грехи мира, но для того, чтобы им было от того некоторое утешение; не напрасно предстоящий пред жертвенником, при совершении страшных таинств, взывает: о всех во Христе умерших и совершающих о них память» 2). «Не напрасно бывают приношения за умерших, не напрасно молитвы, не напрасно милостыни, — заявляет св. Златоуст в третьем месте. Все это установил Дух, желая, чтобы мы приносили друг другу взаимную пользу» 3). Устраняя всякую возможность сомнения в том, что наши молитвы являются полезными для умерших, св. Иоанн Златоуст в одном месте своих творений решительно заявляет: «есть, подлинно есть возможность облегчить его (грешника) наказание, если мы пожелаем. Так, если будем совершать за него частые молитвы, если будем подавать милостыню;—то, хотя он сам был и недостоин, Бог услышит нас. Если ради Павла Он спасал других и ради других милует иных, то не сделает ли того же самого и ради нас?»4). Итак, «как мы молимся за живых, которые нисколько не отличаются от мертвых, так,—говорит святитель Константинопольский,—можно молиться и за умерших» 5), «чтобы освобо-
1) In epist. ad Philipp., cap. 1, hom. III, 4 (Migne, ser. gr. (18Ф2), t. LXII) col. 204; p. пер. (С.-Петербург 1905), т. XI, кн. 1, стр. 248.
2) In epist. I ad Cor., hom. XLI, 4 (Migne, ser. gr. (1862), t. LXI) col. 361; p. пер. (С.-Петербург 1904), т. X, кн. 1, стр. 430.
3) In Acta Apost, hom. XXI, 5 (Mg. LX) col. 170; p. пер. т. IX, кн. 1, стр. 207.
4) Ibid., hom. XXI, 4 (Mg. LX) col. 169; p. пер. т. IX, кн. 1, стр. 205—206.
5) In epist. ad Philipp., cap. I, hom. III, 4 (Mg. LXII) col. 204; p. пер. т. XI, кн. 1, стр. 248.
611
дить (их) от смерти»1); в противном же случае, как спасались бы «дети, которые сами от себя ничего не представляют, а все родители» 2).
Гораздо определеннее говорит св. Иоанн Златоуст об участи непосредственно после телесной смерти мучеников. По его представлению, последние по вступлении в загробный мир немедленно удостаиваются прославления на небе. В своем похвальном слове всем святым мученикам св. Златоуст говорил: «по вступлении на небо их встречают все святые силы... Когда восходят на небеса подвижники благочестия, ангелы встречают и все высшие силы сходятся отовсюду—видеть их раны и, как некоторых героев, возвратившихся с войны и сражения с большими трофеями и после многих побед, радостно принимают всех их и приветствуют; потом, ведут их с большим торжеством к Царю небесному, к тому престолу, исполненному великой славы, где херувимы и серафимы. Прибыв туда и поклонившись Седящему на престоле, мученики удостаиваются от Владыки гораздо большего благоволения, нежели от подобных себе рабов, потому что Он принимает их, не как рабов,—хотя и это величайшая честь, равной которой нельзя найти, — но как Своих друзей; вы, говорит Он, друзи мои есте (Ио. 15, 14), — и весьма справедливо, потому что Он Сам сказал еще: больше сея любое никтоже имать, да кто положит душу свою за други своя (Ио. 15, 13). Так как они показали величайшую любовь, то Он дружески и принимает их. И наслаждаются они тамошней славой, соединяются с ликами (ангельскими) и участвуют в таинственных песнопениях» 3).
1) In epist. ad Thessal., cap. V, hom. X, 2 (Mg. LXII) col. 457; p. пер. (С.-Петербург 1905) ч. XI, кв. 2, стр. 559.
2) In Acta Apost., hom. XXI, 4 (Mg. LX) col. 169; p. пер. т. IX, кв. 1. стр. 206.
3) De sanct. martyr. 2 (Mg. L) col. 710; p. пер. (С.-Петербург 1896) т. II, кн. 2, стр. 757.
— 612 —
Вот в существенном все, что можно сказать на основании творений святителя Константинопольского о конечной судьбе каждого человека в отдельности.
II. Учение о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще.
Значительно подробнее св. Иоанн Златоуст трактует о конечной судьбе всего человеческого рода и мира вообще.
1. Учение о втором пришествии Христа.
Прежде всего, св. Златоуст уделяет немало внимания второму пришествию Христа, особенно его признакам.
Согласно с учением св. апостола Павла, св. Иоанн Златоуст полагал, что пред вторым пришествием Христа явится на землю известное лицо, известный человек, называемый Антихристом, который будет проповедывать ложное учение, совершать беззаконные действия и чудеса, выдавать себя за Бога и требовать божеского поклонения. Изъясняя известное место из второго послания св. апостола Павла к Солунянам (2, 3. 4), св. Иоанн рассуждал таким образом. «Здесь он (апостол) говорит об Антихристе и открывает большие тайны. Что такое отступление? — Отступлением он называет самого Антихриста, так как он имеет погубить многих и привести к отступлению: якоже прельстити, сказано, аще возможно и избранные (Мф. 24, 24). Называет его и человеком беззакония, потому что он совершит тысячи беззаконий и побудит других к совершению их. А сыном погибели называет его потому, что и он сам погибнет. Кто же он будет? Ужели сатана? Нет,—но некий человек, который воспримет всю его силу (ἐνέργειαν). И открыется, говорит, человек, превозносяйся паче всякаго
— 613 —
глаголемого бога или чтилища. Он не будет приводить к идолослужению, а будет богопротивником (ἀντίθεος), отвергнет всех богов и велит поклоняться себе, вместо Бога, и будет восседать в храме Божьем, — не в иерусалимском только, но и повсюду в церквах. Показующу, говорит, себе, яко бог есть... Он будет стараться показать себя Богом. Он совершит великие дела и покажет чудесные знамения»1). Действия Антихриста, по представлению св. Златоуста, будут насильственными. Он с особой ревностью станет распространять свое влияние на людей, поднимет сильное гонение на христиан, но будет принят, прежде всего, евреями, как царь и завоеватель, а затем—слабыми христианами и неверующими; истинные же христиане в это время получат подкрепление свыше. Если «Христос,—говорит св. Иоанн,—...приходил ...по любви к людям и чтобы открыть истинное значение всего», то, напротив, «Антихрист придет на человеческую погибель, чтобы наносить людям обиды. В самом деле, чего он не сделает в это время? Все приведет в смятение и замешательство, как посредством своих повелений, так и посредством страха. Он будет страшен во всех отношениях — и своей властью, и жестокостью и беззаконными повелениями»2); он «насильно будет похищать все ему не принадлежащее» 3). «Но не бойся: он будет иметь силу, говорит (апостол), только над погибающими»4), которые, хотя бы он и не пришел, не уверовали бы. «Какая же отсюда будет польза, ты «скажешь?—Та, что будут заграждены уста тех, которые осуждены на погибель. Каким образом? — Они не
1 In epist. II ad Thessal., cap. II, hom. III, 2 (Mg. LXII) col. 482; p. пер. т. XI, кн. 2, стр. 592.
2) Ibid., hom. IV, 2 (Mg. LXII) col. 487; p. пер. т. XI, кн. 2, стр. 600.
3) In Io., hom. XLI (Mg. XL) col. 236; p. пер. т. VIII, кв. 1, стр. 272.
4) In epist. II ad Thessal., cap. II, hom. IV, 2 (Mg. LXII) col. 487; p. пер. т. XI, кн. 2, стр. 600.
— 614 —
уверовали бы во Христа, хотя бы Антихрист и не пришел; но он придет с той целью, чтобы изобличить их. Для того, чтобы они тогда не сказали: так как Христос называл Себя Богом, — хотя Он Сам нигде не сказал этого ясно, а только проповедали те, которые после Него были,—то мы по этой причине и не уверовали в Него, потому что мы слышали, что Бог один... Этот их предлог (к оправданию) отнимет у них Антихрист, потому что «когда он придет и, несмотря на то, что он не заповедует ничего праведного, а только одно беззаконие, они уверуют и него единственно ради ложных его чудес» 1) «Тогда придет Илия, чтобы поддержать верующих»... ..Как Иоанн был предтечей первого пришествия (Христа), так Илия будет предтечей второго и славного Его пришествия2). Он придет, чтобы «убедить иудеев уверовать во Христа и чтобы, когда Христос придет, не все они совершенно погибли» 3). — Что касается времени пришествия Антихриста, то при определении его св. Иоанн Златоуст базируется на 2 Солун. 2, 6. По его мнению, в словах св. апостола: «И ныне удержавающее весте» нужно видеть указание (на римскую) гражданскую власть, препятствующую своим существованием появлению Антихриста, о котором в данном случае прикровенно говорил апостол Павел.» Что же, спрашивает святитель Константинопольский, удержавающее явитися ему, т.-е. препятствующее? — Одни говорят, что это благодать Св. Духа, а другие—римское государство; с этими последними я больше согласен. Почему? — Потому что если бы (апостол) хотел говорить о Духе, то не выразился бы об этом неясно, но (сказал бы) определенно, что теперь препятствует ему явиться благодать Св. Духа, т.-е.
1) Ibid., hom. IV, 1 (Mg. LXII) соl. 487; p. пер. т. XI, кн. 2, стр. 599.
2) Tbid., hom. IV, 2 (Mg. LX II) col. 487; p. пер. т. XI, кн. 2 стр. 600.
3) In Matth., hom. LVII, 1 (Mg. LVII) col. 559; p. пер. т. VII, кн. 2. стр. 585.
— 615
(чрезвычайные) дарования, потому что они давно оскудели. Но так как (апостол) говорит это о римском государстве, то понятно, почему он только намекает на это и до времени говорит прикровенно. Он не хотел навлечь на себя чрезмерной вражды и бесполезной опасности. В самом деле, если бы он сказал, что в непродолжительном времени разрушится римское государство, то тогда немедленно его, как возмутителя, стерли бы с лица земли, и (вместе с ним) всех верующих, как живущих, и подвизающихся для этого» 1). Таким образом, «когда прекратится существование римского государства, тогда он (Антихрист) придет. И справедливо,— потому что до тех пор, пока будут бояться этого государства, никто скоро не подчинится (Антихристу); но после того, как оно будет разрушено, водворится безначалие, и он будет стремиться похитить всю—и человеческую и божескую власть» 2). Впрочем, едва ли было бы справедливым думать, что св. Златоуст под римским государством разумел современное ему римское владычество. Несомненно, в приведенных выражениях св. отец имел в виду государственную власть вообще, а не владычество римлян в собственном смысле. И это тем более, что он, изъясняя цитованное место из второго послания св. апостола к Солунянам, указывал и на Нерона, как на прообраз Антихриста 3).
Кроме явления Антихриста, св. Иоанн Златоуст указывает еще и на другие признаки второго пришествия Христа. Это—особые страшные явления в физическом мире и разные бедствия, смуты, междоусобные войны, неверие и сильное растление нравов—в нравственном мире. «Некоторые,—пишет св. отец,—говорят, что природа,
1) In epist II ad Thessal., cap. II, hom. IV”, I (Mg. LXII) col. 485; р. пер. т. XI, кн. 2, hom. IV, 1, стр. 597—598.
2) Ibid. (Mg. LXII) col. 486; p. пер. т. XI, кн. 2, стр. 598.
3) Ibid. (Mg. LXII) col. 485; p. пер. т. XI, кн. 2, стр. 598.
616
изнуряющаяся и изнемогающая, подобно состаревшему телу, которое испытывает много бедствий, также состаревшись испытает много бедствий. Но тело достигает старости по немощи и закону природы, а заразы, войны и землетрясения бывают не от старости природы. Не оттого произойдут эти болезни, глади и пагубы и труси по местам, что эти творения состареются, но оттого, что развратится воля людей»1). «Тогда будет великая скорбь, когда столь много будет обольстителей... Лжепророки и лжехристы, явившись, произведут возмущение» 2).
Указывая признаки второго пришествия Христа на землю, св. Иоанн Златоуст вместе с тем сознавал, что время данного мирового события в точности известно только одному Богу, а от нас, ради нашей выгоды, сокрыто. По рассуждению св. отца, но следует полагаться на признаки пришествия Христова, потому что св. апостол не говорит, что явление Антихриста «будет знамением пришествия Христова, но (утверждает), что (Христос) не будет давать предзнаменования о Себе, а придет внезапно и неожиданно»3). «Кончина,—пишет св. Златоуст в другом месте,—не известна,... и не известна для того, чтобы ты всегда был заботливым. Поэтому, день Господень придет, как тать ночью, не для того, чтобы похитить, но, чтобы сделать нас осторожнейшими... Вы, воспламенив свет веры и праведной жизни, имейте ясные светильники в постоянном бодрствовании. Так как мы не знаем, когда придет Жених, то и должны быть готовыми всегда, чтобы, когда Он придет, нашел нас бодрствующими» 4). Впрочем,—рассуждает святитель Кон-
1) In illud, hoc scit, quod in noviss. dieb., etc. 6 (Mg. LVI) col. 278; p. пер. т. VI, кн. 2, стр. 575.
2) In Matth., hom. LXXVI (al. LXXVII), 3 (Migne, ser, gr. (18621, t. LVIII) col. 697; p. пер. (С.-Петербург 1901), т. VII, кн. 2. стр. 766.
3) In epist. 1 ad Thessal., cap. V, hom. IX, 2 (Mg. LXII) col. 449; p. пер. т. XI, кн. 2, стр. 548.
4) In illud, hoc scit. quod. in noviss. dieb., etc. 6 (Mg. LVI) col. 278; p. пер. т. VI, кн. 2, стр. 576.
— 617
стантинопольский,—«ни в чьей, кажется, природе нет столько пытливости и жадности к знанию невидимого и сокрытого, как в человеческой... Наш ум сильно желает узнать и постигнуть многое, а особенно время кончины (мира)»... Но «какая была бы польза (знать это), скажи мне? Положим, что кончина (мира) последует через двадцать лет, через тридцать, через сто лет: какое это имеет к нам отношение? Не составляет ли для каждого кончина века конец его жизни?...» 1) «Если же хотите знать, для чего сокрыт этот день и почему он придет, как тать в нощи, то я, как мне кажется, справедливо скажу вам: никто никогда во всю свою жизнь не стал бы заботиться о добродетели, если бы этот день был известен и не был сокрыт, но всякий, зная последний свой день, совершал бы бесчисленные преступления и уже в тот день приступал бы к купели, когда бы стал отходить (из этого мира)»2).
Второе пришествие Христа на землю, по учению св. Иоанна Златоуста, будет внезапным. Предварительно явится на небе знамение креста для изобличения неуверовавших, а вслед за ним придет и Сам Господь на облаках, в сопровождении всех ангелов и святых. «Прежде всего,—говорит св. отец,— явится знамение Сына Человеческого, на котором Его распяли иудеи, блестящее, как молния, которое понесут святые ангелы»3). Он будет принесен «для того, чтобы грех иудеев сам собой осудился, подобно тому, как если бы кто-нибудь, будучи поражен камнем, стал показывать самый камень, или окровавленные одежды. Он (Спаситель) придет на облаке, подобно тому, как и вознесся»4). Тогда «изменятся небеса, и земля
1) In epist. I ad Thessal., cap. V, hom. IX, 1 (M. XLII) col. 445. 446—447; p. пер. ч. XI, кн. 2, стр. 544. 545.
2) Ibid. (Mg. XLII) col. 447; p. пер. т. XI, кн. 2, стр. 546.
4) In secund. adv. Dom. nostri Iesu Chr., etc. (Mg. XLI) col. 775; p. пер. (С.-Петербург 1904) т. X, кн. 2, стр. 944.
3) In Matth., hom. LXXVII (al. LХХVIII), 3 (Mg. LVII) col. 698; p. пер. т. VІІ. кн. 2 стр. 767.
618
упразднится, и слава всего пройдет, как тень; богатство все пройдет, исчезнет, как дым, когда даже звезды, как листья, спадут с неба... Откроются небеса,—и вот Сын Божий идет на облаках небесных со многой силой и славой»1), «в сопровождении не двадцати и не ста, но тысячи и десятков тысяч ангелов и архангелов»2). «Он, небесный, снидет в Иерусалим и Он, необъятный,—в Сион... И он будет, как молния, являющаяся от востока до запада; от страха и трепета пред Ним небеса свернутся, как свиток. Тогда поколеблется вся земля, горы задымятся, огненные реки будут готовы принять грешников, черви, как драконы, с раскрытыми ртами будут жаждать крови грешных людей» 3). Придя на землю, Христос, прежде всего, положит конец обольщению», так как «Своим повелением и пришествием Он убьет Антихриста»4).
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых.
Одновременно со вторым пришествием Христа на землю произойдет всеобщее воскресение мертвых. «Впереди его (знамения) второго пришествия Сына Человеческого—креста,—пишет св. Иоанн Златоуст,—будет трубить архангел Михаил и пробуждать почивших от Авраама до конца века. И встанут мертвые, как бы от сна, из своих гробов, как сказал апостол Павел, что вострубит, и мертвии во Христе востанут нетленни, сразу, в мгновение ока, при последней трубе (1 Кор. 15, 52)5). «Господь,—рассуждает св. отец в другом месте,—
1) In secund. adv. Dom. nostri lesu Chr., etc. (Mg. LXI) col. 775; p. пер. т. X, кн. 2 стр. 944—945.
2) De perf. earit. 6 (Mg. LVI) col. 287; p. пер. т. VI, кн. 2, стр. 586.
3) In secund. adv. Dom. nostri Jesu Chr., etc. (Mg. LXI) col. 775; p. пер. т. X, кн. 2, стр. 945.
4) In epist. II ad Thessal., cap. II, hom. III, 1 (Mg. LXII) col. 485; p. пер. т. XI, кн. 2, стр. 598.
5) In secund. adv. Dom. nostri Jesu Chr., etc. (Mg. LXI) col. 775; p. пер. т. X, кн. 2, стр. 944.
— 619 —
пришедши, найдет многих христиан в телах еще не испытавшими смерти; однако, они не прежде будут восхищены на небо, как умершие святые восстанут из гробов, будучи пробуждены трубою Божьей и гласом Архангела. Когда же они будут пробуждены, то, соединившись с живыми, вместе с ними будут восхищены на облаках в сретение Христу на воздухе»1). «И все восстанут, притом с такой быстротой, что остающиеся еще в живых не предупредят умерших,— и все это совершится и окончится в самое короткое время,—в одно мгновение ока»2).
Хотя догмат всеобщего воскресения мертвых прочно базируется на свидетельствах Св. Писания, тем не менее св. Иоанн Златоуст, в виду возражений против него со стороны еретиков и язычников, старался уяснить данную» истину возможно подробно и обстоятельно. Ему, прежде всего, было известно, что христианское учение о воскресении мертвых отвергалось манихеями, которые полагали, что разбойник вошел в рай без тела, потому что оно «не было погребено, не разрушилось и не сделалось прахом. И нигде не сказано, что Христос воскресил его. А если ввел разбойника в рай, и он стал наслаждаться блаженством без тела,—то ясно, что нет воскресения тела»3).—Опровергая манихеев, св. Златоуст, ссылаясь на слова св. апостола: подобает тленному сему облещися в нетление, и мертвенному сему облещися в бессмертие (1 Кор. 15, 53) и да приимет кийждо, яже с телом содела (2 Кор. 5, 10), настаивал на будущем воскресении наших тел, так как они вместе с своими душами должны участвовать в вечных наградах или наказа-
1) De consol. mort., sermo I, 5 (Mg. LVI) col. 298; p. пер. т. VI,. кн. 2, стр. 598.
2) In epist. ad Ephcs, cap. I, hom. III, l (Mg. LXII) col. 24; p. пер. т. XI, кн. 1, стр. 24.
3) In Gen., sermo VII, 4 (Mg. LIV) col. 618; p. пер. т. IV, кн. 2, стр. 767.
620
ниях. К этому он прибавлял, что «Бог обещает ввести нас не в рай, а в самое небо, и не царство райское Он возвестил, а царство небесное» 1). И если «Он ввел разбойника в рай, то еще не дал ему благ» 2).— Далее, св. Иоанн зная мнение и других еретиков, по которому «иное тело умирает и иное тело воскреснет» 3).—Устраняя данное мнение, св. Златоуст, подобно св. Мефодию Олимпскому 4), утверждал, что «восстание (ἀνάστασις) относится к тому, что упало... Не иное существо сеется, а иное возрастает, но (возрастает) то же самое в лучшем виде. Иначе и Христос, бывший начатком воскресающих, воскрес не в том же самом теле, но... одно тело Он оставил, хотя оно было без всякого греха, а другое принял. Откуда же Он взял другое?.. Для чего также Он показал язвы гвоздяныя? Не для того ли, чтобы доказать, что то самое (тело) и ко кресту было пригвождено и оно же воскресло?» 5)—Св. Иоанну Златоусту были известны сомнения и недоумения в взятой области и среди христиан. Имея в виду последних, он писал, что «для некоторых кажется невероятным, чтобы тело, обратившееся в прах, могло снова восстать, снова ожить, потому что для них непонятно, «как воскреснут умершие и в каком явятся теле?» Но «я,—говорит св. отец,—отвечу... устами и словами апостола: безумне, ты еже сееши, не оживет, аще не умрет: и еже сееши, голо севши зерно пшеницы, или какого-либо другого семени; зерно мертвое и сухое, без влаги (1 Кор. 15, 36. 37), и когда оно истлеет, то снова восстает плодороднийшим, одевается листьми и снабжается колосьями. Итак, Кто пробуждает зерно пшеницы для тебя, Тот неужели не в состоянии будет пробудить тебя для Себя? Кто каждый день про-
1) Ibid. (Mg. LIV) col. 614; p. пер. т. IV, кн. 2, стр. 768.
2) Ibid. (Mg. LIV) col. 615; p. пер. т. IV, кн. 2, стр. 769.
3) In epist. I ad Cor., hom. XLI, 2 (Mg. LXI) col. 356; p. пер. т. X, кн. 1, стр. 424. 425.
4) Стр. выше 208.
5) In epist I ad Cor., hom. XLI, 2 (Mg. LXI) col. 356; p. пер. т. X, кн. 1, стр. 224. 225.
621
буждает солнце как бы из гроба ночи и возводит луну как бы из погибели, и вызывает обратно времена года, возвращающиеся для нашей пользы, Тот неужели не возвратит к жизни нас самих, для которых Он возобновляет все, неужели попустит однажды навсегда погибнуть тем, которых Он воспламенил Своим дыханием и оживил Своим духом? Неужели навсегда перестанет существовать человек, который благоговейно познавал и почитал Его? Но ты опять сомневаешься: как можешь ты возобновиться после смерти, воссоздаться из праха и разрушившихся костей? Скажи же мне, человек, чем ты» был прежде своего зачатия в утробе матери? Ничем, конечно. Итак, Бог, сотворивший тебя из ничего, не удобнее ли может воссоздать тебя из чего-нибудь? Поверь мне, легче будет обновить уже прежде бывшее Тому, Кто мог сотворить и то, чего не было. Кто повелел тебе в утробе твоей матери произрасти из капли безобразной жидкости и облечься нервами, жилами и костями, Тот, поверь мне, в состоянии будет родить тебя снова из утробы земной. Но ты боишься, что иссохшие твои кости не смогут облечься прежней плотью? Не суди, не суди о величии Божьем по собственной своей немощи. Бог, Творец всех вещей, одевающий деревья листьями и луга цветами, может немедленно облечь и твои кости в определенное время весны, при воскресении». Затем, св. Иоанн ссылается на свидетельства пророка Иезекииля о воскресении мертвых костей (гл. 37) и пророка Исаии (26, 19) о воскресении мертвых и продолжает: «но ты сомневаешься, каким образом из малых костей может восстановиться целый человек? А ты сам из малой искры огня производишь большой пламень: неужели же Бог не в состоянии будет из малой закваски восстановить полный состав твоего небольшого тела? Если ты и скажешь: и самых остатков тела нигде не видно, так как, может быть, они истреблены огнем, или пожраны зверями,—то
— 622
прежде всего знай, что все разрушающееся хранится в недрах земли, откуда, по повелению Божию, опять и может произойти. И ты, когда еще огня не видно, берешь камешек и кусочек железа и из недр камня высекаешь огня, сколько нужно. Если же ты, при помощи своего ума и искусства, которыми тебя Сам Бог наделил, производишь на свет то, что было невидимо, то неужели у величия Божия но достанет силы для того, чтобы произвести то, чего еще не видно? Поверь мне, для Бога все возможно». Наконец, он указывает на свидетельства о будущем воскресении мертвых Самого Иисуса Христа, Его апостолов, а также ссылается на мучеников, которые охотно шли на смерть по той причине, что были уверены в своем воскресении из мертвых1). —Будущее воскресение мертвых, по учению св. Иоанна Златоуста, даже необходимо, так как оно имеет глубокий нравственный смысл. Дело в том, что вера в будущее воскресение является для нас одним из самых главных побудительных стимулов к нравственной жизни. «Как неверование в него (воскресение)—говорит св. отец,—раз страивает нашу жизнь, наполняет ее бесчисленными бедствиями и ниспровергает все, так верование убеждает нас в бытии Промысла, располагает тщательно заботиться о добродетели и с великой ревностью избегать порока и наполняет все спокойствием и миром. В самом деле, кто не ожидает воскресения и не верит, что он отдаст отчет за свои здешние дела, а думает, что все наше ограничивается настоящей жизнью и за нею нет больше ничего, тот не будет заботиться о добродетели,... не
1) De consol., sermo ΙΙ, 1—4 (Mg. LVI) col. 299—302; p. пер. т. VI, кн. 2, стр. 600—603; ср. De resurr. mort, hom. VII—VIII (Mg. L) col. 429; p. пер. т. II, кн. 1, стр. 471—474; In epist. I ad Cor., hom. XVII, 2—3 (Mg. LXI) col. 141—142; p. пер. т. X, кн. І. стр. 164—165; cp. св. Григорий Нисский, стр. выше 413—414. 4] 7—418. 422. 405—406.
623 —
отстанет и от зла, не ожидая себе никакого наказания за свои злые дела» 1).
Решительно защищая истину будущего воскресения мертвых, св. Иоанн Златоуст в то же самое время утверждал, что наши воскресшие тела будут отличаться от настоящих. По его учению, они будут подобны воскресшему телу Христа Спасителя, так как окажутся нетленными, бессмертными, славными, духовными, не имеющими нужды в пище и питье и проч. «Так как верующие,—пишет св. отец, — должны преобразиться сообразно с светлостью Самого Христа Господа, как свидетельствует апостол Павел (Филип. 3, 20. 21),—то преобразится, без сомнения, эта смертная плоть, сообразно с светлостью Христа, смертное облечется в бессмертие, посеянное в немощи потом восстанет в силе (1 Кор. 15, 43). Тогда тело уже не будет бояться тления, не станет страдать ни от голода, пи от жажды, ни от болезней, ни от несчастных случаев, потому что там—надежное спокойствие и прочная безопасность жизни; там иная слава— небесная, и тамошняя радость не будет иметь недостатка» 2). Тогда Дух «постоянно будет пребывать в плоти праведников и станет господствовать в ней, хотя и душа будет присутствовать. Таким образом, (апостол) разумел или что-нибудь подобное, когда сказал: духовное, или то, что оно будет легче, тоньше, и будет способно носиться даже по воздуху, или лучше—то и другое»3). Впрочем, такие и подобные свойства, по мнению св. Златоуста, будут принадлежать телам лишь воскресших
1) De resur. mort., hom. 1 (Mg. L) col. 417—418; p. пер. т. ΙΙ, кн. I, стр. 458—459; In epist. I ad Cor., hom ХVII, 3 (Mg. LXI) col. 143; p. пер. т. X, kg. 1, стр. 166—167.
2) De consol. mort., sermo I, 6 (Mg. LVI) col. 298; p. пер. т. VI, кн. 2, стр. 598—599; cp. св. Григорий Нисский, стр. выше 450 и дал.
3) In epist. I ad Cor., hom. XLI, 3 (Mg. LXI) col. 359; p. пер. г. X,Кн. I, стр. 427—428.
624 —
праведников, но не грешников, так как св. апостол. Павел различал тела тех и других, приписывая первым телеса небесная, а вторым—телеса земная 1).
3. Учение о всеобщем суде и его следствиях.
Целью второго пришествия Христа будет страшный суд над людьми, как воскресшими из мертвых, так и оставшимися в это время в «сивых. «И соберут—пишет св. Иоанн Златоуст,—ангелы людей от четырех пределов вселенной, в долине плача. Потрясется эта долина и откроются средства суда: огненная река, исполненная неусыпаемого червя, жестокие и немилосердные ангелы, и в круг ставшие дела каждого» 2).
Истина будущего суда, помимо того, что она со всей ясностью и определенностью засвидетельствована в Св. Писании, по воззрению св. Златоуста, вполне также согласна с требованиями здравого смысла, так как признанием данного мирового акта вполне оправдывается правда Божия. И это тем более, что на земле счастье и несчастье не всегда соответствуют нравственному состоянию людей 3). «Бог,— пишет св. отец,—правосуден; это все исповедуют—и эллины, и иудеи, и еретики и христиане. Между тем, многие грешники отходят отсюда, не будучи наказаны; напротив,— многие добродетельные отходят, претерпевши бесчисленные бедствия»4). «Поэтому,—рассуждает св. Иоанн в другом месте,—если ты не веришь нашим словам, спроси иудеев! эллинов, всех еретиков,—и все они как бы одними устами ответят, что будет суд и воздаяние. Но тебе недостаточно человеческого свидетельства?—Тогда спроси
1) Ibid. (Mg. LXI) col. 358; p. пер. т. X, кн. 1, стр. 420.
2) In secund. adv. Dom. nostri Jesu Chr., etc. (Mg. LXI) col. 775; p. пер. т. X, кн. 2, стр. 944.
3), Stag. a daem. vexat., lib. I, 7 (Mg. XLVII) col. 441—442; p. пер. т. I, кн. 1, стр. 182—183.
4) In epist. ad Philipp., cap. II, hom. VII, 6 (Mg. LXII) col. 228;. p. пер. т. XI, кн. 1, стр. 275.
— 625
самих бесов и услышишь, как они взывают: что пришел еси семо прежде времени мучити нас (Мф. 8, 29)?»1).
На этот суд, по учению св. Златоуста, явятся все когда-либо жившие люди 2), причем большой и малый тогда окажутся равными. «Там старости не верят, знаменитости нет, телесное благородство не спрашивается;... там большой и малый одинаково судятся... Тогда и раб становится пред господином с дерзновением, и рабыня пред госпожой и ученик пред учителем. Все они судятся в страшном судилище: дети с родителями, жены с мужьями; и дела каждого становятся ясными»3). Тогда «каждый из нас даст ответ Богу за самого себя» 4), и «Судья не будет нуждаться ни в обвинителях, ни в свидетелях, ни в доказательствах, ни в уликах, но все, как оно было сделано, объявит публично и пред глазами согрешивших. Тогда не будет никого, кто явился бы и спас бы от наказания: (не помогут) ни отец, ни сын, ни дочь, ни мать, ни защитник, ни деньги, ни обилие богатства, ни величие власти; все это будет удалено, как пыль от ног, и один только подсудимый будет ожидать за свои дела или оправдательного, или обвинительного приговора» 5).
Результатом мирового суда будет разлучение грешников и праведников. Первые за свои добрые дела удостоятся награды и для них начнется «другая жизнь, в которой уже нет ни смерти, ни болезни, ни старости, ни бедности, ни клевет, ни козней.., ни жилищ.., ни пищи, ни питья.., ни браков, ни болезней рождения, ни рождений, но все это исчезнет, как разметаемый прах, и наста-
1) In epist. ad Rom., hom. XXXI, 4 (Mg. LX) col. 676; p. пер. т. IX, кн. 2, стр. 852.
2) In Acta Apost., hom. XXXVIII, 4 (Mg. LX) col. 273; p. пер. т. IX, кн. 1, стр. 339.
3) In secund. adv. Dom. nostri Jesu Chr. etc. (Mg. LXI) col. 776; p. пер. т. X, кн. 2, стр. 915.
4) In epist. I ad Cor., hom. XXI, 7 (Mg. LXI) col. 180; p. пер. т. X, кн. 1, стр. 212.
5) Ep. II ad Olymp. (Migne, ser. gr. (1862), t, LIII col. 559; p. пер. (С.-Петербург 1897) т. III, кн. 2, стр. 576.
— 626 —
нет другое, лучшее состояние жизни» 1), а последние услышат страшный приговор Судии: идите oms Мене проклятии, — не от Отца, так как не Он проклял их, но собственные их дела, — во огнь вечный, уготованный не вам, а диаволу и аггелом его» 2).
Свое представление о блаженной участи праведников после всеобщего суда св. Иоанн Златоуст раскрывает довольно подробно в послании к Феодору Падшему. В нем, между прочим, он побуждает последнего к составлению понятия о будущем блаженстве, где нет болезни, печали и воздыхания, где постоянная радость и невыразимый свет, где созерцаются высшая красота и совершенство, где возвышенная любовь, единство и полнейшая богобоязненность; другими словами, в данном послании он побуждает Феодора представить себе совершенство человеческой природы до падения наших прародителей, а также райское состояние физического мира и, таким образом, в известной мере понять блаженную жизнь праведников после всеобщего суда. «Представь себе, — писал св. Златоуст Феодору,—состояние той жизни, насколько возможно представить его, ибо вполне изобразить ее по достоинству не в состоянии никакое слово, но из того, что мы слышим, как бы из каких-нибудь загадок, мы можем получить некоторое неясное о ней представление. Отбеже, говорит (Писание), болезнь, и печаль, и воздыхание (Ис. 35, 10). Что же может быть блаженнее такой жизни? Не нужно там бояться ни бедности, ни болезни; не видно ни обижающего, ни обижаемого, ни раздражающего, ни раздражаемого, ни гневающегося, ни завидующего, ни распаляемого непристойной похотью, ни заботящегося о приобретении необходимого для жизни, ни мучимого желанием вла-
1) Expos, in psalm. CIХ, 5 (Migne, ser. gr. (1862), t. LV) col. 273; p. пер. (С.-Петербург 1899) т. V, кн. 1, стр. 290.
2) In Matth., hom. LXXIX (al. LXXX), 2 (Mg. LVIII) col. 719; р. пер. т. VII, кн. 2, стр. 795.
627
сти и господства, ибо вся буря наших страстей, затихнув, прекратится, и все будет в мире, веселии и радости, все тихо и спокойно, все день, и ясность, и свет, — свет не этот нынешний, но другой, который настолько светлее этого, насколько этот блистательнее светильничного. Свет там не помрачается ни ночью, ни от сгущения облаков, не жжет и не палит тел, потому что нет там ни ночи, ни вечера, ни холода, ни жара, ни другой какой перемены времен, но иное какое-то состояние, которое познают одни достойные; нет там ни старости, ни бедствий старости, но все тленное отброшено, так как господствует слава нетленная. А что всего важнее, это—постоянное наслаждение общением со Христом, вместе с ангелами, с архангелами, с горними силами. Посмотри теперь на небо и перейди мыслью к тому, что выше неба, представь преображение всей вселенной: она уже не останется такою, но будет гораздо прекраснее и светлее и, насколько золото более блестяще олова, настолько тогдашнее устройство будет лучше настоящего, как и блаженный Павел говорит: «яко и сама тварь свободится отв работы истления» (Рим. 8, 21). Ныне она, как причастная тлению, терпит многое, что свойственно терпеть таким телам; но тогда, освободившись от всего этого, она представит нам нетленное благолепие... Нигде не будет тогда раздора и борьбы, потому что велико согласие в лике святых, при всегдашнем единомыслии всех друг с другом. Не нужно там бояться ни диавола и демонских козней, ни грозы геенской, ни смерти—ни этой нынешней, ни той, которая гораздо тяжелее этой, но всякий такой страх будет уничтожен»1)—Хотя данное блаженное состояние будет общим для всех праведников, тем не менее, по учению св. Иоанна Златоуста, степень участия в
1) Ad Theod. Laps. I, 11 (Mg. XLVII) col. 291; р. пер. т. I, кн. 1, стр. 15—16.
— 628 —
нем каждого из них будет обусловливаться их нравственными достоинствами. «Об этом (разных степенях мздовоздаяния),—рассуждал св. отец,—хотя неопределенно, говорит Христос, возвещая, что у Отца обители многи суть (Ио. 14, 2); а с некоторою определенностью говорит Павел, когда пишет так: «ина слава солнцу, и ина слава луне, и ина слава звездам, звезда бо om звезды разнствуете во славе» (1 Кор. 15, 41). Смысл слов его такой: одни будут сиять, как солнце, другие, как луна, а иные, как звезды. И на этом различии он не остановился, но между самыми звездами показывает большое различие, —такое, какому естественно быть при таком их множестве: звезда бо, говорит, от звезды разнствуете в славе. Представь же, переходя от большого солнца до последней из всех звезд, сколько можно пройти степеней достоинства» *). «Чему же мы научаемся отсюда?—спрашивает св. (овин в другом месте. Тому, что, хотя все праведники будут в царстве (небесном), но не все получат одинаковое блаженство» 2). — Допуская разные степени небесного блаженства после всеобщего суда, св. Златоуст в то же время утверждал, что блаженное состояние праведников после этого мирового акта будет продолжаться без конца. «Что последует (после, всеобщего суда), какое слово изобразит нам это, т.-е. происходящую от общения со Христом усладу, пользу и. радость? Ведь, душа, возвратив себе собственное благородство и придя, наконец, в состояние возможности с. дерзновением созерцать своего Господа, нельзя и сказать, какое получает наслаждение, какую пользу в том, что утешается не только обладаемыми благами, но и уверенностью, что эти блага никогда не окончатся (ὅτι οὐδαμοῦ ταύ -
1) Adv. oppugn. vitae monast., lib. III, 5 (Mg. XLVII) col. 356; p. пер. т. I, кн. 1, стр. 86.
1) In epist. I ad Cor., hom. XU, 3 (Mg. LXI) col. 353; p. пер. т. X, кн. 1, стр. 427.
— 629
τα τελευτήσει τά καλά)»1), так как «обители святых... веяны, не имеют конца (αἰώνιοί εἰσι , τέλος οὐκ ἑχουσαι), но стоят и цветут постоянно; и это несомненно, потому что там нет ничего тленного и скоропреходящего, но все бессмертно и нетленно» 2).
Что касается участи грешников после всеобщего суда, то она, по учению св. Иоанна Златоуста, будет чрезвычайно мучительной, так как удаление от Бога и проклятие окажутся для них величайшим наказанием. «Нестерпима, — говорит св. отец, — геенна и мучение в ней; впрочем, если представить и тысячи геенн, то все это ничего не будет значить и сравнении с несчастием лишиться той божественной славы, быть возненавиденным Христом и слышать от Него: «не вем вас» (Мф. 25, 12)»3). По мнению св. Златоуста, уже одно лишение небесного блаженства, в котором будут участвовать праведники, причинит грешникам величайшие мучения. «Лишение благ,—пишет св. Иоанн,—причинит такую печаль, такую скорбь и муку, что если бы и никакое наказание не ожидало здешних грешников, то оно само по себе хуже геенских мук будет терзать и возмущать наши души» 4). «Многие безрассудные желали бы только избавиться от геенны, но «считаю гораздо тягчайшим геенны наказанием—не быть в той славе; и тому, кто лишится ее, думаю, должно скорбеть не столько геенских мучений, сколько о лишении небесных благ»5). «Знаю, — говорит св. Златоуст, — что и многие ужасаются только одной геенны; но я думаю, что
1) Ad Theod. Laps. I, 13 (Mg. XLVII) col. 295; p. пер. т. I, кн. 1, стр. 19—20; ср. In epist. II ad Timoth., cap. JI, hom. IV, 3 (Mg. LXII) col. 621; p. пер. т. XI, кн. 2, стр. 783.
2) In epist. ad Hebr., cap. XII, hom. XXXII, 3 (Migne, ser, gr. (1862), 1. LXIII) col. 222—223; p. пер. (С.-Петербург 1906) т. XII, кн. 1, стр. 264.
3) In Matth., hom. XXIII (al XXIV), 8 (Mg. XLVII) col. 317—318; p. пер. т. VII, кн. 1, стр, 272.
4) Ad Theod. Laps. I, 10 (Mg. XLVII) col. 291; p. пер. т. I, кн. 1, стр. 15.
5) Ibid. I, 12 (Mg. XLVII) col. 292; p. пер. т. I, кн. 1, стр. 17.
— 630
лишение небесной славы есть мучение более жестокое, нежели геенна» 1) —Впрочем, печальная участь грешников после всеобщего суда не будет исчерпываться мучениями только их душ. По учению св. отца, подвергнутся наказаниям также и их тела. «Тело, которое служило... пороку, по словам св. Златоуста, не будет исключено от участия и в воздаяниях: вместе с душой тела будут преданы мучениям»2) через огонь, который будет отличаться от настоящего. «Услышав об огне, — пишет св. Иоанн Феодору Падшему,—не подумай, будто тамошний огонь таков же, каков здешний: этот, охватив что -либо, сожигает и погасает; а тот, кого однажды захватит, анкет постоянно и никогда не перестает, почему я называется неугасимым. Ведь, грешникам надлежит облечься бессмертием не к славе, но чтобы иметь всегдашнего спутника тамошнего мучения; а насколько это ужасно, того никогда не может изобразить слово, а только из опытного ощущения малых страданий можно получить некоторое слабое понятие о тех великих мучениях. Когда бываешь в бане, натопленной сильнее надлежащего, то представь себе огонь геенский, и если когда-либо будешь гореть в сильной горячке, то перенесись мыслью к тому пламени: и тогда будешь в состоянии хорошо понять это различие. Если даже баня и горячка так мучат и беспокоят нас, то что мы будем чувствовать тогда, когда попадем в ту огненную реку, которая будет течь пред страшным судилищем? Ведь, тот огонь как не истребляет, так и не освещает; иначе не было бы мрака» 3). — Как ни ужасны
1) In Matth., hom. XXIII (al. XXIV), 7 (Mg. XLV II) col. 317; p. пер. т. VІІ, кн. 1, стр. 271.
2) In. epist. II ad Cor., hom. X, 3 (Mg. XLI) col. 470; p. пер. т. X, кн. 2, стр. 586.
3) Ad Theod. Laps. I, 10 (Mg. XLVII) col. 289; p. пер. т. I, кн. 1, стр. 18—14 cp. In epist. ad Hebr., cap. I, hom. I, 4 (Mg. LXIII) col. 18;. p. пер. т. XII, кн. 1, стр. 15.
— 631
будут мучения грешников после всеобщего суда, тем не менее, по учению св. Златоуста, они не для всех их окажутся одинаковыми. «Кто пользовался, — заявляет св. отец, — большим наставлением, тот, нарушив закон, должен подвергнуться и большему наказанию. Таким образом, насколько мы рассудительнее и могущественнее, настолько большему подвергнемся наказанию за грехи» 1). «Отходящий туда со множеством и добрых и злых дел получит некоторое облегчение и в наказании и тамошних муках; а кто, не имея добрых дел, принесет только злые, тот,—и сказать нельзя,— подвергнется вечному наказанию» 2).—Допуская разные степени адских наказаний в отношении их интенсивности, св. Иоанн Златоуст вместе с тем решительно настаивал на их вечности. «Здесь, — пишет св. отец, — и хорошее и худое имеет конец, и притом весьма скорый, а там — то и другое продолжается в бесконечные века, а по качеству своему настолько отлично от здешнего, что и. сказать невозможно... Если кто скажет: как же душа может быть достаточной дня такого множества мучений и оставаться в наказаниях бесконечные века?—тот пусть представит себе, что бывает здесь, — как часто многие выдерживали продолжительную и тяжкую болезнь! Если они и умерли, то не потому, чтобы душа исчезла, но потому, что тело истощалась, так что, если бы оно не изнурилось, то душа не перестала бы мучиться. Когда же душа получит нетленное и неразрушимое тело, тогда ничто не воспрепятствует мучению продлиться в бесконечность (οὐδὲν τὸ κωλύον εἰς ἄπειρον ἐχταθῆναι τὴν κόλασιν)»3).
1) In epist. ad Rom., hom. V, 3 (Mg. LX) col. 426; p. пер. т. IX. кн. 2, стр. 528.
2) Ad Theod. Laps. I, 19 (Mg. XLVII) col. 307; p. пер. т. I, кн. 1, стр. 33.
3) Ibid. I. 9. 10 (Mg. XLVII) col. 289. 290; p. пер. т. I. кн. 1, стр. 13. 14.
632
III. Эсхатология бл. Феодорита Кирского.
После св. Епифания Кипрского и св. Иоанна Златоуста над уяснением учения о конечных судьбах человечества и мира вообще немало потрудился бл. Феодорит, епископ Кирский. В своих творениях он довольно полно и ясно раскрыл учение о втором пришествии на землю Христа, которому будет предшествовать явление в мире Антихриста, о воскресении мертвых и всеобщем суде.
1. Учение о втором пришествии Христа.
Второму пришествию на землю Христа, по учению бл. Феодорита, будет предшествовать явление в мире Антихриста.
О будущем явлении в мире Антихриста, по замечанию бл. отца, предсказывали еще ветхозаветные пророки. Но особенно ясно о нем возвестил Христос, когда сказал: «Аза приидох во имя Отца Моего, и не приемлете Мене: аще ин приидет во имя свое, того приемлете» (Ио. 5, 43). Так как многие из верующих предполагали, что уже близко время явления Антихриста, то св. апостол Павел счел нужным указать признаки его пришествия. Из послания к Солунянам (2 Солун. 2, 10. II) мы узнаем, что «прежде надлежит вселенной озариться лучами боговедения, стать явными питомцам веры и прекословящим отделиться от уверовавших, а потом уже явиться ху-
— 633
дожнику лжи»1). Целью его пришествия будет обличение не принявших евангельской проповеди. «Ради не поверивших проповеди истины придет отец и учитель лукавства. Так как иудеи, явно противясь Богу, пригвоздили к кресту Владыку, как противника Божия, то пришествие Антихриста будет величайшим обличением их нечестия» 2).
Антихрист, по представлению бл. Феодорита, будет происходить из колена Данова3). В своем явлении в мир он будет «подражать вочеловечению Бога и нашего Спасителя». Как явление Христа в мире было во плоти» так и пришествие Антихриста будет явлением диавола во плоти. «Как Господь, явившись в человеческом естестве, совершил наше спасение, так и диавол, восприняв достойное своего лукавства орудие, через него обнаружит свою деятельность, обольщая беспечных людей ложными знамениями, чудесами и призраком чудес» 4). Этот диавол, «всецело соединившись (с Антихристом), обнаружит в нем всевозможные ухищрения лукавства»5). Он «назовет себя Христом, а будет поступать вопреки этому наименованию» 6). Он, отличаясь «самовластием,
1) Compend. haeret, fabul., lib. V, cap. XXIII (Migne, ser gr. (1864), t. LXXXIII, 4i5) col. 525CD; p. пер. (Творения бл. Феодорита Кирского, Москва 1859) ч. VI, стр. 79—80; ibid. (Mg. LXXXII1. 459) col. 529C; p. пер. ч. VI, стр 83; In Dan., cap. VII, 26 (Migne, ser. gr. (1864), t. LXXXI, 1207) col. І433А; p. пер. (СергиевПосад 1906) ч. IV, стр. 128; Interpret, epist. II ad Thess., cap. II, 6 (Migne, ser. gr. (1864), t. LXXXII, 534) col. 665A; p. пер. (Москва 1861) ч. VІІ, стр. 548.
2) Compend. haeret, fabul., lib. V, cap. XXIII (Mg. LXXXIII, 456) col. 528A; p. пер. ч. VI, стр. 80.
3) Quaest. in Num. (Migne, ser. gr. (1864), t. LXXX, 218) col. 352C; p. пер. (Св.-Троицкая Сергиева Лавра 1905) ч. I, стр. 186; ср. св. Ириней, стр. выше 68; св. Ипполит, стр. выше 98.
4) In Dan., cap. VII, 26 (Mg. LXXXI, 1207) col. 1433A; p. пер. ч. IV, стр. 128; cp. Interpret epist. II ad Thessal., cap. ΙΙ, 4 (Mg. LXXXIII, 553) col. 664B; p. пер. ч. VII, стр. 546 сн. св. Ипполит, стр. выше 97.
5) Compend. haeret, fabul., lib. V, cap. XXIII (Mg. LXXXIII, 460) col. 532AB; p. пер. ч. VI, стр. 83.
6) Quaest. in Num. (Mg. LXXX, 218) col. 352C; p. пер. ч. I, стр. 166.
634
кичливостью и высокомерием,» не только назовет себя более высоким, чем ложные боги, но даже «будет восседать в Божьем храме, как Бог» 9 Он будет действовать с таким бешенством и неистовством, что на Бога Вышнего произнесет высокомерные и хульные слова, а тех, которые Ему усердно служат и причастны святыни, подвергнет всем родам казней, вообразив, что ему удастся истребить благочестие и отменить добрый образ жизни2).
Все эти бедствия Антихрист принесет с собой на землю по попущению Божию. Конечно, Бог мог бы воспрепятствовать ему в этом. Но Он «попустит ему явиться в обнаружение его лукавства и в обличение злонравия иудеев» 3). Впрочем, тяжелая для праведников власть Антихриста не будет слишком продолжительной. Она продлится лишь около трех с половиной лет, именно 1290 дней. По истечении этого времени Антихрист будет лишен Богом своей власти, а по пришествии Христа на землю он подвергнется окончательной гибели4).
Христос, по учению бл. Феодорита, придет во второй раз через 45 дней после поражения Богом Антихриста. Такое свое мнение о времени второго пришествия Христа, святитель Кирский основывает на выражении пророка Даниила: «блажен терпяй и достигнувый до дней тысящи трех сот тридесяти пяти» (12, 12), так как по вычислении из этого последнего числа 1290 дней деятельности в мире Антихриста получается 45 дней. Эти 45 дней будут заполнены деятельностью на земле пророка Илии,
1) Compend. haeret, fabul., lib. V, cap. XXIII (Mg. LXXXIII, 458) col. 520B; p. пер. ч. ІІІ, стр. 82.
2) In Dan. cap. VII, 25 (Mg. LXXXI, 1205—1206) col. 1432A; p. пер. ч. IV, стр. 126—127.
3) Compend. haeret, fabul.. lib. V, cap. XXIII (Mg. LXXXIII, 457) col. 528C; p. пер. ч. VI, стр. 81.
4) Ibid. (Mg. LXXXIII, 459) col. 529D; p. пер. ч. VI, стр. 83; cp. In Dan., cap. VІІ. 11 (Mg. LXXXI, 1199—1200) col. 1424CD; p. пер. ч IV, стр. 122; ibid. (Mg. LXXXI, 1211) col. 1437A; p. пер. ч. IV. стр. 131.
— 635 —
который, обличив обман Антихриста, возвестит η спасительном пришествии Христовом 1).
Действительность второго пришествия Христа на землю бл. Феодорит доказывает многочисленными свидетельствами из Св. Писания Ветхого и Нового Заветов. Эта пришествие Спасителя, по представлению святителя Кирского, созерцал своим пророческим взором еще Даниил в бывшем ему видении Ветхого деньми и Сына Человеческого (7, 9—14). Это второе пришествие Христа на землю предсказывали еще пророки—Исаия (33, 14; 66, 24), Давид (Пс. 49, 1—3; 96, 2. 3) и Малахия (4, 5. 6)2). Да и Сам Спаситель обещал Своим ученикам снова прийти на землю и взять их к Себе (Ио. 14, 18), указав при этом и образ Своего второго пришествия (Мф. 24, 30; 25, 31—33)3). Св. же апостол Павел в своем послании к Титу сопоставляет первое пришествия Христа на землю со вторым, замечая, что цель первого была та, чтобы мы жили в нынешнем веке целомудренно, праведно и благочестно, ждуще блаженного упования славы и явления великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа (2, 12. 13). Наконец, бл. Феодорит замечает, что о втором пришествии Сына Божия улит св. апостол Павел в посланиях к Солунянам (1 Солун. 1, 9. 10; 4, 16), евреям (10, 37) и филиппийцам (3, 20) 4).
Второе пришествие Христа на землю, по учению бл. Феодорита, будет необычайно торжественным. Во второй раз Спаситель явится во всем Своем Божеском величии. «Придет Господь с небес, сопроводят Его сонмы ангелов» 5).
1) In Dan, cap. XII, 12 (Mg. LXXXI, 1301) col. 1541В; р. пер. ч. IV, стр. 206—207; Compend. haeret, fabul., lib. V. cap. XXIII (Mg. LXXXI ΙΙ, 457) col. 528D; p. пер. ч. VI, стр. 81.
2) Compend. haeret, fabul., lib. V, cap. XXII (Mg. LXXXI ΙΙ, 452—453) col. 524A-C; p. пер. ч. VI, стр. 76—77.
3) Ibid. (Mg. LXXXIII, 451—452) col. 521CD—524A; p. пер. ч. VI, стр. 76.
4) Ibid. (Mg. LXXXIII, 453-454) col. 524CD—525AB; p. пер. ч. VI, стр. 77 —78.
5) Interpret, epist. II ad Thess., cap. I, 6—8 (Mg. LXXXII, 529) col. 660C; p. пер. ч. VII, стр. 543.
— 636 —
2. Учение о всеобщем воскресении мертвых.
Так как «в день пришествия Спасителя будет истязание и точное исследование»1) всех людей, при этом не только живых, но и умерших, то «все скончавшиеся воскреснут так быстро, скоро и мгновенно, что предварят остающихся в то время живыми, и раньше встретят Спасителя вселенной 2).
Воскресение мертвых, по учению бл. Феодорита, будет состоять и том, что наши тела снова получат свое прежнее состояние (ἡ ἀνωθεν στάσις), а души, как без смертные, возвратятся в них 3).
Защищая истину будущего воскресения мертвых, святитель Кирский решительно опровергал Маркиона, Кердона, Манеса и других еретиков, отрицавших возможность воскресения человеческих тел по той причине, что они после смерти превращаются в прах и со временем уничтожаются. Бл. Феодорит утверждал, что для Бога ничего нет невозможного. Если Бог одним Своим словом мог создать из ничего все существующее, то тем более «и телесное естество, некогда растекшееся в гной, потом превратившееся в прах, и повсюду рассеявшееся—в реках, морях, в воле, Он, захотевши, сможет снова собрать и привести в прежнее величие и прежнюю красоту»4). Помимо того, что тут нет ничего невозможного для Бога, бл. Феодорит находил, что истина будущего воскресения подтверждается ежедневным опытом. Святитель Кирский в данном случае указывает на обычное ро-
1) Interpret, epist. I ad Cor., cap. III. 14—15 (Mg. LXXXII, 183) col. 248C; p. пер. ч. VII, стр. 189.
2) Interpret, epist. I ad Thess., cap. IV, 15 (Mg. LXXXII, 519) col. 648B; p. пер. ч. VІІ. стр. 533.
3) Compend. haeret, fabul., lib. V, cap. XIX (Mg. LXXXIII, 442) col. 512CD; p. пер. ч. VI, стр. 67.
4) De provid, orat. IX (Mg. LXXXIII, 648) col. 733D; p. пер. (Сергиев Посад 1907) ч. V, стр. 280; ср. Compend. haeret, fabul., lib. V) cap. XIX (Mg. LXXXIII, 443) col. 513A; p. пер. ч. VI, стр. 67—68; cp. cв. Григорий Нисский, стр. выше 416—417.
— 637
ждение человека1) и на произрастание пшеничного зерна, бросаемого в землю. «Борозды,—говорит он по примеру св. апостола Павла (I Кор. .15, 36. 37)у—ничем не отличаются от гробов, потому что в них, как в гробах, зарываются семена; но Творец всего, посылая дождь, устрояет то, что они производят корень, листья, стебель, ости и колосья, когда земледельцы ничего более не делают, как только зарывают семена»2). Далее, истину будущего воскресения мертвых бл. Феодорит также доказывает многочисленными свидетельствами Св. Писания (Гис. 145, 4; 103, 29; Ио. 5, 28. 29; Мф. 22, 31. 32; Ио. 11, 24. 25; I Кор. 15. 13. 36. 37. 38. 42—44; Филип. 3, 20,. 21; 1 Солун. 4, 13. 14. 15; Дн. 24, 23; Пс. 103, 29. 30;. Ис. 26, 19; Иезек. 37, 7. 8)3). Наконец, подтверждение ее он видел и в самом воскресении Спасителя, потому что оно было воскресением не божества Сына Божия, а воспринятого Им тела 4). В одном из своих писем бл. Феодорит писал, что Спаситель «всем нам обещал воскресение, давши воскресение честного Своего тела достоверным ручательством нашего воскресения»5).
После воскресения, по учению бл. Феодорита Кирского, тела всех людей, в том числе и оставшихся живыми во время этого акта мировой истории 6), сделаются нетленными и бессмертными, потому что «в будущей жизни
1) Compend. haeret, fabul., lib. V, cap. XI'X (Mg. LXXXIII, 443) col. 513В; р. пер. ч. VI, стр. 68; ср. св. Григорий Нисский, стр. выше 411—412,
2) Ibid. (Mg. LXXXIII, 445) col. 516B; p. пер. ч. VI, стр. 69-70; ср. св. Григорий Нисский, стр. выше 413—414.
3) Ibid. (Mg. LXXXIII, 442—447) col., 512С—517В; р. пер. Ч. VI, стр. 67—71.
4) Ibid. (Mg. LXXXIII, 434—435) col. 504B—505A; p. пер. ч. VI, стр. 58—59; cp. св. Григорий Нисский, стр. выше 431—433.
5) Ер. 76 (Mg. LXXXIII, 1126) col. 1245В; p. пер. (Сергиев Посад 1908) ч. VIII, стр. 68.
6) Interpret, epist. I ad Cor., cap. XV, 51 (Mg. LXXXII, 280) col. 368B; p. пер. ч. VII, стр. 292.
638 —
смертность прекратится и будет даровано бессмертие» 1) Кроме того, тела воскресших и изменившихся людей -станут славными и световидными. Господь, «освободив наше тело от тления, украсит его бессмертием. В залог же этой надежды Он дал нам то, что воскресил Свое собственное тело и исполнил его славы... Наше тело станет сообразным телу Его славы, не по количеству, но по качеству славы, потому что и оно будет световидно» 2). Впрочем, только бессмертие и нетление будут принадлежать телам всех воскресших людей, так как они -будут пребывать вечно. Что же касается световидности, то она будет принадлежать лишь телам воскресших праведников. Только «достойные небес облекутся славой, приличной небесным; имевшие же земной образ мыслей примут одеяние, соответствующее (их) произволению» И не все тела праведников будут иметь одинаковую световидность, но «одни из праведников просветятся, подобно солнцу (Мф. 13, 43), а другие—подобно луне; иные же уподобятся светлости самых блистательных звезд, а иные сравняются с менее светлыми (звездами)» 3).
3. Учение о всеобщем суде и его следствиях.
Изменившись сообразно своим земным делам, тела людей, вместе с своими душами, предстанут на суд. Явление на суд не только человеческих душ, но и тел, по учению бл. Феодорита, необходимо с точки зрения Божьей справедливости. Было бы несправедливо, по мнению бл. епископа Кирского, если бы душа, грешившая вместе
1) Interpret, epist. ad Ephes., cap. I, 23 (Mg. LXXXII, 410) col. 517D; p. пер. ч. VІІ, стр. 423; cp. св. ГригорийНисский, стр. выше 452.
2) Interpret, epist. ad Philipp., cap. III, 21 (Mg. LXXXII, 466) col. 584C; p. пер. ч. VІІ, стр. 477; cp. Ориген, стр. выше 172; св. Григорий Нисский, стр. выше 453.
3) Interpret, epist. ad Cor., cap. XV, 40—41 (Mg. LXXX, 278) col. 364D—365A; p. пер. ч. VII, стр. 290; cp. Ориген, стр. выше 173.
639
с телом, одна, без тела, терпела тяжкие наказания, при этом «не малое какое-либо время, а беспредельные века», потому что вечность мучений засвидетельствована Словом Божьим (Дан. 12, 2). Равным образом была бы допущена несправедливость и в том случае, если бы одни души, без тел, удостоились блаженства. И это потому, что совершенство, какого они достигли на земле и за которое им приготовлено небесное царство, они приобрели не сами лично, а с помощью своих дел, «ибо глаза проливают слезы умиления, слух передает душе божественные слова, язык и песнословит Благодетеля, и постоянно совершает молитву, руки оказывают необходимые услуги, ноги то спешат в молитвенные дома, то утомляются стоянием на молитве и несут много других трудов». Справедливость требует, чтобы тело, вместе с душой приобретавшее богатство добродетели, вместе же с душой и наслаждалось блаженством. Поэтому, «телам следует сперва воскреснуть, а потом уже сообща с душой давать отчет в образе жизни». Об этом свидетельствует и св. апостол Павел, когда говорит, что некогда всем нам должно явиться пред судилищем Христовым, да приимет кийждо, яже с телом содела, или блага или зла (2 Кор. 5, 10)1).
На будущем суде, по словам бл. Феодорита, «каждый из нас отдаст отчет в своих собственных грехах»2), потому что «никто не может скрыться от этого нелицеприятного Судии; Он все знает в точности, даже движения самых помыслов; Он знает сделанное во тьме, знает тайно замышленное; не скрыты от Него лукавые совещания души, обнажено пред Ним сокровенное». Поэтому,
1) Compend. haeret, fabul., lib. V, cap. XX (Mg. LXXXIII, 447—448) -col. 517CD—520A; p. пер. ч. VI, стр. 72—73; cp. св. Григорий Нисский, стр. выше 476—479.
2) Interpret, epist. ad. Galat., cap. VI. 5 (Mg. LXXXII, 393) col. 500C; p. пер. ч. VII, стр. 407.
640 —
«мы судимые увидим все злочестиво или беззаконно нами сделанное и, молча, примем приговор и наказание, как знающие его правдивость» 1).
Следствием ожидаемого суда будет то, что «обложенные мраком неверия будут преданы неугасимому пламени», а праведные сподобятся венцов,—и «все удивятся правдивому приговору Судии» 2).
Бл. Феодорит в своих творениях останавливается довольно подробно только на участи после всеобщего суда праведников. Он говорит, что Бог дарует последним не что-либо бренное и скоропреходящее, а вечное наслаждение Его благами, потому что царство Божие не будет земным и ограниченным известным временем, как учил Керинф и ему подобные, а небесным и вечным. Вопреки учению хилиастов, которые, приурочивая царство Христово к земле, ограничивали его тысячелетним периодом и воображали, что в этом царстве им будет предоставлены различные чувственные удовольствия, святитель Кирский решительно утверждал, что мы ожидаем блаженной и вечной жизни не на земле, а на небе. Вечность царства, ожидающего праведников после будущего суда, засвидетельствовал Сам Спаситель, обещавший Своим истинным последователям жизнь вечную (Дан. 12, 2) и уготованное (им) царствие от сложения мира (Мф. 25, 34). А что царство, ожидающее праведников после всеобщего суда, будет не на земле, а на небе, это, по словам бл. Феодорита, ясно следует из слов Христа, в которых Он обещал нищим духом и изгнанным пра-
1) Interpret, epist. ad Galat., eap. VI, 5 (Mg. LXXXII, 393) col. 500C; p. пер. ч. VІІ, стр. 407.
2) Interpret, epist. II ad Thess., cap. I, 6. 9 (Mg. LXXXII, 529—530) col. 660C—661 А; p. пер. ч. VІІ, стр. 553—554.
Вместе с грешниками будет предан геенне и диавол с демонами (Compend. haeret, fabul., lib. V, cap. XXI (Mg. LXXXIII, 451) соl. 521C; p. пер. ч. VI, стр. 75).
— 641 —
вды ради царствие небесное (Мф. 5, 3. 10). Равным образом и св. апостол Павел свидетельствует, что мы восхищени будем на облацех в сретение Господни, и тако всегда с Господем будем (1 Солун. 4, 17 ср. 2 Тим. 2, 11. 12; 2 Кор. 5, 17. 18).
Характеризуя будущую блаженную жизнь праведников, бл. Феодорит, прежде всего, отмечал то обстоятельство, что она будет свободна от греха «Когда же отнимется грех,... тогда прекратятся труды подвигов, страх быть побежденным, забота о победе, даруется же достойным жизнь беспечальная и блаженная, насладятся они духовным и божественным светом, лучше же сказать, они сами станут светоносными», потому что о праведниках Господь сказал, что они просветятся яко солнце (Мф. 13, 43)1). Кроме того, святитель Кирский указывал, как на особое преимущество будущей блаженной жизни праведников, на их «точное познание вещей (τῶν πραγμάτων ἀκριβῆ κατανόησιν)». «Знание, какое дается нам теперь, (апостол) называет младенческим и, сравнивая его с учением подзаконным, называет его совершенным; сравнивая же с жизнью бесстрастной и бессмертной, он называет его детским» 2).
_______
Одновременно со вторым пришествием на землю Сына Божия, воскресением мертвых и всеобщим судом, но учению бл. Феодорита, произойдет также преобразование всего мира вообще3).
1) Compend. haeret, fabul., lib. V, cap. XXI (Mg. LXXXIII, 449—461) col. 520C—521C; p. пер. ч. VI, стр. 74—75; cp. св. Григорий Нисский, стр. выше 336—337.
2) De provid.. orat. X (Mg. LXXXIII, 655) col. 741B; p. пер. ч. V, стр. 285; cp. св. ГригорийНисский, стр. выше 341.
3) Interpret, epist. ad Rom., cap. VIII, 19—21 (Mg. LXXXII, 87—88) col. 136D—137B; p. пер. ч. VII, стр. 89—90.
—642 —
Таково в существенном учение бл. Феодорита о конечной судьбе человечества и мира вообще. Оно почти ничем не отличается от принятого церковью эсхатологического учения. Только в одном пункте эсхатологическое учение бл. Феодорита отличается от церковного. Это — в учении о временя проповеди Илии и в вопросе о времени прекращения власти Антихриста. По церковному учению, как известно, власть Антихриста будет продолжаться до самого момента второго пришествия на землю Спасителя, а Илия, который будет проповедывать 1260 дней, будет убит Антихристом (Ап. 11, 3—7); между тем, по учению бл. Феодорита, власть Антихриста будет прекращена за 45 дней до явления Христа в мир, причем в течение этих 45 дней и будет проповедывать Илия. Это последнее учение святителя Кирского, хотя и основано им на Св. Писании, однако является его частным мнением.
______________
643
IV. Эсхатология Энея Газского.
В конце V-го века коснулся эсхатологических вопросов Эней Газский. В своем диалоге «Феофраст или о бессмертии души и воскресении тела» он довольно подробно трактует о бессмертии души, будущем воскресении мертвых и замечает о преобразовании видимого мира.
Раскрывая христианское учение о самостоятельном существовании человеческих душ после разложения их тел, Эней решительно отвергал известное учение о метемпсихозе. Имея в виду утверждение защитников последнего учения, что души после отделения от своих тел переходят даже в животных 1), он, прежде всего, замечал, что еще Порфирий и Ямвлих обратили внимание на существенное отличие разумной души от неразумной и на неизменяемость первой и отвергали учение о переселении душ в тела животных, как, например, осла или льва2). Далее, Эней считал теорию душепереселения несостоятельной и в измененном виде, в каком ее представили Порфирий и Ямвлих. И это по той причине, что души, переселяясь в тела животных, не достигли бы той цели, ради которой они в них переходили бы. И в самом деле. По теории переселения душ, последние посылаются в тела низших существ ради наказания и врачевания их от страстей; между тем, души, поселившись по данной теории в
1) Theophr. (Migne, ser. gr. (1864), t. LXXXV, 633) col. 888A—892B.
2) Ibid. (Mg. LXXXV, 634) col. 893AB; cp. св. Григорий Нисский, стр. выше 303.
— 644 —
животных: похотливая — в осла, а жадная — в коршуна, могли бы лишь еще более утвердиться в своей соответствующей страсти1). Затем, Эней не находил возможным принять и теорию, принадлежавшую Сириону и Проклу, утверждающим, что животные имеют свою собственную неразумную душу, с которой ради наказания связывается человеческая душа 2). Эней даже не опровергает этой теории, а лишь ее высмеивает. Так как подлежащий наказанию не может быть без тела, то он говорит, что Одиссей, по этой теории, подобен муравью, потому что они оба бережливы и способны переносить лишения; Геркулес—осе, так как они очень воинственны; Клеон— лягушке, ибо они громко кричат, а Гипербол—мухе, потому что они отличаются бесстыдством. Однако, едва ли допустимо, чтобы Одиссей, перейдя в муравья, мог скрыться внутри его или, будучи прикреплен к его ноге, следовать за ним. Равным образом, когда мы видим стаю скворцов или журавлей, пролетающих с большим шумом, то едва ли мы думаем, что и человек, производящий беспокойство и шум, находится в связи с этими птицами и вместе с ними кричит. Более того. При признании последней теория наказание души легко может прекратиться. И это потому, что человеческая душа после убийства птицы и, следовательно, уничтожения ее души,— ибо неразумное — не бессмертно, — остается свободной3). Наконец, Эней отвергал теорию переселения душ на том основании, что у последних нет воспоминания о своей прежней жизни, между тем как они помнят о Творце и красоте духовного мира. И это тем более, что отсутствие у душ воспоминаний о своей прежней жизни,
1) Theophr. (Mg. LXXXV, 635) col. 896C—897A; cp. св. Григорий Нисский, стр. выше 302.
2) Ibid. (Mg. LXXXV, 635) col. 896C-897A.
3) Ibid. (Mg. LXXXV, 635) col. 897AB.
— 645 —
при признании ниспослания их в этот мир ради наказания за грехи прежней жизни, не совместимо с целью их наказания. Ведь, для того, чтобы наказание, действительно, имело значение, необходимо душам знать, за что они наказываются. Если же о Пифагоре или индийских мудрецах и говорят, что они знали, чем были раньше, то это пустое хвастовство, которому не следует верить 1).
Доказав несостоятельность учения о метемпсихозе, Эней через это устранил одно из самых распространенных препятствий к признанию самостоятельного существования человеческих душ после их разлучения с телами. Помимо этого препятствия, Эней разбирает и другие возможные возражения против бессмертия души. Так, он решительно отвергает положение, что человеческая душа, как происшедшая во времени, во времени должна и исчезнуть. И это по той простой причине, что Один и Тот же Бог создал как высшие силы, которые должны существовать вечно, так и человеческие души. Кроме того, Бог создал душу по Своему образу и подобию. Подобное же бессмертному и само должно быть бессмертным, так как смертное не только не подобно бессмертному, но даже прямо ему противоположно 2). Наконец, Эней старался показать, что защитников учения о бессмертии души не должно смущать и то обстоятельство, что число других интеллектуальных субстанций признается ограниченным в то время, когда число человеческих душ простирается в бесконечность. И это потому, что число человеческих душ представляется бесконечным только для нас; для Бога же оно вполне определенно3).
Так как полный человек состоит из души и тела, то Эней Газский учил, что некогда бессмертные челове-
1) Ibid. (Mg. LXXXV, 635) col. 901А—905В; ср. св. Ириней, стр. выше 55—56.
2) Theophr. (Mg. LXXXV, 648—649) col. 945AB.
3) Ibid. (Mg. LXXXV, 649) col. 953AB.
— 646 —
ческие души соединятся с своими воскресшими телами. Довольно подробно раскрывая христианское учение о будущем воскресения мертвых, Эней останавливает свое внимание преимущественно на вопросе, с каким телом люди воскреснут и каким образом возможно воскресение человеческих тел.
Касаясь первого вопроса, Эней решительно утверждал, что человеческие души некогда соединятся с телами, какими они пользовались во время земной жизни, потому что было бы несправедливо, если бы человеческие души явились на суд не с теми телами, с какими они грешили 1). Эней Газский, как и св. Григорий Нисский 2), считал несостоятельным возражение против будущего воскресения человеческих тел, по которому наши земные тела не могут воскреснуть потому, что их элементы после смерти человека совершенно разрушаются и рассеиваются. Если одно человеческое тело съедают рыбы, другое расклевывают птицы, а то и другое вместе уничтожают новые животные, так что от нашего тела не останется даже следа, то это, по мнению Энея, еще не служит препятствием к будущему воскресению человеческих тел Дело в том, что наше тело состоит из четырех элементов, распадающихся на неделимые атомы, которые, как неразрушимые, не уничтожаются. Если же неделимые атомы нашего тела сохраняются постоянно, то материал человеческого тела, в виде атомов, никогда не уничтожится. Само собой понятно, что Творец, создавший некогда человека из бесформенной материи, тем с большим удобством восстановит его тело из готового материала 3).
Что касается вопроса, каким образом каждая отдельная душа снова соединится с своим телом, то его Эней,
1) Ibid. (Mg. LXXXIII, 656) col. 976BC.
2) Стр. выше 261. 405—406.
3) Theophr. (Mg. LXXXV, 656) col. 977AB.
— 647 —
по-видимому, решает на основании творений св. Григория Нисского1). Он замечает, что человеческое тело состоит из материи и формы, причем материя со смертью человека разлагается на свои составные элементы, а формирующее начало (ὁ τοῦ εἶδος λόγος) остается неразрушимым2). Подобное же формирующее начало есть и у души; оно, как и сама душа, также бессмертно. Это принадлежащее душе формирующее начало в известное время и оживит соответствующее человеческое тело. Тогда душа без всякого затруднения узнает принадлежащую ей телесную форму, потому что в этом ей окажет помощь Сам Бог, Который пошлет каждую душу в ее телесную форму 3).
Уже из сказанного видно, что Эней полагал, что только форма человеческих тел навсегда останется неизменной. Что же касается их материальной стороны, то она, по мнению Энея, после всеобщего воскресения мертвых изменится. Тогда наши тела станут чистыми, легкими и бессмертными (καθαρὰ καὶ κούθη καὶ ἀθάνατος)4).
Вместе с изменением человеческих тел произойдет обновление и всего видимого мира. По учению Энея, Бог некогда изменит весь чувственный мир в бессмертный, дабы через это он стал пригодным жилищем для бессмертных существ5).
___________
Первая половина VІ-го века ознаменовалась т. наз. оригенистическими спорами. Центральная эсхатологическая идея в богословско-философской системе Оригена—учение о всеобщем апокатастасисе,—усвоенная св. Григорием Нис-
1) Стр. выше 407—409.
2) Theophr. (Mg. LXXXV, 658) col. 981BC.
3) Ibid. (Mg. LXXXV, 658) col 981CD.
4) Ibid. (Mg. LXXXV, 058) col. 984B.
5) Ibid. (Mg. LXXXV, 651) col. 957B; cp. ibid. (Mg. LXXXV, 655) col. 973A.
648
ским, в начале VІ-го века нашла довольно широкое распространение. В это время учение об апокатастасисе, уже значительно видоизмененное, по свидетельству Никифора Каллиста, некоторыми монахами Новой Лавры было распространено среди палестинских христиан1). Впрочем, в взятое время данное учение, как проводимое в жизнь св. Григорием Нисским, встретило оппозицию со стороны антиохийского патриарха Севира 2).
Учение об апокатастасисе монахов Новой Лавры излагается в «грамоте императора Юстиниана к святому собору об Оригене и его единомышленниках». Здесь, между прочим, император Юстиниан пишет: «мы дознали, что в Иерусалиме есть некоторые монахи, которые учат.., что снова все возвратятся в единство и станут умами, как это было в предсуществовании; отсюда ясно, что в то же самое единство будет восстановлен сам диавол и прочие демоны, а также нечестивые и безбожные люди вместе с божественными богоносными мужами и небесными силами»3). Имея в виду защитников подобного учения во главе с Оригеном, император Юстиниан в послании к патриарху Мине предлагал произнести на соборе анафематствование так: «Кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых людей временно и что после некоторого времени оно будет иметь конец, или что будет после восстановление демонов и нечестивых людей,—да будет анафема»4). «Анафема
1) Eccles. hist., lib. XVII, cap. XXVII (Migne, ser. gr. (1865), t. CXLVII, 774—775) col. 284C.
2) Photü Biblioth., cod. CCXXXII (Mg. CIII, 290) col. 1104A; cp. Μ. Ф. Оксиюк, Теопасхитские споры (Киев 1913), стр. 9, прим. 2; 31, прим. 1.
3) Georgii Cedreni, Hietor, compend. (Migne, ser. gr. (1864), t. CXXI, 660) col. 721 A.C; Деяния вселенских соборов (Казань 1889) т. V, изд. 3, стр. 255. 256.
4) I. D. Mansi, ор. cit., t. IX, col. 533; Дн. вс. coб., т. V, изд. 3, стр. 255.
— 649
и Оригену, прозванному адамантовым, изложившему это, вместе с его нечестивым, непотребным и преступным учением, и всякому, кто держится этих мыслей, или их защищает, или каким-нибудь образом когда-либо осмелится повторять их» 1).
Отцы, собравшиеся в Константинополе на V-й вселенский собор (553 гг.) 2), приняв во внимание приведенные указания императора Юстиниана, после всестороннего обсуждения оригенистического лжеучения, составили уже известное нам3) анафематствование на всех приверженцев этого лжеучения, не осудив, однако, взглядов св. Григория Нисского. Да и как их можно было осудить, когда этот святитель еще до третьего вселенского собора (431 г.) был признан церковью святым.
После строгого осуждения оригенизма богословской мысли дана была определенная норма, которой она должна руководиться при раскрытии эсхатологических истин. Неудивительно, поэтому, что учение о всеобщем апокатастасисе в истории христианской письменности последующего времени не имело приверженцев, и эсхатология получила более или менее определенный облик.
___________
1) Ibid .
2) По исследованию Dr. Fr. Diekamp'а ( Die orlgenistlschen Streitigkeiten im sechsten Jahrhundert und das f ü nfte allgemeine Concil ( Munster i. W . 1899), S . 131) отцы, прибывшие на V-ый вселенский собор, осудили оригенизм еще до открытия заседаний этого собора, как вселенского.
3) Стр. выше 570.
Страница сгенерирована за 0.23 секунд !© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
