13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Арсеньев Николай Сергеевич
Арсеньев Н.С. Духовные традиции русской семьи
разбивка страниц документа сделана по:
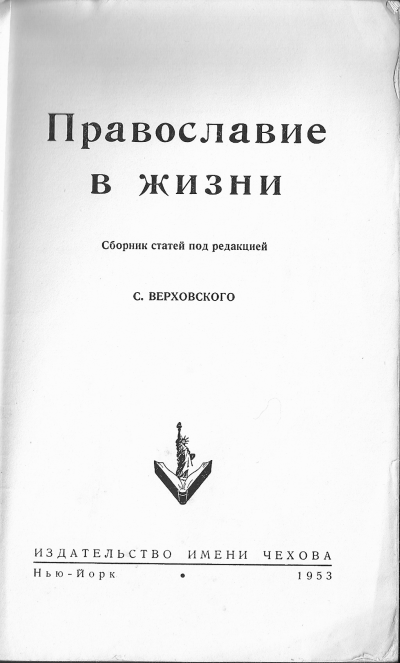
РУССКАЯ СЕМЕЙНАЯ КУЛЬТУРА И ЕЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ КОРНИ
Глава из книги: «Из русской духовной и творческой традиции».
1
Красота и уют и внутренняя теплота патриархальной семейной жизни — какое это богатство! Как целый мир духовных и душевных ценностей раскрывается здесь в этом семейном тепле, в этой насыщенности культурной традицией, в этой живой связи с живым миром прошлого. В этой тихой, не бросающейся в глаза традиции, питающейся из тех же жизненных источников, что текут в мире русской семьи, бросаются все новые семена, дающие ростки. И мы видим иногда — но еще гораздо чаще не видим — и самое бросание семян и первые всходы и завязь плода, а потом видим богатый плод и жатву. А. С. Хомяков, будучи уже пожилым человеком, признавал, что всем своим направлением духовным он обязан своей матери.1 Философ князь Евгений Трубецкой в своих воспоминаниях детства показывает на маленьких эпизодах, как влияла их мать на восприимчивые души детей, так что на всю жизнь запечатлевалось сознание нравственной невозможности обижать слабых или другое не менее важное сознание: всевидящего, везде присутствующего Ока Божия: «Не помню, что сказала на это мама. Помню только, что с этой минуты с какой-то необычайной силой гипноза мне врезалось в душу религиозное ощущение, навсегда оставшееся для меня одним из центральных — самых сильных — ощущений, какого-то
_______________
1 «Что до меня касается, то я знаю, что во сколько я могу быть полезен ей (своей матери) обязан я и своим направлением, и своей неуклончивостью в этом направлении, хотя она этого и не думала. Счастлив тот, у которого была такая мать и наставница в детстве, а в то же время какой урок смирения дает такое убеждение. Как мало из того доброго, что есть в человеке, принадлежит ему». (Письмо к М. С. Мухановой).
213
ясного и светлого Ока, пронизывающего тьму, проникающего в душу, и в самые глубины мирские, и никуда от этого взгляда не укроешься. Такие внушения — самая суть воспитания, и мама, как никто, умела их делать».
А какой памятник благодарности поставил Лев Толстой той, которая «самоотверженной любовью заменила ему и его братьям и сестре мать. (Матери он лишился в самом раннем возрасте): «Тетенька Татьяна Александровна имела самое большое влияние на мою жизнь: влияние это было, во-первых, в том, что она еще в детстве научила меня духовному наслаждению любви! Она не словами учила меня этому, а всем своим существом заражала меня любовью. Я видел, я чувствовал, как хорошо ей было любить, и понял счастье любви»...
Так строится жизнь, так совершается великое дело духовного оплодотворения, так льется часто невидимый, часто мало заметный, но могучий поток духовной, жизненной динамики, составляющий оплот жизни народа, его стержень, связь между его прошлым и будущим.
2
Задний фон — вернее, питающая основа или охватывающая духовная атмосфера такой тихой, незаметной и вместе с тем творчески-согретой русской семьи — религиозная жизнь, поток веры, текущий из недр Церкви, мирной и обвевающий благостным теплом. Как близка была эта семья к жизни Церкви, как сплеталась эта жизнь Церкви с жизнью семьи — и в первых религиозных наставлениях, и в самой стихии матери, питающейся из этого благодатного потока и насыщенной им, и в благочестивых домашних обрядах и, наконец, чрез участие всей семьи в церковных богослужениях и постах, празднествах и таинствах церковных. Вся ткань жизни пронизана этим: благословение родителей, совместные молитвы, заветные, родовые, из поколения в поколение переходящие иконы, или, например, иконы, которые заказывались в день рождения ребенка по его росту — «мера рождения» дитяти. Последнее — очень старый обычай, уходящий в глубь еще допетровской Руси. Встречаем его и в семейном быту
214
русских царей 17-го века. Так, например, в старых записях Московской Оружейной палаты времен Алексея Михайловича читаем: «17 г. (1666 г.) Сентября 19. Крестовой Фома Борисов принес в Оружейную Палату меру деревянную длиною полодиннадцати вершка, шириною полчетверта вершка, а сказал сее де меру выдала ему из хором Царицы крайчея Анна Михайловна Вельяминова, а сказала, что указал В. Г. Ц. и В. К. Алексей Михайлович и пр. против сее меры сделать в Оруж. Палату доску образную кипарисную, а на ней написать Ангел В. Г. Царевича Иоанна Алексеевича, образ Иоанна Предтечи»2.
Благословение родителей детям — это стержень и путеводный маяк в жизни детей при всех обстоятельствах жизни: и в обыденной, ежедневной обстановке семейного тепла и уюта, и при прощании, и в моменты решающих событий жизни детей — при отъездах, разлуках, особенно при основании детьми собственной новой семьи, и, наконец, при предсмертном прощании родителей с детьми. Благословение родителями детей или взаимное благословение всех членов семьи на сон грядущий — черта, свойственная патриархальным русским семьям даже и до наших дней: говорю о таких семьях, что сумели донести до нашего времени живое сокровище молитвенного общения детей с родителями. Из этой теплоты вечерних семейных переживаний и из тоски по ним вылилось известное стихотворение А. С. Хомякова:
Бывало, в глубокий полуночный час,
Малютки, приду любоваться на вас,
Бывало, люблю вас крестом знаменать,
Молиться, да будет на вас благодать,
Любовь Вседержителя Бога... (1838 г.)
Благословение перед разлукой, обычай в молчании «посидеть» вместе в безмолвной молитве перед отъездом, свойственно нашей семье. Тяжесть разлуки скрашивается перебросанными через нее мостом благословения и молитвы. Отпускаемым на чужбину детям, сыновьям, уходящим на войну, — столько давалось с собой благослове-
_______________
2 И. Забелин. «Домашний быт русских царей в шестнадцатом и семнадцатом веках». Часть II, стр. 558. Москва 1915.
215
ний и молитв на дорогу и так много было в старину рассказов про то, как материнское «благословение» — образок, повешенный на шею матерью перед отъездом — отклонил полет неприятельской пули: образок погнулся, а пуля пролетела мимо. Мы здесь касаемся самого святого, сокровенного и интимного в жизни семьи. Отсюда вырастают те невидимые скрепы и нити, которые делают семью единым духовным организмом, дают столько теплоты и очарования ее внутреннему «воздуху». Нет, больше того: дают столько глубины и религиозной ценности ее жизни, делают ее высшей из человеческих святынь, делают ее как бы своего рода «домашней церковью» перед лицом Божьим. Величайшему художнику русского патриархального семейного быта Л. Н. Толстому удалось, как никому другому, передать красоту этого внутреннего «воздуха» семьи, особенно в «Войне и мире». Самое святое в человеческих отношениях неизобразимо, но как подлинно и тонко написана эта сцена благословения княжной Марьей брата Андрея, отправляющегося на фронт: «Против твоей воли Он спасет и помилует Тебя и обратит тебя к себе, потому что в Нем одном и истина и успокоение, — сказала она дрожащим от волнения голосом, с торжественным жестом держа в обеих руках перед братом овальный, старинный образок Спасителя с черным ликом, в серебряной ризе на серебряной цепочке мелкой работы. Она перекрестилась, поцеловала образок и подала его Андрею. — Пожалуйста, для меня... Из больших глаз ее светились лучи доброго и робкого света. Глаза эти освещали все болезненное, худое лицо и делали его прекрасным. Брат хотел взять образок, но она остановила его. Андрей понял, перекрестился и поцеловал образок»...
Эта сцена вдохновлена семейным преданием толстовской семьи, согласно которому прадед Льва Николаевича, князь Сергей Федорович Волконский, был защищен от пули в семилетнюю войну образком благословения матери.
Один из героев Отечественной войны 1812 года, генерал Д. С. Дохтуров, пишет жене в Москву тотчас после Бородинского боя, где он командовал левым флангом, сменив смертельно раненого Багратиона: «Благодарю те-
216
бя, душа моя, за образ, я его тотчас на себя надену. Явно вижу Божью милость ко мне, в страшной опасности Он меня спас. Благодарю Всевышнего»3.
В записках А. М. Тургенева (1772-1863), писанных в 1848 году, описывается как его 14-летним мальчиком (в 1786 г.) родители отправляли на царскую службу в Петербург: «Перед отправлением родители благословили меня иконою Спасителя нашего, Нерукотворенную именуемую. Сверх сего родительница надела мне на шею небольшой крест животворящий с ладонкою и дала мне мешочек с медными копейками и денежками, наказав крепко, чтобы не мочь отказать просящему милостыни Христа ради»4.
Когда Константин Леонтьев в 1854 году отправляется на войну в Крым, мать ему дает на дорогу родовой золотой ковчежец с мощами, как родительское благословение.
Или вот как начинаются «Русские женщины» Некрасова (прощание старика-отца, графа Лаваль, с дочерью княгиней Трубецкой, едущей навсегда в Сибирь к мужу):
Покоен, прочен и легок
На диво слаженный возок,
Сам граф-отец не раз, не два
Его попробовал сперва...
Творя молитву, образок
Повесил в правый уголок
И зарыдал… княгиня-дочь
Куда-то едет в эту ночь...
Старая русская былина рисует родительское благословение богатырю, отправляющемуся на свои по подвиги:
Не сырой дуб к земле клонтся,
Не бумажные листочки расстилаются:
Расстилается сын перед батюшкой,
Он и просит себе благословеньица:
«Ох, ты гой еси, родимый милый батюшка,
________________
3 Письмо от 28 авг. 1812 г. («Русский Архив», 1874 г. № 11, стр. 1096).
4 «Русская Старина» 1885 стр. 375.
217
Дай ты мне свое благословеньице»...
Отвечает старый хрестьянин Иван Тимофеевич:
«Я на добрые дела тебе благословенье дам,
А на худые дела благословенья нет...
Не помысли злом на татарина,
Не убей в чистом поле хрестьянина».
(Из былины об Илье Муромце).
А в былине о Дюке Степановиче читаем:
К той ко матушке ко родимой
Честной вдове Омельфе Тимофеевне,
Пал Дюк тогда матушке в резвы ноги,
Просит у ней благословеньица съездить в Киев-град...
Даже и буйный Васька Буслаев покорно просит материнского благословения:
Вздумал Васенька съездить в Ерусалим град,
Стал он просить у матушки благословеньица,
Буйной головой он до сырой земли,
Как не белая береза изгибается,
Не шелковые листья расстилаются,
Васенька матушке наклоняется.
Новая жизнь, новая семья начинается с благословения родителями женихов и новобрачных, строится на нем, оно «утверждает домы чад». В общерусском, например, и крестьянском быту оно крепко сохранялось до самых последних времен — до революции и даже дольше. В сознательно-религиозной традиции крепких русских семей, попавших в эмиграцию, например, во многих семьях из старого русского культурного слоя, эта центральная роль благословения родительского при построении новой семьи в полной мере еще сохранилось и поныне.
А вот несколько зарисовок обряда благословения новобрачных в русском крестьянском быту середины и конца 19-го века. У Р. Терещенко в его известной книге «Быт русского народа» (часть II, свадьбы. Петербург, 1848) собрано много ценного материала.
В Смоленской губернии отцы, родной и посаженный,
218
и мать наставляют и благословляют жениха, он кланяется им в ноги, сватьи поют:
Не вороной конь копытом землю роет,
Наш молодой князь благословенья просит:
У батюшки родителя, у батюшки благословителя,
У матушки родительки, у матушки благословительницы.
В Нижегородской губернии, когда все бывает готово к поезду в церковь, каждый из молодых благословляется родителями в своем доме следующим образом: продвигают стол к углу под иконы и покрывают его белым полотном, потом кладут на стол ржаной хлеб с солью, пирог и белый хлеб, затепливают свечи и лампаду под образами, все домашние и родственники молятся с невестой. Затем отец и мать надевают на себя шубы, вывороченные шерстью вверх, а отец крестный берет правой рукой жениха за одну его руку, держа в правой своей руке вывороченную шубу, за другую руку жениха берет дружко или брат и подводят его к родителям, которые стоят за столом: отец с иконой, а мать с хлебом. Дружко говорит: «Любезный батюшка, благослови милое чадо злат венец прияти и плод с райского древа сняти». Он повторяет эти слова три раза, а жених три раза падает в ноги своему отцу, на разостланной шубе, которую приготовил сват. Затем отец благословляет сына иконой крестообразно, которую целует сначала сам, потом дает ее целовать сыну, и, наконец, целуют друг друга. Точно таким образом благословляет мать сына, потом отец и мать благословляют его поочередно хлебом-солью и отпускают к венцу5.
Очень торжественным был обряд благословения при праздновании свадьбы царя Михаила Федоровича 5-го февраля 1626-го года.
Государь слушал раннюю обедню, потом благословлялся у своего отца, святейшего патриарха и говорил ему речь: «Великий Государь отец наш, Филарет Никитич,
________________
5 См. Терещенко, стр. 448, стр. 269, стр. 3, 6, 7, стр. 179, 196, 226, 284, 342, 301. См. Сборник сведений для изучения быта крестьянского населения России под ред. Н. Харузина вып. 1. Москва 1889 стр. 112-113.
219
святейший патриарх московский и всея Руси. По воле Всеблагого и соизволению вашему и матери нашей, инокини Великой Государыни Марфы Федоровны, назначено быть нашей свадьбе, а сего дня моей радости. Святейший патриарх — благослови сына своего». Патриарх, благословляя сына, говорил: «Всемогущий и неизреченный в милости, вознесший тебя на царский престол за благочестие, Тот и благословляет тебя. Да подаст Он тебе и супруге твоей долгоденствия и размножение роду. Да узришь на престоле сыны сынов твоих и дщери дщерей твоих, и да защитит Он всех вас от врагов, распространит могущество ваше от моря и до моря, и от рек до концов вселенныя». Потом патриарх благословил его образом Пресвятыя Богородицы.
Наглядными носителями родительского благословения, более того — священными для детей и семьи символами Божия благословления являются семейные иконы. Они передаются из поколения в поколение, как бы воплощая в себе духовную связь, духовную преемственность отцов и детей. У бесчисленных крепких русских семей простых и знатных, скудного достатка, зажиточных и богатых, были эти заветные семейные или родовые иконы, «родительского» или «дедовского» благословения. В старом купечестве, у старообрядцев, в стародворянских и княжеских родах, у духовенства, в крепких гнездах крестьянского семейного быта, особенно, например, на севере России. Некоторые семейные или родовые иконы как бы воплощали в себе жизнь поколений, историю семьи или рода с отцовской или материнской стороны.
В древнерусском доме «красный угол» с иконами, божницей или домашняя часовня были центром религиозной и духовной жизни семьи. Какую огромную роль играли эти иконы в жизни дома в древней Руси, явствует хотя бы из наставления Сильвестровского «Домостроя»:
Глава 8-ая: «Како дом свой украсити святыми образы, и дом чист имети. В дому своем всякому христианину, во всякой храмине святые и честные образа, написаны на иконах, ставити на стенах, устроив благолепно место со всяким украшением и со светильники, в нихже свечи пред святыми образы возжигаются на всяком славословии Божием, и по отпетии погашают, завесою закрываются,
220
всякие ради чистоты, и от пыли, благочиния ради и брежения, а всегда чистым крылышком сметати, и мягкою губою вытирати их, и храм тот чист держати всегда, а к святым образам касатися достойным, в чистой совести, и на славословии Божии и на святом пении и молитве, смечи вжигати, и кадити благовонным ладаном, и фимиамом, в молитвах и во бдении, и в поклонех и во всяком славословии Божии, всегда почитати их, со слезами, и с рыданием, и сокрушенным сердцем исповедатися, просяще отпущения грехов».
Когда старорусский человек входил в дом, то прежде всего он искал глазами иконы. Сначала он клал поклон перед ними, затем только кланялся хозяевам и всем прочим присутствующим. Так рассказывают нам иностранцы, бывавшие в 16-ом и 17-ом веке в Московской Руси, например, Герберштейн, бывший в Москве при Василий Третьем в 1517 и 1526 гг., и Мейербер, цесарский посол в 1660-63 гг. к царю Алексею Михайловичу. А сколько подлинности в этой сцене в неоконченном романе Льва Толстого «Декабристы», где простая деревенская старуха, Тихоновна, приходит в Москву пешком из далекой деревни к своим господам Чернышевым хлопотать за своего старика-мужа, попавшего по недоразумению, без вины, в тюрьму. Робея, входит она в лаптях и белых онучах в шумную людскую избу московской усадьбы Чернышевых, но не теряет выдержки, хоть и оробела. «Благовидна», «в правильном деревенском наряде», сначала кладет она кресты и кланяется на передний угол, не смущаясь незнакомой ей обстановки, затем уже кланяется присутствующим. Как в этой с натуры списанной картинке ярко выразилась «благолепная» «истовая» укорененность в дедовском обычае тогдашних крепких простых людей.
Для Константина Леонтьева мерцание лампадки перед иконой связалось таинственным образом с незабвенными воспоминаниями о матери, с лучшими воспоминаниями детства. Весь русский домашний быт в своих подлинных выявлениях жив этим, освящен этим. Обильно текла молитвенная жизнь в недрах семьи. Уже в том же «Домострое» Сильвестра читаем:
Глава 12. «Како мужи с женою и домочадцы в дому
221
своем молитися. По вся дни, в вечере мужу с женою и с детьми и с домочадцы, кто умеет грамоте отпети вечерня, навечерница, полунощница, с молчанием и со вниманием, и с кроткостоянием, и с молитвой, и с поклоны. Пети внятно и единогласно. После правила отнюдь ни пити, ни ести, ни молву творити... А ложася спати, всякому христианину по три поклона в землю пред Богом положити. А в полунощи всегда, тайно встав, со слезами прилежно к Богу молитися, елико вместимо, о своем согрешении: а утро вставая, такоже, и комуждо по силе и по желанию... Всякому христианину молитися о своем согрешении и пущении грехом»...
Конечно, это — идеализированное изображение, это то, что автор «Домостроя» выставляет, как идеал — не все так делали. Но молитвенный строй был крепок в старой русской семье. Опасность для старорусского благочестия заключалась, как мы знаем, в религиозном формализме, в некоторой склонности придавать внешнему, обрядовому, второстепенному, — первостепенное значение и тем материализировать религию, превращать ее в жесткий обрядовый закон, в склонность, которая явилась роковой причиной раскола и не всегда преодолевалась и позднее. Но и внутреннее глубокое всеприятие веры жило, как мы отчасти уже видели, в патриархальных русских семьях, одухотворяло их своим дыханием, давало им силы для жизненной борьбы, давало внутренний свет и тепло всему их укладу. Сколько религиозно-укрепленных, нравственно крепких, просветленных, праведных и благостных, сияющих тихим светом любви, личностей, известных, а еще более неизвестных, которые составляют, может быть, высшее украшение русской национальной жизни, вышли из недр благочестивой русской семьи, теснейшим образом срослись с этим бытом и освятили его; на этом подробнее остановимся в главе о русских праведниках различных времен, различной степени культуры, различных сословий и состояний.
222
3
Очарование патриархального семейного быта старорусской образованной дворянской среды 19-го века — этого времени особенно пышного и творческого расцвета русской культуры — состоит, между прочим, в гармоническом взаимном сочетании двух культурных начал — западноевропейского и исконно-русского — в лоне многих этих семей. Здесь получался тот творческий синтез, что так характерен для русской культурной, особенно художественной и философской традиции 19-го века. В этом также огромная историческая заслуга семейного быта.
И в западной культуре русское религиозное чувство, русская семейная культура искали этого старого и неумирающего религиозно-укорененного, творящего жизнь. Поэтому в целом ряде старых русских религиозно-настроенных культурных семей был так силен дух истинного «Экуменизма» — вселенскости, искания лучей Логоса Божия — Слова Божия везде, где они встречались, и радование их сиянию, открытость душевная для них, дух истинно-христианской братской любви к духовным и религиозным сокровищам Запада, к его исканиям и обретениям, к его великим мыслителям, художникам, религиозным светочам и праведникам, при глубокой духовной сращенности с лоном своей Матери — Восточной Церкви.
4
Душевное тепло и уют старой Москвы, старых московских, укорененных в предании и вместе с тем живущих усиленной культурной жизнью семей! Впрочем, не только московских, но вообще русских старозаветных культурных семей. Но остановимся сначала на Москве, особенно на этом своеобразном, исполненном огромной прелести мире московских переулков, например, в районе Арбата и Пречистенки, Поварской — центре сосредоточенной, радушной, патриархально-уютной, простодушной и вместе с тем часто столь утонченно-культурной жизни, столь дышащей преданием, столь неразрывно с ним свя-
223
занной и вместе с тем нередко столь динамической и творческой духовно. Это, действительно, целый особый мир, связанный с остальным миром, но живущий вместе с тем своей особой, сосредоточенной жизнью. Маленькие, порою кривые переулки, особняки, частью спрятанные в глубине двора или сада, частью выходящие на улицу, преимущественно одноэтажные, с мезонином, с несколькими колоннами «ампир» и 8-9 окнами фасада (но зато часто этот домик, кажущийся небольшим с улицы, тянется вглубь двора и оказывается огромным домом). И тут же напротив — приходская церковь (часто по две в том же переулке, иногда и по три), маленькая, с зелеными, синими или золотыми куполами или луковицами, нередко пятиглавая, с маленькой, отдельно стоящей колокольней, полувросшей в землю, с обсаженным деревьями двором, иногда проходным, в котором мирно тянутся по бокам деревянные домики причта, а посередине иногда расстилается большая лужа с полоскающимися в ней утками. Отсюда, из этой церковки, доносится колокольный звон во всякое время дня — и утром, и вечером, и днем, если, например, кого-нибудь хоронят. В самой церкви какой мир благодатный, какая сосредоточенность, особенно в часы вечернего богослужения! У прихожан свои излюбленные, более или менее постоянные места. Стоят и молятся, одни поодиночке, другие семьями, пожилые ближе к стенам, иногда со стулом. Мерцают лампады, отражаясь на окладах икон, в церкви полутемно. Поют: «Свете тихий, святыя славы... Пришедше на запад солнца, видевше свет вечерний, поем Отца, Сына и Святого Духа Бога»... Отрадно и тихо и не только успокоительно, но и бодряще действует эта собранная церковная жизнь. А в этих особняках так тепло душе и мирно. Двор с многочисленными службами, садик на улицу, часто тянется сад и за домом, порой и большой, с беседкой, густыми зарослями сирени, где весной громко поют соловьи, с серебристыми тополями (их особенно много в Москве). Их опавшими почками благоухают в весенние вечера двор и сад, особенно после короткого, теплого и благодатного дождя. О прелести этих особняков и жизни в них замечательно написал в своих воспоминаниях большой любитель и знаток старой России и особенно старой Москвы,
224
человек рыцарского благородства, борец за национальное дело против большевизма и при этом художник в душе — Николай Николаевич Львов.
«...Дети росли, учились дома у приходящих учителей и учительниц, катались с гор и на коньках на Патриарших прудах и на Пресне, с детской радостью играли простыми игрушками кустарного изготовления, резной деревянной лошадкой, раскрашенными забавно куколками от Троицы или разрумяненной Матрешкой в сарафане, лакомились изюмом, халвой, стручками, подсолнухами, и не было ничего лучше винной ягоды в няниной комнате. На Масленой их водили на гулянье в балаганах на Подновинском, Великим Постом все постились, на Страстной все говели, и исповедовались у своего приходского батюшки или в монастыре, где так страшно было входить в маленькую келью к старому духовнику в черной рясе, встречали Светлое Христово Воскресение в своем приходе и переживали всю таинственную радость темной весенней ночи, когда раздается первый гул колокола Ивана Великого, и к нему со всех концов несутся в ночном воздухе встречные призывные голоса московских колоколов и сольются в один таинственный радостный переливный звон, уходящий далеко, далеко в небо над погруженным в темноту городом.
Родители не были оторваны от детей своими ежедневными занятиями или службой, они жили с ними общей жизнью, летом в деревне, зимой в Москве в своих особняках, и воспитание детей было согрето таким теплым чувством любви, которого ничто заменить не может. Слова молитвы, повторяемые детским шепотом и выученные за матерью и няней, и детский страх перед первой исповедью, и радостное чувство, и детское горе, и слезы — все связывалось в воспоминании с дорогими лицами, с добротой старой няни, с нежностью матери, с ее тихим голосом и мягким, ласковым прикосновением ее руки к горячему лобику больного ребенка, а после в этих общих чтениях и в музыке по вечерам в большой гостиной все впечатление от чтения и игры на фортепиано сливается в памяти со звуком голоса матери, читающей вслух, с запахом сирени и черемухи, вливающимся в комнату через открытое окно, со смехом и детской слезой при чтении
225
печальной повести или веселого рассказа, и звуки Бетховенской сонаты глубоко проникают в детскую душу, и так же, как чтение вслух и слова молитвы, все остается на всю жизнь — как одно светлое радостное воспоминание детства»6.
Особенно на этом внутреннем семейном мире хотелось бы остановиться. Как много в нем душевного света и мягкости и теплоты. Он запечатлен, например, Львом Толстым незабываемым образом и в «Детстве» и в «Войне и мире». Сошлюсь для примера на неподражаемую, благоухающую сцену возвращения Николая Ростова в родительский дом с театра войны.
А эти материнские заботы о воспитании детей, этот дневник детского поведения, который ведет Мари Болконская, в замужестве Ростова.
Толстой верно понял. Центр всей этой жизни, ее вдохновляющий источник — мать. Значение матери, женщины в русской патриархальной, культурной семье решающе и основоположно. В русской культурной семье женщина — мать и жена — играет духовно более важную роль, чем мужчина, и не только в воспитании детей. Она — внутренний очаг семейной жизни, источающий теплоту и ласку, изливающий эту материнско-женскую ласку и на членов семьи, и на всех домочадцев, на родных, друзей и знакомых, и на посторонних даже, особенно одиноких, заброшенных, несчастных, попавших в сферу воздействия этой семьи, попавших под ее гостеприимный кров, приходящих погреться у ее теплого задушевного пламени. Она — центр этого общежития, веселое и ласковое солнце на небосклоне этого маленького мира, источник ласки, сострадания и уюта, и вместе с тем через нее, через ее молитвы, через ее участье в молитве детей, через ее пример, через ее наставление, поток религиозной энергии, струи иного — облагодатственного бытия, в котором коренится все лучшее, чем обладает эта семья, вливаются в ежедневные, самые будничные и обычные, жизненные ее проявления. Здесь мы касаемся самого глубокого, самого святого из творческих корней русской
________________
6 «Былые годы», в «Русской Мысли», Прага, 1923 г. кН. I-II, стр. 104, 98-99.
226
семейной культуры и русской культуры вообще. И этот образ русской матери и жены, центра семьи и семейного очарования и носителя религиозного принципа, не умер, не отжил. Он живет и поныне во многих русских матерях!
Ту, которая заменила ему мать с самого раннего возраста, свою тетушку Татьяну Александровну Ергольскую, Лев Толстой поминает в своих старческих воспоминаниях следующими словами, исполненными благородного умиления: «Главное свойство ее жизни, которое невольно заражало меня, была ее удивительная, всеобщая доброта ко всем без исключения. Я стараюсь вспомнить, и не могу, ни одного случая, когда бы она рассердилась, сказала резкое слово, осудила бы — не могу вспомнить ни одного случая за 30 лет жизни... Никогда она не учила тому, как надо жить, словами, никогда не читала нравоучений. Вся нравственная работа была переработка в ней внутри, а наружу выходили только ее дела — и не дела, ...а вся жизнь, спокойная, кроткая, покорная и любящая не тревожной, любующейся на себя, а тихой, незаметной любовью. Она делала внутреннее дело любви, и потому ей не нужно было никуда торопиться. И эти два свойства — любовность и неторопливость — незаметно влекли в общество к ней и давали особенную прелесть этой близости... Не одна любовь ко мне была радостна. Радостна была эта атмосфера любви ко всем присутствующим и отсутствующим, живым и умершим, людям и даже животным». Образ матери, которая, судя по всем данным, была изумительная женщина, по благостному, кроткому сиянию своего духа, но которую он знал лишь по рассказам близких (ему было 2 года, когда она умерла), был одним из самых заветных и святых; достояний его внутреннего мира. В своих воспоминаниях так пишет Толстой про свою мать: «Она представлялась мне таким высоким, чистым, духовным существом, что часто в средний период моей жизни, во время борьбы с одолевавшими меня искушениями, я молился ее душе, прося ее помочь мне, и эти молитвы всегда помогали мне». Н. Г. Молоствов рассказывает, что когда летом 1908 года в Ясной Поляне зашел разговор о том, какой удивительный человек была Мария Николаевна, Лев Николаевич мягко и тихо, видимо сдерживая слезы,
227
сказал: «Ну, уж этого я не знаю; я только знаю, что у меня есть culte к ней». К этому же времени относится запись в дневнике Толстого: «Не могу без слез говорить о моей матери» (13-го июня 1908 г.). А за несколько дней перед этим он пишет: «Нынче утром обхожу сад и, как всегда, вспоминаю о матери, о «маменьке», которую я совсем не помню, но которая осталась для меня святым идеалом»... (10-го июня 1908 г.). И днем позже: «...самое дорогое... существо для меня — моя мать». Недаром Н. Н. Гусев посвящает «ее светлой памяти» свою «Жизнь Льва Николаевича Толстого»7.
Князь Евгений Николаевич Трубецкой в своих воспоминаниях детства так изображает ту духовную атмосферу, которая окружала его детские годы: «Может быть, это самообман, может быть, это только мое личное ощущение, но мне теперь, через 40 лет после нашего последнего отъезда из Ахтырки кажется, что мы там дышали благодатью, словно благодатью там был полон каждый глоток воздуха. Помню, четыре кроватки в детской, в очень раннем моем детстве, когда мы, мальчики, еще не были отделены от сестер; на кроватках — кисейные занавески от комаров и образочки. В открытое окно врываются всякие вечерние деревенские звуки — однообразный и как бы скрипичный унисон комаров, протяжная верхняя нота песни вдали, редкий и тем более таинственный удар церковного колокола — а надо всем этим — громкое утверждение радости жизни, — целая симфония, исполняемая оркестром многочисленных стрижей, вылетевших на закате из гнезд над окнами господского дома9. Решающим фактором в этой атмосфере мира и благодати была его мать. «Чем сознательнее, чем больше я становился, тем больше этих золотых крупинок в моих воспоминаниях о ней. Помню, как умышленно непонятное чтение по вечерам сменилось чтением Евангелия, когда мы стали подрастать. Помню, как у нас завелся обычай ей исповедоваться каждый день в наших
_______________
7 Н. Н. Гусев. «Жизнь Льва Николаевича Толстого. Молодой Толстой». Москва, 1927 г. Стр. 26, 23, 33-37.
8 Имение Трубецких.
9 Кн. Е. Н. Трубецкой. «Из прошлого», стр. 31.
228
детских преступлениях. Помню, как она умела прохватить до слез и вызвать глубокое сознание виновности. Для тяжко провинившегося у нее находились слова глубокого пламенного негодования»10.
Закончу опять воспоминанием, относящимся к моей семье. Какой тишиной и миром дышали вечера в доме моего дедушки, Василия Сергеевича Арсеньева, в Москве на Садовой. Старик дедушка читает вслух двум незамужним дочерям, моим тетям — Надежде и Марии Васильевнам (этим «Марфе и Марии» нашей семьи, личностям необычайно высокого духовного уровня, большой доброты и духовного сияния) в уютной гостиной под старинными Долгоруковскими портретами кисти Боровиковского и Левицкого. Обе тети работают — вяжут или вышивают; нужно мне идти наверх к себе заниматься, но хочется посидеть еще лишние 5-10 минут.
А вот в заключение отрывок из письма дедушки:
Письмо к старшему сыну (об отношениях между ним и его женой).
«...Нежность и любовь наша нас соединяет так, что это подобно вашей идеальной любви друг ко другу, с разницей лишь в том, что мы — старцы, и что чудо Христово в возвышении брака символизированное претворением воды в вино, на браке в Кане Галилейской, мы теперь сильнее и сильнее ощущаем»...
Здесь мы невольно опять прикоснулись ко внутреннему Святая Святых этой жизни семьи.
7
Семья не есть последнее. Атмосфера семейного тепла и уюта и взаимной себя забывающей любви есть одна из высших человеческих ценностей, но сама предполагает питающее начало. Есть еще большие глубины, которые раскрываются в лоне той же верующей семьи, глубины благодатной жизни, о которых я уже неоднократно говорил. Здесь не только были ее питающие корни, но здесь она прикасалась к чему-то Безмерно-Превос-
________________
10 Кн. Е. Н. Трубецкой. «Из прошлого», стр. 34.
229
ходящему, к Последней и Высшей Реальности, где семейное начало находило свой высший предел, но также и свое преодоление или восполнение. Идеал домашнего тепла, драгоценная реальность семейного счастья разбивались жизнью, вернее смертью, вырвавшей самых дорогих членов семьи из семейного круга, и вырастал перед взором тогда образ иного, непреходящего Дома, дома Отца, в котором «обители многи суть». Но в том- то и великое значение верующей семьи, что первая весть об этом Доме Отца — первое, еще неясное ощущение его и первая внутренняя встреча с этим Отцом происходила в ее недрах. «Всякое отечество на небеси и на земли именуется от Него», говорит апостол Павел (Ефес., 3, 15). В верующих семьях носители этого принципа «Отечества» — отец и мать, искали последней, решающей точки опоры для себя и детей в этом «Отечестве» небесном, к нему направляли взоры своих детей. Поэтому, как мы уже видели, совместная молитва, совместное склонение колен перед Отцом Небесным, предание себя и друг друга в Его руки — вот один из основных стержней жизни этой семьи.
С религиозного мы начали, религиозным и заканчиваем это изображение русской старозаветной семейной культуры. Но если в начале нашего изложения мы особенно обратили внимание на обрядовую, более внешнюю, хотя и глубоко пропитанную молитвенными струями сторону этой жизни, то есть на быт, на уклад, огромная важность которого в качестве заднего фона, в качестве рамки и нравственной опоры семейной и вообще всей народной культуры несомненна, то сейчас хотелось бы несколько больше коснуться того, что является еще более важным, существенным и глубинным — именно живой, питающей динамики, молитвенной стихии и связанной с ней жизни внутреннего подвига, как они проявлялись в семье.
Не буду, однако, останавливаться на описании, например, совместного говения Великим Постом детей и родителей, на картинах совместного хождения к службам Страстной седмицы, на огромном вообще значении стихии молитвы и таинств церковных в жизни патриархальных русских, в том числе и старых культурных се-
230
мей, утвержденных в этом мире религиозной Реальности — это все известно и без книг. Как отразилась, например, религиозная атмосфера Аксаковского дома в известном стихотворном изображении Иваном Аксаковым вечерней церковной службы в деревенском приходском храме — картины, хорошо знакомой и близкой ему с детских лет.
Приди ты, немощный,
Приди ты, радостный.
Звонят ко всенощной
К молитве благостной.
И звон смиряющий
Всем в душу просится;
Окрест сзывающий,
В полях разносится...
И стройно клирное
Несется пение,
И дьякон мирное
Творит глашение.
О благодарственном
Труде молящихся,
О граде царственном,
О всех трудящихся,
О тех, кому в удел
Страданье задано...
А в церкви дым висит,
Густой от ладана...
Были руководители этих семей в религиозной жизни. Тесная связь между патриархальными верующими семьями, — особенно матерями этих семейств и русским старчеством — есть явление огромного значения в истории русской культуры и духовной жизни, еще недостаточно исследованное. Характерен следующий эпизод из жизни Ивана Киреевского — этого основателя русской религиозной философии, первого русского философа, оплодотворившего свою мысль обращением к внутреннему опыту великих аскетов и мистиков Восточной Церкви. Он, как известно, увлекался сначала религиозной философией Шеллинга. С восторгом он читал вслух некоторые отрывки из сочинений Шеллинга своей молодой жене Наталии Петровне. Она ему ответила, что ей все это не ново, все это она уже встречала в творениях святых отцов. Киреевский стал тогда сам читать творения отцов и мистиков Православной Церкви, а жена познакомила его с замечательным старцем Филаретом московского Новоспасского монастыря. После кончины стар-
231
ца Филарета в 1842 г. оба супруга Киреевских перешли под духовное руководство замечательного старца Макария Оптинского. Интересны сохранившиеся письма супругов Киреевских, особенно Наталии Петровны, к старцу Макарию. Она поверяет ему свои трудности душевные и просит утешения и подбодрения: ...«Я никуда не гожусь, у меня сердце беспрестанно страдает: страх возникает и производит печаль. Иногда молитва облегчает, а иногда и молиться сил нет. Иногда в настоящем вижу прошедшее и происшедшее неизвестное или скрытое, сбиваюсь от этого мыслью: страдания душевные прибавляются, силы же душевные и физические умаляются... Вот, батюшка, моя негодная грешность, исповедую Вам, как милостивому отцу моему, и надеюсь получить от Вас исцеление моей немощи душевной»11...
Многие, многие русские семьи, особенно матери семейств, получали от старцев духовную поддержку и руководство. Одним из таких руководителей духовных был знаменитый Вышинский затворник, епископ Феофан. Вот, например, как он пишет одной матери, обремененной многими испытаниями семейными:
«Милость Божия буди с вами. Все что от Господа, помимо нашего произвола, самое лучшее для нас. Это не по вере только, отвлеченно так, но какое ни рассмотри обстоятельство из жизни, осязательно увидишь, что так всегда есть. Вот и Ваше теперь стеснение отовсюду — и своя болезнь и сыновняя, и дела те тяжелые, о коих намекаете, — все это есть самое лучшее и для Вас и для всех Ваших. Только молиться и, молясь, Бога благодарить. И за скорбное еще более надо благодарить, — лобзать наказующую и учащую десницу Божию. Слепота наша, ничего не видящая, и самолюбие слишком притязательное одни — причины суть скорбей Ваших и того, что слишком болеем сердцем при неблагополучных обстоятельствах. Вы, конечно, все это так понимаете и умеете свои чувства вставить в рамку, которую делает Небесный Промысл с неподражаемым искусством. Желаю Вам бла-
________________
11 См. Прот. Сергий Четвериков «Оптина пустынь». Париж, ИМКА-Пресс стр. 149-150 (Письма Н. П. Киреевской к оптинскому старцу иеромонаху о. Макарию).
232
годушия. Сердце, преданное Господу, всегда умеет найти покой. Матерь Божия да согреет Вас материнским в душе утешением. Каково-то у Вас теперь? Мое желание, чтобы Господь облегчил Вас и прояснил немного горизонт Ваш». (15 ноября 1872 г.).
А вот опять целая серия писем к другой матери — княгине Н. И. К-вой (Кудашевой?) с советами между прочим относительно воспитания детей:
...«Детей вразумлять есть долг родителей, — стало и Ваш. И бояться чего? Слово любовное никогда не раздражает. Командирское только никакого плода не производит. Чтобы детям благословил Господь избежать опасностей, надо молиться и день и ночь. Бог милостив, Он имеет много средств предотвращать, — какие нам и в голову не придут. Бог всем правит. Он мудрый, всеблагий и всемогущий Правитель. И мы принадлежим к Царству Его. Чего же унывать? Он не даст Своих в обиду. Об одном надо заботиться — как бы не оскорбить Его, — и Он не вычеркнул вас из числа Своих... (21 сентября 1875).
Он дает матери советы относительно совместного говения с детьми:
«Милость Божия буди с Вами. Благослови Господи — Вам всем поговеть и причаститься Св. Христовых Тайн. Больше сокрушения о грешности надо, чем перечисления грехов, хоть и это необходимо. Больше молитвенных воздыханий из сердца, чем прочитывания молитв, хоть и это нужно. Суетливость изгнать надо из души и водворить там благоговеинство пред Богом. Водворивши это благоговеинство, — так потом с ним и оставаться. Пусть почитают красавицы: «Восстани, спяй». Будет это хорошим введением в говение покаянное... О муже молитесь, но воздерживайтесь от осуждения. Господу не мудрено в одну минуту повернуть его сердце. И гимназисту дай Господи преуспевать...».
К отцу семейства, обратившемуся к вере, пишет Феофан, возбуждая его к делам милосердия:
...«За то, что Господь призвал Вас к вере, ничего особенного не требуется, кроме того, чтобы быть искренно верным вере. И благодарны бывайте, что из тьмы во свет призвал Вас Господь. Больше всего помогайте
233
нуждающимся. Кто бы ни приходил к Вам со слезами, не отпускайте его, не осушивши сей слезы. Блажени милостивые, яко тии помиловани будут... Из-за руки нуждающегося всегда узревайте протянутую к Вам руку самого Господа, Вас обратившего. Сам Он сказал: «Что сделаете им — бедным, Мне сделаете»... (14 сентября 1874 г.)
Мы видели, как струи благодатных наставлений, благодатной внутренней жизни вливались через родителей, особенно через мать семейства, в среду семьи и не оставались без воздействия. На это я мог бы привести ряд примеров из личного опыта и личных встреч.
И скорбь матери, потерявшей детей, находит живой отклик в любвеобильном духовном руководителе и советнике, умеющем поддержать потрясенную печалью душу. В этом отношении характерна переписка между Екатериной Владимировной Новосильцевой, рожденной графиней Орловой, потерявшей на дуэли единственного сына, с ее духовным наставником, митрополитом Филаретом московским. 21-го сентября 1825 года Филарет пишет Новосильцевой из Лавры:
«Бог терпения и утешения да дарует рабе Своей не изнемочь в подвиге терпения и да пошлет Свое утешение в скорби, в которой человеческие утешения изнемогают. — Матерь Распятого за нас, испытавшая величайшую из скорбей Матери, да примет молитву скорбящей матери, дабы принести оную к престолу Своего Сына и Бога». (21 сентября 1825 г.)12.
Переоценка ценностей происходит в этой внутренней борьбе, в этом горе и потере самых дорогих и близких. И взор направляется на иную, высшую плоскость бытия, на Дом Небесного Отца, когда самое дорогое, что было в этой жизни, что давало уют и ценность домашнему очагу, ушло туда из этой жизни. Душа потрясена, ранена, прорублена кора земного благополучия и земного некоего, хотя бы и самого невинного, самодовления, сосредоточения преимущественно на своем земном счастье
_______________
12 Письма Высокопреосв. Филарета Митрополита Московского к Е. В. Новосильцевой. Москва. 1911 г., стр. 61.
234
и уюте, и раскрывается порыв — самым реальным, хотя и болезненным образом — в глубины высшей и решающей Реальности, не так, как прежде, а всей силой своей, всей волей своей, всем разумением своим. И любовь земная преображается и вырастает и помогает душе в этой новой жизни служения, и сама навещает душу вкинуты ее томления, — неумирающая, уже очищенная и углубленная любовь. Такая переоценка ценностей, такое преодоление привязанностей к земному теплу и уюту произошли в душе Хомякова после смерти его безгранично любимой им жены. Запись, сделанная Юрием Самариным, своего разговора с Хомяковым, происшедшего вскоре после этого события, и напечатанная много лет спустя в Татевском сборнике С. А. Рачинского. Это, может быть, один из самых значительных документов русской интимной и семейной и вместе с тем мистической жизни. Приношу полностью рассказ Самарина13.
«...Хомяков понимал христианское откровение как живую, непрерывную речь Божию, непосредственно обращенную к личному сознанию каждого человека, и вслушивался в нее с напряженным вниманием. Наши разговоры нередко касались этой темы по поводу общего вопроса о значении Промысла в истории человечества, народа или отдельного Лица, но он никогда не вводил меня в область собственных внутренних ощущений. Один только раз дано было мне проникнуть в тайное этой непрерывной беседы его с Богом. Разговор этот так глубоко врезался в мою память, что я могу повторить его почти от слова до слова.
Узнав о кончине Екатерины Михайловны, я взял отпуск и, приехав в Москву, поспешил к нему. Когда я вошел в его кабинет, он встал, взял меня за обе руки и несколько времени не мог произнести ни одного слова. Скоро, однако, он овладел собой и рассказал мне подробно весь ход болезни и лечения. Смысл рассказа его был тот, что Екатерина Михайловна скончалась вопреки всем вероятностям вследствие необходимого стечения обстоятельств. Он сам понимал ясно корень болезни и,
________________
13 См. «Татаевский сборник» С. А. Рачинского, СПБ. 1899, стр. 128-133.
235
зная твердо, какие средства должны были помочь, вопреки своей обыкновенной решительности, усомнился употребить их. Два доктора, не узнав болезни, которой признаки, по его словам, были очевидны, впали в глубокую ошибку и превратным лечением произвели болезнь новую, истощив сперва все силы организма. Он все это видел и уступил им. Выслушав его, я заметил, что все это кажется ему очевидным теперь, потому что несчастный исход болезни оправдал его опасения и вместе с тем изгладил из его памяти все остальные признаки, на которых он сам вероятно в последние минут основывал надежду на выздоровление. Я прибавил, что, воспроизводя теперь по-своему и в обратном порядке последствий к причинам весь ход болезни, он только подвергает себя бесплодному терзанию. Тут он остановил меня, взяв меня за руку: «Вы меня не поняли; я вовсе не хотел сказать, что легко было спасти ее. Напротив, я вижу с сокрушительной ясностью, что она должна была умереть для меня, именно потому, что не было причины умереть. Удар был направлен не на нее, а на меня. Я знаю, что ей теперь лучше, чем было здесь, да я-то забывался по полноте своего счастья. Первым ударом я пренебрег; второй — такой, что его забыть нельзя». Голос его задрожал, и он опустил голову. Через несколько минут он продолжал: «Я хочу Вам рассказать, что со мною было. Тому назад несколько лет я пришел домой из церкви после причастия и, развернув Евангелие от Иоанна, я напал на последнюю беседу Спасителя с учениками после Тайной Вечери. По мере того, как я читал, эти слова, из которых бьет живым ключом струя безграничной любви, доходили до меня все сильнее и сильнее, как будто кто-то произносил их рядом со мной. Дойдя до слов: «Вы друзи Мои есте», я перестал читать и долго вслушивался в них. Они проникали меня насквозь. На этом я заснул. На душе сделалось необыкновенно легко и светло. Какая-то сила подымала меня все выше и выше, потоки света лились сверху и обдавали меня; я чувствовал, что скоро раздастся голос. Трепет проникал по всем жилам. Но в одну минуту все прекратилось; я не могу передать Вам, что со мной сделалось. Это было не привидение, а какая-то темная, непроницаемая завеса, которая вдруг опусти-
236
лась передо мной и разлучила меня с областью света. Что на ней было, я не мог разобрать; но в то же мгновение каким-то вихрем пронеслись в моей памяти все праздные минуты моей жизни, все мои бесплодные разговоры, мое суетное тщеславие, моя лень, мои привязанности к житейским дрязгам. Чего тут не было. Знакомые лица, с которыми, Бог знает, почему сходился и расходился, вкусные обеды, карты, биллиардная игра, множество таких вещей, о которых, по-видимому, никогда я не думаю и которыми, казалось, я нисколько не дорожу. Все это вместе слилось в какую-то безобразную массу, налегло на грудь и придавило меня к земле. Я проснулся с чувством сокрушительного стыда. В первый раз почувствовал себя я с головы до ног рабом жизненной суеты. Помните, в отрывках, кажется Иоанна Лествичника эти слова: «Блажен, кто видел ангела; стократ блаженнее, кто видел самого себя». Долго я не мог оправиться после этого урока, но потом жизнь взяла свое. Трудно было не забыться в той полноте невозмутимого счастья, которым я пользовался. Вы не можете понять, что значит эта жизнь вдвоем. Вы слишком молоды, чтобы оценить ее». Тут он остановился и несколько времени молчал, потом прибавил: «Накануне ее кончины, когда уже доктора повесили головы и не оставалось никакой надежды на спасение, я бросился на колени перед образом в состоянии, близком к исступлению и стал — не то, что молиться, а испрашивать ее у Бога. Мы все повторяем, что молитва всесильна, но мы сами не знаем ее силы, потому что редко случается молиться всей душой. Я почувствовал такую силу молитвы, которая могла бы растопить все, что кажется твердым и непреходимым препятствием; я почувствовал, что Божие всемогущество как будто вызванное мною, идет навстречу моей молитве и что жизнь жены может быть мне дана. В эту минуту черная завеса опять на меня опустилась; повторилось то, что уже было со мною в первый раз, и моя бессильная молитва упала на землю. Теперь вся прелесть жизни для меня утрачена. Радоваться жизни я не могу. Радость мне была доступна только через нее, как то, что утешало меня, отражалось на ее лице. Остается исполнить мой урок. Теперь, благодаря Богу, не нужно будет самому
237
себе напоминать о смерти, она пойдет со мной неразлучно до конца».
Я написал этот рассказ от слова до слова, как он сохранился в моей памяти; но, перечитав его, я чувствую, что не в состоянии передать того спокойно-сосредоточенного тона, которым он говорил со мной. Слова его произвели на меня глубокое впечатление именно потому, что именно в нем одном нельзя было предположить ни тени самообольщения. Не было в мире человека, которому до такой степени было противно и несвойственно увлекаться собственными ощущениями и уступить ясность сознания нервическому раздражению. Внутренняя жизнь его отличалась трезвостью — это была преобладающая черта его благочестия. Он даже боялся умиления, зная, что человек слишком склонен вменять себе в заслугу каждое земное чувство, каждую пролитую слезу; и когда умиление на него находило, он нарочно сам себя обливал струей холодной насмешки, чтобы не давать душе своей испаряться в бесплодных порывах и все силы ее направить на дело. Что с ним действительно совершалось все, что он мне рассказал, что в эти минуты его жизни самосознание его озарилось откровением свыше, — в этом я также уверен, как в том, что он сидел против меня, что он, а не кто другой говорил со мной.
Вся последующая его жизнь объясняется этим рассказом. Кончина Екатерины Михайловны произвела в ней решительный перелом. Даже те, которые не знали его очень близко, могли заметить, что с сей минуты у него остыла способность увлекаться чем бы то ни было, что прямо не относилось к его призванию. Он уже не давал себе воли ни в чем. По-видимому, он сохранил свою прежнюю веселость и общительность, но память о жене и мысль о смерти не покидала его. Сколько раз я замечал, по выражению его лица, как мысль эта перебивала веселую струю его добродушного смеха. Жизнь его раздваивалась. Днем он работал, читал, говорил, занимался своими делами, отдавался каждому, кому до него было дело. Но когда наступала ночь и вокруг него все улегалось и умолкало, начиналась для него другая пора. Тут подымались воспоминания о прежних светлых и счастли
238
вых годах его жизни, воскресал пред ним образ его покойной жены, и только в эти минуты полного уединения давал он волю сдержанной тоске.
Раз я жил у него в Ивановском. К нему съехались несколько человек гостей, так что все комнаты были заняты, и он перенес мою постель к себе. После ужина, после долгих разговоров, оживленных его неистощимой веселостью, мы улеглись, потушили свечи, и я заснул. Далеко за полночь я проснулся от какого-то говора в комнате. Утренняя заря едва-едва освещала ее. Не шевелясь и не подавая голоса, я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед походной своей иконой, руки были сложены крестом на подушке стула, голова покоилась на руках. До слуха моего доходили сдержанные рыдания. Это продолжалось до утра. Разумеется, я притворился спящим. На другой день он вышел к нам веселый, бодрый, с обычным, добродушным своим смехом. От человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь»...
Здесь перед нами мелькнули на миг сокровенные, интимные глубины, где высший подъем человеческого чувства прикасается к высшей и конечной Реальности, той Реальности, из которой оплодотворяется и получает смысл и жизнь отдельного человека и вся духовная и творческая традиция семьи и народа.
239
Страница сгенерирована за 0.14 секунд !
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
