13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Шестов Лев Исаакович
Шестов Л.И. Добро зело
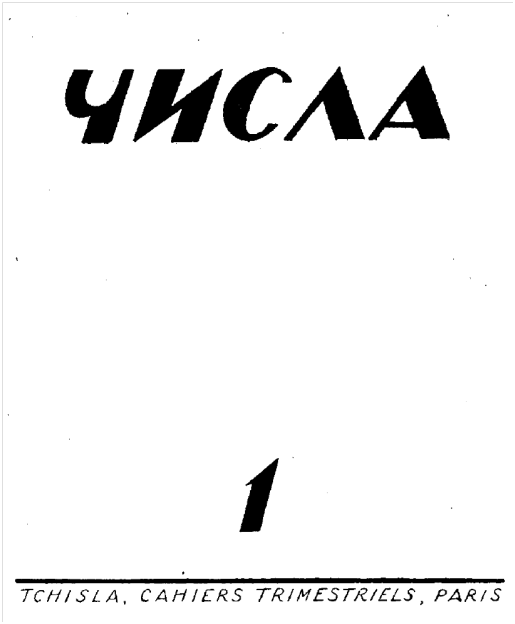
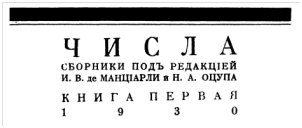
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
ЛЕВ ШЕСТОВ
ДОБРО ЗЕЛО
из книги „exercitia spiritualia“
Δοκεῖ, ἡ ἀνάγκη ἀμετάπειστόν τι εἶναι.
Аристотель, Метаф 1015 a 32
Если вы будете иметь веру в горчичное зерно, и скажете горе сей: перейди оттуда сюда; и она перейдет и не будет для вас ничего невозможного
(καὶ οὐδέν ἀδυνατήσει ὑμῖν ).
Матв. XVII, 20
I
Ο догматизме. В догматизме неприемлемо отнюдь не то, что он, как говорят, произвольно утверждает недоказанные положения. Может быть как раз наоборот: и произвол, и пренебрежение к доказательствам, располагали бы людей к догматизму. Ведь что бы там не говорили, люди по природе своей больше всего любят произвол и покоряются доказательствам только потому, что не в силах преодолеть их. Так что в догматизме можно было бы усмотреть великую хартию человеческих вольностей. Но он как раз этого боится больше всего на свете и всячески старается прикинуться таким же послушным и разумным, как и другие учения. Это лишает его всякого очарования. Больше того: вызывает к нему отвращение. Ибо, раз скрывает — значит стыдится и другим велит стыдиться. Стыдиться свободы и независимости — разве такое можно простить?
II
Свет знания. Сальери, рассказывает Пушкин, поверил алгеброй гармонию, но «творить» ему не было дано и он удивлялся, даже негодовал, почему Моцарту, который такой поверкой не занимался, удалось подслушать райские песни, а ему, Сальери, не удалось. Как будто выходит, что он был прав. «Гуляка праздный» попадает уже на земле хоть в преддверие рая, а добросовестный труженик все ждет у моря погоды — и не дождется. Но в старой книге сказано: пути Господа
169
неисповедимы. И, когда то люди понимали это, понимали, что путь в обетованную землю не открывается тому, кто проверяет алгеброй гармонию, вообще тому, кто «проверяет». Авраам пошел, сам не зная, куда идет. А, если бы стал проверять — никогда бы не дошел до обетованной земли. Стало быть проверки, оглядки — «свет» знания — не всегда ведет к лучшему, как нас учили и учат думать.
III
Принудительные истины. Огромное большинство людей не верят истинам той религии, которую они исповедуют: еще Платон говорил — τοῖς πολλοῖς ἀπιστία παρέχει — толпе присуще неверие. Поэтому, им нужно, чтоб окружающие верили в то же, во что они официально верят и говорили то же, что они говорят: только это и поддерживает их в их «вере», только в окружающей их среде они находят источники, из которых черпают твердость и крепость своих убеждений. И, чем менее убедительными кажутся им откровенные истины, тем важнее для них, чтоб этих истин никто не оспаривал. Оттого обычно самые неверующие люди — самые нетерпимые. Так что, если критериумом обыкновенных научных истин является возможность сделать их для всех обязательными, то для истин вере приходится сказать, что они только в том случае есть настоящие истины, если они могут и умеют обходиться без согласия людей, когда они равнодушны и к признанию и к доказательствам. Положительные религии, однако, такие истины не очень высоко расценивают. Они хранят и их, т. к. без них обойтись не могут, но опираются на такие истины, к которым всякого можно принудить и даже истины откровения ставят под охрану закона противоречия, чтоб они были не хуже всякой другой истины. Католичеству, как известно, охрана закона противоречия показалась недостаточной и оно выдумало инквизицию, без которой, конечно, оно не сыграло бы своей огромной исторической роли. Оно охраняло себя «нетерпимостью» и даже ставило себе в заслугу свою нетерпимость — ему и на ум не приходило, что то, что нуждается в защите закона противоречия или палачей и тюремщиков находится за пределами божественной истины и что спасает людей то, что, на наши мерки представляется наиболее слабым, непрочным и незащищенным. В противоположность истинам позна-
170
ния истины веры узнаются по тому признаку, что они не знают ни всеобщности, ни необходимости, ни сопутствующей всеобщности и необходимости принудительности. Они свободно даются, свободно принимаются, ни пред кем не отчитываются, никем не регистрируются, никого не пугают и сами никого не боятся.
IV
Автономная мораль. Автономная мораль получила, как известно, свое наиболее полное и законченное выражение в учении Сократа, утверждавшего, что добродетель не нуждается в воздаянии, и что — все равно, смертна или бессмертна душа — хороший человек получает все, что ему нужно от «добра». Но, я думаю, что Сократ (как и Кант, который в «критике практического разума» шел по стопам Сократа) не был достаточно последователен и что «добро» такими изъяснениями покорности не удовлетворится. Нужно сделать еще один шаг, нужно признать, что бессмертие души совсем не для чего «хорошему» человеку — и от бессмертия совсем отказаться. Т.-е. признать, что Сократ — смертен, ибо уже здесь на земле получил от «добра» все, чего он мог желать, а бессмертен Алкивиад и ему подобные, которым «добро» ничего не дает или дает очень мало и которые существуют по воле иного начала, в этой, земной, жизни не успевающего осуществить свои обещания и откладывающего неосуществленное до встречи в иной жизни. Такое признание, только такое признание может дать настоящее удовлетворение «добру» и положить конец спорам об автономной и гетерономной морали. Люди типа Сократа, добровольно приявшие «добро» за высшее начало тоже добровольно отказываются и от загробной жизни, им совершенно не нужной, в пользу людей типа Алкивиада, которые, как подчиненные иному началу, чем Сократовское добро, вправе и ждать и требовать себе продолжения существования и после смерти. Конечно, с точки зрения Сократа, Алкивиады все-таки прогадают: сто самых счастливых и удачных жизней без «добра» не стоят одной, самой трудной и горестной, но в добре. А философия, наконец, сможет торжествовать свою полную победу: и Сократы, и Алкивиады получат полное удовлетворение и всякие споры прекратятся.
171
Мышление и бытие. Чем больше приобретаем мы положительных знаний, тем дальше мы от тайн жизни. Чем больше совершенствуется механизм нашего мышления, тем трудней становится нам подойти к истокам бытия. Знания отягчают нас и связывают, а совершенное мышление превращает нас в безвольные, покорные существа, умеющие искать, видеть и ценить в жизни только «порядок» и установленные «порядком» законы и нормы. Вместо древних пророков, говоривших, как власть имеющие, нашими учителями и руководителями являются ученые, полагающие высшую добродетель в послушании не ими созданной и никого и ничего не слушающей необходимости.
VI
Четвертое Евангелие. Когда в четвертом Евангелии «доказывается» божественность Иисуса и доказывается теми же способами, какими у греков доказывалась всякая истина, ссылками на факты, диалектикой и моральными соображениями, основанными на том, что, как учил еще Сократ, с добрым человеком не может приключиться ничего дурного, а дурному не дано проникнуть в область «добра» или, как потом учили стоики, что summum bonum в том, что «зависит от нас», чувствуется, что автор под напором фактов и связанных с фактами очевидностей усомнился во всемогуществе Божием и старается скрыться от действительности, убежав от мира, в котором он, пока в нем остается, принужден не повелевать и распоряжаться, а слушаться и покорствовать. Иисус «не от мира сего» и его царство «не от мира сего» — ибо с этим миром он не в силах справиться. То же чувство определило собой искания и учения гностиков и Маркиона. Иисус четвертого
172
Евангелия не Бог, не сын Божий, пришедший к людям и распоряжающийся миром, а человек, такой же слабый и беспомощный, как и те, к которым он пришел, но только постигший свою немощность и невозможность изменить или подчинить себе не им созданные «онтологические категории» и потому принявший великое и страшное решение отвернуться раз навсегда от мира, ему непокорного и уйти в мир, им самим созданный и ему послушный, В этом «благая весть» четвертого Евангелия, в этом смысл споклонения в духе и истине». Оттого четвертое Евангелие так любят и ценят неверующие (Фихте, Гегель, Ренан, Гарнак, Толстой) и оттого оно внушало такой ужас верующим или желавших верить и иной раз (Нитше, Розанов) отторгало совсем от Св. Писания. Но ведь Св. Писание — не четвертое Евангелие. И Христос христианства не немощный Бог. Есть еще псалмы, пророки, синоптические евангелия, послания, апокалипсис. Апокалипсис есть откровение того-же Св. Иоанна, который является автором четвертого Евангелия, хоть историки и не признают этого. И не нужно тоже считаться с тем, что богословы всегда преимущественно опирались на четвертое Евангелие. Богословие, ведь есть наука о вере. А наука должна «доказывать» и, стало быть, без разумных доводов обойтись не может, вернее, всегда сводит «откровение» к разумным доводам: богословию нужен не Бог, a verbum Dei и Deus dixit.
VII
Свое и чужое. Когда человек глядит на «свое», он его «понимает» и даже одобряет. Но чужое, хотя оно такое же, как свое, часто представляется ему отвратительным. Свои раны мы разглядываем, от чужих отворачиваемся. Когда же мы научаемся быть объективными, нам и свое начинает казаться таким же противным, как чужое. Стало быть? Может быть два стало быть: или нужно бросить объективность или научиться чужое разглядывать, как свое, не бояться чужих ран и чужого безобразия. Объективность вовсе не есть несомненный путь к истине. И страх — всегда плохой советчик.
VIII
Порок нашего мышления. В теории познания царствует идея необходимости, в этике — потускневшая и ослабевшая необходимость: долженствование. Иначе современная мысль не может сдвинуться с места.
173
Удачи и неудачи. Платон утверждал, что древние, блаженные мужи были лучше нас я жили ближе к Богу. Похоже, что это правда. Во всяком случае, кто изучал историю философии никак не скажет, что тысячелетия напряженнейшие искания человеческого ума приблизили нас к последней истине, к вечным источникам бытия. Но эта тысячелетняя, ни к чему не приводящая и потому многим кажущаяся напрасной борьба человеческой души с вечной тайной может служить порукой, что постигающие философию неудачи не обескуражат людей и на будущее время. Приближаемся ли мы к Богу или отдаляемся, становимся ли мы лучше или хуже наших далеких и близких предков, — от исканий, от борьбы нам не дано отказаться. По-прежнему будут неудачи, но по-прежнему неудачи не остановят новых попыток. Человеку нельзя остановиться, нельзя перестать искать. И в этом сизифовом труде — великая загадки,-которую нам тоже вряд ли удастся разгадать, но которая невольно наводит на мысль, что в общей экономии человеческого делания удачи не всегда имеют определяющее и решающее значение. Положительные науки привели к несомненным и огромным результатам, метафизика не дала ничего прочного, ничего верного. И все-же, может быть, метафизика в каком то смысле нужнее и значительнее положительных наук, и неудачные попытки продвинуться в область вечно для нас скрытого ценнее удачных попыток изучить то, что лежит на виду, при некоторой настойчивости, открывается веем людям. Если это гак, то кантовские возражения против метафизики сами собой отпадают. Метафизика не дала ни одной общеобязательной истины —это правда. Но это не есть возражение. «По самой своей природе» метафизика не хочет и не должна давать общеобязательные истины. Того больше: в ее задачи входит обесценивать и те истины, которые науками добываются и самую идею общеобязательности, как признака истины. Так что, если уже пошло на то, чтоб, как хотелось Канту, свести на очную ставку метафизику с положительными науками, то вопрос нужно обернуть и спросить приблизительно так: метафизика, отыскивая источник бытия, не нашла всеобщей и необходимой истины; положительные науки, исследуя то, что из этого источника вытекло, нашли много «истин». Не значит ли это, что истины положи-
174
тельных наук есть истины ложные, или, по крайней мере, скоропреходящие, мгновенные?..
Я думаю, что после Канта нельзя подходить к философии или проблемам, не освободившись предварительно от созданного им гипноза о связи и взаимоотношениях метафизики и положительных наук. В противном случае все наши попытки судить о последних вопросах бытия заранее осуждены на бесплодие. Мы все будем бояться неудач и, вместо того, чтоб приближаться к Богу, будем уходит от Него. Все вероятия, что Платон именно потому и считал древних мужей блаженными, что они были свободны от страхов пред положительными истинами и не знали еще тех цепей познания, которые он так мучительно чувствовал на себе.
X
Эмпирическая личность. Те редкие мгновения, когда очевидности теряют власть над человеком, как использовать их для философии? Они предполагают особого рода душевные состояния, при которых то, что всегда нам кажется наиболее значительным, существенным, даже единственно реальным, вдруг начинает казаться неважным, ненужным, даже призрачным. А философия хочет быть объективной и пренебрегает «душевными состояниями». Значит, если погонишься за объективностью — неизбежно попадешь в лапы самоочевидностей, захочешь освободиться от самоочевидностей, придется, прежде всего, вопреки традициям, пренебречь объективностью. Конечно, вообще говоря, никто на последнее не пойдет. Всякому лестно добыть такую истину, которая хоть немножко, хоть чуточку будет истиной для всех. Только наедине с собой, под непроницаемым покровом тайны индивидуального бытия (эмпирической личности) мы иногда решаемся отречься от тех действительных и мнимых прав и преимуществ, которые нам даются принадлежностью к общему для всех миру. Тогда вспыхивают пред нами последние и предпоследние истины — но они нам самим кажутся больше похожими на сновидения, чем на истины. Мы легко забываем их, как забываем сновидения. А, если и сохраняем о них смутные воспоминания, то не знаем, что делать с ними. Да, по правде сказать, с такими истинами и делать нечего. Разве что пере-
175
водить их на музыку слов и ждать, пока другие, которые только понаслышке, а не по собственному опыту, знают о такого рода видениях, придадут им форму суждений и, убивши их, сделают их всегда и для всех нужными, т. е. понятными и тоже «очевидными». Но, это, ведь, будут совсем не те истины, которые нам открылись. И они уже принадлежат не нам, а всем, тому «всемству», которое так ненавидел Достоевский и которое Соловьев, друг и ученик Достоевского, желая угодить традиционной философии и традиционному богословию, под менее одиозным названием соборности, сделал краеугольным камнем своего мировоззрения. Тут и выявляется основная противоположность между «мышлением» Достоевского с одной стороны и мышлением той школы, в которой получил свою выучку Соловьев. Философия Достоевского была бегством от всемства к себе. Соловьев же, наоборот, бежал от себя ко всемству. Для него живой человек, то, что школа называет эмпирической личностью, казался главным «препятствием на пути к истине. Он думал или, лучше сказать, утверждал (кто может знать, что человек думает?), как и те, у которых он учился, что пока не выкорчуешь из себя своей «самости» (т. е. не преодолеешь и не уничтожишь своей эмпирической личности) истины не увидишь. А Достоевский знал, что Истина открывается эмпирической личности и только эмпирической личности...
XI
Диалектика. Мышление, учил Платон, есть неслышная беседа души с собой. Конечно, если мышление есть мышление диалектическое. Тогда, даже оставаясь наедине, человек не может молчать и продолжает разговаривать: ему все мерещится противник, которому нужно что-то доказать, которого нужно убедить, принудить, вырвать у него согласие. Последний великий платоник, Плотин, однако такого мышления уже не выносил. Он хотел истинной свободы, при которой ни сам не принуждаешь, ни тебя не принуждают. И разве, в самом деле, представление о такой свободе есть только фантазия? И, наоборот, разве идея принуждающей необходимости, которой живет диалектика, так уже непреоборима? Конечно, доказывать и принуждать может только тот, кто взял в руки меч необходимости. Но, поднявший меч от меча и погиб-
176
нет. Кант только потому и мог погубить метафизику, что метафизика хотела принуждать. И до тех лор, пока метафизика не решится бросить оружие, она будет оставаться рабой и прислужницей положительных наук. Мышление не есть беседа души с собой, мышление есть, вернее может быть, много большим, чем беседа и обходится без диалектики. Об этом сказано у Пушкина: Он вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый.
XII
Идея всеединства. Мы живем и в тесноте, и в обиде. Просторнее нам не дано устроиться и, потому, мы стараемся завести порядок, чтоб хоть поменьше обид было. Но, зачем приписывать Богу, который не ограничен ни пространством, ни временем, ни чем иным такую же любовь и такое же уважение к порядку? Почему вечно говорят о всеединстве? Если Бог любит людей, для какой надобности ему покорят их своей божественной воле — и отнимать у них собственную волю, самое драгоценное из того, чем он их одарил? Нужды нет никакой. Стало быть идея всеединства есть идея совершенно ложная, т. к. философия обычно без этой идеи обойтись не может, то — второе стало быть — наше мышление поражено тяжкой болезнью, от которой мы должны стараться всеми силами избавиться. Мы все заботимся о гигиене нашей души, в уверенности, что наш разум здоровый. Но, начинать надо с разума — и разум должен возложить на себя целый ряд обетов. И первый обет — воздержания от слишком широких притязаний. О единстве или даже о единствах — куда ни шло — ему еще разговаривать не возбраняется. Но от всеединства — придется отказаться. И потом еще кой от чего. И как облегченно вздохнут люди, когда они вдруг убедятся, что живой, настоящий Бог ни мало не похож на того, которого им до сих пор показывал разум.
XIII
Что такое истина? Говорить пред камнями, в надежде, что они, наконец, грянут тебе, как св. Беде, аминь? Или пред животными, в расчете, что твой дар очарует их — ведь когда-то Орфей обладал таким даром — и они поймут? Люди, ведь, наверное,
177
даже не услышат: они так заняты — делают историю — до истины ли им! Все знают, что история куда важнее, чем истина. Отсюда новое определение истины: истина есть то, что проходит мимо истории и чего история не замечает.
XIV
Логика и громы. Феноменология, говорят верные ученики Гуссерля, не знает различия между homo dormiens (спящим человеком) и homo vigilans (бодрствующим человеком). Не знает, конечно, — и в этом незнании источник ее силы и убедительности: оттого она напрягает все свои силы, чтоб обеспечить себе эту docta ignorantia. Ибо, как только она почувствует, что не то, что homo vigilans — бодрствующий человек (таких на земле, по-видимому, никогда не было), но даже человек только начинающий пробуждаться от сна toto coelo отличен от спящего — конец всем ее благополучиям.
Спящий человек стремится, сознательно и бессознательно, видеть в условиях, в которых протекают его сновидения, единственно возможные условия бытия. Поэтому он их называет самоочевидностями и всячески оберегает и защищает их (логика, теория познания: дары разума). Когда же наступает момент пробуждения (доносятся раскаты грома: откровение) приходится усомниться в самоочевидностях и начать ни на чем не основанную борьбу с ними, т. е. делать то, что спящему представляется пределом бессмыслицы — ведь ничего бессмысленнее и быть не может, чем отвечать на логику громами.
XV
Протагор и Платон. Протагор утверждал, что человек есть мера всех вещей, Платон — что Бог. На первый взгляд представляется, что истина Протагора есть истина низкая, а Платона — возвышенная. Но, ведь, сам же Платон в другом месте говорил, что боги не философствуют, не ищут мудрости — ибо они мудры. А что такое философствовать, искать истину? Разве это не все равно, что» «мерить» вещи? И разве такое занятие, в самом деле, не больше приличествует слабым и немудрым смертным, чем могущественным и всезнающим богам?
178
Задачи философии. Философы стремятся «объяснить» мир, чтоб все стало видным, прозрачным, чтоб в жизни ничего не было или было бы как можно меньше проблематического и таинственного. Не следовало ли бы, наоборот, стремиться показывать, что даже там, где все людям представляется ясным и понятным, все необычайно загадочно и таинственно? Самим освобождаться и других освобождать от власти понятий, своей определенностью убивающих тайну. Ведь истоки, начала, корни бытия — не в том, что обнаружено, а в том, что скрыто: Deus est Deus absconditus.
XVII
Возможное и невозможное. Круглый квадрат или деревянное железо есть бессмыслица и стало быть есть невозможное, ибо такие сочетания понятий сделаны вопреки закону противоречия. А отравленный Сократ не есть бессмыслица и стало быть такое возможно, ибо на такое соединение понятий закон противоречия дал свое соизволение. Спрашивается: нельзя ли упросить или заставить закон противоречия изменить свои решения? Или нельзя ли найти такую инстанцию, которая вправе отменить его постановления? Так, чтоб вышло, что отравленный Сократ — есть бессмыслица и стало быть Сократа не отравили, а деревянное железо не есть бессмыслица и стало быть возможно, что где-нибудь деревянное железо и разыщется. Или даже так: уступить закону противоречия и железо, и квадрат — пусть он себе тут распоряжается, как хочет — но на условии, чтоб он признал, что отравленный Сократ тоже заключает в себе противоречие и потому Сократа, вопреки всем свидетельствам, никогда не отравляли. Такими вопросами должна была бы быть озабочена философия и, в прежние времена, она ими была озабочена. Но, сейчас о них совершенно забыли.
XVIII
Единое на потребу. Равняйте пути Господу! Как равнять? Соблюдать посты, праздники? Отдавать десятину или даже все
179
имущество бедным? Умерщвлять свою плоть? Любить ближнего? Читать ночи напролет старые книги? Все это нужно, все это хорошо, конечно. Но не это главное. Главное научиться думать, что, если бы все люди, до последнего человека, были убеждены, что Бога нет — это ровно ничего не значит. И, если бы можно было доказать как дважды два четыре, что Бога нет — это тоже ничего не значило бы. Скажут, что такого нельзя требовать от человека. Конечно, нельзя! Но Бог всегда требует от нас невозможного «и в этом его главное отличие от людей. Или может наоборот — не даром ведь сказано, что человек создан по образу и подобию Божию — не отличие, а сходство с человеком. Человек вспоминает о Боге, когда хочет невозможного. За возможным он обращается к людям.
XIX
Неуместные вопрошания. Я знаю, говорит бл. Августин, что такое время, но когда меня спрашивают, что такое время, я не умею ответить, и выходит, что я не знаю. И то, что Августин говорит о времени, можно о многом сказать. Есть разные вещи, о которых человек знает, пока его не начинают или он сам себя не начинает допрашивать. Знает человек, что такое свобода, но спросите его, что такое свобода, он запутается и не ответит вам. Знает он тоже, что такое душа — но психологи, т. е. ученые, люди, особенно твердо убежденные, что спрашивать всегда полезно и уместно, дошли до того, что создали «психологию без души». Из этого бы следовало заключить, что наши методы разыскания истины не так уже безупречны, как мы привыкли думать — и что иной раз неумение ответить на вопрос свидетельствует о знании, а нежелание спрашивать — о близости к истине: но такого заключения никто не делает. Это значило бы смертельно обидеть Сократа, Аристотеля, всех современных составителей книг «науки о логике», а с сильными мира, мертвыми и живыми, кому охота ссориться?
XX
Еще о неуместных вопрошаниях. Среди бесчисленных априорных или самоочевидных истин, которыми, как все ду-
180
мают держится, но в которых, на самом деле, запуталась человеческая мысль, наиболее прочно установилось положение, что вопросы задаются только для того, чтоб получить на них ответы. Когда я спрашиваю, который час, чему равна сумма углов в треугольнике, каков удельный вес ртути, справедлив-ли Бог, свободна-ли воля, бессмертна-ли душа, я хочу — так ясно всякому — чтобы мне на все эти вопросы дали точные ответы. Но вопрос вопросу — рознь. Кто скрашивает, который час или каков удельный вес ртути, тому точно нужно и достаточно, чтоб ему определенно ответили. Но, кто спрашивает справедлив ли Бог или бессмертна-ли душа, тот хочет совсем другого — и ясные и отчетливые ответы приводят его в бешенство или отчаяние. Как это растолковать людям? Как объяснить им, что где-то, за какой то чертой человеческая душа на столько перестраивается, что даже «механизм» мышления становится иным? Или, вернее сказать, что хоть мышление и сохраняется, но для механизма совсем не остается места.
XXI
Мораль рабов и господ. Сократ повиновался своему демону и при нем был демон, который им распоряжался. Алкивиад-же, хоть он и очень чтил Сократа, по-видимому, демона при себе не держал или, если и держал, то не повиновался ему. Спрашивается, как быть философии, которая хочет установить «феномен» морали и описать его? Равняться по Сократу или по Алкивиаду? Если по Сократу, то присутствие демона и готовность беспрекословно исполнять все его веления будет считаться признаком нравственного совершенства, и Алкивиад попадет в разряд безнравственных людей. Если по Алкивиаду — получится обратное: осудят Сократа. Вопрос, надеюсь, законный. Тоже надеюсь, что традиционной философии с ним никогда не справиться. Оттого она его и не ставит. Иными словами, прежде чем описывать феномен морали, она уже знает и что такое мораль и как ее описывать нужно. Но, ведь, может быть, что Алкивиада с Сократом никак не загонишь в одну категорию. Non pari conditione creantur omnes: aliis vita aeterna, aliis damnatio aeterna praeordinatur. 1) Сократу
1) He все люди создаются одинаково: одним предназначена вечная жизнь, другим вечная гибель. (Кальвин).
181
полагается (дано) идти на поводу у демона, Алкивиаду полагается (дано) вести демона за собой. Нитше был гораздо ближе к христианству, когда говорил о морали рабов, чем это казалось его обличителям.
XXII
В ы б о р. Появление человека на земле есть нечестивое дерзновение. — Бог создал человека по своему образу и подобию и, создавши, благословил его. Если вы примете (изберете) первое положение — вашей философской задачей будет катарсис, т. е. стремление выкорчевать из себя свою «самость». Основная проблема ваша будет проблема этическая и онтология вами будет пониматься, как нечто производное от этики: бытие окажется в границах мышления. Идеалом вашим будет царство разума, доступ к которому открыт всякому, кто готов пренебречь дарами Бога, видя, по примеру Гегеля, в них «насилие над духом». Если примете второе положение, плоды с дерева познания добра перестанут прельщать вас, вы будете рваться «по ту сторону добра и зла», вас вечно будет тревожить анамнезис (воспоминание) о том, что видел первый человек, ваш отдаленный предок и торжественные гимны разума и разуму будут вам казаться скучными песнями земли, а его истины — стенами тюрьмы. Плотин стыдился своего тела, библейские люди стыдились и боялись своего разума. Есть все основания думать, что Нитше оттого отвернулся от современного христианства, что оно видело в разуме, как Спиноза, lucem divinam et donum maximum и истолковало библейское сказание о грехопадении в том смысле, в каком грехопадение понималось Эллинами. Я бы сказал то же и о Достоевском, но мне никто не поверит. Все убеждены, что Достоевский написал только несколько десятков страниц — об старце Зосиме, Алеше и те статьи в «дневнике писателя», в которых он своими словами излагает мысли славянофилов, а «Записки из подполья», «Сон смешного человека», «Кроткую» и вообще девять десятых того, что напечатано в полном собрании его сочинений написано не им, а каким то «господином с ретроградной физиономией» и только для того, чтоб Достоевский мог должным образом возразить ему.
182
XXIII
О г л я д к a. Наше мышление есть, по самому существу своему, оглядка — по-немецки Besinnung. Оно родилось из страха, что за нами, под нами, над нами есть что-то, что нам угрожает. И, в самом деле, как только человек начинает оглядываться, он «видит» страшное, опасное, грозящее гибелью. Но, если — согласятся сделать такое допущение? — страшное только тогда и тому страшно, кто оглядывается ? Голова Медузы ничего не может сделать человеку, который идет вперед и не оглядывается и превращает в камень всякого, кто повернется к ней лицом. Мыслить, не оглядываясь, создать «логику» не оглядывающегося мышления — поймет-ли когда-нибудь философия, поймут-ли философы, что в этом первая и насущнейшая задача человека, — путь к «единому на потребу»? Что инерция, закон инерции, лежащий в основе оглядывающего мышления с его вечными страхами пред возможностью неожиданного никогда не выведет нас из того полусонного почти растительного существования, на которое мы обречены историей нашего духовного развития?
XXIV
Комментарийкпредыдущему.Еще за десять лет до опубликования «Критики чистого разума», Кант писал своему другу Герцу: «in der Bestimmung des Ursprungs und der Gültigkeit unserer Erkenntnisse Deus ex machina das Ungereimteste ist, was man nur waehlen kann, das ausser dem betrügliehen Zirkel in der Schlussreiche noch das Nachteilige hat, dass er jeder Grille oder andaechtigen oder grüblerischen Hirngespinst Vorschub gibt». И еще: «Zu sagen, dass ein höheres Wesen in uns schon solche Begriffe und Grundsaetze (т. e., что Кант называет «синтетическия суждения а priori») weislich gelegt habe heisst alle Philosophie zugrunde richten». И вся «критика чистого разума», все «мировоззрение» Канта покоится на этом фундаменте. Откуда взялась у Канта уверенность, что Deus ex machina или «höheres Wesen» есть самое нелепое допущение, принятие которого разрушило бы в самом основании философию? Кант, как известно, неоднократно сам повторял, что метафизические проблемы сводятся к проблемам Бога, бессмертия души и
183
свободы. Но, после такой подготовки, что может философия сказать о Боге? Раз вперед известно, что Deus ex machina, он же das höhere Wesen есть нелепейшее допущение, раз человек вперед «знает», что допустить вмешательство высшего существа в жизнь значит положить конец всякой философии — метафизике уже больше и делать нечего. Ей уже вперед внушили, что Бог — а вслед за Богом и бессмертие души, и свободная воля есть произвольная выдумка и фантазия (Hirngespinst und Grille), а стало быть и сама метафизика есть тоже только чистейший произвол и фантазия. Но, опять спрошу, кто внушил Канту (а, ведь, Кант — это «все мы», Кант говорит за «всех нас») такую уверенность? Кого спросил он про Deus ex machina, т. е. про höheres Wesen? Ответ один: Кант философию понимал (тоже, как и все мы), как оглядку, как Besinnen. Оглядка же предполагает, что то, на что мы оглядываемся, имеет навеки неизменную структуру, и что ни человеку, ни «высшему существу» не дано вырваться из власти не им и не для него заведенного «строя бытия». Каков бы ни оказался этот сам, собой заведшийся порядок — он есть неизменно-данное, которое нужно принять и с которым нельзя бороться. Самая идея борьбы Канту (и нам всем) кажется бессмысленной и недопустимой. Недопустимой не только потому, что мы заранее обречены на поражение, что такая борьба безнадежна — но и еще потому, что она безнравственна, свидетельствует о возмущенности, мятежности, корыстности нашей (каприз, своеволие, фантазия — говорит Кант, которому, как и всем нам, внушено и потому доподлинно известно, что все это куда хуже, чем необходимость, покорность, закономерность). И, действительно, стоит оглянуться как сразу становится видным (интуиция), что нельзя и не должно бороться, что нужно покориться. «Вечный порядок», точно обвитая змеями голова Медузы, парализует не только человеческую волю, но и человеческий разум. И, т. к. философия всегда была и поднесь продолжает быть «оглядкой», то все наши последние истины оказываются не освобождающими, а связывающими истинами. Философы много говорили о свободе, но почти никто из них не смел желать свободы и все искали необходимости, которая полагает конец всяким исканиям, ибо ни с чем не считается (ἡ ἀνάγκη ἀμετάπειστόν τι εἶναι — так формулировал Аристотель). Бороться с Медузой и ее змеями (аристотелевская ἀνάγκη, вспушившая и ему, и Канту такой страх пред ка-
184
призом и фантазией) может только тот, кто найдет в себе смелость идти вперед, не оглядываясь. И, стало быть, философия должна быть не оглядкой, не Besinnen, как мы приучены думать, — оглядка есть конец всякой философии, — а дерзновенной готовностью идти вперед, ни с чем не считаясь, и ни на что не оглядываясь. Оттого божественный Платон говорил: πάντα γὰρ τολμητέον — на все нужно дерзать, не боясь, прибавлял он, прослыть бесстыдным. Оттого и Плотин оставил нам завет: ἀγών μέγιστος καὶ ἔσχατος ταῖς ψοχαῖς πρόκειται — великая и последняя борьба предстоит душам. Философия — есть не Besinnen, а борьба. И борьбе этой нет и не будет конца. Царство Божие, как сказано, берется силой.
XXV
Обладающие сознанием камни. Спиноза утверждал, что если бы камень обладал сознанием, то ему казалось бы, что он падает на землю свободно. Но Спиноза ошибался. Если бы камень обладал сознанием, то он был бы уверен, что падает в силу необходимости каменной природы всего сущего. «Из этого следует», что идея необходимости только и могла возникнуть и окрепнуть в одаренных сознанием камнях. И, т.к. идея необходимости пустила столь глубокие корни в человеческих душах, что представляется всем премирной и первозданной, — без нее же невозможно ни бытие, ни мышление то из этого тоже следует заключить, что огромное, подавляющее число людей — не люди, как это кажется, а обладающие сознанием камни. И это большинство, эти одаренные сознанием камни, которым все равно, но которые мыслят, говорят и действуют по законам их каменного сознания, они то и создали то окружение, ту среду, в которой приходится жить всему человечеству, т. е. не только обладающим и не обладающим сознанием камням, но и живым людям. Бороться с большинством очень трудно, почти невозможно, особенно в виду того, что камни более приспособлены к условиям земного существования и всегда легче выживают. Так что людям приходится применяться и подлаживаться к камням и признавать за истину, даже за добро то, что кажется истиной и добром каменному сознанию. Похоже, что приведенные размышления Канта о Deus ex machina, как и Спинозовская sub specie aeter-
185
nitatis seu necessitatis, как н все наши идеи о принуждающей истине и принуждающем добре внушены живым людям смешавшимися с ними одаренными сознанием камнями.
XXVI
De servo arbitrio.Хотя, no преданию, Сократ, читая первые произведения Платона, сказал: сколько этот юноша налгал на меня, все же Платон и много правды о Сократе нам рассказал. Тон и содержание защитительной речи Сократа переданы, по моему, в «Апологии» правильно. Наверное, Сократ сказал судьям своим, что принимает их приговор, Очевидно, он, по требованию своего демона, принужден был покориться приговору, который считал несправедливым и возмутительным, и покориться не внешне, а внутренне. И все же, если Сократ и покорился, нас это ни мало не обязывает к покорности. За нами остается право, и, — кто знает? — даже возможность отбить Сократа у судьбы — вопреки всему, что он говорил, даже вопреки его желанию. Против его воли вырвать его из рук афинян. И, если мы( или не мы, а кто-нибудь, кто нас посильней) насильно вырвал его, будет-ли это значить, что мы отняли у него «свободу воли»? Как будто отняли: не спрашивая его, вопреки ему вырвали. И все же «воли» мы у него не отняли — вернули ему... Sapienti sat или нужно» еще разъяснять? Если не достаточно — прибавлю: все учение Лютера о servo arbitrio, Кальвина о предопределении и даже Спинозы о «необходимости», только к тому и шло, чтобы отогнать от Сократа его демона, который внушал ему, что судьбе нужно покоряться не за страх, а за совесть. Аристотель, конечно, прав, утверждая, что необходимость не слушает убеждений. Но разве из этого следует, что необходимость нужно возлюбить всем сердцем и всей душой, и подчиняться ей за совесть? За страх — дело иное, но совесть всегда будет против всякого принуждения. И «наша совесть», совесть, которая учит «покоряться» и «примиряться» есть только загримированный и переодетый страх, Так что, если нам удается отогнать от Сократа его демона, если мы (или опять: не мы, нам такая задача не по плечу) насильно вырвем его из рук и власти «истории», мы только вернем ему свободу, которую живой человек, в глубине своей души (в той глубине, до которой свет «нашей совести» и все «наши» светы никогда не доходят и где власть демонов кончается) больше все-
186
го на свете ценит и любит — ценит и любит даже тогда, когда клеймит ее во всеуслышание, как произвол, каприз или корысть.
XXVII
Добро зело. Вкнигеодногоизсамыхзамечательныхсовременныхфилософовмычитаем: «die alte ontologische Warheit, das die Erkenntniss der Möglichkeiten der der Wirklichkeiten vorhergehen müsse... ist eine grosse Warheit» (Husserl, Ideen, 159). Точно, учение древнее, очень древнее. Когда Аристотель утверждал, что ἠ ἀνάγκη ἀμετάπειστόν τι εἶναι 1) он исходил из этой онтологической истины. От своих великих предшественников он унаследовал непоколебимое убеждение, что есть граница возможного и что на этой границе поставлена бдительная и неусыпная ἀνάγκη, 2) которой нет ни до чего дела и которая не пускает человека туда, где находится то, что ему больше всего на свете нужно. Аристотель и сам порой тяжко вздыхал под бременем этой ничего не слышащей необходимости: «все насильно (навязанное) называется необходимостью (τό γὰρ βίαιον ἀναγκαῖον λέγεται) и потому обидно, как и говорит Эвден: «всякое испытанное принуждение больно и обидно» (Met, 1015а 30). Но, по поговорке — стерпится, слюбится, Аристотель сперва примирился с необходимостью, а потом возлюбил и стал всячески прославлять ее. Παρμενίδης, пишет он в одном месте, ἀναγκαζόμενος ἀκολουθεῖν τοῖς φαινομένοις: Парменид, принужденный следовать за явлениями, (Met, 986b 25), и в другом месте, говоря о том же Пармениде и других великих философах, опять пишет: ἀναγκαζόμενοι ὑπ’ αὐτῖς τῆς ἀληθείας (т. е. принуждаемые самой истиной). Идея истины для него (а после него и для всех нас) сливается с идеей необходимости. Необходимость принуждает, и истина принуждает. Необходимость ничего не слушает и не слышит, и истина ничего не слушает и не слышит. И святая обязанность философа (Парменида и др.) покорствовать необходимости, ибо только через добровольную покорность необходимости, которой до нас нет никакого дела, мы можем прийти к истине, которой тоже до нас нет никакого дела. И уже не больно и не обидно покоряться, а радостно и приятно. Так учил
1) Необходимость не слушает убеждений.
2) Необходимость.
187
Аристотель, так учили и учат все философы — вплоть до наших современников. Истина, опираясь на необходимость, принуждает, Парменид, не будучи в состоянии преодолеть необходимость, покоряется: в этом вся древняя и новая «мудрость» — т. е. все «знание» и вся «добродетель» смертных.
Но ест другая, тоже очень древняя, еще более древняя «мудрость». В Книге Книг написано: «если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда; и она перейдет и не будет для вас ничего невозможного» (οὐδέν ἀδυνατήσει ὑμῖν, Мат. 17, 20, Марк. 11, 23, Лук. 1, 6). По слову человека, будут передвигаться горы и не будет для него ничего невозможного. Так что не Παρμενίδης, ἀναγκαζόμενος ὑπ’ αὐτης τῆς ἀληθείας — не Парменид будет принуждаться истиной, а истина будет идти покорно за Парменидом. Где правда? У Аристотеля или в Книге Книг? И философия, которая стремится пройти к «началам, истокам, ριζώματα πάντων, к корням всего» (так определяет философию Гуссерль — и это тоже очень древнее определение) — чего должна добиваться и искать она: познания возможного и невозможного, принудительно навязываемого безразличной ко всему ἀνάγκη или того чудесного горчичного зерна, при котором принуждающее познание становится излишним, ибо не будет ничего невозможного? Куда, к кому, с этим вопросом обратиться? Явно, что некуда и не к кому: все инстанции пройдены. Стало быть? Но, ведь, и все «стало быть» тоже позади остались, вместе с ’Ανάγκη.1) Где нет ничего не слышащей Ἀνάγκη ,там кончаются и нудящие «стало быть». Там уже говорит не Παρμενίδης ἀναγκαζόμενος, не нудимый Парменид, не принуждаемый, — а Парменид принуждающий, повелевающий и над самой истиной, и над скрывающейся под истиной Ἀνάγκη. Там по слову, по воле, по капризу живого человека сдвигаются горы. Там не только для Бога, но и для вас — ὑμῖν — для простых смертных кончается принуждение, там нет ничего невозможного... Там прозвучало и продолжает поныне звучать чудесное и мощное, но нашему уху неслышное и нашему разуму ничего не говорящее добро зело.
1) Необходимостью.
188
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
