13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Шестов Лев Исаакович
Шестов Л.И. Дерзновения и покорности
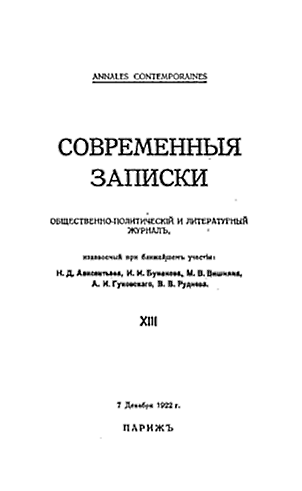 `
`
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Лев Шестов
ДЕРЗНОВЕНИЯ
и ПОКОРНОСТИ
(Из книги: «Странствования по душам»)
Мне кажется, что мир спит.
Шекспир. Король Лир.
I.
Morituri. Когда пытаешься взглянуть на все, происходящее вокруг тебя, на то, что теперь, что было давно, на то, что близко, что далеко. Когда вспоминаешь, что тысячи, миллионы, биллионы лета прошли до появления твоего на свете и что новые биллионы лета пройдут после твоего исчезновения, что миров бесчисленное множество и, что кроме живущих и живших па земле миллиардов чувствующих и мыслящих существ, еще где-нибудь живут, волнуются и борются неизвестные нам существа. Когда все это пройдет пред глазами, кажется, что вместе пришло новое, совсем не похожее на обычные постижения, видение. Но, мгновение — и видение пропадает. Вернуть и удержать нет ни сил, ни возможности. И только остается одно сознание: все, чему нас учили и учат, не настоящее. Оно только для нужд дня. А настоящее — далеко, впереди, позади. И путь к нему — один, его же никто не избегнет.
151
152
II.
Откровения. И рече безумец в сердце своем: несть Бог. Иногда это бывает признаком конца и смерти. Иногда — начала и жизни. Почувствовавши, что нет Бога, человек постигает вдруг кошмарный ужас и дикое безумие земного человеческого существования и, постигши, пробуждается, если не к последнему, то к предпоследнему знанию. Не так ли было с Нитше, Спинозой, Паскалем, Лютером, бл. Августином, даже с ап. Павлом?
III.
Пределы. Высокие горы встречаются на земле. Но очень высоких гор нет. До 8 верст доходяг, а вершин в 10 или 12 верст уже не бывает, и великие люди на земле встречаются. Но их росту тоже положен предел: не выше восьми верст. Случайный это предел т. е. естественно объяснимый или кто-то, чья воля диктует законы человеческому существованию, не хочет терпеть на земле слишком великих людей? И, затем: разрешается ли такой вопрос или он слишком наивен для современного сознания?
IV.
Философский критерий. Все виды литературы хороши, кроме скучной, говорил Вольтер. Прав он? Конечно, прав, никто спорить не станет. Сказать, что литературное произведение скучно, значить признать, что оно никуда не годится. Ну, а как быть с мировоззрениями? Вправе мы отвергнуть предлагаемую нам философскую систему только потому, что она скучна? По моему, вправе. Не может же быть чтоб сущностью жизни оказалась скука! Или чтоб истина была скучной! Это, ведь, самоочевидно. Но, отчего же философы, в своих спорах, в числе
153
прочих, не допускающих сомнения аргументов, не пользуются этой самоочевидностью? Особенно, после Канта, когда априорными истинами стали называться такие положения, которые считаются необходимыми для достижения известных целей? Да, ведь и до Канта все так думали, только не давали себе в том отчета. Явно, что позабыли. Ну, я напомнил и теперь буду ждать благодарности за совсем новую самоочевидную истину, И, главное, выводов, к которым она приведет: выводов совершенно неожиданных.
V.
Наука и философия. К больному мы призываем врача, к умирающему — священника. Врач старается вернуть человека к земной жизни, священник напутствует к жизни вечной. И, как между делом врача и делам священника нет ничего общего, так нет ничего общего между философией и наукой. Они не только нe помогают и не дополняют одна другую, как принято думать — они всегда враждуют меж собой. И вражда тем более напряженная, что ее приходится обычно скрывать под личиной любви и доверия.
VI.
Страшный суд. Кант постулировал Бога, бессмертие души, свободу воли. «Практический разум» Канта был, очевидно, надежно привязан к интересам нашего земного, преходящего существования. И, здесь, на отмели времен, пожалуй, можно кое как просуществовать с этими постулатами. Большинство людей даже и бес всяких постулатов обходятся, живут, как придется, всецело поглощенные заботами и забавами текущего дня. Но когда надвигается dies irae, dies illa, тогда и заботы, и забавы, и постулаты теряют свою власть и свое очарование.
154
Человек видит, что вовсе не в том дело, постулировал-ли он или не постулировал, верил он или не верил. Страшный суд, которым мучилось так средневековье и о котором так основательно забыла наша современность, вовсе не есть выдумка корыстных и невежественных монахов. Страшный суд — величайшая реальность. В минуты — редкие правда — прозрения это чувствуют даже наши положительные мыслители. На страшном суде решается, быть или не быть свободе воли, бессмертию души — быть или не быть душе. И даже бытие Бога еще, может, быть, не решено. И Бог ждет, как каждая живая человеческая душа, последнего приговора. Идет великая борьба, борьба между жизнью и смертью, между реальным и идеальным. И мы, люди, даже не подозреваем, что творится во вселенной и глубоко уверены, что нам и знать этого не нужно, точно это нас совсем, и не касается! Мы думаем, что важнее всего устроиться получше и поудобнее и что даже философия, как и все, создаваемое человеком, главным образом должна способствовать спокойному и беспечному существованию!
VII.
Маски бытия. Непрерывность и незаметная постепенность происходящих в мире изменений есть объективная, а способность человека ко всему привыкать — субъективная причина нашего невежества и нашей поверхностности. Под мертвой непрерывностью скрывается порывистость и свободная внезапность творческого роста и делания. А привычка — убивает пытливость. Если бы эскимоса сразу перенесли в Париж, ему бы показалось, что он попал в сказочный мир. Но, конечно, скоро привык бы — и поверил бы европейцам, что все сказки — только пустой вымысел.
155
VIII.
Подслушанное. «Пробовал говорить горе: сдвинься к морю. Не сдвинулась. Пробовал заклинать весь материальный мир: рассыпься. Не рассыпался. Стало быть? Ничего не стало-быть! Знаю еще и другое. Пробовал я заклинать пустое, явно бессмысленное и ни на чем не основанное, но с детства Бог весть как привившееся суеверие — и тоже не помогло. Держится не менее прочно, чем горы, реки и моря! Вот и пойдите со своими «стало быть» и со своим человеческим опытом! Впрочем, не стоить бесполезно распинаться. Ведь помимо всего мы не только не можем, но и не хотим разорвать наваждения и освободиться от чар мнимой реальности. Даже и события последнего времени — достаточно потрясающие, чтобы разбудить и мертвеца, ни на кого не действуют. Люди терпеливо ждут, что все опять вернется на свое место и можно будет снова зажить как прежде, приятно и беззаботно. Доколе еще бить людей?!»
IX.
Комментарий к «подслушанному». Известное письмо Толстого к жене из Арзамаса. Толстой вдруг почувствовал себя во власти невыносимо мучительных и беспричинных страхов. Почувствовал, что — что-то властное, жесткое, беспощадное отрывает его от всего милого, родного, близкого — от жены, детей, художественного творчества, от завещанной предками Ясной Поляны, даже от жизни. И так ясно, так очевидно ему было, что эти беспричинные, мучительные стражи — зло, которого нужно бежать, а тот прежний мир, откуда его насильно вырывали, — добро, к которому нужно стремиться ... Прошло десять, прошло двадцать лет. Оглядываясь на свое прошлое, Толстой с той же ясностью и с той же отчетливостью воспринимает беспричинные стра-
156
хи, как добро, а жену, детей, свои романы и родовое имение — как величайшее зло. Опыт против опыта, очевидность — против очевидности. Чему верить? И нужно-ли чему-нибудь окончательно верит? Можно ли верить?..
Человек, желающий верить, стремится обрести уже на земле то блаженство и невозмутимость духа, которые обещают философские школы и религиозные учителя. Хочет уже здесь «получить награду свою». Невозможного в этом нет ничего. Многие, очень многие люди, как известно из истории, успевали получать здесь награду свою и вызывали этим зависть и ревность своих, менее счастливых, ближних. Променяли журавля, который в небе, да и то только по непроверенным слухам, на синицу, давшуюся в руки, на блаженство и невозмутимость духа в этой жизни. Может быть, когда-нибудь убедятся, как убедился Толстой, что не нужно было бы брать синицы, ибо синица — это потеря и журавля и неба. А может быть и не убедятся. Так и умрут с синицей в руках и никогда не увидят ни журавлей, ни небес, ибо дважды — согласно предвечному закону Судьбы — «награда» не дается, а права первородства они променяли при жизни на синицу. Философии, преследующей положительные задачи, такое соображение по-видимому никогда не представлялось. Ей кажется совершенно очевидным, что беспричинные страхи — это зло, а уверенное обладание — добро. Но «опыт» Толстого и другие, подобные же «опыты»? Какими а priori от них защититься?
X.
Сегодня и завтра. Человеку трудно ждать. Он так устроен, что настоящее ему всегда кажется более важным и несомненным, чем будущее. Через год— что еще будет, а сейчас нужно есть, пить, спать и обладать душевным покоем, бес которого кусок в горло
157
не полезет и никогда не заснешь. Но, ведь будущее — это то же настоящее! Даже прошедшее, во многих отношениях есть настоящее. Прошлая обида так же жжет, как и настоящая: иной раз воспоминания детства отравляют нам существование не меньше, чем события сегодняшнего дня. А будущее — оно ведь возьмет нас в свои руки прежде, чем мы успеем оглянуться! Но напоминания не помогают. Человек, не смотря на свой разум, есть существо, находящееся во власти мгновения. И его философия, даже тогда, когда он стремится на все глядеть sub specie aeternitatis, есть обычно философия sub specie temporis, даже философия текущего часа. Оттого люди так мало считаются со смертью — точно ее совсем бы и не было. Когда человек думает о смертном часе — как меняются его масштабы и оценки! Но смерть — в будущем, которого не будет, так чувствует каждый. И вот приходится напоминать не только толпе, но и философам, что смерть в будущем, которое будет, наверное будет. И еще о многом таком приходится напоминать философам, которые знают столько ненужного и забыли, либо никогда не знали того, что нужнее всего. И, когда об этом напоминаешь, кажешься всего более непонятым и даже парадоксальным.
XI.
Идеальное и материальное. Чем держится наш мир? Материей, говорит очевидность. И те, которые хотят вырваться из пласта видимости, всегда спорят с материалистами. В общем спорят удачно: материализм разбить в дребезги и считается философией тупиц и невежд. Но — материализм разбит, а внешний мир по-прежнему властвует над людьми. По-прежнему человек, лишенный крова и пищи, погибает, по-прежнему, цикута сильнее мудрости, грубый солдат уничтожает и Архимеда и чертежи его. Слепой, кажется, должен был
158
бы убедиться, что не в материи и материализме дело. Самый страшный враг всего одушевленного — не косная материя, которая и в самом деле, как учили древние, и как учат, сейчас, либо совсем не существует, либо существует потенциально, как нечто призрачное, жалкое, немощное, умоляющее всех о помощи — самый страшный и беспощадный враг это идеи. С идеями, и только с идеями нужно бороться тому, кто хочет преодолеть ложь мира. Материя — самая покорная сущность. Не только из воска вы можете вылепить какую вздумается фигуру: паросский мрамор уступает и под резцом Фидия или иного мастера бесформенная глыба превращается в поющего бога. И из стали мы можем выковать, что захотим, чугун переплавить в памятник и т. д. В последнее время материя даже отреклась от своего исконного нрава — тяготеть к земле и парить, вместе с человеком, под облаками. Не то идеи! Они — не уступают, они не дают человеку вырваться из своей власти. Попробуйте сказать времени: остановись. Попробуйте сделать однажды бывшее — не-бывшим, вымолить хоть один случай нарушения закономерности явлений, чтоб раз, скажем, из пшеничного зерна выросла кокосовая пальма! Или, чтоб безобразный Терсит превратился в красавца Ахилла! «Нечего и пробовать — ничего не выйдет» — скажет вам всякий. Но, если так — то чего ополчаются на «косную» материю и чего радуются идеям, которые при всей своей «прозрачности» во много раз жестче, грубее, коснее, чем самая мертвая материя? В таком случае, скажут, — что же остается делать тогда философии? Faire bonne mine au mauvais jeu? Так фактическииесть. Философы оправдывают, составляют псалмы и гимны в честь вечного и неизменного идеального порядка — и в этом видят свое призвание и предназначение. Теория знания — есть оправдание и возвеличение знания, этика — оправдание добра и т. д. Все оправдывают — ad majorera gioriam случайного, в конце концов, порядка и случайного идейного строя.. Шли бы по крайней мере до конца! Со-
159
чиняли бы псалмы и гимны в честь случая. Ведь случай есть то, что сейчас — такое, потом — другое. И, если порядок, система законов или идей, управляющим миром, случаен, то можно надеяться, что ему на смену придет что-либо другое — если не абсолютный хаос, в котором все равно возможно, то хотя бы не тот порядок, который был до сих пор. И это ведь уже не мало! Может, такой выявится порядок, при котором мудрость и добродетель окажутся сильней костра и цикуты и сила этого порядка распространится не только на будущее, но и на прошлое, так что выйдет, что Джиордано Бруно сжег костер, что Сократ восторжествовал над Мелитом и Анитом и т. д. Пока идеи «идеализируются» т. е. воспеваются и прославляются, этого быть не может. Стало быть — прежде всего нужно стащить их с неба и поместить на земле, при том не в храме, а на черном дворе. И затем не мешает на время материю пустить на небо: пусть ее позабавится. Кстати, может случиться, что при этом идеи, не желая выносить неприличное соседство, сами разбегутся во все стороны. Все нужно пробовать и меньше всего доверять идеям, особенно идеям вечным и неизменным!
XII.
Школа смирения. Всем, а в особенности самоуверенным людям, очень полезно изучать произведения великих философов. Или, лучше сказать, было бы полезно, если бы люди умели читать книги. Любая «великая философская система», если долго и пристально в нее всматриваться, может научить человека сознанию нашего ничтожества. Столько спрашивают и все о таком важном, нужном и значительном — и ни одного ответа, сколько-нибудь удовлетворительного! При том бесчисленные противоречия — на каждом шагу. И однообразие, неспособность сдвинуться с однажды запятой позиции. И это у великих, величайших мыслителей. Что же такое
160
человек и можно ли считать его разум совершенным, божественным? Не вернее-ли думать, что наш разум есть только эмбрион, зародыш чего-то, и что нам дано только стремиться, начинать — но не кончать? Что не материя, как учили древние, а именно душа существует только потенциально, potentia — а не actu, что каждый из нас есть только некоторая «возможность», переходящая, но еще не перешедшая, в действительность.
XIII.
Тайна бытия. Случайно последняя истина скрыта от людей — или в тумане, которым природа обволокла свои задачи, нужно видеть умысел? Мы склонны принять первое предположение, может быть, следует сильней выразиться: мы убеждены, что только первое допущение может прийти в голову образованному человеку. Но ведь истина, точно клад, не дастся в руки. Каждый раз кажется, что еще одно усилие — и вы овладеете истиной и каждое новое усилие не приводит ни к чему, как не приводили и предыдущие усилия. Именно точно клад — манит, зовет, но в руки не дается. И, потом, тот особый, специфический страх, который испытывает человек пред возможностью нового, еще не виденного, не испытанного. Явно что истина — я говорю, конечно, о последней истине — есть некое живое существо, которое не стоит равнодушно и безразлично пред нами и пассивно ждет, пока мы подойдем к нему и возьмем его. Мы волнуемся, мучаемся, рвемся к истине, но и истине чего-то нужно от нас. Она, по-видимому, тоже зорко следит за нами и ищет нас, как мы ее. Может быть, тоже и ждет, и боится нас. И, если до сих пор не сбросила с себя таинственного покрывала, то не по забывчивости, рассеянности и еще меньше — «так», бес всякого основания, «случайно». Это нужно помнить всякому ищущему — иначе его искания никогда не выйдут за пределы положительного знания.
161
XIV.
Смерть и сон. Мы привыкли думать, что смерть есть некоторый вид сна, сон бес сновидений и пробуждения, так сказать, самый совершенный и окончательный сон. И в самом деле похоже на то, что смерть есть последний сон. Даже мудрейший из людей, Сократ, так думал — по крайней мере так говорил, если верить платоновской «апологии». Но и мудрецы ошибаются: по- видимому, смерть по существу своему есть прямая противоположность сну. Не даром люди так спокойно и даже радостно отходят ко сну, и так ужасаются приближению смерти. Сон не только еще есть жизнь, — сама наша жизнь, как это ни странно на первый взгляд, на три четверти, если не больше, есть сон т. е. продолжение первоначального небытия, из которого мы, — не спрошенные, а может и вопреки нашей воле, — были вырваны какой-то непонятной и таинственной силой. Мы все, в большей или меньшей степени, и живя, продолжаем спать, мы все зачарованные нашим еще столь недавним небытием лунатики, автоматически движущиеся в пространстве. Оттого то механистические теории нам кажутся единственно истинными и всякие попытки борьбы с изначальной необходимостью представляются заранее обреченными на неудачу: они нарушают наше сонное бдение и вызывают только обиду и раздражение, какие проявляет всегда спящий по отношению к тем, кто его будит. Каждый раз, когда что-либо неожиданное, необъяснимое, извне или изнутри, выводит нас из обычного, милого сердцу и душе, равновесия, все наше существо наполняется тревогой. Неожиданность — она же необъяснимость — это неестественно, противоестественно, это то, чего быть не должно, то, чего нет. Нужно во что бы то ни стало показать себе и другим, что неожиданностей не бывает на свете, не может быть; что неожиданность есть только недоразумение, случайное, преходящее, устранимое усилиями разума. Величайшим торжеством человека было открытие, что и не-
162
бесные тела имеют тот-же состав, что и земные, что и на небе тоже нет ничего совершенно нового, необъяснимого. Теория эволюции больше всего соблазняет людей именно тем, что она ни в самом отдаленном прошедшем, ни в самом отдаленном будущем не допускает возможности чего-нибудь радикально нового, еще не бывалого. Миллион, биллион, триллион лет тому назад, равно как через миллион, биллион и триллион лет жизнь была и будет в общем та-же, что и теперь и на нашей планете, и на всех, доступных и недоступных нашему глазу, бесчисленных планетах бесконечно большой вселенной. Спали, спят и будут спать по неизменным, автономно определившимся законам вечной природы — они же и вечный разум, или вечные идеальные основные начала. Никому и в голову даже не приходит, что эти миллионы и биллионы лет, вечная природа, вечные идеальные начала — чудовищная нелепость, которая никого не поражает только потому, что к ней привыкли. А меж тем такими нелепыми представлениями, тормозящими мысль и парализующими всякую любознательность, держится теория эволюции, так безраздельно овладевшая современными умами. Спектральный анализ победил пространство, свел небо на землю, теория эволюции победила время: свела все прошлое и все будущее к настоящему. Это величайшее завоевание современного знания, которое притязательно считает себя совершенным знанием!...
Но, ведь, по истине, нужно быть погруженным в глубочайший сон, чтобы испытать состояние такой бессмысленной и тупой самоуверенности! В этом отношении новая, лучше сказать новейшая философия, действительно сказала «свое слово» — так не похожее на слова древних. Даже положительный Аристотель — и тот чуял во вселенной божественную quintam essentiam, что-то не земное, на земное совсем не похожее. Сократ, правда, говорил своим судьям, что смерть может быть есть толь-
163
ко сон бес сновидений. Но похоже, что Сократ своих настоящих мыслей пред судьями не высказывал. Они ведь для него были толпой, «многими», которые — говори им, не говори — все равно неспособны воспринять истину и пробудиться от сна. Да он и сам, в той же «апологии», в конце речи, заявляет, что никому, кроме бога, неизвестно, что нас ждет после смерти, И надо думать, что это последнее утверждение гораздо ближе было душе Сократа. Уже Сократ, — очевидно по всему, — затеял «бегство от жизни», уже он знал и научил Платона, что философия есть ничто иное, как приготовление к смерти и умирание. И вся древняя философия, кроме школ, вышедших из Аристотеля, исходила из этой «мысли» — если можно тут говорить о «мысли». Не только чистые последователи Платона, но циники и стоики, я уже не говорю о Плотине, стремились вырваться из гипнотизирующей власти действительности, сонной действительности со всеми ее идеями и истинами. Вспомните сказание Платона о пещере, речи стоиков о том, что все люди — безумцы, вспомните вдохновенный экстаз Плотина! Не даром новейшие историки говорят о «практическом» направлении древней философии! Конечно, если центробежные силы, которые открывали в себе древние греки, свидетельствуют о практических задачах — то историки правы. Но неправы они в виду того, что, если уже говорить о практических задачах — то, конечно, их нужно и можно усмотреть в центростремительных тенденциях современной философии. Древние, чтобы проснуться от жизни, шли к смерти. Новые, чтоб не просыпаться, бегут от смерти, стараясь даже не вспоминать о ней. Кто «практичней»?Те-ли, которые приравнивают земную жизнь ко сну и ждут чуда пробуждения, или те, которые видят в смерти сон бес сновидений, совершенный сон и тешат себя «разумными» и «естественными» объяснениями? Основной вопрос философии — кто его обходит, тот обходит и самое философию.
164
XV.
Объяснения и действительность. Удовольствие и боль принято объяснять, как реакции — всего ли организма или какой-нибудь его части — на внешнее раздражение. Когда внешнее раздражение грозит опасностью, мы испытываем боль, когда оно полезно организму — удовольствие. Предполагается, что сохранение организма есть цель, единственная ц е л ь, которую ставила себе природа, создавая его. Конечно, такое объяснение уже включает в себя весь одиозный антропоморфизм, которого так тщательно избегает наука. Ведь приписать природе цель, хотя бы самую скромную, самую незначительную, значить уподоблять ее деятельность деятельности человека. Но существу безразлично, допустите-ли вы, что природа стремится сохранить организм или создать святого, добродетельного человека. Даже утверждение, что природа оберегает не отдельные организмы, а виды и роды, не может избегнуть упрека в антропоморфизме во всей его обличающей силе. Объективность, если с ней серьезно считаться, требует от нас, чтоб мы не приписывали природе ни одного из тех свойств, которые присущи думающему и стремящемуся к тем- или иным целям человеку. Природа сама по себе — человек сам по себе. Говорить о демиурге, творце, artifex’е мира значить явно покидать научную точку зрения и возвращаться к мифологии. Что может быт неестественнее, чем озабоченная чем либо природа? Озабоченность ведь характернейшее свойство высших животных, преимущественно человека. Так что обычные объяснения боли и удовольствия есть только внешнее подлаживание под объективность и науку и подлаживание очень грубое. Если природа и была чем озабочена, то отнюдь не тем, чтоб помочь организму в его борьбе за существование, тем более, что «существование» организмов можно было бы оберечь иным, более простым способом. Во всяком случае не было никакой надобности выдумывать для обеспечения существования организма та-
165
кия небывалые, несовместимые ни с какой объективностью, можно сказать прямо противоестественные вещи, как удовольствие и боль. Мы можем сколько нам угодно удивляться сложности и затейливости устройства животного организма, — но способность испытывать боль и удовольствие заслуживает гораздо большого удивления, чем самая сложная живая машина. Так что, если уже ставить вопрос о целях и средствах, то, конечно, гораздо вероятнее, что организм создан для того, чтоб живое существо познало боль и удовольствие, иначе говоря начало жить, чем, что жизнь создана для того, чтоб «организм» т. е. нечто материальное, бездушное само по себе и при всей своей сложности все-таки элементарное, не так скоро подверглось бы разрушению. И, собственно говоря, для какой надобности природе так хлопотать о сохранении организма? Чем он предпочтительнее кристалла или иного неорганического тела? Своей сложностью и затейливостью? Но опять таки это мы, люди, разумные животные, преклоняемся пред сложностью и ценим ее, для природы же сложность вовсе уже не такая великая ценность. Да и вообще, что природе до каких бы то ни было ценностей? Это и не ее вовсе дело, это дело человека — ценить, любить, ненавидеть, огорчаться, радоваться. И, затем — если судить по степени охраненности — то тоже все говорит скорее в пользу неодушевленных предметов. Гранитная глыба — на что уже она мертва — куда лучше охранена, чем какой хотите организм. Она ничего не боится и просуществует столетия, даже тысячелетия. Так что природе, будь она озабочена только сохранением своих созданий, проще всего было бы не выходить в своем творчестве за пределы неорганического мира. Но, очевидно, природа, не считаясь с рамками, в которые ее вдвигают наши идеи об объективном познании, захотела большого, много большого. Очевидно, она вовсе не так ограничена в своих заданиях, как это нужно нам для того, чтоб иметь право забыть о метафизическом и теологическом периодах мышления. Нет ничего невероят-
166
ного в том, что природа ставить себе «разумные» задачи. Конечно, у неё могут быть цели, в которые мы не посвящены и в которые мы никогда не проникнем, т. к., по причинам, которые мы тоже не можем отгадать, она не считает нужным делиться с нами своими мыслями и предположениями. Но, если бы мы даже убедились, что природа умышленно скрывает от нас свои последние цели, это бы тоже не оправдало нашего стремления все сводить к «естественной» связи причин и следствий. Наоборот: раз природа умышленно скрывает от нас что бы то ни было, значит нужно бросит всякую мысль о «естественности». В данном случае боль и удовольствие никоим образом не могут быть рассматриваемы, как нечто само собою разумеющееся, как естественные функции организма. В них нужно видеть — повторяю и настаиваю — начало чего-то toto coelo отличного и от организма и от каких бы то ни было функций. Они сами по себе — цель, не единственная, не окончательная, конечно, но все же цель творчества природы. Чтоб была боль, чтоб было удовольствие, природа и придумала бесчисленное количество чудесных шедевров, именующихся организмами. Боль и удовольствие свидетельствуют о некоей сущности su igeneris по преимуществу. И, затем, далее. Вопреки видимости т. е, вернее вопреки тому, что привычка к «естественным» объяснениям нам представляет как видимость, как самоочевидное — не всегда, далеко не всегда боль свидетельствует о грозящей человеку опасности, а удовольствие обеспечивает безопасность. Наоборот, самое опасное, то, что грозить окончательной гибелью живому существу — и душе и телу — это удовольствие. Оттого-то все глубокие философские системы с таким отвращением и недоверием относились к гедонизму и даже к утилитаризму. В этом смысл аскетизма, в этом же смысл неоценённого и сейчас по достоинству изречения циника Ангисфена: лучше мне сойти с ума, чем испытать удовольствие. Изречения, которое воскресила св. Тереза в словах: pati, Domine, aut mori. Удовольствие есть, для
167
огромного большинства людей, сон, иначе говоря смерть души, возвращение ее к небытию. Боль, страдание — есть начало пробуждения. Приятное, ровное, уравновешенное существование убивает в человеке все человеческое, возвращает его к растительному прозябанию, в лоно того ничто, из которого его так загадочно извлекла какая то загадочная сила. Если бы жизнь человека легко протекала и заканчивалась бы легкой, приятной смертью, то он был бы, поистине, самым эфемерным существом. Но пробегите мысленно всю историю человечества: вы не укажете ни одного периода, который бы не был омрачен самыми тяжкими бедствиями. Отчего это? Отчего природа, если она так озабочена сохранением своих творений, ничего не предприняла для того, чтобы предотвратить массовую гибель живых существ? Или ее озабоченности полагает предел внешняя необходимость? Древние думали не так. Гераклит утверждал, что войны, которые кажутся столь ужасными для людей, приятны для богов. И он же говорил совсем как апостол Павел, что боги готовят людям такое, о чем они и мечтать не смеют. Похоже, что в обоих случаях древний мудрец, более явственно различавший голоса богов, знал больше, много больше, чем мы. Он не боялся антропоморфизма и не порывал «принципиально» с мифами. И потому волен был видеть и слышать все, что ему открывалось и не быть принужден прятать, комкать и уродовать свои знания, точно это были бы краденное добро, либо контрабанда, которую надо пронести, но нельзя никому показывать. Боль и удовольствие, радости и страдания, надежды, опасения, страсти, упования, привязанности, гнев, ненависть и т. д., все, чем полны человеческие души и о чем только приблизительно умеет рассказать человеческий язык, вовсе не предназначено ни для охранения, ни для пользы отдельного человеческого организма, или даже вида, либо рода. Они составляют «цель» природы и, если мы хотим хоть отчасти проникнуть в ее замыслы, то мы менее всего должны начинать с «изучения» жизни амебы или моллюска. Сколько бы тут
168
мы ни изучали, мы ничего не узнаем — скорее потеряем способность когда бы то ни было узнать чтобы то ни было о чудесах и тайнах мироздания. Нам нужно вдуматься и всмотреться в напряженнейшие и сложнейшие искания и борения наиболее смелых и замечательных представителей человеческого рода — святых, философов, художников, мыслителей, пророков — и от них «заключать», по ним судить о началах и концах, о первых и последних вещах. Моллюск же и амеба, равно как останки ископаемых животных, ихтиозавров и мастодонтов, чем обстоятельнее и внимательнее мы будем изучать их при помощи современных методов, — тем больше и дальше уведут они нас от нашей важнейшей и настоятельнейшей задачи. Нам покажется, как это сейчас кажется всему современному человечеству, что, по самому существу дела, в жизни не может быть ни тайн, ни чудес. Что рассказы древних о чудесах и тайнах все незаконного происхождения: ублюдок скупого опыта и ребяческой доверчивости. Что истины — и первые и последние — рано или поздно будут нами добыты и нами постигнуты с такой же ясностью и отчетливостью, с какой мы постигли уже многое множество средних истин. Что теологический и метафизический периоды истории остались далеко за нами, и мы живем под знаком положительной науки, ее же царствованию нет и не будет конца!
Л. Шестов.
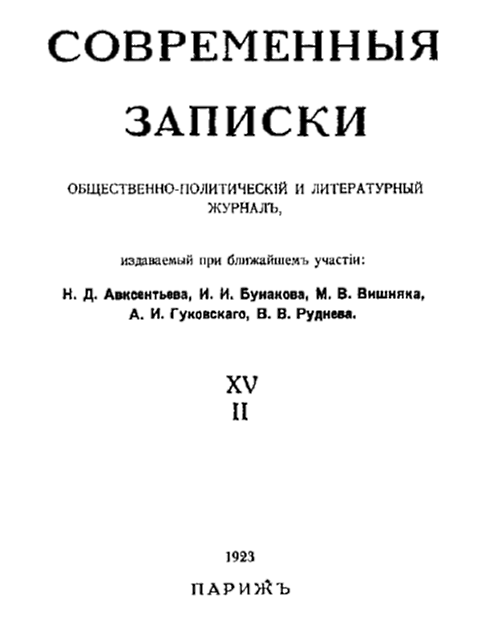
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Лев Шестов
ДЕРЗНОВЕНИЯ И ПОКОРНОСТИ
(Из книги «Странствования по душам»).
Окончание*).
XVI.
Из чего делаются вопросы? Говорят, что человеку естественно спрашивать, что в способности задавать вопросы и находить ответы сказывается высшая сущность души. Животные почти не спрашивают, растения и неодушевленные предметы совсем не спрашивают, но оттого - то человек и возносит себя так высоко, что он — не животное, не растение и не неодушевленный предмет. И, затем — вопросы не выдумываются, они как бы сами собой, естественно рождаются: не может быть, чтоб разумное существо не спрашиваю. Допустим, что так. Но тогда это значит, что разумное существо не может не быть ограниченным. Ибо спрашивает только тот, кто не знает, кому не- хватает знания. «Никто из богов, — говорить Платон, — не философствует и не стремится стать мудрым». Совершенно очевидно, что пытливость разумного существа от его ограниченности. Стало быть, сама разумность есть ограниченность. Конечно, если сравнить человека с растением или камнем, то получится, что быть разумным все равно, что быть бо-
*) См. «Соврем. Записки», кн. ХШ.
163
164
лее совершенным. Но кто же нас принуждает сравнивать себя с камнями? Отчего не последовать примеру древних — не направить своих взоров к богам? То-есть, ко всем вопросам приставить еще вопрос: из чего вопросы делаются. Ибо теперь, надеюсь, ясно, что вопросы делаются и делаются все тем же ограниченным, забитым, погруженным в заботы дня человеком. И, конечно, из того материала, который находится непосредственно под руками. Этими условиями определяется и получаемый результат. Пред нами камень, растение, животное, человек. Вопрос: как человек стал таким разумным, когда он из того же материала, что камни, растения и животные. Кажется, что не задать такой вопрос немыслимо. Что и бог должен был бы так спросить. И ответ берется оттуда же, откуда пришел вопрос: т. е. из обычного, ординарного, будничного опыта. Мы знаем, что нам сразу ничего не удается сделать. Чтоб из камня получилась статуя, нужно долго, медленно, упорно отбивать от нее мелкие части и — до тех пор, пока бесформенная глыба не превратится в прекрасное произведение искусства. И вот готова теория эволюции, — постепенных, незаметных изменений. Незаметно растение превращается в животное, животное — в человека и даже цивилизованного человека. Раз незаметно, раз никто не может заметить, значит нечего и смотреть. Значит нет смущающей неожиданности и мы довольны: нам кажется, что мы освободились от нашей ограниченности, что никто не нарушает естественного течения жизни ...
Опять повторю: нам кажется, что и вопрос и ответ появились сами собой, что никто не вмешивался в это дело: ни мы, ни иные существа. Мы только объективно, словно это были бы не мы, а идеальные регистрационные аппараты, зафиксировали то, что возникло само собой. Но и ответ и вопрос чисто человеческие. Бог такого вопроса никогда бы задать не мог и такого ответа тоже никогда бы не принял. Ибо как раз то, что нас больше всего тревожит и что мы пытаемся, разложив на бесконечное количество бесконечно малых изме-
165
нений, сделать незамеченным и как бы несуществующим, как раз это не только не беспокоит Бога, не только не кажется ему не должным, назойливым, неестественным — но, наоборот, в этом он видит благодатную сущность и своей жизни и жизни вообще. Нас пугает всякое творческое fiat, всякое необъяснимое чудо, мы боимся усмотреть перерыв в течении исторических явлений. Мы все усилия свои направляем к тому, чтобы изгнать из жизни все «вдруг», «внезапно», неожиданно. Мы все это называем случайностью, а случайность на нашем языке обозначает то, чего собственно говоря нет и быть не может. Если в какой-нибудь теории — не только научной, но и философской, т. е. вперед отвергнувшей всякие предпосылки, мы обнаруживаем какое-нибудь «вдруг» или «внезапно», мы считаем ее навсегда опороченной. И думаем, что наша уверенность в порочности всех «вдруг» не есть предпосылка, а есть сама воплощенная в слова истина. Не может быть так, чтобы были камни и растения и «вдруг» появились животные и даже люди. Тоже не может быть, чтоб человек «вдруг», «так», «здорово живешь» принял какое-нибудь решение или захотел чего-нибудь: если он решился, если он захотел, то у него были на то «основания». Свобода воли в ее чистом виде есть миф, занесенный к нам из отдаленных времен доисторического существования человека. Не только детерминисты, но и противники детерминизма, утверждающие, что человек есть существо свободное, все же считают необходимым разложить свободу на бесчисленное количество бесконечно малых элементов, из которых незаметно складывается определяющее наш поступок решение. Культ незаметного до такой степени пропитал собою все наше существо, что мы и в самом деле перестали многое, очень многое замечать. И мечтаем — как об идеале — о том блаженном времени, когда никто ни о чем спрашивать не станет. Это будет окончательным торжеством теоретического разума. Человек перестанет спрашивать — сам станет, как Бог. Но тут - то и кроется роковой самообман.
166
Человек ничего не будет спрашивать, потому что ничего не будет видеть, все превратит в «незаметное». Сорвавши плод с дерева познания, человек сравнялся с Богом — но только в Его отрицательных свойствах или, вернее, в одном из Его отрицательных свойств, в том, чего у Бога нет. Но ведь задача была отнюдь не в том, чтоб иметь одно или несколько отрицательных свойств Бога. У нас, как у Бога, нет рогов, копыт, хвостов и еще многого в таком роде — кого это может радовать? Нужно добиваться иного — нужно стремиться к тому, чтоб у нас было то, что есть у Бога. Стало быть, нужно заботиться не о том, чтобы превращать заметное в незаметное, а о том, чтоб выявлять даже чуть - чуть заметное. Соответственно этому, мы должны жадно набрасываться на всякое «вдруг», «внезапно», «творческое fiat», безосновность, безмотивность и больше всего беречься обезсиливающей мысль теории постепенного развития. Основная черта жизни есть дерзновение, τόλμα, вся жизнь есть творческая τόλμα, и потому вечная, не сводимая к готовому и попятному, мистерия. Философия, соблазнившаяся примером положительных наук, философия, стремящаяся дифференцировать на бесконечно малые величины все проблематическое и неожиданное, и в этом полагающая свою основную задачу, не только не приводит, но уводит нас от истины. И опять повторю, что уже говорил однажды. Философское грехопадение началось с Фалеса и Анаксимандра. Фалес провозгласил: все есть единое. Анаксимандр увидел во множественности, т. е. в вечно проблематическом, нечестивость, недолжное. После них философы стали систематически гнать множественное и прославлять единое. Понятное и единое стало синонимом действительного и должного. Индивидуальное, обособляющееся, различное — было признано нереальным и дерзновенным. Нужно, конечно, сделать ограничение. В философии, особенно в древней, никогда не умирал интерес к тайне. Платон и Плотин трепетно прислушивались к мистериям, знали, что такое посвящение и сами были посвященными. Они благоговейно чтили память великих мудрецов
167
прошлого. Но, вместе с тем, они хотели быть властителями человеческих дум. Т. е. их равно привлекало и эзотерическое, и экзотерическое. Только Аристотель отвернулся от эзотерического. Но именно потому в истории победителем вышел Аристотель. Даже средние века, так жадно искавшие и всюду чуявшие тайну, избрали себе в руководители Аристотеля. Новое же время совсем порвало с древними. Обычно отцом новой философии считается Декарт. Но, на самом деле, отцом новой философии был Спиноза. Спиноза-захотел и сумел через всю свою философию провести мысль о том, что разум и воля Бога toto coelo отличны от разума и воли человека, что между волею и разумом Бога и волей, и разумом человека столько же общего, сколько между созвездием Пса и псом, лающим животным, т. е. только одно название. Отсюда он сделал вывод, что то, что мы называем прекрасным, совершенным, добрым и т. д... к Богу никакого отношения не имеет. И что, стало быть нужно не смеяться, не плакат, не проклинать, — а понимать, т. е. ставить не касающиеся самого для нас значительного вопросы и давать ни для чего нам не нужные ответы. Так учил Спиноза и его заповеди были приняты, как новое откровение. И не заметили (не хотят люди замечать), что сам он не только как человек, но и как философ делал диаметрально противоположное. Он вовсе не задавал вопросы, которые ему не были нужны, и не выдумывал отпеты, до которых ему не было дела. Omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt — так заканчивает он свою этику. Т. е. то «прекрасное», что, если помнить прежние слова Спинозы, к Богу никакого отношения не имеет, именно потому, что человеческий разум и человеческая воля так к ним привержены, восстановляется в своих божественных правах. И к прекрасному, хотя оно так трудно дается и так редко встречается, к нему одному стремится душа Спинозы. И еще: его amor Dei intellectualîs, интеллектуальная любовь к Богу — ведь она вся соткана из ridere, lugere et detestari и столько же общего имеет с научным inteliigere, сколько созвездие Пса с псом, лающим
168
животным. T. e. y Спинозы, как и y его всяческих древних предшественников, inielligere было для толпы, для всех. Это был внешний decorum: когда выходишь на люди, нужно иметь вид понимающего, ни в чем не сомневающегося, спокойного, уравновешенного человека. С толпой нужно всегда говорить тоном человека, власть имеющего. Для себя же и для посвященных у Спинозы был совсем иной язык.
Новейшая философия, ставшая добровольно прислужницей науки, взяла у Спинозы только то, что он заготовил для толпы, для непосвященных, только его intelligere. Она убеждена, что вопросы нужно делать из безразличного, ничего не стоящего материала. Она выметает и красоту, и добро, и восторга, и слезы, и смех, и проклятия, как сор, как ненужные отбросы, не подозревая, что это есть то, что бывает самого драгоценного в жизни, и что из этого, только из этого материала нужно выковывать настоящие, истинно философские вопросы. Так спрашивали пророки, так спрашивали величайшие мудрецы древности, так еще умели в средние века спрашивать. Теперь это понимают только редкие, одинокие мыслители. Но они — вне большой дороги, вне истории, вне общего философского делания. Официальная же, признанная философия, которая хочет быть наукой, дальше inteiligere не идет и убеждена притом совершенно искренно, что она одна ищет истины. Но ей то именно и следовало бы остановиться и спросит себя: из чего делаются вопросы. Может быть, тогда она отказалась бы от мысли превратить все самое значительное в незаметное, не подлежащее в своей незаметности видению. И тогда бы пред глазами человека вместо мира, всегда во всех частях себе равного, вместо эволюционирующего процесса, явился бы мир мгновенных, чудесных и таинственных превращений, из которых каждое значило бы больше, чем весь теперешний процесс и вся естественная эволюция. Конечно, такой мир нельзя «понять». Но такой мир и не нужно понимать. В таком мире понимание излишне. Понять нужно мир естественный человеку, естественно появившемуся в этом мире. Но в мире чудесных превращений, в мире
169
вечно неестественном — понимание только безобразный, грубый привесок, скудный и жалкий дар от бедного мира ограниченности. Так чувствовали наиболее замечательные представители человечестве в минуты вдохновения и душевного подъёма. Но человечеству так думать не дано. Omnia praeclara tam difficilia quam rara sunt. Сколько нужно божественного смеха и человеческих слез и проклятий, чтоб научиться жить в таком мире, чтоб пробраться в такой мир! Мы же хотим прежде всего и после всего спокойствия, хотим автоматически считать, мерять и взвешивать и полагаем, что это есть высокая наука и что такая наука откроет нам все тайны! И боимся даже спросить себя, из чего делаются вопросы, вперед уверенные, что все вопросы из одного и того же материала делаются и что законные вопросы это только те, которые, рождаясь из беспечного недоумения, разрешаются самодовольным пониманием.
ХѴII.
Мораль и пессимизм. Откуда добро, откуда зло? Первый эллинский философ, Анаксимандр, учил, что зло пошло оттого, что отдельные вещи вырвались из лона единого бытия и нечестиво захотели утвердиться в особенном, самостном существовании. И пифагорейцы так думали. Та же мысль проходит с большей или меньшей отчетливостью через всю древнюю философию. Последний великий эллинский философ, Плотин, держится того же убеждения. Он говорит, что отдельные индивидуальные души дерзновенно оторвались от Единого и, поскольку они отстаивают свою независимость, они живут во зле. Плотин, конечно, правильнее выражает мысль Анаксимандра. Об индивидуальных вещах можно, ведь, говорит только условно. Индивидуумами бывают лишь живые существа, а не вещи. Разве камень, гора, река, кусок железа могут быть названы индивидуумами? Разве они вырывались из лона единого? Тоже и дом, стол, часы, перо, статуя, картина и т. п. Все это «вещи» и «индивидуумы» только
170
для нас, для людей. Для природы же та или иная форма, которую приняло железо, мрамор или гипс — никакого значения не имеет. Мрамор в глыбе или в статуе Аполлона для природы есть только мрамор, и она одинаково равнодушно сохраняет и разрушает его независимо от того, получил ли он свою форму «естественно» или от руки художника. При землетрясениях, обвалах и пожарах дробятся на мелкие куски или сгорают и произведения природы и произведения искусства, причем и те и другие с равной готовностью и смирением принимают свою судьбу. Стало быть о вещах нельзя говорить, что они дерзновенно или нечестиво само утверждаются: вещи находятся по ту (или по сю) сторону добра и зла. Само утверждаются только живые существа. Они хотят «быть» и возмущаются всяким посягательством на их индивидуальность или самость. И вот тут то начинаются вопросы о хорошем и дурном, равно как о добре и зле. Само утверждающиеся индивидуумы наталкиваются на некоторое сопротивление. Они хотят, скажем, есть — еды нет, пить — питья нет, согреться — нечем и негде. И наоборот: иногда и еды, и питья, и тепла — вволю. Почему так, почему иногда бывает всего вволю, а иногда — не хватает? Затем: все эти само утверждающиеся существа хотят «быть», а природа, не справляясь с их желаниями, самоуправно кладет предел их бытию — посылает им смерть. И вот эти существа возмущаются и заявляют, что, если им отказывают в еде, питье и тепле, или, не спрашивая их, внезапно обрывают нить их жизни — это дурно, а если им уготовят изобилие и долгую жизнь, да притом еще такую, что даже мысль о смерти никогда не появится на их поле зрения, так что покажется, что смерти нет и никогда не будет, то это — хорошо. Короче, для природы, для того X, который мы называем природой, нет ни хорошего, ни дурного. Только для индивидуумов есть хорошее и дурное. И специально, конечно, для человека, особенно для размышляющего человека, который помнит прошлое и живо представляет себе будущее. И этот человек своим тысячелетним опытом приведен к убе-
171
ждению, что в жизни слишком много непреоборимо дурного. Постоянно приходится бороться и уступать. На мгновение можно устроиться, но только на мгновение. А от смерти никому не дано уйти. Даже студенты поют: nemini parcetur. И глупцы, мудрецы, и рабы, и цари — все данники смерти. Пред лицом неизбежности человеку приходится смириться и пассивно принимать удары и дары судьбы. Большинство — подавляющее — терпеливо выносят такой удел: плетью обуха не перебьешь. Но не все удовлетворяются поговорками. Есть такие, которые думают, допытываются. Отчего природа равнодушна к тому, что нам кажется самым важным и значительным? Природа бесконечно могуча — неужели она не права? Может быть мы не правы? Не умеем понять природы, возвыситься до неё? Я думаю, что так стоял вопрос пред Анаксимандром, так же стоял он пред Плотином и в этой же форме он унаследован последующим философским нерелигиозным сознанием. Когда нужно было выбирать между столкнувшимися и непримиримо противоположными устремлениями ничтожного атома — индивидуума и огромной, бесконечной вселенной, человеку показалось совершенно очевидным, что у него правоты быть не может, что права — вселенная. Не может бесконечно малая часть надеяться, что ее дело важнее и значительнее, чем дело колоссального целого. То, что человек считал хорошим и дурным, не есть на самом деле ни хорошее, ни дурное. Пред высшим судом все равно сыт он или голоден, согрет или холоден, болен или здоров. Все равно даже, живет он или не живет. Не «все равно» только то, что изначально и навсегда прочно охранено. В противоположность хорошему и дурному, т. е. ценному с точки зрения индивидуума, появились автономные этические ценности — идеи добра и зла. Автономные, т. е. совершенна не совпадающие с обычными представлениями о хорошем и дурном, даже прямо их исключающие. В свете этих новых идей добра и зла самое бытие индивидуумов оказалось дерзновением и нечестием. Что же удивительного, если природа не считается с их «хорошим» и с их «дурным»?
172
Скорей наоборот, — нужно дивиться, что для этих дерзких нечестивцев слишком много хорошего уготовлено на земле. Все-таки и корм, и питье, и многое другое для них есть. Если всмотреться повнимательней, то, пожалуй, недолго прийти и к тому, что все это благополучие только затем и припасено, чтоб индивидуумы понесли должную кару за свое преступление. Надо им сперва дать вволю насамоутверждаться, — тогда разочарование будет обидней и мучительней. Так или иначе, но противоположность между хорошим и дурным с одной стороны и добром и злом — с другой получает свое выражение и объяснение. Хорошо и дурно то, что нужно или ненужно индивидуумам. Но, если индивидуум постигает тайну бытия, то он должен отречься и от себя, и от своих нужд и, забыв о хорошем и дурном, должен стремиться только к добру. Ибо его «хорошее» и есть основное первородное зло, первородное же истинное добро есть полное отречение от всякой самости — самоотречение. Это, повторяю, основная идея эллинской философии — от Анаксимандра до Плотина. Она же исходный пункт и новой философии. У Шопенгауэра эта идея впервые принимает совершенно новую форму — пессимизма. И для Шопенгауэра principium individuattonis является началом и источником зла. Все, что возникает, должно исчезнуть, все, что имеет начало, должно иметь конец. Индивидуальное возникает, имеет начало, стало быть оно должно погибнуть. В этом Шопенгауэр нисколько не отличается от своих предшественников. Но его отношение к жизни, его оценка жизни — иная. Он, совсем как Плотин, мог бы сказать, что смерть есть слияние индивидуального с первоединым. И почти так говорит. Только — и тут разница между ним и Плотином — он не видит в этом ничего ни хорошего, ни дурного. Существование — в виде ли эмпирического индивидуума, в виде ли метафизического начала, кажется ему равно жалким и ничтожным. Или, лучше сказать, «воля» (метафизическое начало у Шопенгауэра называется волей), хотя она и изначальна и реальна, не привлекает к себе
173
в своем над человеческом бытии внимания Шопенгауэра. При всей своей реальности она остается для него абсолютно чуждой. Он славит высшее человеческое творчество — философию, религию, искусство — единственно потому, что оно, по его убеждению, убивает волю к жизни. Оно учит человека возвыситься над хорошим и дурным, которыми жизнь только и держится, и стремиться к добру, которое жизнь отрицает. Ни у одного философа не выступает с такой ясностью связь между моралью и пессимизмом, как у Шопенгауэра. Не только человеку не нужно быть, — вообще ничему быть не нужно, и эмпирическому и, в еще большей степени, метафизическому. Шопенгауэр отрицает самоубийство — во имя высшей морали, высшего добра. Ибо добро у него требует большого. Убить, уничтожить нужно не индивидуальные существа, — а самое волю, метафизическое начало: такова последняя задача философии и тех религий (буддизма и христианства), которые стоять на должной высоте. И вот — когда Анаксимандр и Плотин создавали свою жизнь, когда они воспевали свое Единое и порочили все индивидуальное, не делали ли они того же, что в наше время сделал Шопенгауэр? Не проводили ли они пессимизм и отрицание воли к жизни, только в скрытой и, стало быть, более опасной форме? Презрение к индивидуальному, призрачность и бессмысленность отдельного человеческого существования у эллинов проводится с той же последовательностью, что и у Шопенгауэра. Правда, это делается во имя и во славу Единого. Но, ведь, в том и загадка: зачем вся мировая комедия? Зачем было Единому, которое так довольно собой, так спокойно, так всеобъемлюще, рассыпаться на мириады душ, выбрасывать их в подлунный мир, помещать в загадочно соблазнительные темницы - тела, если потом оказывается, что лучшее, что могут сделать души — это покинуть свои тела и вернуться обратно в то Единое, из которого они выпали. Ведь ничего бессмысленнее и назло выдумать нельзя, — а Единое у эллинов, как нарочно, прежде всего начало разумное! И у Платона, и у Плотина есть попытки ответить на этот вопрос, но попытки столь неудач-
174
ные, что о них и говорить не стоит. Похоже, что у них никакого ответа и не было. А если они говорили — не говорили, а пели, и как дивно пели! о своей радости по поводу возможности вернуться в «тот мир», то ведь и Шопенгауэр не менее радостно и часто очень вдохновенно прославлял философию отречения. Тут психологически понятен восторг, восхищение и даже экстаз, особенно у людей, подобных Плотину, так мучительно принимавших унизительную необходимость жить в опостылевшем, презренном теле.
XVIII.
Quasi una fantasia. Не знаю, чему больше дивиться: добровольной человеческой слепоте или нашей природной робости. Хотя допустимо, что оба эти свойства обусловливают одно другое. Человек не хочет видеть, потому что боится. Чего боится? — сам часто не знает определенно. Самым страшным ему кажется — нарушить «закон». Все уверены, что есть какие - то законы, от века существующие, и что без этих законов или вне этих законов — гибель. Наше духовное зрение создает себе такие же ограниченные горизонты, как и зрение физическое. Как пугает людей и сейчас изречение Протагора: человек есть мера вещей! И какие усилия сделала человеческая мысль, чтоб убить и Протагора и его учение! Ни пред чем не останавливались, даже, по-видимому, пред заведомой клеветой — и такие люди, как Сократ, Платон, Аристотель, которые всей душой любили и прямоту, и правдивость и искренно хотели служить одной только истине. Они боялись, что, если принять Протагора, то придется стать μισόλογοσ’ами, ненавистниками разума, т. е. совершить над собой духовное самоубийство. То-то и есть, что боялись! А бояться нечего было. Начать с того, что изречение Протагора вовсе не обязывает нас ненавидеть или презирать разум. Сам Протагор, как видно из платоновских же диалогов, не только не презирал разум, а чтил его — искренно и го-
175
рячо чтил, и любил. Правда, по-видимому, Пратогор не видел в разуме последнего или первого начала бытия (ἀρχή). Он человека ставил над разумом. Но отсюда до презрения еще бесконечно далеко. Стало быт, Платон и Аристотель совершенно напрасно так встревожились и, быть может, совершили величайшее преступление, скрыв от потомства сущность Протагорсиза учения. Им помогали Аниты и Мелит — те самые, которые отравили Сократа: ведь книгу Протагора о богах сожгли! Но Платон и Аристотель сделали худшее, чем Анит и Мелит. Они убили не Протагора самого, они истребили его духовное наследие! Сколько ни бьются теперь историки, мы уже не в силах вырвать из забвения, оживить дух Протагора. Протагор — софист, торговал истиной — вот почти все, что мы о нем знаем. Можно, конечно, догадываться, что «суд истории» был несправедлив, что если софисты и торговали истиной, то у Протагора были настоящие, великие философские задачи. Но какие? Опять приходится догадываться, угадывать, хотя бы с риском ошибиться, создать quasi una fantasia о Протагоре ...
«Человек есть мера всех вещей». «Каждому утверждению можно противопоставить утверждение противоположное» — вот все, что осталось от Протагора, если не считать первых известных, но ничего не говорящих фраз из его книги о богах. Как понять смысл этих изречений? С одной сторону — они нелепы, как доказывали Платон и Аристотель, ибо заключают в себе явное противоречие. Но именно потому, что они так вызывающе, так очевидно нелепы, мы обязаны предположить, что под ними скрывается иное содержание, чем то, которое им придает враждебно настроенная интерпретация. Правда, более благосклонная современная критика пытается - смягчить бессмыслицу первого утверждения, истолковывая его в смысле «специфического релятивизма»: не каждый человек в отдельности есть мера вещей, а человек вообще. Такое толкование кажется более приемлемым. Но основное противоречие все же не устраняется, а только глубже загоняется и стано-
176
вится менее видным: специфический релятивизм, как основательно доказал Гуссерль, при внимательном рассмотрении не имеет никаких преимуществ пред релятивизмом индивидуальным. Так что ограничительное толкование не отменяет, а только отсрочивает приговор. А Протагор не может ничего привести в свое оправдание: стараниями Платона и Мелита он навсегда лишен возможности защищаться своими словами. Но, тем более разжигается наше любопытство, наша любознательность. Боги завистливы; они не хотят открыть смертным тайны бытия. Может быть, они потому и помогли Платону и Аристотелю справиться с Протагором и даже добились столь противоестественного союза их с убийцами Сократа, Анитом и Мелитом, что Протагору открылось больше, чем это, по плану богов, людям знать полагается. «Die innere Kraft einer religiösen Idee sichert ihr niemals die Weitherschaft», учит нас ученый историк религиозных идей А. Гарпак (Dogmengesch. II [1] 272). Внутренняя сила религиозной и, конечно, тоже философской идеи никогда не обеспечивает ей торжества в мире. Я даже склонен еще резче выразиться. Я думаю — и, по-видимому, вся история человеческих исканий подтверждает это, что последняя религиозная и философская истина potentia ordinata или даже potentia absoluta богов, никогда не могла бы, если бы кто -нибудь и открыл и возвестил ее, покорить себе людские умы. Истина — последняя — навсегда останется скрытой от нас: таков закон Судьбы. Блаженный Августин говорит: ipsa veritatis occuitatio aut humilitatis exercitatio est aut elationis attritio (De civ. Dei XI, 22), t. e. что истину от нас скрыли либо для того, чтоб мы упражнялись в смирении, либо для того, чтоб наказать нашу гордыню. Может быть объяснение Августина слишком тенденциозно — не так уже легко разгадать замыслы богов, но факт— becultatio veritatis— остается: истина от нас скрыта. И, повторяю, решение богов неизменно. Средства же, которыми они пользуются, самые разнообразные. Они всегда находят людей и среди толпы, я среди избранников, которые готовы всеми способами преследовать истину. И это
177
им легко удается, так как всякая новая истина с первого взгляда пугает. И, затем, боги так устроили — только боги и могли такое придумать! — что последняя истина всегда облечена в противоречия, абсолютно неприемлемые и прямо невыносимые для нашего духа, отпугивающие даже самых смелых исследователей. Сколько говорилось и писалось на эту тему начиная с Гераклита и элеатов и кончая Кантом, Гегелем и Шопенгауэром. Общеизвестный факт, что самые выдающиеся философские системы «насквозь пропитаны» противоречиями — казалось бы, пора к ним привыкнуть и научиться видеть в них «дар богов» — и все же люди продолжают думать и, верно, всегда будут думать, что противоречия есть что - то незаконно прилепляющееся к нашим постижениям, что их нужно преодолевать — а если нельзя преодолеть, то умышленно не замечать. И поразительная вещь: не только философские истины, т. е. истины «о корнях и источниках всего», всегда при своем первом появлении кажутся противоречащими и очевидности и самим себе — все великие научные постижения сначала представляются людям явно нелепыми. Оттого не раз было, что открытой истине приходится целые века ждать своего признания. Так случилось с пифагорейским учением о вращении земли. Всякому видно было, что оно ложно, и человечество больше 1500 лет не принимало этой истины. Даже после Коперника ученым приходилось скрывать новую истину от бдительности защитников традиции и здравого смысла. Тоже и Ньютона до сих пор большинство людей игнорирует. И в самом деле, каково человеку, привыкшему «видеть», что тяжесть, как и непроницаемость, есть неотъемлемое свойство всех материальных вещей, примириться с мыслью что предметы сами по себе не имеют тяжести, что тонкая паутинка и огромный камень в безвоздушном пространстве падают с одинаковой быстротой! Аристотель, как известно, считал такое допущение верхом нелепости. И утверждение Протагора явно противно здравому смыслу. Человек есть мера вещей! Иначе говоря, не объективное бытие определяет собой наши суждения, а наши су-
178
ждения определяют собою объективное бытие. При чем, ко всему, надо думать, что Протагор исповедовал не специфический релятивизм, а индивидуальный, т. е. полагал, что каждый человек в отдельности меряет, как ему вздумается, вещи, стало быть — сколько людей, столько и истин. Хуже: истин больше, чем людей, ибо один и тот, же человек сегодня думает так, а завтра — иначе. Где же критерий истины, как отличить правду от лжи? И как жить, если невозможно отличить правду от лжи? Последний вопрос смущает даже современных защитников Протагора (прагматистов), и они стараются доказать, что жить все - таки можно, что при протагоровской точке зрения все же можно отыскать критерий истины и даже очень хорошо обосновать его. Нужно только последовать примеру прагматистов — ценить одно полезное, и получится критерий, вполне удовлетворяющий самым строгим требованиям. Рассуждения прагматистов напоминают рассуждения дикарей, не помню уже каких. «На чем держится земля?» — На слоне. «А слон на чем держится?» — На улитке. Пытливость дикаря удовлетворена: на чем - то земля держится, опора — есть.
Мысль о том, что земле ни на чем и держаться не нужно, показалась бы дикарю, да и многим европейцам — бессмысленной, нелепой. Если бы они знали Аристотеля, они бы заявили: «это можно сказать, но этого нельзя думать». Самая идея об увлекающей предмет тяжести так срослась с интеллектуальным существом человека, что ему кажется: откажись он от этой идеи, — придется отказаться и от мышления. Так же обстоит дело и с протагоровским учением о критерии истины. Человек есть мера вещей! Так могут думать — говорит Гуссерль — только в сумасшедшем доме. Аристотель говорит: такое можно сказать, но так думать нельзя. И все - таки Протагор не был ни сумасшедшим, ни обманщиком. Он только, по-видимому, догадался, что маленькая улитка так же не может поддержать большого слона, как большой слон — необъятную землю. И ему пришла в голову смелая и великолепная мысль: да точно ли необходимо поддержи-
179
вать «истину», точно ли истина, если ее не поддержать, «упадет»? И, ведь, в самом деле, может быт не упадет. Может быть, «всеобщность и необходимость» вовсе не есть «свойство» истины, как тяжесть не есть «свойство» тела. В условиях нашего существования тяжесть и в самом деле есть «почти» свойство тела: ни один человек никогда еще не мог своими руками поднять вещь, не почувствовавши ее тяжести. И истины никто не видел и не может увидеть, если она не исполнит предварительно тех требований, которые к ней предъявляет закон противоречия. Но ведь все вероятности за то, что Протагор в своем изречении имел в виду не эмпирическую, а метафизическую истину. Истину, как ее в себе носят бессмертные боги. И здесь на земле мы уже можем подметит разницу в отношении разных людей к истине. Поясню на примере. В ложу театра вошла королева со своими придворными дамами. Королева села, не оборачиваясь. И, так как она села, то под ней оказалось кресло. Дамы обернулись предварительно и, когда убедились, что кресла пододвинуты, сели. Королеве, чтоб знать, не нужно оглядываться, справляться. Для нее и «логика» особая: кресло является, потому что она садится. Обыкновенные же люди садятся, когда есть кресло. В этом, быть может, и заключалась мысль Протагора. Он, не знаю, видел ли или верил, несмотря на то, что повседневный опыт свидетельствует о противоположном, что человеку дано творить истину, что в жилах человека течет королевская кровь. Оглядываться на каждом шагу и спрашивать разрешения у «истины» нужно лишь постольку, поскольку человек принадлежит к эмпирическому миру, в котором и в самом деле господствуют законы, нормы, правила — действительные и воображаемые, где все вещи, даже истины, имеют тяжесть и, если их не поддержать, падают. Человек ищет свободы. Он рвется к богам и божественному, хотя он о богах и божественном ничего «не знает» или, если хотите — потому, что ничего не знает. О богах и знать ничего не нужно. Достаточно только слышать, что они зовут к себе, в ту гор-
180
нюю область, в которой царит свобода, где свободные царствуют. И первый шаг к богам — это готовность преодолеть хотя бы мысленно ту тяжесть, то тяготение к центру, к почве, к постоянному и устойчивому, с которым люди так сжились, что видят в этом не только свою природу, но и природу всего живого. Нет законов над человеком. Все для него: и закон; и суббота. Он мера вещей, он призван законодательствовать, как неограниченный монарх, и всякому положению вправе противопоставить положение прямо противоположное.
XIX.
Две логики. «Целую вечность тебя не было, и ты об этом не горюешь, не говоришь, что не можешь понять, как мог мир существовать без тебя. А по поводу вечности в будущем, когда тебе предстоит не быть, ты утверждаешь, что это неприемлемо. Ясно, что ты непоследователен, — увещевает разум человека. — Конечно, тебе ясно, для тебя я непоследователен. Но есть и другая логика: раз я уже вырвался из ничто, стало быть, кончено; я больше в ничто не обращусь. И вторая «вечность».— моя. — Так отвечает несговорчивый и упрямый спорщик. И с таким — разум ничего не поделает собственными средствами.
XX.
Cur Deus homо? У человека болит зуб, и он становится ни к чему не способным. Ничего не видит, не слышит — только о боли и зубе думает. Не помогают ни размышления, ни доказательства разума, что завтра все пройдет. Проклятая боль поглощает последние силы, окрашивает в свои серые, ноющие, тупые краски весь мир, всю вселенную. Не вдохновляет даже и идея о вечности, ибо сама вечность представляется человеку производной от зуба и боли. Может быть при таких условиях родился deus sive natura Спинозы,
181
«единое» Плотина и средневековых мистиков, равно как и то отвращение ко всему сотворенному, о которых столько говорят философы. Возможно, что презрение к тому, что Спиноза суммарно называл dtvitiae, honores, libidines, а равно и нашему эмпирическому я, родилось от какой-нибудь упорной, длительной, мучительной боли, устранить которую люди не умели, и которая под именем высшей истины воссела на троне и властно судит живых и мертвых. Даже у Платона, по предположению некоторых его горячих поклонников, мысль об идеальном мире возникла в связи с казнью Сократа. Платон не навешал Сократа в тюрьме. Болезнь мешала, говорит предание. А может и не болезнь, даже вернее всего, что не болезнь. Не мог ученик смотреть на бессилие обожаемого учителя! И потом всю жизнь только и думал о том, как это случилось, что ничтожные Анит и Мелит, и презренные афиняне - судьи, и грязный тюремный сторож, и чаша с противным зельем оказались могущественней самой истины, воплощенной в Сократе. Весь гений свой Платон направил к тому, чтобы заворожить эту страшную, не прекращавшуюся и невыносимую боль, которую он испытывал при воспоминании о позорной смерти «лучшего из людей». Его философия и поэзия его философии были борьбой и преодолением этой боли. Вся последующая философия эллинов, когда сознательно, когда бессознательно искала слова, которое освободило бы людей от кошмарной власти бессмысленной необходимости. И средневековая философия продолжала дело великих эллинов и так же вдохновенно и напряженно продолжала искать. Только новая или, вернее, новейшая философия нашла разрешение вопроса — в позитивизме кантовского или кантовского типа: забыть о замученной и отравленной истине и жить положительными, интересами ближайшего дня, года, десятилетия. Это называется «идеализмом». Это, конечно, и есть идеализм чистейшей воды, безраздельно овладевший духом современного человека. Идея — единственный бог, еще не сверженный со своего пьедестала. Ему поклоняются и ученые, и философы, и богословы. Про-
182
чтите новейших католических апологетов — вы в этом убедитесь.
Но скажут, быт может: боль, ведь, есть условие постижения истины. Истина есть истина лишь потому и постольку, поскольку ее распинают. Возможно, конечно. Но зачем тогда идеализм? Зачем засыпать благоуханными цветами земной поэзии прозу, грязь и кровь потусторонней правды? Пусть бы она предстала пред нами во всей своей ужасающей наготе! Или творчество в том именно и состоит — всякое творчество, и художественное, и философское и религиозное — чтоб вырастить на потусторонней безобразной истине прекрасные посюсторонние цветы? И, вопреки древним, задача человека не в том, чтоб вернуться к первоначальному «единому», а в том, чтоб уйти от него как можно дальше? Так что вырвавшееся из лона Единого индивидуальное в своем дерзновении (τόλμα) совершило не преступление, а подвиг — величайший подвиг! И Протагор, учивший, что человек есть мера вещей, был скромен и боязлив? Нужно создать новую заповедь: человек должен быть мерой всех вещей, в этом — высшая цель.
Начало сделано. Человек вырвался из лона единого. Теперь ему предстоит великая борьба. Еще цепи, которыми он был опутан, когда жил в «лоне», далеко не все порваны. Еще воспоминания о блаженстве прежнего, созерцательного, почти небытийного существования манят его к сладостному, ровному покою сверхиндивидуального бытия. Еще «разум» пугает его безграничностью возможностей и трудностей, предстоящих отдельному, самостоятельному существу в его новой жизни.
Философия — и светская и религиозная — тоже «черпающая все» из разума, настойчиво противопоставляет безмятежный покой прошлого единого бытия вечной тревоге, напряжению, мукам и сомнениям множественного существования. И все же есть люди, которые уже не верят нашептываниям разума. «Инстинкт» ли или что-то другое — противится в них такого рода увещеваниям. Не хотят люди, всеми силами
183
своего существа не хотят, поклоняться бесплотным идеалам, даже самым прекрасным. Даже философы, профессионально проповедующие божественность идеального начала, всячески стараются в жизни стряхнуть с себя его иго. Точно и у них, как у Сократа, кроме разума был бы еще демон руководитель, который в решительных случаях накладывал свое непонятное, но властное, последнее veto. Так у русских самосожигателей «идейные» руководители, отдавая в жертву пламени толпы средних верующих, сами незаметно покидают, через заранее приготовленный выход, горящее здание. Ни Сократ, ни Платон, ни Плотин — никто из них не растворил своего бытия в «едином». А вот стоики — вспомните Эпиктета и благородного Марка Аврелия — скептики, эпикурейцы и все многочисленные школы, вышедшие из Сократа и его учеников, те добросовестно сжигали себя на добровольно устроенных кострах. Сократ, Платон и Плотин, а в новое время Спиноза расцвели под сенью своих философских построений. Когда они взывали: назад, к единому, они шли вперед — прочь от единого. Никогда еще — после первого, конечно, отрыва от единого, люди не дерзали так утверждать свою «самость», как это сделал Сократ. И, поразительная вещь! Послушайте, с каким благоговением говорит о Сократе Алкивиад. А идти — не идет за ним: «демон» не пускает. Недаром, проникновенный поэт сказал: video meliora, proboque, détériora sequor. В этих словах кроется огромная, последняя и, может быть, роковая загадка нашего бытия. Алкивиад был легкомысленным, беспокойным, честолюбивым человеком. И еще у него было много «недостатков» — не стану о них говорить. Я вовсе не хочу его «оправдывать» — тем более, что это и не нужно: история и историки уже произнесли над ним свой приговор. Но и другое несомненно: и у Сократа были свои недостатки, а Алкивиад был натурой исключительно одаренной, гениальной. «In hoc natura quid efficere potest videtur experta» — в нем природа, говорит Корнелий Непот, попробовала себя — что может она создать. А что такое ге-
184
ний — как не великий дар дерзновения, иногда выпадающий на долю смертных людей, запуганных «анамнезисом» когда-то в прошлом существовании усвоенных ими законов и императивов («синтетических суждений а priori» — выражаясь языком современности). И вот Алкивиад не хуже, чем Сократ и видел и одобрял, как «лучшее», эти императивы, но в силу какого-то таинственного веления (и. у него, как у Сократа, был собственный, только к нему одному приставленный демон - хранитель) дерзал делать «худшее», т. е. свое — совсем так, как Сократ не учил, а делал. И Вергилий подметил и с такой «античной простотой» выразил в приведенных словах эту «антиномию». И сколько раз люди, вслед за Вергилием, повторяли его стихи (даже у Спинозы и отцов церкви мы их встречаем), но все же истолковывали, что идти к «своему», к «худшему» — это слабость, а следовать «лучшему», общим нормам — это сила. Почему так истолковывали? Обычный, будничный, средний опыт подсказал. В обыденной действительности, как это, прекрасно умел всегда показывать в своих диалогах Сократ, веления разума точно предохраняют нас от бед. Разгоряченному человеку хочется холодной воды. Разум запрещает: если выпьешь, плохо будет — заболеешь. Тот, кто видя и одобряя «лучшее», т. е. предписание разума, последует «худшему», т. е. непосредственному желанию, тот, конечно, поплатится. Отсюда, из ряда таких примеров, который можно продолжать бес конца, Сократ заключал: разум есть источник всякого знания, его истины непреложны и т. д. Но, в этом - то и кроется ошибка, Сократ забыл о своем демоне. Есть и должен быть предел власти разума.
Именно потому, что он предназначен руководить человеком в его эмпирическом существовании, оберегать его от бед здесь, на земле, он, по существу своему, не способен руководить нами в наших метафизических скитаниях. Плотнику, кузнецу, повару, врачу, государственному деятелю разум может сказать, что «хорошо», что «дурно». Но «хо-
185
рошее» и «дурное» для повара и кузнеца, для врача или строителя, вовсе не есть «хорошее» и «дурное» вообще, как утверждал в своих рассуждениях Сократ, а за Сократом и Платон. Тут происходит настоящий μετάβασις εἰς ἄλλογένος. В метафизической области нет ни поваров, ни плотников, ни их «добра» и «зла». Там царит «демон», относительно которого мы даже не вправе предположить, что он интересуется какими бы то ни было «нормами». Ведь нормы то возникли у поваров и для поваров были созданы. Для какой же надобности заносить всю эту «эмпирию» в те места, куда мы «бежим», чтоб от эмпирии укрыться. Все искусство философии должно было бы быть направлено к тому, чтоб освободить нас от «добра и зла» поваров и плотников, т. е. отыскать тот предел, за которым власть общих понятий кончается. Но философия не могла отказаться от «теоретизирующего» Сократа. Даже Кант в «критике практического разума» вернул «разуму» все отнятые у него «критикой чистого разума» державные права и привилегии на непогрешимость. Алкивиад — а с ним и все дерзновения — признаются вперед, бес проверки, вечно - незаконными, опасными и вредными. Анамнезис, врожденные идеи (у Канта — априорные: это, конечно, вернее, т. е. прочнее и неуязвимее), принесенные человеком из эпохи его предмирного — вавилонского пленения, взяли верх. И нужно признать, что видимость, доказательность — рациональная и эмпирическая — вся на стороне Канта и его идеализма. Дерзновение ведь потому только и есть дерзновение, что у него нет залога на успех. Дерзновенный человек идет- вперед не потому, что он знает, что его ждет, — а потому, что он дерзновенный, или, если вам нравится больше теологическая формулировка — идет вперед, движимый sola fide. Бывает, даже большей частью так бывает, что он не рассчитывает и не вправе рассчитывать на удачу. Наоборот, он ясно видит пред собой неудачу и с ужасом в душе берет на себя ответственность за действия, последствия которых ни он сам, и никто другой из людей предугадать не может. Я думаю,
186
что первое существо, которое вырвалось из лона общего, перенесло величайшие муки — если только оно было одарено сознанием. И вернее всего не было одарено сознанием, раз оно решилось на такое безумие. Ведь Прометей, только похитил огонь у богов, и как ему пришлось за это поплатиться! Так вот опять: video meliora proboque, détériora sequor. Нужно для философских целей только чуть - чуть изменить формулировку поэта: не предрешать что лучше, что хуже. Т. е. сказать: разум ведет меня к одному, все существо мое рвется к другому. Но где же, на чьей стороне «истина»? В движении ли вперед от единого, из которого после столь неслыханного напряжения удалось вырваться, или в движении назад к единому, в сознании, что первое дерзновение было грехопадением? Конечно, если первое дерзновение было грехом, остается только смириться, и, чтобы искупить грех, вновь раствориться в едином. Но, если наоборот, если первое дерзновение было великим подвигом человека? Если оно было началом жизни? Если «единое» есть «ничто», смерть, и вырваться из его власти значило не уйти от Бога, а идти к Богу? Все христианское средневековье терзалось загадкой: cur deus homo? Разрешали ее различно. Правда, все в духе Плотина, ведь средневековье через бл. Августина и Дионисия Ареопагита подпало под влияние эллинизма. Но, каковы бы ни были толкования, факт, тогда всеми признанный и признаваемой многими еще теперь, таков: был в истории момент, когда Бог принял образ человека и вместе с тем принял на себя все муки и трудности, какие выпадают в этой жизни на долю самого несчастного и жалкого человека. Зачем это? Cur deus homo? Почему, зачем Бог стал человеком, подверг себя обидам, истязаниям и позорной, мучительной смерти на кресте? Не затем ли, чтоб своим примером показать людям, что на все можно пойти, все стоит вынести — только бы не оставаться в лоне единого? Что какие угодно муки живого существа лучше, чем «блаженство» насыщенного покоя «идеального» бытия. Думаю, что мое предположение вправе конкурировать с другими отве-
187
тами на вопрос: cur deus homo. Вовсе не обязательно думать — в угоду ложно истолкованным взглядам эллинских самосжигателей — что Бог принял образ человека затем, чтоб человек перестал быть самим собой и стал идеальным атомом интеллигибельного мира. Это было достижимо и «естественным» путем — что бы ни доказывали средневековые теологи. Сверхъестественное вмешательство потребовалось только потому, что нужно было поддержать человека в его безумном стремлении, в его неслыханном, ни на чем ни основанном, дерзновении к самоутверждению. Бог стал человеком затем, чтоб человек, поколебавшийся в своем первоначальном решении (это выразилось в эллинской философии), вновь утвердился в нем. Но люди не захотели понят Бога. Средневековые философы и богословы истолковали «благую весть» в духе своего «philosophus’a» — Аристотеля. И наши современники продолжают так толковать ее, даже католические и протестантские богословы. Можно надеяться переубедить людей? Или нужно ждать второго пришествия?
Или — последнее и самое подавляющее, самое современное возражение: и Платон и Плотин, и средневековые богословы с их спорами о том, почему бог стал человеком, и «благая весть», которую принес на землю воплотившийся Бог — все это пустословие, которое прощается молодым, но за которое, как сказал Калликл Сократу, пожилых и почтенных людей бить надо. Это возражение очень основательно. С Платоном, Плотином, Ансельмом, Фомой Аквинским — можно спорить. Но как спорить с позитивистом, который уверенностью и душевным спокойствием превзошел даже самое «идею» покоя? Напомнить ему о событиях последних лет? Но он все видел — и виденное им не, прибавило ему новых знаний, равно как не пробудило столь ненавистных ему сомнений.
Л. Шестов
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
