13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Зеньковский Василий, протопресвитер
Зеньковский В., прот. Церковный национализм
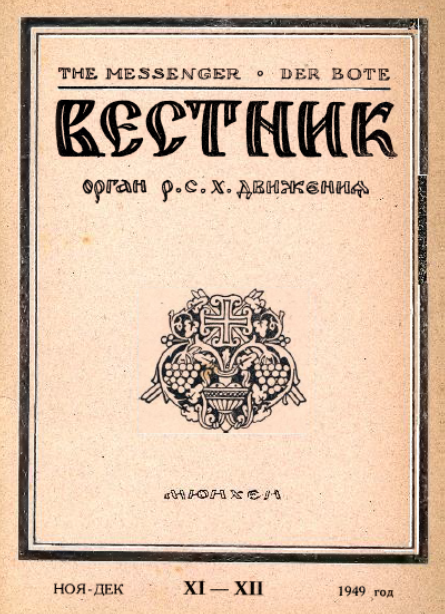
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
„ЦЕРКОВНЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ”
(Авторизованная запись доклада)
Вопрос, которому посвящен мой доклад, это вопрос о так называемом церковном национализме. Что это значит? При предварительном определении подчеркнем прежде всего, что здесь имеется в виду то, как националь-
8
ная стихия преломляется в церковном сознании и к нему она ведет в церковном сознании. Национализм церковный есть действительно некоторая стихия, внедренная в церковную мысль, стихия не враждебная ей, но все же иная. Таким образом мы будем называть церковным национализмом такое понимание церкви и ее пути в истории и нашего отношения к церкви, которое отстраняет или отодвигает или даже забывает о вселенской природе церкви, которое связывает всю „нашу” церковь с нашей родной страной. Наша страна вообще необъятна по размерам и возможностям, — вот и кажется, что она вмещает в себе все, всю огромную тему церкви. Поэтому для нас, для русских, было бы вполне достаточно — так кажется нам — если бы мы осмыслили все бытие нашей русской церкви, ее силу, ее действие и значение для нас.
Это забвение вселенской природы церкви, отстранение или отодвигание ее, приводящее к целому ряду деформаций, и лежит в основе т. наз. церковного национализма. В конце мы сможем точнее определить это явление.
Вообще говоря, реальность вселенского христианства для многих из нас сейчас является немного отвлеченным понятием, которое в принципе, конечно, никто не устраняет: ведь христианство пришло для всего мира, Христос пришел, хотя и в „избранном народе”, но для всего мира, разбил преграды национальные для того, чтобы дать свое благовестие всем людям.
Следовательно, вселенский смысл христианства в принципе бесспорен, но где оно в реальности? Не является ли оно связанным с концом истории, когда „проповедано будет евангелие всякой твари” и когда мы увидим подлинное вселенское раскрытие христианства? А до тех пор, не заключено ли христианство в отдельных (национальных) церквах?
Это понятие „национальных церквей” ныне очень распространено, оно до такой степени крепко вошло в наше сознание (особенно русское), что оно оказывается часто „достаточным” для нашей жизни. И тогда идея вселенского христианства получает совершенно бесплотный, отвлеченный и неприменимый в жизни смысл. Это устранение идеи вселенскости церкви или вселенского аспекта церкви из церковной реальности не только, однако, суживает наше церковное сознание, но является симптомом и более глубокой болезни, чем это кажется
9
сразу. Беда не только в том, что мы не ощущаем вселенскости христианства, но беда в том, что при таком суждении христианство дает крайне мало для каждого из нас в пределах моей же национальной стихии, что оно ведет неизбежно к узкому и, следовательно, обедненному пониманию самой церкви.
Есть в русской истории нового времени один характерный эпизод, касающийся связи Православия и самодержавия. Была эпоха, когда многие мыслители, создавшие очень важный период (в начале XX века) религиозного возрождения в нашей стране, упорно доказывали, что православие по существу неразрывно связано с самодержавием. Отсюда и появилась у русских людей idee fixe, что сила Церкви — в самодержавии, что, борясь с самодержавием, надо бороться и с Церковью. И это писали люди бесспорной религиозности Мережковский, Бердяев и такой талантливейший человек, как Розанов. Они считали, что понятия самодержавия и православия связаны теснейшим образом одно с другим, — забывая, что есть православие в Румынии, Болгарии, Греции, где никакого самодержавия не существовало. Как могли думать, что сущность православия вообще связана с сущностью самодержавия? Очевидно, что даже выдающиеся мыслители мыслили Церковь в национальных границах. Даже у Достоевского есть такое выражение, что „каждый народ имеет свою идею Бога”, т. е. хотя, конечно, Бог один, но каждый народ в Боге имеет свою отдельную „обитель”, что есть „русский Бог”, и это представление об особой национальной церкви было довольно ходячим. Уже с самого начала подсказывается вывод, что может быть вообще христианство не должно быть соединяемо слишком тесно с национальным началом, и это ставит нас не' только перед трудным для нашего сознания вопросом — ведь национальная стихия в каждом из нас есть самое драгоценное, что мы в себе носим — и потому так трудно подумать о том, что не заблудилось ли христианство тем, что дозволило образование так называемых национальных церквей, и дальше, что христианство, так как его вмещали в слишком узкие национальные рамки представало перед людьми не во всей своей полноте.
Но такая постановка вопроса достаточно выявляет, что эта тема о национальной стихии, о национальном начале в церкви таит в себе моменты, которые могут
10
очень больно касаться нашей души. Все же мы должны заняться этой темой, — мы должны не бояться прямо вложить свои персты в наши раны. Это, конечно, „раны”, потому что, если мы с вами имеем в самих себе самое дорогое и настоящее, то это то, что мы русские, что мы не можем себя мыслить вне России. Ведь, если есть страсть, которая законно овладевает нами, то это страсть к Родине; она законно овладевает нами, ибо чем же нам жить, как не Россией, о чем думать, как не о нашей России. Это наше право, выстраданное тем, что столько лет мы находимся вне нашей Родины.
Вопрос в том, как же нам вместить с этой узостью нашего религиозного сознания всю полноту и правду христианства? Быть может оно разрушит эту нашу внутреннюю сосредоточенность на думе о родине, быть может просто оно в нас не вместится? И тут в самом начале можно сказать: понятие национальной церкви вообще чуждо церковной традиции, которая знает лишь понятие поместной церкви. Это означает, что в каждой местности возникают церковные общины или объединения и эти объединения церковных общин характеризуются местом, территорией, географическими данными, а совсем не национальным моментом, ибо на одной и той же территории могут оказаться разные национальности. А вместе с тем на данной территории образуется некоторое единство, поместное, и это единство характеризуется двумя важными моментами: во-первых — возникает некоторое центральное управление церковное. По мере образования национальных государств (которые, собственно говоря, возникают, приблизительно лишь начиная с XV века) выдвигается второй момент, это то, что такая поместная церковь (говорю сейчас лишь о Православии) связывает себя (в богослужении) с языком страны, где она образовалась. Оттого в православном мире и существует богослужебное „разноязычие” (в противоположность католической церкви, где богослужение совершается всюду на одном (латинском) языке).
И вот как раз в этой точке и происходит та встреча — встреча церкви и национального начала, — которая гораздо глубже, чем она кажется..
Напомним еще раз, что явление национальности есть явление позднее, есть вообще продукт истории. Достаточно сказать, что смысл понятия нации, в глубине ее, был впервые раскрыт немецким философом Фихте лишь
11
в начале XIX в. (когда Германия была под французской оккупацией). Национальная стихия, которая продолжала накопляться в процессе истории на основе языкового единства, постепенно обнаруживает в себе нечто, что обладает огромной силой. Национальное развитие, конечно, всюду шло и идет и без этого осознания и это позднее явление и развитие национальности таит всегда в себе большие трудности, которые возникают на почве дифференциации единой национальной стихии (особенно у таких больших народов как русский — напомню о расхождении русских и украинцев. Историческое единство и бесспорная близость доныне не мешают спорам о том, являются ли украинцы особым от России народом).
Встреча благодатных сил, которыми живет церковь, с этим явлением и развитием национальных разделений очень различно проявилась на Западе и на Востоке.
Запад, по мотивам самым разнообразным, вникать в которые не буду, не сделал народные языки языком церковным, языком богослужебным. Язык в этом смысле терпится в католической церкви, как „неизбежное зло”. Но, с другой стороны, для католического Запада это языковое единство всего церковного народа было и остается очень важной, мистически действующей скрепой церковного единства.
Что произошло в протестантизме? Тут был принят церквами язык народный, — напомню о переводе библии Лютером на немецкий язык. В протестантизме в церквах открылся полный простор для местных языков. Язык признается здесь только „естеством”, потому и дана ему свобода. Однако, в нем нет ничего священного по очень простой причине. В протестантизме мы, находим отделение видимого от невидимого, мистического от реального, и это отделение заранее определяло, что все, что здесь на земле, ценно и в своем „естестве” священно. Как священна семья, как священно государство, так вообще священны все те начала жизни, которые по Божьей воле на земле существуют. Но не больше! Тот благодатный перелом, который входит в мир через церковь, не касается „естества”, ибо церковь в мистическом смысле есть церковь невидимая. Хотя церкви в протестантизме приняли народные языки, хотя здесь было на самом деле и есть несомненное взаимное влияние, но вместе с тем иного связывающего их начала, которое есть в православии, в протестантизме не получилось.
12
Что же произошло в православии?
Оно с самого начала широко открыло дверь местным языковым особенностям и на всех языках мы имеем очень древние памятники, где уже высшие догматические истины и богослужебные тексты выражаются на местном языке. Мы почитаем Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских, ибо они перевели все нужные нам книги на принятый нами церковно-славянский язык, и этот церковный язык, в сущности, стал первым нашим литературным языком, стал той самой основой, на которой могло развиваться живое творчество. Есть слова из церковного языка, которые перестали употребляться в нашем литературном языке, но до сих пор они звучат такой поэзией, благоухают такой особой прелестью, что свидетельствуют о том, как церковное употребление языка украсило его. Если мы в обыкновенном языке не ощущаем этого благоухания, то это потому, что нас подавляет деловой, житейский смысл слова, богослужебный же язык как бы вбирает в себя всю красоту церковности. Так происходило и происходит таинственное действий церкви на стихию языка. Таким образом понятие поместной церкви, как чисто территориального объединения, стало соединяться с чисто национальной стихией, даже стало ей подчиняться и в этом смысле и искажаться.
По учению французских традиционалистов язык нам дан от Бога. Это замечательное учение, с которым нельзя не считаться. Стихия языка вообще, иногда, время от времени, приобретает какую-то особую, поистине, божественную силу. Есть такие гениальные вещи в языке, которые не могли быть „придуманы”, а явились в порядке вдохновения, т. е. пришли от Бога. И это веяние божественных сил в языке, эта музыка языка и до сих пор слышны, — особенно в церковных песнопениях.
Вся эта встреча языка и церкви в Православии все время продолжается, и те из нас, которые знают и любят церковный язык, испытывают на себе несомненно влияние этой оцерковленной языковой национальной стихии.
И если язык есть „скрепа” национальности, то язык есть и выражение национальности и основа ее. Если увядает язык, происходит денационализация. То, что происходит в языковой стихии, тончайшим образом определяет также и наш внутренний строй.
Но здесь-το и заключается то, что можно назвать опасностью национального начала для нас православных.
13
Запад этой опасности не знает, потому что навсегда утвердил в качестве богослужебного. языка латинский, который всегда охраняет единство церкви. Протестантизм тоже не знает той проблемы, перед которой мы стоим; он распадается и будет распадаться благодаря все растущему индивидуализму, но этот религиозный распад никак не связан с языковым началом.
Что же касается нас православных, то рост национального момента в Церкви был и продолжает быть опасным для самого церковного сознания. Надо тут же указать, что это искажение церковного языка через влияние национального начала не исходит от мирян. И это очень важно понять. История всех церковно-национальных утопий показывает, что все это было созданием людей Церкви, работавших в тишине своих келий, а совсем не занятых всякой суетой мира. Здесь перед нами явление, которое не так легко понять. Даже поэма о Москве Третьем Риме, которая нас тешит, есть цветок церковный, продукт церковного творчества, и это не надо забывать — не для того, чтобы хвастаться, а потому что он вырос из глубины церковного сознания — и вот оказывается, что именно через духовенство, т. е. людей, более тесно связанных с церковью зреет церковный национализм. На этой же почве созрело и понятие о „матери-церкви”, в смысле церкви национальной. Правда, есть выражение: „кому церковь не мать, тому Бог не отец”. Но, если верно понятие Родины как матери (национальное начало — тоже наше материнское лоно), то понятие матери-церкви, в смысле „национальной церкви”, является одним из тех выражений, которые только соблазняют нас и путают наше сознание.
Итак, православие соприкасается через язык с национальной стихией. А что же ценного имеет в себе национальное начало? Не является ли оно вообще двусмысленным? Не выражается ли его природа в том, что называется „национальным эгоизмом”?
Каждый народ часто думает о себе прежде всего и готов возомнить: „мы есть народ избранный”. Вот эта возможность преувеличенного национального сознания не является ли признаком того, что в национальном начале есть нечто болезненное? Разве само национальное сознание не есть выражение нашего отпадения от того основного благовестия о братстве всех, которое Господь принес на землю? Нет, должно сказать. Национальное
14
начало есть радость для церкви, оно совсем не есть нечто, что нужно принижать, отодвигать или нести как бремя, как мы несем часто бремя своего тела. Даже больше, — национальное начало вообще есть действительно священное начало, как священны семья, государство, т. е. те институции, которые возникают в процессе естественного собирания человечества в малые и большие тела. Так и национальное начало, национальная культура хранит в себе священный смысл (недаром слово „культура” происходит от „культа”, т. е. имеет религиозную основу).
Что мы называем священным? Священное не есть святое. Есть священные вещи, которых мы не можем касаться, целый ряд вещей священны, хотя они не святые. Священно то, что на самом деле вплотную ставит нас перед святыней, но само по себе не святое. Семья священна — она должна стать святой, государство священно, дай Бог ему вместить свет святыни! „Священность” означает здесь Божью руку, Божий замысел, поэтому и нация есть Божие произволение. Развитие национального начала не есть ошибка истории, мы не ушли в нем в сторону от правильного единства человека, это есть даже путь единства, потому что мы через нацию перерастаем самих себя. Всякий человек, для которого национальное сознание стало руководящим, никогда не может и не должен от него отречься, потому что он через него становится выше самого себя. Вот почему люди, живущие национальным сознанием, даже будучи маленькими, тщедушными, слабыми, могут по своей природе становиться героями. Есть удивительная преображающая сила в том, что в человеке вспыхивает национальное сознание. За Родину можно умереть, можно отдать ей все свои силы, ей можно себя посвятить. Здесь есть какие-то силы, которые меня самого преображают, они меня освобождают от моей эгоцентричности, по которой я неизбежно слишком люблю самого себя, моих близких родных, тех, о которых я в первую очередь молюсь. Это есть наша естественная ограниченность, а Господь призвал нас к тому, чтобы быть Божьими сынами для всего мира и для космоса, и этим эгоцентризмом царственный путь человека перед нами закрывается. Каждый из нас живет в своем маленьком миру, нам трудно подняться над тем, что есть наша жизнь, и увидеть, что вне нас тоже цветет жизнь. Пусть даже моя жизнь скучна и
15
томительна, но есть свет и вне меня — и это сознание принадлежности к своему народу, особенно, если мы имеем радость принадлежать к великому народу, — дает нам безмерные богатства, которые даются нам даже выше наших сил. Сама душа, пронизываясь национальным сознанием, иначе чувствует, иного в мире ищет, потому что она становится свободной от самой себя.
Поэтому в национальном сознании таится действительно преображающая сила и, когда человек проникается национальным сознанием, он вырастает, он способен стать подлинным героем, он живет большой и полной жизнью. Народная стихия — наше „материнское лоно”, в котором мы живем, которым мы питаемся.
У нас есть три матери: 1) естественная, от которой мы произошли, 2) родина-мать и 3) церковь-мать и их нельзя путать. Это связано с тремя разными слоями в человеке: слой мой ближайший — родная мать, слой мой более широкий — родина-мать и слой вселенский — церковь-мать. И поскольку родина есть тоже мать — она не только дорога нам, она нужна нам, без нее нам не жить.
Есть удивительные страницы на эту тему, написанные нашим известным педагогом Ушинским — простыми и ясными словами говорит он о том, что несет язык ребенку. Как через народные песни (особенно через песни), так и через родной язык входит в самую глубину души стихия народности. Ничто так не формирует человека, как его язык. Могли бы вы объясняться, если бы выросли без общества, могли бы найти свою собственную душу, если вы слов для этого не смогли иметь? Как часто мы стоим на пороге чрезвычайных откровений в душе, но, если я не нашел слов, чтобы выразить их, я не могу их закрепить в душе. Художники слова — величайшие счастливцы в этом отношении. Это есть самый трудный, может быть, и самый счастливый подвиг нахождения слова. Как велик тот, которого мы сейчас чествуем — Пушкин, — в том, что он умел для всего найти надлежащие слова! Если и я найду во время надлежащие слова, то я нащупаю ядро своей мысли, я скажу теми словами, которые выразят суть моего существования. Вот, почему значение слова так неизмеримо, — есть метафизика и мистика слова.
Итак, вот какое значение имеет национальный момент для каждого из нас. И горе тому, у кого слабеет эта сторона его души, и дай Бог, чтобы все молодые
16
поколения, по неволе не имеющие живого чувства Родины, могли бы через язык, через песни глубже войти в дух России, смогли бы ощутить, что они русские.
В национальном начале есть, конечно, божественный замысел, в этом нельзя сомневаться. Ибо Господь хранит все народы, они народы не безмолвствующие, а говорящие, народы, объединенные языковым смыслом, ибо народ делается через то, что он находит свои слова, и через это врастает в неизмеримое богатство истории. Вот почему такое счастье принадлежать к великому народу и такой великий долг принадлежать к малому народу. И как нельзя забыть родную мать, так нельзя забыть родину-мать, но нельзя забыть и мать-церковь.
Если в нас живет национальное начало, то это неистощимый источник духовного возрастания — никогда до конца нельзя напиться из этой чаши, сколько бы человек ни жило тем, что заключено в богатстве народной жизни, национальной истории. Именно от того, что мы прикасаемся к этому источнику и питаемся от него, мы сами над собой поднимаемся, я сам вырастаю в героя и, если случится, готов умереть за Родину; очень многие скажут: „сладко умереть за Родину”. Это, ведь, единственный тип „естественной” смерти, который несет в себе величайшую сладость; умереть за Родину действительно сладко, — это есть радость, высокая цель.
Но вместе с тем, если это так, то, конечно, для нас несомненна и опасность в упоении национальной стихией — тот самый язык, через который я стал человеком, этот самый язык отделяет меня от других народов, принадлежащих к одной матери-церкви. Господство национального сознания ведет к тому, что я вношу национальный момент в церковную сферу и не хочу думать ни о какой другой православной церкви, кроме русской. Никогда не забуду, как по поводу одной моей статьи покойный Владыка Антоний мне сказал: „вот за это я вас хвалю, что вы любите греков”. Это верно потому, что от греков наша вера, это тот народ, на языке которого написано Священное Писание и писали Святые Отцы. Поэтому можно сказать, что часто высказываемая мечта заменить греческие формы догмы славянскими растет на почве партикуляризма — нам часто хочется, чтобы догматы выражались в духе славянского сознания, а Богу было угодно выразить их на греческом языке в духе эллинской стихии и, следовательно, надо это принять.
17
Может быть мне хотелось бы иной раз, чтобы у меня папа и мама были бы другие, но Богу было угодно дать мне тех, кого Он мне дал — и грешно мечтать о других родителях. Так и догмы родились в обстановке эллинства, и это надо принять до конца.
Нужно прямо сказать, что попытка непременно заключить полноту церкви в границы моего национального сознания всегда ведет к ошибкам и заблуждениям. Я уже упоминал о том поветрии в русской культуре XX в., когда Мережковский и другие с напрасным одушевлением боролись против связи православия и самодержавия — чего не было в реальности. Теперь, когда самодержавия давно нет, когда нам об этом уже не приходится вздыхать, православие остается реальностью, которая, освободившись от тех форм, которые Богу было угодно в течение трех столетий держать в русской жизни, предстала перед нами во всей своей подлинности.
И вот здесь можно сказать: несомненно из этого замыкания церкви в рамки национального начала вырастает ложное понятие „матери-церкви”, как русской церкви. У человека есть родная мать, которая для него священна всегда, есть родина-мать, от которой храни нас Господь отойти или отречься, ибо все, что делает нас людьми, идет от русской стихии, от напевности русской речи, но есть и мать-церковь, и эта мать-церковь никогда не была тождественна с Россией, потому что это есть мать вселенская церковь. Мы забываем, что спасительная сила, которая вложена Господом в церковь, пришла для спасения всех людей, а не только для наших соотечественников. Это есть забвение того, для чего Господь пришел в мир, и оно приводит к тому, что мы забываем самый смысл церкви и то дело нашего спасения, которое в ней совершается. Каждому и всем надлежит личное врастание в тайну искупления, которое только замедляется тем, что я забываю о всемирном смысле, всеобщей правде спасения. Церковь не может вместиться ни в какие национальные границы или церковь не есть то, что создал на земле Господь. Понятие „национальных церквей” есть, таким образом, ложное понятие, —есть только поместные церкви, —вмещение же церкви в национальные границы означает лишь непонимание природы церкви.
Конечно, церковь включает в себя нашу молитвенную жизнь, она несет каждому из нас утешение, но церковь есть прежде всего спасение мира, она все время
18
таинственно участвует в спасении всего человечества. Поэтому церковь, которая захотела бы замкнуть себя в национальные границы, утеряла бы Христову силу.
Всякое национальное чувство, если я им живу, конечно, меня подымает, но, надо сказать, есть в национальной стихии и темное начало, как во всем' естественном, хотя бы и священном по замыслу Божию. Семья, напр., представляет собою сферу, где, кроме света, так много накопляется тьмы, трудностей, грехов. Это же относится и к национальному началу. Нам не хватает сознания вселенской природы церкви, которая дана всему миру, она дана и нам, и если мы верим в правду церкви, то мы не можем не сознавать ее всемирного смысла и значения.
Национальное начало, как и семья, как и государство, несет в себе постоянную опасность самозамыкания. И давно ли прошла та страшная буря национализма, которая привела к последней войне.
Вообще священные вещи только становятся святыми, но не таковы сразу по своей природе. Они священны, потому что прикасаются к тайне божественной, но святыми они делаются через наши усилия. Поэтому закрывать глаза на опасность национального момента, значит, либо легкомысленно проходить мимо опасности, либо не понимать природы церкви.
Господь сказал: „враги человеку домашние его”, но Он не отрицал семьи, ибо Он благословил брак, но лишь констатировал факт, что для спасения человека семья нередко становится преградой, потому что суживает его; но также и национальное начало может быть преградой для спасения, когда оно ведет к церковному национализму. Скажу даже яснее: церковный национализм это болезнь нашего времени. Мы должны до конца продумать то, что означает природа церкви, чтобы не впасть в эту болезнь. Родной язык, родная страна, родная нация — есть то, чем я дышу, но я должен знать о том, что здесь есть искушение, и единственное для меня спасение от этого искушения есть мать-церковь. Кому церковь не мать, тому и Бог не отец, — но какая церковь есть мать? Христова церковь! Только тогда, когда мы доходим до этого слова, не исчезает Родина, но она светится, не сама собою светится, но светом Божиим.
Надо продумать до конца все эти идеи, быть может это даже способно терзать сердца, ибо может казаться,
19
что, ставя себе церковные задачи, мы изменяем своей Родине, но это неверно. Господь требует от нас верности своему народу, но не меньше зовет Он к церкви, как к всемирной силе спасения. Будем помнить одно — церковь призвана для всего человечества, природа церкви не открывается иначе, как только во вселенском теле Христовом.
Прот. В. Зеньковский.
20
Страница сгенерирована за 0.16 секунд !
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
