13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Бальтазар фон, Ганс Урс
Бальтазар фон, Ганс Урс Целое во фрагменте. Некоторые аспекты теологии истории
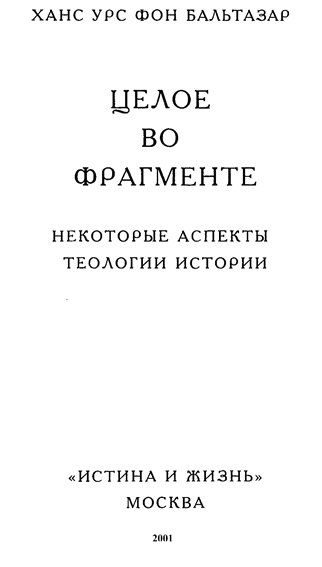
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
Оглавление размещено в начале.
Ханс Урс фон Бальтазар
ЦЕЛОЕ
ВО
ФРАГМЕНТЕ
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ
ТЕОЛОГИИ ИСТОРИИ
МОСКВА
2001
Νηπιοι ουδε ισασιν οσω πλεον ημισυ παντοζ,
Ουδ δσον εν μαλαχη τε και ασφοδελω μεγ ονειαρ
ГЕСИОД
Ονκ εστ εραστής οστιζ ουκ αει φιλει
ЭВРИПИД
ОГЛАВЛЕНИЕ
Б. РАЗВЁРТЫВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ 33
A. ЧЕЛОВЕК В ПРОТИВОРЕЧИИ И РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС 58
3. Религиозный проект выхода из противоречия 67
Б. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ И ХРИСТИАНСКИЙ ПУТЬ 70
3. Предварительный характер обоих путей 76
4. Третий путь — путь любви 79
B. ЧЕЛОВЕК В ЦЕРКОВНОМ ОПОСРЕДОВАНИИ 91
1. Церковь как человеческая целокупность. Мария 91
3. Прозрачность образа Церкви 94
Г. ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ 98
1. Целостность философская или теологическая? 98
2. Свобода и первородный грех человека 106
3. Человек между верой и знанием 113
Д. ВЖИВАНИЕ В ХРИСТИАНСКУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ 118
А. ВОПРОС О ТЕОЛОГИЧЕСКОМ СМЫСЛЕ ИСТОРИИ 123
1. Ядро вопроса: личность и история 123
2. Расширение вопроса: религиозное время и время откровения 128
Б. ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС О СМЫСЛЕ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ 136
1. Форма и содержание церковного времени 136
2. Развёртывание в структурном 143
3. Шаг к Духу 151
5. Харизматическое и апокалиптическое пророчества 166
6. Церковное время и обращение Израиля 173
В. ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС О СМЫСЛЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ 179
1. Способ вопрошания в Библии 179
2. Разворачивание вопроса в ходе истории теологии 185
3. Отношение между теологией и философией истории в наше время 189
1. Тема духа 205
2. Тема власти 219
1. Прорыв вовне 247
2. Смыкание противоположного 251
3. Взвешенность и основание 256
4. Слово сдержанное и нарушенное 262
6. Страсти Слова 304
10. Слово как мужчина и женщина 334
11. Слово как господин и раб 343
12. Слово как иудей и язычник 351
Именной указатель 363
Предисловие
Всякий, кто в послушании Божиему Слову пытается сегодня думать и говорить о Боге и человеке, оказывается в трудном положении, если только он не хочет сбиться с узкой тропинки, тесного пути между двумя типами титанизма. Первый, восходящий к Константину и ставящий политическую власть на службу Христову Царству, в наши дни, когда Церковь окончательно потеряла свою власть, категорически отвергнут, но тем усерднее вызывается дух другого титанизма, который отождествляет - или, во всяком случае, пытается наглядно объединить — технический прогресс с возрастанием Царствия Божия. Однако оба они, как нам ещё предстоит показать, являются лишь разновидностями интегризма, первый - разновидностью регрессивной и клерикальной, второй - прогрессистской и светской. И тот и другой творят для Царства Распятого Христа земную власть, т.к. оба сливают воедино царство мирское и Божие, древний - тем, что невидимое царство символически репрезентирует видимым, новый — тем, что усваивает видимому, в качестве динамического источника энергии, невидимое. Древние повергали время к престолу подвластной им вечности, нынешние шагают в ногу со временем, надеясь таким образом достичь блаженства. Древние вступали в земные битвы in hoc signoи приводили к победе «льва Иуду», новые из человеческой солидарности воют вместе с волками.
Однако Агнец Божий не смотрит ни волком, ни львом. Он прошёл тесным путём и, призывая нас следовать за собою, даровал нам надежду-избежать человеческого титанизма. И правые, и левые не могут смириться с тем, что земное существование во времени - фрагментарно. Они предлагают различные формулы с целью дополнить фрагмент до целого или, по возможности, даже прочесть его как наличное целое. По-левому динамично они вводят в действие социальные программы, заимствованные у пророков или из Нагорной проповеди, в качестве прогрессивной общественно-преобразующей силы; по-правому ста-
7
тично усваивают зыбкой мировой материи вневременную иератически иерархическую форму, установленную Христом.
«Программа» Агнца, хранящая верность земле, ибо она внутренне humilis, смиренна (т.е. близка к humus, почве), не может быть ни левой, ни правой. Она не позволяет встроить себя в земные программы, поскольку не обладает ничем таким, что они могли бы использовать. Поднятие её на щит может выглядеть выигрышно и даже даёт известный пропагандистский эффект, однако проистекающее отсюда недоразумение непременно даст о себе знать. Так случилось с Августиновым «Градом Божиим» (противящимся подобному пониманию): средневековье, хотя и с возможной почтительностью, подчинило его своим целям, сочтя Августиново «странствие Царства Божия на чужбине и в ночи» душой и духом и присоединив к ним земное тело. Радикальное учение Августина о времени должно и для нас служить исходным пунктом и, хотя бы негативно, предохранять нас от поверхностных выводов и бездумности, которые в наше время всё чаще возникают при попытках осознания основ христианства. Позднеантичная установка, в рамках которой основной вопрос философии («что есть бытие бытийствующего и почему вообще тому, что нам дано, в определённой степени присуще качество бытийности?») в своём неизменном виде задаётся совместно с основным вопросом теологии («что говорит нам Божие слово о Боге?»), по-прежнему необходима и нам. И поскольку в наше время философский вопрос более не звучит, уступив место вопросу о так называемом «точном» знании, которое сегодня пытается заменить собою философию, то данное в своей данности уже рассматривается как «обусловленное» и о качестве бытийности, присущем данному, никто не спрашивает. Исчезновение философского вопроса ведёт к тому, что теология, вместо того чтобы лицом к лицу встретить непостижимое (θαυμάσιον) в Божественном откровении, оставляет его без внимания, извлекая лишь некое предполагаемое «содержание», и сейчас же начинает перерабатывать его по меркам собственной (правой или левой) «программы». И подобно тому, как учёный апологет «точного» знания хлопает по плечу философа, убеждая
8
его оставить наконец бесплодный вопрос о бытии и двигаться дальше, — так и «точный» теолог (догматик, моралист, экзегет и т. п.) требует, чтобы мы занялись теми областями знания, что сулят нечто достоверное и позволяют вернуться к себе домой с чёткими результатами в руках.
Попытка определиться на этот счёт лежит как раз в тематическом русле нашей книги: вправе ли вообще говорить тот, кто не может предоставить утешительные «исследовательские результаты»? Тема нашей книги — теология истории. Какие ответственные высказывания, с опорой на библейское откровение, можно сделать в этой области, чтобы скрытым образом не переступить её границы с философией истории? Очень немногочисленные, по всей вероятности, и весьма осторожные. Что-то, по-видимому, произошло также с прежним запретом на нарушение границ и требованием методологической чистоты. Синтез теперь осуществляется единым махом и в глазах большинства выглядит весьма привлекательно, разобрать его на составные части - задача куда более сложная и неблагодарная. Философам, как и теологам, история дана лишь в качестве фрагмента. По обрывку музыкальной фразы, о котором неизвестно, является ли он пятой или двадцатой частью целого, невозможно восстановить симфонию. Даже Гегель, который, вообще говоря, знал всё, не смог сконструировать будущее. Нам, знающим куда меньше, приходится отказаться от попытки, имея перед собой историю отдельных фрагментов мира, скалькулировать целостность абсолютного, надмирного Духа.
Фанатическим приверженцам «результативности» и «развития» наш опыт может показаться возвратом к давно преодолённому мышлению Индии или к основательно забытому и обесславленному гнозису. Но неужели мы в самом деле столь решительно отвернулись от Азии, что даже не хотим иметь ничего общего с одним из её величайших устремлений? Августин, с которого мы начнём наше рассмотрение (и который приобщился к этому направлению через Плотина), тщательным образом его продумал и изнутри оправдал - сходно с тем, как Бубер пытался усвоить себе хасидизм или как Соловьёв претворял в своём
8
учении Гегеля и даже Валентина. Августину удалось ввести в христианство высочайшую правду опыта distentio («растянутости»), тогда как поспешно-опрометчивые решения, выдвигаемые гнозисом, основанным на понятии идентичности, он отверг и заменил их окончательной метафизикой вечной любви. Сколь бы нам ни хотелось - поднявшись над Августином - положительно оценить значение мирового «развития» (например, вслед за Соловьёвым), всё же конечный смысл истории раскрывается лишь там, где его наметил Августин.
Данная книга (как и предшествующая ей «Theologie der Geschichte», 3. Aufl. 19591) менее всего походит на капитальный трактат по теологии истории. Наша мысль всё время как бы вращается вокруг нескольких главных тем, по многу раз на разных уровнях возвращаясь к той же самой или сходной проблеме. Снова и снова мы будем обращаться к вопросу о времени, его средоточии и его конце, к проблеме открытого разума и откровения, проблеме иудеев и язычников и т.д. Эти вопросы выбраны с учётом заглавной темы: куда следует нам обратить свой взгляд, чтобы во фрагментарности нашего земного бытия усмотреть направление к целому? Каждый осколок будит мысль о целом сосуде, каждый скульптурный торс прочитывается в перспективе некоего неразрушимого начала. Может ли наше земное бытие стать здесь исключением? Позволим ли мы ему убедить нас в том, что в своей фрагментарности оно и есть целое? И не получается ли, что, дав себя убедить, мы упускаем смысл, заключённый во фрагменте, и обрекаем себя на бессмысленность? Мы, таким образом, задаём вопрос о себе самих и, задавая его, надеемся на то, что сами мы всё же больше любого вопроса. Мы полагаем, что некто должен знать об этом всё. Некто, могущий ответить на вопрос о нас самих.
1 Последним, пятым изданием эта книга вышла в 1979 г. (Прим, пер.)
10
I. РАССЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ
А. ВИДЕНИЕ АВГУСТИНА
В девятой книге «Исповеди» Августин завершает историю своей прежней жизни, отчёт о существовании, впавшем в грех и суетность, но вновь возвращённом, или обращённом, милостью воззвавшего к нему Бога. Этот отчёт, что очень закономерно, заканчивается смертью матери, земное бытие которой достигло полноты в сыновнем обращении и которая, уходя, вознесла свою материнскую любовь в «Вечный Иерусалим», сущий «в Тебе, Отец, вселенской Матерью», о которой «вздыхает в странствии своём, от исхода до возвращения, народ Твой» (IX n 37)1.
Так взгляд от горизонтальной жизненной протяжённости восходит к вертикали, и Августин добавляет к своей внешней биографии ещё четыре книги, чтобы вслед за историей своего существования продумать историчность его, совершающегося в напряжённой раздвоенности между родиной, «горним Иерусалимом», и юдолью странствия, «землёй», отделённой от родины первородным грехом, виной и различными формами распада. Ничто в этой напряжённой раздвоенности не мыслится мифологично2, но, скорее, - в том единстве теологии и философии, которое отличало всю античную мысль, особенно мысль Платона и
1 В дальнейшем при цитировании приводится номер книги и подглавы (без номера главы).
2См. De Gen. с. Man. I, 17, гдеобсуждаетсяразделениеверхнихинижнихводспомощьютверди: «ei ideo fortasse super coelum esse dicuntur aquae invisibiles (т.е. мирангелов), quae paucis intelliguntur non locorum sedibus, sed dignitate naturae superare coelum...» («говорят, что, весьма возможно, невидимые воды пребывают выше неба, и тем более такое возможно потому, что, согласно некоторым, речь идёт не о престолах, расположенных в определённых местах, а о том, что эти невидимые воды возносятся выше неба благодаря достоинству своей природы»).
11
Плотина, и было унаследовано Отцами христианской Церкви. Исследование этого вертикального измерения у Августина - ещё более, чем у платоников, - приобретает экзистенциальный отпечаток: вопрос заключается уже не в том, qualis fuerim , как это было в первых девяти книгах, а в том, qualis sim , или ещё более настоятельно: quis jam sim et quis adhuc sim (X, 6). Ответ на этот вопрос в основных чертах уже дан в биографической части книги: я-тот, кто, быв обращён к тьме, милостью Бога возвращён к свету и отныне с благодарностью и благоговением объявляет о своей приверженности свету. Теперь, однако, тот же ответ должен прозвучать и получить обоснование в теолого-философском плане: какие протяжённости есть во мне, каковы предпосылки для подобной истории моего земного бытия? Всей своей логикой изложение свидетельствует о том, что мы приблизились к главному перекрестью Августиновой мысли, которая в этом месте обретает великолепную, редкую даже у Августина убедительность, причём кульминация достигается как результат четырёхстороннего подхода1.
Книга Х-это Книга памяти, если последнюю, вслед за Платоном, понимать как глубинную перспективу припоминания, простирающуюся внутрь духа вплоть до самого его истока; поскольку же для христианина эта глубина отождествляется не с миром идей, но с живым Богом, то неохватное внутреннее пространство памяти сразу же прорывается в трансцендентную глубину: «Есть... в человеке нечто, чего не знает сам “дух человеческий, живущий в человеке” (1 Кор 2. 11), Ты же, Господи, создавший его, знаешь всё, что в нём» (X, 7). И лишь с помощью Бога, ко-
1 Последние книги «Исповеди» Августина представляют собой четыре комментария на начало Книги Бытие. В дальнейшем мы будем пользоваться некоторыми положениями из более поздних Комментариев, если эти положения задают более краткую и выразительную формулировку мыслей, содержащихся уже в «Исповеди». В конце этой главы будут кратко упомянуты отклонения поздних Комментариев от воззрений, выраженных в «Исповеди».
12
торого он не знает (X, 8), может человек понять, что же он знает о самом себе. «Кто Он, пребывающий над вершинами души моей? Этой душой моей поднимусь к Нему» (X, 11). Если дух имеет свой исток в Боге, значит, Бог пребывает в памяти духа (X, 35). И вместе с тем: «Ты пребываешь Неизменным и Постоянным над всем, что меняется» (X, 36). Но эта всеопределяющая напряжённая двойственность («Ты удостоил мою память стать Твоим жилищем», но при этом никакое творение не может охватить Бога) составляет лишь фон имманентной двойственности самой памяти - двойственности, которую Августин выявляет, подвергая её тончайшему психологическому анализу. «Равнины и обширные дворцы памяти» таят в себе «бесчисленные сокровища»: всё то, что было воспринято моими чувствами в мире и теперь находится либо совсем близко, либо глубоко запрятано и завалено поздними слоями, но вновь может быть извлечено из забвения, более или менее глубокого. Даже часть того Я, каким оно было прежде, может мне там встретиться (X, 14). Также и духовные содержания, которые я уяснил для себя своею мыслью и которые не могли быть привнесены в мою память телесными чувствами — «Я узнал их в собственном уме». Как помысленные они ещё не существовали в моей памяти, и всё же, когда мне их предъявили, я их узнал и сказал: «Это так, это правильно», — значит, «они уже пребывали в моей памяти, но были словно запрятаны или убраны в самые отдалённые её пещеры». Таким образом, подумать — это не что иное, как «согнать (cogito — от co-agito, что этимологически верно), сочетать (colligere)то, что разбросанно и беспорядочно лежало в памяти, и усилием ума сделать так, чтобы в той же самой памяти, где прежде всё это лежало раскиданным в небрежении, теперь легко сбегалось в ответ на уже привычное усилие взора (intentio)». Кое-что, конечно, «вновь уходит вглубь», и его «приходится словно бы из некоего рас-сеяния (dispersio)вновь собирать, откуда и ведёт своё происхождение понятие «думать», ибо cogo (сгоняю, стягиваю) и cogito соотносятся между собой так же, как ago (действую) и agito (с усердием гоню). (С этой августиновской
13
этимологией можно сравнить хайдеггеровское толкование λεγειν- λόγος как со-питания, собирания)1.
Далее, однако, взгляд всё чаще обращается к феномену «завалов» памяти, иначе говоря, феномену отчуждения. «Я вспоминаю» означает: мне в настоящем принадлежат вещи, которые уже отсутствуют сами в себе; я и сам отношусь к таким же вещам. Я вспоминаю о чувствах радости и боли, гнева и печали, однако уже не ощущаю сопутствовавшего им волнения (X, 21— 23). Я припоминаю также свою забывчивость, в её самом общем (X, 24), но и конкретном смысле, поскольку знаю, что раньше я знал вот эту определённую вещь, а теперь её не знаю (X, 25 и далее), и более того: я могу искать какие-то вещи в своей памяти таким образом, что, сталкиваясь с другими вещами, отбрасываю их, а находя искомую, восклицаю: «Вот она!» (X, 27). Так память ищет в себе самой то, что выпало из неё, но именно поэтому не пропало вовсе, а может находиться под завалом.
«Как же мне искать Тебя, Господи? Когда я ищу Тебя, Боже, я ищу блаженной жизни». Искать ли её (на платоновский лад) по воспоминанию - «подобно человеку, который её забыл, но о том, что забыл, хорошо помнит, - или по стремлению узнать её, неведомую: то ли я о ней никогда и не знал, то ли так о ней забыл, что и не помню, что забыл?» Конечно же, все стремятся к блаженной жизни, но «где же о ней узнали, чтобы её так хотеть? Где увидели, чтобы полюбить? И всё же мы ею воистину обладаем, только не знаю, как». «Находится ли мысль о ней в памяти? Ибо если она там находится, то мы все были когда-то счастливы (каждый ли в отдельности был таковым или все вместе — в том человеке, который первым согрешил, и в котором мы все умираем, и от которого все мы рождаемся на чужбине, — об этом я сейчас не спрашиваю)...» (X, 29). Августин в основном предпочитает первый, пла-
1 С коррективом, который вносит Walter F. Otto (Der Mythos und das Wort, in: Das Wort der Antike 1962, 357): «Первоначальный смысл — избор (откуда позднее — соб(и)рание), а значит, сосредоточенность внимания, обдумывание, внимательность».
14
тонический способ решения этой проблемы, как ни труден он в теологическом отношении. То, что каждый стремится к какому-нибудь счастью, ещё не вносит сюда ясности, ибо блаженство, к которому стремимся мы все, - это не любой вид счастья (Х, 32). И если большинство людей полагают, что для своего удовлетворения они не нуждаются в вечном блаженстве, то Августин отвечает на это, что все люди непременно стремятся к истине, но полная истина - это и есть Бог, т.е. полнота любви (X, 33-34).
Но затем разъяснение того, каковы бывают развеянные и засыпанные следы прежних созерцаний в нашей памяти, до времени откладывается, и в п. 38 следует жалобная констатация, что не Бог покидает человека и держится от него вдали, но человек так поступает по отношению к Богу. «Вот, Ты был во мне, а я - был во внешнем и там искал Тебя; в эти благообразные (formosa)вещи, Тобой созданные, бросался я, безобразный (deformis)».В этом из-лиянии было утрачено единство; его можно снова восстановить лишь строгой отрешённостью, собиранием, которое прежде характеризовалось как сущность мышления, а теперь - ещё и как сущность любви. «Через отрешённое воздержание (continentiam) делаемся мы собранными (colligimur)и возвращаемся к Единому, от Которого растеклись во многое. Ибо меньше любит Тебя тот, кто любит что-то помимо Тебя и любит не ради Тебя. О Любовь, что всегда горишь и никогда не гаснешь, Милосердие (caritas),Боже мой, зажги меня. Ты требуешь отрешения: дай то, что требуешь, и требуй, что хочешь» (X, 40). Итак, Августин заканчивает X книгу исследованием своей совести: «похоти очей, похоти тела и гордости житейской», которые в духе Августина ещё противостоят этой собирающей любви. Но феномен самоотчуждения, свойственный у-себя-бытию (memoria) духа, требует более глубокого продумывания.
Книга XI - это Книга времени. Проведённый здесь анализ времени, быть может, ещё в большей степени, чем анализ памяти, является теологическим и вместе с тем философским. Он начина-
15
ется с пространной молитвы, обращённой к Богу вечности, которому ведом борющийся во времени молитвенник, которому принадлежат и день, и ночь, по чьему мановению «пролетают минуты» и чьим «пребывающим вовеки» словом созданы небо и земля (XI, 1-9). И поначалу складывается впечатление, что Бог со своим вечным словом недвижим (stabilis veritas), творение же, напротив, динамично - сразу же по исхождении из Бога оно соскальзывает в область не-божественного и затем вновь бывает возвращено взывающим словом Бога и приведено в неподвижное состояние. «Даже когда нас наставляет существо изменчивое, его уроки всё-таки ведут нас к недвижной истине, где мы и учимся по-настоящему: стоим и слушаем Его, “радостью радуемся, слыша голос Жениха”, и возвращаемся туда, откуда мы родом. Потому-то Он и есть “Первопричина”: если бы Он не пребывал, пока мы блуждали, нам некуда было бы вернуться» (XI, 10). «Исходить из Бога», «блуждать вдали от Бога»: первое сказано о творении, второе - о грехе. Но кто - если взять конкретное экзистенциальное сознание - проводит различие между двумя этими категориями? Анализ времени, который следует далее, подчёркивает их принципиальную нерасторжимость.
Дело мышления и любви в предыдущей книге описано как процесс собирания в памяти всего, в ней распылённого и «заваленного»,-в ответ на усилие взора (in-tentio) и на твёрдую внутреннюю сосредоточенность (continentia). Вечный Творец не нуждается в подобном собирании, ибо - «Ты был раньше всего прошлого на высотах всегда пребывающей вечности, и Ты возвышаешься над всем будущим» (XI, 76); однако творение само по себе не может сконцентрироваться, «время» прежде всего тем и отличается, что оно «стремится к небытию (tenditпоп esse)» (XI, 17). Время будущее и время прошедшее, будь оно долгим или коротким, не существует, поскольку оно - именно будущее или прошедшее; существованием наделено лишь «настоящее, столь стремительно, однако, уносящееся из будущего в прошлое, что оно не имеет никакой протяжённости (extenditur)... Настоящее не имеет длины (spatium)»(XI, 20). И если мы всё же разли-
16
чаем краткие и долгие промежутки времени, то измеряем их лишь по чувству, которое при этом переживаем (sentiendo metimur XI, 21). Если, однако, у нас всегда есть лишь настоящее, не имеющее протяжённости, как же тогда мы можем измерить протяжённое с помощью того, что не имеет протяжения? (XI, 27). Или же следует говорить о троичности настоящего: о «настоящем прошедшего, настоящем настоящего и настоящем будущего», понимая первое как память (memoria), второе как созерцание (contuitus),а третье как ожидание (expectatio)? (XI, 26). Но и это не меняет того факта, что мы измеряем только прошедшее (praetereuntia metimur). В сравнении с необозримыми сменяющимися пространствами памяти (ессе quantum spatiatus sum in memoria mea X, 35) время представляется чем-то крайне суженным (quod spatio caret XI, 27). И Августин снова обращается к молитве, чтобы получить от Бога ответ на эту мучающую его загадку. А разрешается она не с помощью аристотелевской дефиниции, согласно которой время есть длительность, отмеряемая неукоснительно точным движением небесных тел. Суть этой загадки заключена в душевном переживании длительности (тога, X, I), которое очевидным образом также свидетельствует о рас-тяжении (dis-tentio)1. Этим словом Августин переводит неоплатоновский термин, воспринятый также Григорием Нисским, διάστασις. Растяжённый характер временна́я длительность принимает также при отсутствии телесного движения. «Подобную длительность, или временную долготу, способны почувствовать ещё люди, живущие в пещере и не могущие наблюдать солнечного восхода и заката» (Gen. с. man. 1,20; Gen. ad litt. lib. imp. 8), и таким образом tempus может отождествляться с distentio (XI, 33).
Но что же представляет собой «растяжённое»? Прежде всего очевидно, что нечто «разрозненное», чтобы его можно было окинуть взглядом и измерить, должно быть целиком собрано
1 Центральное положение distentio в августиновской концепции времени, а также проблема преодоления distentio с помощью intentio подробно рассмотрены в: G. Quispel: Zeit und Geschichte im antiken Christentum. Eranos-Jahrbuch 1951; 115, 140.
17
внутри единого места, и таким местом может быть только душа. «Я измеряю не саму длительность - её уже нет, - а нечто такое, что осталось от неё в моей памяти. В тебе, мой ум, измеряю я времена» (XI, 35—36). Но это становится возможным, лишь если и ум-в качестве ожидающего, внимающего и помнящего -также претерпевает растяжение и вместе с тем устойчиво пребывает в сосредоточенном состоянии (perdurai attentio XI, 37), благодаря которому и появляется возможность собирания преходящего, как бы пролетающего сквозь настоящее мгновенье. Это походит на песочные часы, в которых один резервуар (ожидаемое будущее) сквозь узкое отверстие (настоящее) отдаёт своё содержимое в другой резервуар (вспоминаемое прошлое): «Пока я не начал читать стихотворение, моё ожидание сосредоточено (tenditur) на нём как на целом; когда начал, то по мере того, как я переправляю его в прошлое, сосредотачивается (tenditur)также и моя память, и тем самым моё живое действие растягивается (distenditur)между памятью о том, что уже произнесено, и ожиданием того, что предстоит произнести. При этом моё внимание (attentio) сосредоточивается на настоящем, сквозь которое проходит то, что было будущим, чтобы сделаться прошлым» (XI, 38). Такая растянутая натянутость определяет не только психологическое восприятие временного промежутка, в котором длительность непосредственно воспринимается как единство, но и «всю человеческую жизнь» и даже «все века, прожитые сынами человеческими, которые складываются, как из частей, из всех человеческих жизней» (XI, 38), а также историческое время, представляющее собой соразмерную человеку длительность, гомогенную среду, доступную для человеческого восприятия; между тем как низшее время животных (X, 26) и время ангелов (Gen. lib. imp. 8), будучи, разумеется, также разновидностями тварных длительностей, всё же содержат в себе другую меру.
Эту «растянутость» души как предпосылку восприятия времени автор «Исповеди» толкует теологически. Тварность и греховность одинаково присущи времени: «Я же разорван (dissilui) во времени, строй которого мне неведом, и мои мысли, самое нутро моей души,
18
раздираются набегающими волнами перемен, доколе не вольюсь я в Тебя, очищенный и расплавленный в огне Твоей любви». «Так как “милость Твоя лучше, нежели жизнь” (Пс 62. 4), то вот жизнь моя: это сплошное рассеяние (distentio), и “десница Твоя подхватила меня” (Пс 17. 36) в Господе моём, Сыне Человеческом, Посреднике между Тобой, Единым, и нами, многими, Посреднике во многих вещах и на многих путях; да “достигну через Него, как достиг меня Он”, и, от ветхих дней собранный воедино (a veteribus diebus colligar), за Единым последую, “забывая прошлое” и не к будущему стремясь, которое снова прейдёт, а “к тому, что позади”; не растянутый (distentus),но тянущийся вовне (extentus), не в рассеянности (distentio),но в собранности (intentio) последую за Ним “к почести высшего призвания” (Флп 3. 12—14), дабы там “услышать глас хвалы Твоей” (Пс 25. 7) и “созерцать веселие Твое” (Пс 26.4), которое ни появляется и ни исчезает» (XI, 39).
Процитированная мысль из послания апостола Павла к Филиппийцам позволяет всю структуру растянутого времени приурочить к прошлому, которое соотнесено с бытием, а также различать между стремлением вперёд и гор· (т.е. туда, откуда уже изошла взывающая и влекущая благодать) -и будущим, которое соотносится со временем. То, что здесь названо «ветхими днями», соответствует «лукавым дням» из Послания к Ефесянам, где содержится совет «выкупать время». «Что же значит “выкупать время”? Это значит, пусть и ценой потери преимущества времени, так проживать временные доли, чтобы стремиться к вечному и достичь его» (Serm 16,2; PL 38,122). «Выкупать время - значит, если кто ищет с тобою ссоры, то пусть и потеряешь нечто, лишь бы находиться тебе в Боге, а не в ссоре. Если теряешь что-то одно ради приобретения другого, значит, ты это купил; полученное тобою -это и есть купленное, а потерянное -это цена» (Serm 167, 3; ebd. 910). Приобретение ценой потери: в этом и состояло требуемое обуздывающее самоотречение, повторное собирание сущности, которая канула и растворилась в бесформенной временности: colligas totum quod sum a dispersione et defonnitate (XII, 23). Кануть вовремя –это означает «блуждать» (XI, 10),
19
«вытечь» (defluxi ad ista XII, 10), «раствориться в многоразличности времён» (m temporum varietatem et vidssitudinem ab illo se resolvi XII, 19), это означает также «тонуть» и милостью Бога вновь «выплывать» (mergimur et emergimus XIII, 8), и прежде всего - соскальзывать в бездну (abyssus),каковой и было бы творение само по себе, без зиждущего и милующего действия Бога: человек, которого забыл Бог (filii Adam obliti Tui, dum se abscondunt a fade Tua et fiunt abyssus XIII, 30), становится бездной смерти и грудой нечистоты (profimditas mortis, abyssus corruptionis IX, l). «Отходя от источника вечной жизни, душа погибает, её подхватывает мимобегущее колесо мира1 (a praetereunte saeculo),и она сообразуется с ним» (ΧΙΠ, 30).
Книга XII —это Книга вневременных мировых начал. Переплетение философии и теологии времени, смело предпринятое Августином, подводит его к опасным границам. Одна из них примыкает к теории, которую позднее развивал Максим Исповедник, соединивший во времени (но не по существу) моменты творения и грехопадения: «Вступая в земное бытие, человек, по грехам своим, одновременно покидает свой истинный исток» (Quaest. ad Thal. 59; PG 90, 613C), «Проходя через становление, человек одновременно предаётся духу чувственности» (ebd. 61; 628А). Августин эту границу не переступает, хотя в своём онтологическом учении о тварном бытии подходит к ней достаточно близко. В XII Книге он, по сути дела, выявляет онто-теологические предпосылки экзистенции в наполовину «заваленной» памяти и в растянутом. В основу его размышлений ложатся первые же богооткровенные строки Писания. «В начале (здесь «нача-
1 Образ вращающегося «колеса рождений» известен в Библии (τῶν τροχον της γενέσεως Jak 3,6), и какого бы ни был он происхождения: индийского или орфического, сколь бы ни был, как полагает G. Kittel (Die Probleme des palästinens. Spätjudentums das Urchristentum, Beitr. z. Wiss. v. A. u. NT, 3 F l Heft 1926, 141—168), обесцвечен в позднем иудаизме и уже в стёртом виде усвоен христианским автором, всё же и здесь он сохраняет экзистенциальную окраску и не может быть отнесён на счёт «мифологического». У Августина, не говоря уже об Оригене, он встречается вновь.
20
ло» —это Логос) сотворил Бог небо и землю», являющие собою два исходных принципа тварного бытия. «Земля» (которая дальше характеризуется как пустая, безвидная, как тьма, хаос и водная стихия) — это чистая материя, низвергшееся почти-Ничто, которое было остановлено лишь «окликом Божьего слова» и «возвращено» к Богу (в неоплатоническом смысле), чтобы, «прилепившись к Богу», воспринять от Него свет и оформленную сущность (Gen. ad litt. I η. 9). Строго говоря, из Ничто создана лишь материя, форма же была из неё извлечена любящим проникновением в неё Божьего света (De Gen. с. man. I η. 10). Однако эта ничтожественная материя разделяется надвое: в одной её части берут исток духовные, в другой — телесные создания (ebd. η. 17). Первая же бытийная форма, а также все последующие, есть не что иное, как оклик творящего Божьего слова; прилепившись к этому слову, бесформенное обретает форму. Что же касается собственно духовного творения, «то его началом является вечная Премудрость, которая, неизменно пребывая в себе, непрестанно обращается с тайным духоносным призывом (occulta inspiratione vocationis) к каждому созданию (коего началом она является), чтобы оно вернулось туда, откуда изошло». «Ибо, отвратившись от неизменной Премудрости, оно погружается в безумие и нужду» (Gen. ad litt. I, 10). Итак, бытийная форма всегда уже есть речь, т.е. призыв Божьего слова, и-посредством воз-вращения - ответ творения на него. Но эта речь в своём истоке есть «небо», сотворённое вначале вместе с «землёй» - материей, которая не имеет перед «небом» первенства во времени (ибо чистой материи никогда не существовало, она была «совместно создана», concreata,лишь как предпосылка творения-формы; XIII, 48; XII, 40; Gen. ad litt. I, 29). Однако «небо» здесь понимается не в качестве чистой идеи (как у Максима), а как реальность. Это то «небо», о коем Августин скажет, что оно выше бытийной формы времени, которая, в свою очередь, превосходит чистую материю (XII, 14). «Оба—и изначально вполне оформленное, и беспокойно-бесформенное» (XII, 16) - избегают временно́й натянутости.
21
Что, или, точнее, кто есть «небо»1? Прислушаемся сначала к Августину, к его возражению оппонентам: «Вы отрицаете, что есть некое возвышенное создание, соединённое чистой любовью с Богом истинным и воистину вечным настолько тесно, что, не будучи вечно, как Он, оно всё же не удаляется от Него и не растворяется в изменчивом и опасном времени, а покоится в подлинном созерцании Его, ибо тому, кто любит Тебя, как Ты велишь, Ты, Боже, являешь себя, и с него этого довольно: он не уклоняется от Тебя -к себе» (XII, 19). Под этим «созданием» следует понимать «сотворённую премудрость» - ту, о которой Иисус, сын Сирахов, говорит, что она была «создана прежде всего» (Сир 1. 4), и в этом состоит её отличие от Премудрости несотворённой, т.е. самого вечного Сына Божия, Он же есть начало, в котором сотворены небо и земля. Здесь имеется в виду «премудрость сотворённая, т.е. духовная природа, ставшая светом от созерцания Света. И она, хотя и сотворённая, называется премудростью, но как свет, который освещает, отличается от света отражённого, так и Премудрость, которая творит, отличается от той, которая сотворена, как Правда оправдывающая отличается от правды, восстановленной оправданием» (XII, 19—20). Ещё раньше это «некое изначально сотворённое создание» Августин обозначил как intellectualis. Оно «ни в коем случае не извечно, как Ты, Троица, но всё же причастно Твоей вечности. В сладостном счастье созерцать Тебя оно преодолевает свою изменчивость и, прилепившись к Тебе, превозмогает, не зная падений от сотворения своего, скользящий круговорот времён» (XII, 9). Эта «сущность» чуть позже названа по имени: «Domus Тиа, обитель Твоя, созерцающая Твоё блаженство без единого поползновения уйти, чистый ум (mens), объединённый в нерушимом мире святых духов, гражданин града Твоего» (XII, 12). Это есть «Domus Тиа, quae peregr inata non est» и потому (Августин не устаёт это повторять) sine ullo intervallo mutationis, хотя сам по себе изменчивый, но
1 К постановке вопроса см. пашу статью «Wer ist die Kirche?» в: Sponsa Verbi, Theol. Skizzen II, EinsiedeIn 1961.
22
неизменяемый, наслаждается он Твоей вечностью и неизменяемостью (XII, 15). Это «самосознающий ум святого града Твоего, матери нашей, которая “вверху, свободна” (Гал 4. 26) и “вечна на небесах” (2 Кор 5. 1)». Это «Иерусалим, отечество простоты и целомудрия» (Х, 56), «Иерусалим, отечество моё, Иерусалим, матерь моя, имеющая над собою Тебя -правящего, просвещающего, Отца, Хранителя и Супруга» (XII, 23). «В нём вовсе нету времени, ибо он так сотворён, что может всегда созерцать Лицо Твоё, никогда от него не отвращаясь, почему и нет в нём никакой перемены... Он поднялся над всею растянутостью (distentio) ускользающего века сего, надо всем его пространством» (XII, 21— 22). Эта обитель также сотворена из окликнутой материи, «имеет в себе толику изменчивости и потому могла бы погрузиться во мрак и холод, если бы не горела и не сияла из Тебя подобно вечному полдню, прилепившись к Тебе с великой любовью» (XII, 21; ср. XIII, 3; Gen. ad litt. I, 11).
К этой надвременной реальности, пребывающей в экстатической любви, «воздыхаю в странствии моём и прошу Того, Кто создал тебя, да владеет в тебе и мною, ибо и меня ведь создал Он. “Я заблудился, как овца потерянная” (Пс 118,176), но Пастырь мой, Зиждитель твой, надеюсь, перенесёт меня на плечах Своих обратно к тебе» (XII, 21). «Да не отвращусь от Тебя, пока Ты не водворишь меня в покое её, покое дорогой матери, где находятся начатки духа моего, от них же всё моё достоверное знание, пока не соберёшь меня воедино, рассеянного и обезображенного» (XII, 23). Итак, надвременный Град Божий (Civitas Dei) являет собой горний окоём, под знаком которого получает своё истолкование экзистенция, рассеянная в памяти и во времени, т.е. экзистенция «Исповеди» в целом,-столь последовательно, что следующая, заключительная книга снимает также противоречие между небесным Градом и самим Августином, странствующим по времени: он существует лишь как член горней части Града, который (по ниспадающей ли, по ли дороге) совершает паломничество навстречу своей собственной вечной реальности. В этой двоякости: отпадения - и возвращения, греховного удале-
23
ния - и спасительной икономии — уже содержится зародыш раскола единого ви́дения, свойственного Августину — автору «Исповеди». Однако в итоге, разросшись, оно вновь придаст этому видению единство; об этом нам ещё предстоит говорить.
Всё же Августин не случайно в XII книге, после рассуждений о надвременном Граде, множит различные варианты толкования первого стиха Библии (XII, 24 и далее). Что означают слова «в начале», «небо», «земля»? Количество толкований всё увеличивается, и уже начинает казаться, что первое же слово Бога, сказанное через Моисея, подталкивает вниз, к расколотости. Причём последнюю опять-таки можно толковать двояко: как впадение во фрагментарность, при которой помрачённый интеллект способен воспринимать лишь образы и отражения единой истины и каждое толкование противоречит всем другим, - но и как домостроительную диверсификацию единой возвращающей к Богу истины, разные обличья которой равно устремлены к единству. Августин терпеливо, можно даже сказать - упрямо, следует логике этого словесного раскола, выявляя всё новые различения и оттенки гипотетического смысла первоначального библейского слова, чтобы затем, перед лицом едва обозримого множества смысловых фрагментов, внушающего чувство безысходности, вдруг предложить совершенно неожиданный путь к их собиранию: «Среди такого разнообразия воззрений, каждое из которых содержит частицу истины, да установит единосердие (concordia)сама истина, и да сжалится над нами Господь наш, дабы мы, законно пользуясь законом, никогда не упускали из виду цель сего закона - любовь» (XII, 41). «Да полюбим же друг друга все мы, толкующие, как вижу, эти слова в истине, и да полюбим также и Бога, Источник истины, если только не пустого жаждем, а истины. Слугу же Твоего (т.е. Моисея), написавшего эти книги, исполненного Духом Твоим, почтим и поверим, что при написании их зрилось ему, благодаря Твоему просвещению, то, что в главном ведёт к свету истины и созреванию пользы» (XII, 41). Это «главное» - поскольку истина
24
раздробила самоё себя на фрагменты — может также явиться связыванием, единящим созерцанием отдельных фрагментов, и Августин, как бы принимая на себя роль Моисея, «смело провозглашает из глубины сердца: если бы я писал книгу, имея обзор с высочайшей башни его авторитета, я предпочёл бы написать её так, чтобы мои слова отозвались эхом на всё то истинное, что каждому удалось извлечь из тех или иных вещей, а не стал бы выделять какое-либо отдельное истинное мнение, исключая тем самым все другие: ведь их превратность всё равно не могла бы меня смутить» (XII, 42). Да и чем была бы однозначность в вещах, непосредственно касающихся вечного Божьего слова, которое как таковое имеет происхождение в надвременном и нерассеянном отечестве истины? А экзегеза, исходящая в своей единительной интенции из мыслительных посылок, обусловленных временно́й раздробленностью истины, - может ли она что-нибудь предписать Божиему слову, которое говорит к нам от имени совершенно иного единства истины? И даже если Моисею или другому святому при написании текста была явлена некая фрагментарная истина, то и тогда не ему, а лишь Святому Духу Писания было ведомо её содержание, безграничное и вечное (XII, 43)1.
Книга XIII2 — это Книга странствующей Церкви как места откровения Слова, которое своим нисхождением во множественность «плоти» возвращает её к Богу. В этой книге снова даёт себя знать известная двойственность: история спасения вычитыва-
1 Современная экзегеза — скорее невольно и безотчётно, чем осознанно и намеренно, — вновь выдвинула эти экзегетические основоположения Августина, когда ей пришлось вскрывать историческую перспективу отдельных текстов (ср. труды Г. фон Рада о Книге Бытия), которые уже в своих первоначальных версиях объединяют в себе разнородные взаимоперекрывающие семантические слои, а с течением времени, кроме того, теряют смысловую яркость и начинают по-новому акцептироваться. Для Августина подобные прозрения не составили бы ничего нового.
2 См. новейшую работу, посвящённую этой книге: Ad. Holl: Die Welt im Zeichen bei Augustin. Religionsphänomenologische Analyse des 12. Buch der Confessiones. Herder 1963.
25
ется здесь из истории творения, древнейший рассказ о творении интерпретируется экклезиологически, что, однако, никак не может быть истолковано как al-legoria,т.к. здесь говорится не «о другом», но — о том же самом. В дальнейшем Августин разомкнёт своё целостное видение: то, что было усмотрено в совокупности, чётче разделит на две сферы, на космологию (или учение о творении) и теологию истории (или учение о спасении). Космологию (вместе с антропологией) он позже развернёт в рамках комментариев на Книгу Бытия, историко-теологическое учение о спасении — в книгах о Civitas Dei. Первый признак разделения усматривается уже в том, что таинственная, надвременная сущность, обозначенная в «Исповеди», в комментариях на Книгу Бытия уже однозначно трактуется как ангельский мир чистых духов (состоящих из духовной материи), отделённый небесным сводом (fîrmamentutn)от всего телесного мира (с его телесной материей), т.е. и от неба, и от земли (Gen. с. man. I, 17). Другой признак состоит в том, что временна́я структура (как «растянутость») более однозначно, чем прежде, приписывается благому замыслу благого Творца. Так, уже в «Исповеди» говорится: «Ты создал всё не тем, что извёл из Себя подобие как форму всех вещей, но тем, что извлёк из Ничто бесформенное неподобие, которому лишь предстоит ещё воспринять свой образ от Твоего подобия, вернувшись к Тебе, Единому, согласно предопределённым возможностям и каждой вещи - на свой лад. И тогда всё станет “весьма хорошо” — и то, что вокруг Тебя, и то, что, постепенно удаляясь от Тебя во времени и пространстве, образует прекрасное разнообразие и претерпевает свою участь» (XII, 38). И потому высшая красота этой рождённой многообразием гармонии заслуживает всяческой хвалы (XII, 43 и далее). Позднейший комментарий закрепляет это видение: «Некоторые существа, сумевшие преодолеть пременчивость времени, покоятся под Богом в высшей святости, другие, напротив, пребывают в своих временных образах, меж тем как исчезновением вещей и сменой их родов сплетается красота века сего» (Gen. ad litt. I, 14). Материальность телесных вещей рассматривается здесь исключительно в
26
их космологическом аспекте: тем, что разделение дня и ночи исходит от Бога, «знаменуется, что Бог ничего не оставляет неупорядоченным, но даже и сама бесформенность, в основе изменчивости вещественных форм, не оставлена без надсмотра, и так убывание и прибывание тварного, вызывающее смену времён, вносит свою лепту в украшение Вселенной. Ибо ночь есть упорядоченная тьма» (ebd. I, 34). В этой округляющей космологической концепции времени различима заметно поблёкшая старая мысль «Исповеди» о том, что структура времени как таковая содержит в себе собственное бытийное отчуждение, между тем как надвременное (как качество Civitas-Mater)запечатлевает форму длительности, лишённую отчуждения, и неизменно пребывает в любви, раз и навсегда избранной.
Само событие выбора здесь по существу необходимо. Речь идёт о «неослабном и неотлучном прилеплении» (XII, 13), о «неизменной воле» (XII, 11), содержание которой есть «выбор» Бога (и значит, «отвержение самого себя») (X, 2), как в связи с этим сказано об ангелах: «Они всегда видят Лицо Твоё и читают, не по слогам и не во времени, вечную волю Твою. Legunt, eligunt et diligunt» (XIII, 18). Игра слов здесь непереводима: они читают, предпочитают и любовно почитают, ибо пред-почтённое (т.е. выбранное) ими есть само по себе - избранное. «Всегда читают, и никогда не преходит то, что они читают. Неизменность воли Твоей -вот о чём читают они, предпочитая её и любовно почитая» (ebd.). В акте окончательного выбора любви преодолевается время, ибо грядущее -не иное тому, что уже есть и что было прежде, - это и есть любимое, которое всегда оставляет место для удивления, но исключает возможность прекращения и изменения любви. Эта вневременность, даруемая Возлюбленным совершившему выбор, есть вместе с тем свобода, которую -как дело Божественной благодати -не устаёт славить Августин.
В этой вершинной точке мира, где творение совершает свой нерушимый любовный выбор — выбор Бога, берёт начало исполнение fiat lux , произнесённого Творцом. Незакатный «день один» (et factus est dies unus), который отсюда
27
встаёт, является первым - но не в ряду тварных дней, а потому, что он объемлет все остальные дни. Ибо архетипическое обращение (conversio) к вечному свету вовлекает в подобный процесс обращения к свету самоё временную составляющую всех более низких материальных порядков, и здесь впервые возникает материальный свет. Бог говорит «Да будет свет», то «эта речь не только совершается при отсутствии всякого звука, но и, без всякого временного движения названного духовного создания, как бы оттискивается вечным словом... в его разуме-духе, и в ответ тёмная незавершённость телесной природы сдвигается, и также обращается к образу красоты, и через то сама становится светом. Весьма трудно, однако, уловить, каким образом это духовное создание... передаёт духоносные слова, запечатлённые на нём Божией Премудростью, более низким существам и как там, внутри временных существ, которые нужно образовать и направить, эти слова становятся временными движениями» (Gen. Ad litt. I, 17). Но подобная космология позволяет по крайней мере объяснить, почему в завершающей книге своей «Исповеди» Августин понимает этот свет, нисходящий в человеческий мир, в духовно-церковном плане.
В понятии «Церковь» здесь соединяются два представления: о восходящей, стремящейся к обращению (conversio) «материи» - т. е. о человеке, который, отвратившись (in aversio)от Бога, греховно обратился к материальному в себе и теперь хочет пробиться к свету,-и о «свете», нисходящем из вышнего Иерусалима любви. Церковь как конкретная реальность есть всё более решительное взаимопроникновение обоих этих элементов, сотворённых «в начале» как «небо и земля». Они образуют «духовное и плотское в Церкви» (XIII, 13), причём образуют вместе, т.к. оба, живя в постоянной опасности, «забывая прошлое, устремляются к тому, что впереди» и тоскуют по небесному Жениху (XIII, 14). Над ними обоими распростёрт «небесной твердью авторитет Писания», преимущество, непреложное во времени, дарованное странствующей Церкви любовным Божественным откровением (XIII, 17); в Слове Божьем собраны воедино и забраны в берега
28
«горькие воды» (бездонная стихия страсти)-ради того, чтобы выступила на поверхность сухая земля —душа, жаждущая любовного Божьего слова (XIII, 19—20). И здесь начинается труд пробуждения внутренней жизни и света в этой душе —излиянием в неё вечного слова, воплощённого в Писании и Церкви. Труд духовного различения между ночью и днём, плотью и духом, —чтобы «родила плоды» и «вспыхнул во времени свет наш и мы явились, как “светила в мире”, укреплённые на тверди Писания Твоего» (XIII, 22). Избранные светила -это те христиане, которые, следуя советам Христа, избрали истинный свет и, отказавшись от всего остального, поместили на небеса своё сокровище и своё сердце (XIII, 24). Слово же, со своей стороны, разветвляется в символике таинств и притч, в многообразии проповеднических толкований, с тем чтобы, излившись в бездну материального и домостроительно раздробившись, собирающим и возвращающим своим действием уподобиться рыбачьей сети (XIII, 26—30). Так материя даёт себя приручить, и становится «добрым зверем», и служит духу, но дух сотворён по образу й подобию Бога и потому является непосредственно-Божьим и правит всеми земными зверями, иначе говоря, «судит всё»-если только он подлинно является духом. И хотя в земной Civitas Dei существует противоречие между клиром и мирянами, отражающее противоречие между полами (мужчина - ведущий, женщина -ведомая), духовные люди преодолевают как это, так и все другие противоречия, например, между иудеями и эллинами, рабами и свободными (Кол 3. Il) (XIII, 32-33). Августин вторично подходит к разговору о многообразии чувственных символов как различных духовных аспектов внутри Церкви, ибо это отвечает потребностям плотского и плодоносности духовного бытия, а Божественное благословение роста и умножения жизни открывает возможность одну и ту же мысль толковать по-разному и на разных языках - и наоборот: одну и ту же притчу или слово понимать различно (XIII, 37).
Вновь резюмируя, Августин пишет, что этот «весьма хороший» мир был создан «в Слове Твоём, единственном Сыне
29
Твоём, Который есть небо и земля, Глава и Тело Церкви,-предопределительно до всякого времени, без утра и вечера. А когда начал Ты осуществлять предопределённое во времени, чтобы явить тайное и дать форму нашей бесформенности, - ибо наши грехи поглотили голову нашу и мы забрели в мрачные глубины, удалившись от Тебя,-тогда оправдал Ты грешников... и собрал их воедино», т.е. в церковном пространстве (XIII, 49). Здесь мистерия надвременного происхождения мира выступает в лице некоего тотального Христа -Главы и Тела, Жениха и Невесты, и мир в его падшести словно бы создан, чтобы стать звеном между этим своим истоком и указанной целью. Сверхвременное созерцание «горнего Иерусалима» становится в таком случае «вечным заветом», превосходящим и вместе с тем обосновывающим всякое время, иначе - Невестой-любовью в богочеловеческой сущности Христа, мерой всех вещей (именно так оно будет потом описано в «Enarrationes in Psalmos»).
Избегнув опасной границы, возникшей впоследствии у Максима Исповедника, общая концепция последних книг «Исповеди» приближается к другой, не менее опасной - Оригеновой. У последнего так же в начале помещается реальный «небесный Иерусалим» - собрание всех тварных духов в свете любви, так же происходит отпадение духов вследствие её охлаждения и так же проводится странная параллель между историей творения и историей спасения в рамках единой икономии нисхождения и восхождения. Однако различие между этими двумя системами сильнее сходства. У Оригена (по крайней мере, каким он предстаёт в своём раннем компендиуме) центр тяжести учения о человеке лежит в свободной индифференции, откуда и могла возникнуть его «пограничная» мысль о том, что после возвращения всего творения к первоначальному единству небесного Иерусалима могут последовать новые исхождения и отпадения во время. Для Августина же центр тяжести (pondus)- в любви, которая предшествует всякой индифференции и, пребывая, чужда всякому искушению. Содержа–
30
тельным наполнением этой идеи у него выступает библейская Невеста, «не имеющая пятна, или порока», и, живи Августин несколькими столетиями позже, он мог бы ещё конкретнее и реалистичнее заместить её непорочно зачатой Невестой-Матерью, Девой Марией, воплощающей сущность и ядро Церкви. Вот почему у Оригена, несмотря на ещё более тесное слияние образа мира и образа греха, не находит выражения центральный момент этой системы, который состоит в том, что растянутая структура времени может быть разрешена не иначе, как с помощью вертикали: через обратное усвоение этой тянущей силы - состоянию «расплавленно» парящей любви1.
Конечно, мотив вертикального разрешения всей временно́й, а тем самым и исторической структуры посредством регресса к истоку не нов. Он сходствует, чисто формально, с индийским бегством от колеса времени (sansara)в Ничто-из- всего (nirvana) с его вневременностью или с бегством гностиков из пустоты времени в божественную полноту (pleroma). Однако сущностно новой у Августина является тема избирающей любви. Бог сам есть эта любовь, непостижимо предопределительная избирающая милость, человек же должен дать свой ответ на всегда опережающий выбор этой любви. Философу не остаётся ничего другого, кроме смертной экзи-
1 Уже у Платона порыв к утраченному истоку приобретает черты эроса; гностическая мысль вся превращается в тоску по родине (cp. Norden: Agnostos Theos, 4. Aufl. Reitzenstein: Mysterienreligionen, 3. Aufl. 1927). Насколько серьёзно этот пафос и сегодня может завладеть философом, показывает V. Jankelevitch (L’Eternite' et la première impureté, in: Archivio di Filosofia 1959, 25-34; La purification et le temps, ebd. 1958, 11-12). Августин осветляет и возвышает этот эрос тоски, направляя его на изначальную agape, которая приобретает черты женственности — и не только в качестве «Софии» (в духе гностиков), но и как реально-идеальная, непорочная Дева-Мать (в неявленном ещё облике Марии). Мотив очищения падшей любви до любви «горнего Иерусалима» (ассоциированного с Марией) распознаётся совершенно отчётливо (ср. образ Моники-матери), хотя и не помещается у Августина в центр внимания.
31
стенции, вглядывающейся в эту бессмертную любовь и, в качестве «эроса» или «фило-софии», томящейся по недостижимому, чаемому, разве что когда-то давно испытанному, но теперь снова безвозвратно утерянному. Христианин может, вместе с Августином, предугадать в чаемом — реальность agape,которая в своём подлинном виде и есть тео-логия, т.е. само-сообщение вечной любви — той, что сама, своею милостью, уготовала для себя сверхвременной и достоверный ответ: oprâH, упорно ведущий свою мелодию сквозь музыкальную какофонию века сего.
32
Б. РАЗВЁРТЫВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ
1. Личностное измерение
а) Обращение и творение
Августин вырабатывает своё понимание времени в тесном соотнесении и в радикальном размежевании с Плотином, которому принадлежит последнее слово в греческой философии.
Время Платона представляет собой движущийся образ неподвижной вечности, наилучшее её подобие из всех возможных; оно возникло вместе с миром и распадётся вместе с ним, если для мира наступит распад, и оно бежит по кругу согласно закону астрономических чисел1. Если пространство есть рассеяние сплочённого и ассоциируется прежде всего с расстоянием, то время — это чистый и совершенный образ воедино-собранного, почему Платон (как и позднее Августин) отказывал беспорядочному хаосу в обладании какой-либо временно́й формой.
Аристотель, в отличие от Платона, понимает время не в его соотнесённости с вечностью, но как внутреннюю форму движения- становления; поскольку же все вещи постоянно возникают и исчезают, то встаёт вопрос о единой всеобъемлющей мере, которая была бы приложима ко всему множеству становлений во времени, и такая мера полагается во вращении небесного свода, перекрывающем, несмотря на своё беспрестанное движение, всякое возникновение и исчезновение и потому вечном. Поэтому всеобъемлющее время — надвременно2 и каждое мгновенье, как «середина» между было и будет, в равной степени является все-
1 Timaios 37d—38с.
2 Phys 251 b 13.
33
гдашним «теперь» этой временно́й вечности1. При этом, с одной стороны, надвременным является мышление как само себя постигающее единство, и, с другой, — остаётся неразрешимым вопрос: как и почему вообще существует движение? Чтобы ответить на него, приходится всё же вернуться к Платонову эросу: вечное, желанно-любимое (κινει δε ωςεμενον) начало (Бог) вращает сферу (и всё, что в ней заключено)2.
Всё это позволило Плотину, опиравшемуся на обоих классиков, в явной форме задаться вопросом, от которого они уклонились: отчего возникает расстояние между вечным и временным и какова его мера? Отказавшись от сопоставления обоих планов как прообраза и образа (Платон) или как сущностно неподвижного и сущностно (вечно) движущегося (Аристотель), Плотин ставит вопрос о том движении (κίνησις),которое привело к возникновению дистанции (διάσιασις) между вечным и временным. В Едином время отсутствует. В Уме (νονς) хотя и возможно вечное движение от одного мысленного содержания к другому, однако оно всегда совершается в наличном присутствии совокупной истины, и ему не приходится преодолевать никакого сопротивления, вызывать из небытия ещё не бывшее; умное движение является выражением чистой полноты и тем самым возвышается над временем. И лишь душа (φυχή)и присущее ей движение приносят с собой удалённость от вечного. «Её хлопотливая природа, которая хотела бы сама собою распоряжаться и сама себе принадлежать, избрала своим жребием искать большего, нежели наличное присутствие. Так оказалась она в движении, и так пришло в движение время, и она встретилась лицом к лицу с
1 Ebd. b 17-23. В сочетании с мыслью о космическом вращении это означает, что не существует абсолютного «прежде» и «после». Троянская война была «прежде», однако в результате кругового вращения бывшее может вернуться вновь, и в этом смысле оно будет «после» нас. Аристотель одобряет высказывание Алкмеона о том, что люди умирают, поскольку не могут сомкнуть конец и начало своей жизни; тем самым они не образуют мира, в котором человек воскресал бы — пусть не нумерически, но ειδει. Problemata XVII, 3 (916, 48-39 Bekker; в новом немецком издании Аристотеля, т. 19, 1962, изд. H. Flashar, на с. 590 приведены другие выдержки).
2 Met XII, 7 107 В 3.
34
всегдашним после, потом: не с саморавным, но с иным». В отличие от Ума с его совокупным видением, рост жизни означает расточительное излияние Единого вовне, вширь, и потерю своей самости как раз в результате про-движения вперёд. Здесь Плотин снова вторит своему учителю Платону: именно в результате этого излияния в пустоту, происходящего из-за удалённости от Единого души, желающей обрести самоё себя, время превращается в «образ» вечности1. С другой же стороны, аристотелевское горизонтальное (космологическое) круговращение неба поставлено теперь в зависимость от вертикального (онтически-теологического) круговращения «отпад- шей» от Единого и вновь к нему души2. Ибо поиск и тоска, возникшие вследствие удаления души, её погружённости во время, по самой своей сущности могут быть направлены лишь на Единое; платоновски-аристотелевский эрос также и здесь имманентен всякому движению, в котором, однако, чувство возвращения к утраченному истоку конкретизируется теперь как «тоска по выси» (εφεσις),взыскующая обращения (επιστροφή, conversio)3.Время есть бытийное расстояние между исходом и возвращением - но расстояние внутри тождественности, ибо Плотин отвергает всякий вид творения, рассматриваемый как свободное полагание иного. Поэтому возвращающее обращение принципиальным образом становится делом мыслящей рефлексии, или лучше: делом созерцания, постигающего в рефлексии сверхрефлексивное единство. Понадобится вмешательство христианского мыслителя Августина, чтобы придать всему унаследованному от Плотина временному схематизму совершенно иные акценты.
Унаследовано было прежде всего ограничение самой временно́й формы сферой невечного бытия и жёсткое прикрепление её к душе с её удалённостью от вечного источника и цели. Для Плотина, как и для Августина, эта удалённость имела двойной смысл: вертикальный и горизонтальный. Вертикальный: в
1 Enn III, 7, 11 (Bréhier III, 142).
2 Enn II, 2 (Bréhier III, 20-23).
3 Arnou: Le Désir de Dieu dans la philosophie de Plotin (P., Alcan 1921).
35
своём «отпадении» душа находит в себе самой меру расстояния между источником-целью (т.е. вечностью) и временным «теперь». Эта мера заключена в парадоксальности памяти, которая, хотя и вспоминает о своём истоке, но лишь как об утраченном, «заваленном», вспоминает сквозь толщу прошедшего времени, разобщённого с источником. Горизонтальный: пока душа остаётся лишённой своего истока, она пребывает в сущностной неустранимой пустоте, суетности и тщете; всё растекающееся и неудержимое в каждом мгновении бесследно исчезает вместе с временем. Чего Августин не мог принять, так это тождественности, внутри которой, по Плотину, лежат все расстояния (между Единым, умом и душой). Мир сотворён, человек в нём тоже сотворён, однако он, сверх того, является личностью, какового понятия нет у Плотина, заменившего его понятием временно́й персонификации, или «роли». Если тварь является личностью и стоит лицом к лицу с бесконечной, вечной личностью Бога, то отношение отчуждения и возвращения ни в коем случае не является делом чисто интеллектуального забвения и вспоминания, или отыскания, или тоскующего устремления вспять, но прежде всего это дело любви и верности1. Так у Августина вновь возникает старинное библейское (а также оригеновское) понятие: «Так блудит душа, отвратившаяся от Тебя и вне Тебя ищущая то, что найдёт чистым и прозрачным, только вернувшись к Тебе» (Conf II, 14). Но если удаление понимается как отказ от вечной жизни, то из этого с необходимостью вытекает второе положение, составляющее уже основной мотив «Исповеди», однако впервые образовавшее ядро особого учения лишь во времена антипелагианских споров (начиная с 421 г.): кто отказался от Божьей любви, тот сможет вновь обратиться к ней и даже ощутить стремление к подобному возвращению в любовь не иначе, как действием свободной и исполненной любви Божественной благодати.
1 J. Guitton: Le temps et l’éternité chez Plotin et S. Augustin (3. Aufl. 1956) 125.
36
Однако это ещё не всё, что привносит христианская трактовка в понятие творения. Если для Плотина время изначально есть мера удаления Единого от самого себя (и тем самым - нечто недолжное и подлежащее устранению), то для Августина удаление твари от Творца заложено в самой сущности благого Божьего творения. При таком понимании творения время не является чем-то злым и греховным. Время связано с радикальной небожественностью твари, т.е., по Августину, укоренено в её материальности - вещественной или духовной. Оно является принципом совершенно-иного Богу, всякое же богоподобие вырастает из силы Логоса, взывающей к Богу и извлекающей формы из материи. Именно потому, что материя не представляет собой ничего антибожественного (о чём необходимо постоянно помнить в полемике с манихеями), но является, скорее, неустранимым основанием всякого благого Божьего творения, - есть благое время творения, которое как таковое не является выражением отпадения. И всё же творение, окликнутое с края Ничто (т.е. материи) к Богу-к сущности и бытию,-само по себе ничтойно и потому по самой своей сути воплощает тоску по источнику бытия, сверхбытийную (а потому и) устремлённость к Богу. На первый взгляд кажется, что эта эк-статическая сущность усваивается конечно-временно́му бытийствованию одинаково у Плотина и у Августина, однако смысл в обоих случаях различен. У Плотина возвращение - это мистически-экстатическое вхождение в тождественность, у Августина-любовное прилепление к Богу: молитва как поклонение, благодарение, просьба. Лишь став молитвой, тварная любовь соединяется с вечной, Божественной любовью и тем самым преодолевает, «перепрыгивая» (transsiliens1)самоё себя и свою душу2, собственную временность, чтобы, по ту сторону своей изменчивости, приблизиться к Богу в абсолютной любви. Однако подобное преодоление — и Августин осознаёт и понимает это всё яснее, — является делом
1 Enarr in Ps 38. 1-3; in Ps 41. 8; in Ps 61. 14. 2 Enarr in Ps 76. 9-12.
37
неисповедимо избирательной Божественной любви-благодати и ответом на неё, ею же вызванным.
И всё же как до, так и после написания «Исповеди» у Августина встречается понятие времени как медиума благих и прекрасных деяний Бога. Музыка есть звучащее Ничто; во времени как в чистой нетождественности запечатлеваются чудесные произведения меры, числа и порядка, которые обретают свою красоту именно благодаря скользящей сменяемости. Более существенно то, что и язык, который есть самооткровение личности, подобно музыке, вверяет себя этому медиуму ничтойности, что многие слоги должны последовательно раствориться, прежде чем смысл высказывания, эта эссенция исчезнувшего вещества, будет понят слушающим.
Однако речь как средство свободной манифестации личности, доступное всегда и везде, привносит во временно́й момент историчность. Однократное, т.е. личность, однократно выражает себя -через речь как слово или речь как дело -и тем создаёт однократное во времени. Время (также и в качестве пустоты), не спроектированное самим творением и неподвластное ему, предоставляет необходимое «пространство», в котором дух может радикальным образом себя открыть, высказать и исполнить. Именно неопределённость пустой протяжённости становится поводом для само-определения, безграничность - поводом для позитивного ограничения, которое и составляет историчность. Плотин не создал философски глубокого понятия истории, будь то история земная или мистическая1. У Августина всё событийное помещается между Богом и миром в медиуме истории. Историчным является обращение индивида, например, самого Ав-
1 Неоднократно делались попытки (см. напр. W. Nestle: Griechische Geschichtsphilosophie, Arch. f. Gesch. d. Phil. XLI, 1932, 80-114) приписать грекам создание некой «теологии истории»; таковой, однако, не существует, если не считать Гесиодовой идеи последовательного распада мировых эпох. См. Е. Bréhier: Quelques traits de la philos, de l’histoire dans l’antiquité classique. Rev. Hist. Phil. rel. XIV, 1934.
38
густина; историчным станет и странствие Града Божия сквозь медиум преходящего1.
Но не только история совершается между вечным и временным духом; природные сущности также на свой лад причастны историчности. В библейском Шестодневе подобного рода естественная история разворачивается с помощью образного языка, и когда Августин как философ природы пытается разгадать её смысл, он не нуждается в том, чтобы совокупный момент временности относить на счёт мифологического языка. Конечно, Бог - над временем, и время существует только внутри мира (о том и о другом уже писал Платон в «Тимее»). Поэтому Бог всё создал сразу. Но это говорит не только о надвременности первопричины, о её «одновременности» по отношению ко всем моментам мирового времени, это — уже во внутримировом плане — говорит ещё и о том, что Бог мог заложить в мировое первоначало сущностные основания всех вещей, которые (основания) сперва «неприметно, потенциально, по своим причинам»2 лежали внутри материи, чтобы затем «через определённые временные промежутки» (per temporwn moras) начать действовать явно3. История природы, таким образом, приобретает аналогическую причастность к собственно духовной истории, и если также и человека определённо счесть сокрытым в rationes séminales
1 В этом принципиальное расхождение Августина с гностическими учениями, которым, по поверхностном рассмотрении, можно было бы уподобить его теорию вертикальной «intentio». Гнозис, для которого противопоставления «мир-Бог», «время - вечность» носят абсолютный характер, не может дать положительной оценки времени и истории. Время — это не образ вечности, но его искажение. Поэтому, если полагать, что откровение ниспадает вертикально вниз, временное прошлое попросту отбрасывается (Irenaeus, С. Н. 4, 13, 1: contrarietas et dissolutio praeteritorum). Время — это страх и потерянность, временность как таковая не может быть приобщена вечности. Ничто не отстоит дальше от гнозиса, чем христианское «воскресение во плоти», что совершенно справедливо отмечено Тертуллианом. См. Henri-Charles Puech: La Gnose et le Temps. Eranos-Jahrbuch 1931, 57-113.
2 Gen ad litt 6 n 10.
3 Ebd. 5. 45.
39
чала>, то в принципе становится возможным представить историю природы как эмбриональную антропологию. Августин, однако, далёк оттого, чтобы от имени Творца наделять вторичные причины столь большой властью и тем самым лишать его свободы — в любой момент вновь актуализовать себя в своём творении. Саморазвёртывание мира из его семенных начал он рассматривает, скорее, как предпосылку истинно свободной истории-диалога между Богом и творением1.
Если дело обстоит так, то это предполагает конечность времени, которая заложена в конечности тварного бытия и идентична последней. Конечное творение проходит в своём странствии перед Богом, однако оно может исходить только от Бога, который его создал, и поэтому должно снова вернуться к Богу, измерившему его ограничительной мерой и сущностным образом призвавшему его к себе. Эта «измеренность» конечного творения вечным бытием прямо свидетельствует об измеренности его времени вневременной вечностью. Вместе с бытием творению даётся путь, необходимо конечная саморазвёртывающаяся семенная ratio, т.е. смысловое направление к некой исполняющей цели. И по мере продвижения тварного существа разворачивается его длительность, вершится его время. Чтобы время могло длиться, в него внедряется Божия вечность, которая одновременно учреждает его и им правит, освобождает и ограничивает. Трансцендентность этой имманентно входящей во время вечности позволяет ей в любой момент актуализовать себя в нём как иное и вечное, вступить со временем в диалог.
Эта тайна трансцендентного и вместе с тем имманентного пребывания вечности во времени (вечность не только позволяет времени течь, но «провиденциально» и «регулятивно» сопровождает вдоль линии смысла и развития) делает «антиномии» конечного времени не более затруднительными, чем антиномии
1 Так, Августин строго различает то, что схоластика позднее обозначит как potentia naturalis и oboedientialis. Второе понятие выражает податливость тварного существа в отношении всего, что Бог замыслит с ним сделать. Gen ad litt 6. 28—29; ebd. 9. 32.
40
конечного тварного бытия вообще. Как может бытие вливаться в Бога, из которого оно изошло, не становясь при этом Богом? Как может аналогия бытия быть выражением истинного восхождения (апа) к Богу (как апо) и всё же вечно оставаться свыше измеренной упорядоченностью перед лицом Бога (апа)? В первом аспекте время творения является вертикально-циклическим, во втором на первый план выступает его свобода и самостоятельность, которая позволяет ему личностным образом, с любовью обратиться к своему источнику как к своей конечной цели и вернуть ему себя как зрелый плод собственного странствия. Конечное время в этом случае подлинно становится, по слову Иринея, «созреванием плода бессмертия» (С Haer 4, 5, 1). Можно видеть, что в античном мифе о (горизонтально-Циклическом времени как вечном возвращении присутствует, в ослабленном виде, истинное представление о временно́й ситуации: внутри каждого цикла живо чувство конечности времени, однако многочисленные повторения этого цикла, составляющие единичное вертикальное перемещение от бесконечного Бога - к бесконечному Богу, опрокинуты здесь на горизонталь, т.е. в пустую и безнадёжную бесконечность.
Однако все эти рассуждения о творении и времени не попадают на реальную почву, пока мы рассматриваем и то и другое лишь в модальности отпадения и благодатного возвращения на родину. Или всё же это не так? То первое величественное творение, которое описывается в «Исповеди» как небесный Град Божий, как наша мать и наша родина, - это творение не прошло через отпадение. Исконно тёмное и временное, ибо изведено, как и вся тварь, из материи, оно всё же поднимается над самим собой и живёт в вечном свете. На основании одного этого видения можно утверждать, что для Августина даже и «естественный» порядок творения, если он не причастен вине и отпадению, может существовать не иначе как в прямом, вертикальном отношении к вечности. Уже отсюда вытекает, что звучащая и говорящая ничтойность этого временного творения существует только ради любовного прилепления к вечному и что возможный плод, который оно может про-
41
нести сквозь отделяющий её отрезок времени, созревает для того, чтобы быть укрытым в вечном Божием Царстве на своём прежнем месте. Здесь также горизонтально растянутое время может существовать лишь под знаком вертикального времени.
б) Греховное время и время благодати
Однако весь отчёт о жизни, а также заключительные размышления «Исповеди» показывают, насколько неразрывно слиты опыт ничтойности и греховная удалённость от Бога. Память, которая беспомощно блуждает в ночи уже ставшего бытия (I, 9-10), не может отыскать даже в раннем младенчестве такого времени, на котором не стояло бы уже печати отчуждения и затуманенности (I, 11). Грех, который я «ненавижу» (Рим 7. 15), как некая посторонняя величина встаёт между человеком и Богом, и это подавляющее ощущение заводит Августина в манихейство. Однако дуалистическая метафизика не в состоянии разрешить эту загадку; в восьмой книге он пытается это сделать: процесс расщепления проникает всё глубже, он изнутри поражает саму волю. «Это - болезнь души, ибо она не может целиком распрямиться: хотя её и поднимает признанная ею истина, но ещё более отягощает привычка. И потому в человеке две воли, ибо ни одна из них не обладает целостностью» (VIII, 21). «Я был - тем же: кто хотел и кто не хотел, но я хотел не вполне и не вполне не хотел; поэтому я боролся с собой и раздробился (dissipabar)в себе, и само это раздробление (dissipatio) произошло против моей воли» (VIII, 22). «И две мои воли, одна старая, другая новая; одна плотская, другая духовная, боролись во мне, и в этом раздоре разрывалась душа моя» (VIII, 10).
Именно эти понятия «старого» и «нового» являются ключевыми для восприятия времени1. Уже достигнуто, что Я в боль-
1 Ср. цитированное выше место из «Исповеди» (XI, 39): «a veteribus diebus colligar» со ссылкой на Флп 3. 12 и сл.
42
шей мере пребывает в том, что оно одобряет, хотя и не делает, нежели в том, что делает, но уже не одобряет. Уже призыв Бога: «Что спиши?» - достаточно громок, чтобы косный покой, столь сладостный, был прерван каким-то тревожным чувством. Уже всё, в чём прежде была уверенность, ушло, преодолено, изжито и оставлено позади. А то, что ещё не постигнуто, приближается: будущее подошло столь близко, что стало уже настоятельным. В этом опыте неотвратимого приближающегося обращения формируется воистину новое восприятие времени: вся экзистенция, отвернувшаяся от Бога и греховно обратившаяся к Его творению, осознаёт себя, в своей ничтойности и тщете, целиком (т.е. вместе со своим будущим и настоящим) принадлежащей прошлому. А дарованное Божьей благодатью целокупное настоящее, которое подступает к постоянно обращающемуся человеку, занимает место разрушенного - как воистину ежемгновенно наступающий настоящий момент. Это наступающее настоящее, однако, уже не обладает мимолётностью естественного времени, оно, совершенно по-новому, вручает себя как «задаток» или «залог», являясь Божественным, т.е. вечным настоящим. Обращая грешника, благодать обращает также и его время: присущее ему греховное время тонет в прошлом, а дарованное ему время благодати «всплывает» в настоящем. Здесь возникает паулинистское (и преемственно - августиновское) разделение между «старым» и «новым», «плотским» и «духовным», «внешним» и «внутренним» человеком: «...если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется» (2 Кор 4. 16)1. Времяописательное «со дня на день» относится и к тому, и к другому: «ветшать» и «обновляться» — это две стороны одного процесса, который — опосредованно — также проступает сквозь время творения. В единообразии времени нечто изменяется, нечто утверждает себя: «Ибо ныне
1 Ср. комментарий Августина (Enarr in Ps. 38. 9): Videte veterascentem Adam et innovari Christum in nobis («Узрите ветшающего Адама и обновляющегося Христа в нас самих»).
43
ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился» (Рим 13. 11-12).
Это прорыв времени, устроенного Богом для человека, — во время утраченное, которое грешник устроил для себя. И вместе с тем это - восстановление и даже превышение первоначальной временно́й вертикали, которое, однако, не затрагивает структуру времени творения как взвешенного в ничтойности и не упраздняет примитивным образом структуру греховного времени, но преобразует его изнутри самой его основы. Греховное время, в отличие от времени творения, предполагает внутри себя продвижение к смерти. В Августиновом «Граде Божием» ещё будет сказано об этой имманентности смерти всякому мгновению распадшегося времени, и сказано в тех же понятийных категориях, какими пользуется «Исповедь» для описания неуловимой текучести настоящего момента в потоке времени. Когда умирает человек? Пока он идёт навстречу смерти, он ещё не умер, однако и мёртвый тоже не умирает. Смерть есть такая же неделимая точка, как точка настоящего мгновения между будущим и прошлым. И «нельзя никого назвать умирающим, поскольку нельзя одновременно быть умирающим и живущим». Или всё же можно? В той мере, в которой смерть присуща каждому мгновенью: «Ибо что же ещё происходит в отдельные дни, часы и мгновенья, спешащие мимо, пока вершившаяся смерть не престанет и не начнётся время после смерти, тогда как прежнее время, в котором исчезла жизнь, было временем смерти? ...Разве не был человек одновременно в жизни и в смерти?»1
Незаметный, но неуклонный переход от познания времени творения к познанию времени греховного происходит в «Enarrationes in Psalmos». Время здесь понимается прежде всего по-платоновски, как «образ и как бы тень вечности» (In Ps 9, 7), но с острым ощущением бренности (In Ps 62, б), как нечто такое, что не накапливается, но лишь убегает (In Ps 65, 12), что приходит не затем, чтобы
1 Civ Dei XIII, с. 10.
44
быть, но чтобы — не быть (In Ps 89, б), и поэтому уподобляется «потоку» (65, 11; 143,), «горному ручью» (57, 16; 123, 6-7), «рекам Вавилона» (136, 1), «прибою» (129, 1), «морю» (142, 11). Экзистенция в смертном времени есть, в целом, «болезнь» и «тление» (102, б), «всюду томление, всюду измождение, всюду гниение», потому и говорит Псалмопевец: «Тебя жаждет моя душа, по Тебе томится плоть моя» (Пс 63.1-2). Все, чего мы так страстно ожидаем в будущем, должно одновременно внушать нам страх, ибо оно, приходя, вытесняет нас, как заласканное дитя, подрастая, вынуждает родителей уступить ему место (127,15)...
Эта всепоглощающая «бездна» времени (In Ps 103, П б) не перекрывается благодатью. Человек всё равно умирает, изменяется лишь смысл времени и смерти. Здесь личностное измерение временно́й проблематики само себя перерастает и переходит в измерение социальное, космическое. Ибо благодать хочет сделать переоценку смерти (и времени) не только извне, но также - сделавшись плотью и низойдя в смерть. Лишь таким образом, через Иисуса Христа, отдельному человеку, если он обратился и возвратился, может быть даровано спасение, которое есть всё же нечто иное, чем «бегство из времени».
2. Космическое измерение
Личностная диалектика времени в «Исповеди» - взятая в её кульминации — неожиданно, но вполне логично вписывается в социальную и космологическую временную проблематику. «Memoria» восходит не к воспоминанию о пренатальном существовании на небесах (хотя для Августина происхождение души оставалось неразрешимой загадкой на протяжении всей его жизни), а к небесной Civitas Dei.В этом состоит ключевой момент отдельного человеческого существования: знать свою небесную мать - это и означает понимать себя самого. Она являет собой целостное единство человека и Бога, то единство, которое всего одно мгновенье присутствовало в Адаме, пока он греховно не разбил его вдребезги. Августин без опаски привлёк для разъяснения миф о рассеянном и вновь собранном «первочеловеке»,
45
чтобы представить грехопадение и спасение в их космических измерениях:
«”Он будет судить вселенную по правде”. Не часть, ибо не одну только часть приобрёл Он. Он должен судить всё, потому что за всё заплатил выкуп. Вы слышали, что говорит Евангелие: и когда придёт, то “соберет избранных Своих от четырех ветров”. Он соберёт избранных Своих от четырёх ветров, а значит, со всей вселенной. Ибо самое имя Адама, как не раз говорил я вам, означает по-гречески всю вселенную. Оно состоит из четырёх букв: A, D, А и М. По-гречески же наименование каждой из четырёх сторон света начинается с одной из этих букв: Восток называется “Anatole”, Запад-“Dysis”, Север - “Arctos”, Юг-“Меsembria”: из чего получается: “ADAM”. Значит, и сам Адам разнесён отныне по всему лицу земли. Пребывавший некогда водном месте, он пал, как бы разбившись, заполнив своими осколками всю вселенную. Но милосердие Божие отовсюду собрало разрозненные осколки, оно расплавило их в огне любви, оно восстановило их расколотое единство. Таково дело, которое может свершить Делатель; и пусть никто не отчаивается. Дело это безмерно поистине, но поразмыслите, каков же Делатель. Он создал заново то, что создал, и перестроил то, что построил1».
Падение Адама, из чрева которого вылился морской рассол беспокойного и буйного человечества, упомянуто уже в «Исповеди» (XIII, 28)2. Это рассеяние может быть собрано воедино лишь новым Адамом и притом с помощью нового, спасительного рассеяния: «tamquam in ипо quodam homine diffiiso toto orbe terrarum, et succrescente per volumina saeculorum»3 («как бы в некоем человеке, распространившемся по всему земному кругу и возрастающему в круговороте веков»). До той поры, однако, мировое
1 Enarr in Ps 95. 15. Де Любак (Katholizismus als Gemeinschaft) приводит этот текст, упоминая также другие места из Отцов Церкви. [Цитата приведена в переводе В. Зелинского: Анри де Любак. Католичество. Социальные аспекты догмата, Милан 1992, с. 307.]
2 См. также In Jo tr. 9, 14; ebd. tr. 10, 11.
3 Enarr in Ps 118,16, 6.
46
время остаётся поражённым бытийной болезнью к смерти - болезнью, которая не является неотъемлемой частью времени творения: «morbo quodam... factum in illis est ut ilia in qua creati sunt stabilitate amissa, per mutabilitates aetatum irent ad mortem» 1 («благодаря некой болезни... поразившей их, так что после того, как они были созданы, то место, где они были созданы, лишилось прочности и они через смену веков направились к смерти»). Восприятие «дней» как сущностно «ветхих», как целиком осенённых знаком прошлого, задаёт представление обо всём человечестве: Ессе veteresposuisti dies meos (Пс 38. 6, Септ.)2.
Здесь было бы полезно для пояснения привлечь учение Григория Нисского и молодого Августина о первобытном состоянии, согласно которым в раю или вообще отсутствовало размножение, или оно происходило неведомым нам неполовым способом3. Приурочивать это гипотетическое рассуждение к гностицизму или манихейству или относить его на счёт пуританского страха перед плотью - поверхностный ход мысли, ибо оно опирается на иные, глубокие и верные мысленные основания. Произнося «пол», мы произносим «смерть», о чём свидетельствует весь природный порядок, существовавший до и вне рая. Отрицать возможность смерти для человека в раю и допускать существование пола - это по меньшей мере столь же неправдоподобное рассуждение, как и предыдущее, отвергнутое. В Граде Божием, прилепившемся к вечному Богу, любовь такова, что там «ни женятся, ни замуж не выходят» (Лк 20. 35), установление же брака целиком принадлежит времени. Поэтому и в «Песни Песней» любящая чета предстаёт как самодос-
1 De peccat meritis I, 16, 21. См. также: Irénée Marrou, L’ambivalence du temps de l’histoire chez S. Augustine (Vrin 1950).
2 Великолепный комментарий содержится в Enarr in Ps 38 n 9, там же — о «прыжке» от «ветхих» к «новым» дням, совершаемом верующими во Христа.
3 См. подборку текстов в: Michael Müller. Die Lehre des hl. Augustinus von der Paradiesesehe und ihre Auswirkung in der Sexualethik des 12. und 13. Jahrhunderts bis Thomas von Aquin. Pustet Regensburg 1954.
47
таточноеединство, нестремящеесякрождениюпотомства. На вопрос, почему, собственно, брак не может принадлежать к безгреховному порядку природы, можно ответить встречным вопросом: принадлежит ли, и в каком смысле, этому безгреховному порядку природы - смерть? Ведь она, по Павлу, вошла в жизнь через грех. Проследить линии, составляющие этот природный порядок, оказывается невозможным, и это тем печальнее, что рисунок нашего самого заветного и интимного сущностного строения тем самым остаётся неразборчивым.
Здесь нужно напомнить, что Августин не создал стройной теории изначального Града Божия. Скорее, он как бы наметил ряд сходящихся вверху пунктирных линий. Эта целокупная точка, возвышающаяся над всем временным, обозначена в соответствии с Евр 12. 22: «Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога (Civitas Dei) живаго, к небесному Иерусалиму и к тьмам Ангелов, к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, и к ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева».
Эта Civitas Deiи есть тот «вышний Иерусалим», который Павел называет «матерью всем нам» (Гал 4. 26), а Иоанн - «женой, невестой Агнца» (Откр 21. 9). Как «славная» и «не имеющая пятна» (Еф 5.27), она имеет своим реальным символом - Марию. И в той же мере она является собором первенцев, т.е. бесчисленного множества Ангелов, часть которых, однако, отпала, перейдя из состояния неопределимой во временных категориях длительности — в новое состояние, столь же мало доступное для временного осмысления. Но поскольку эти духи обозначены у Павла как властители космоса и его стихий, то материальная временность могла быть изначально, ещё прежде падения человека, нарушена и расстроена ими, и первой человеческой чете, облечённой своей райской невинностью, вскоре предстояло встретиться (в лице змея) с искусительным нестроением. Пребывая в состоянии невинности, первые люди (как «небесный Адам») уравнены достоинством с «торжествующим собором» и со всеми предопределёнными – как
48
«написанные на небесах» и как «духи праведников». Эти последние (Еф 1. 3—14) имеют сверхвременное призвание, они «избраны прежде создания мира», чтобы быть «святыми и непорочными пред Ним»; здесь настоящее время глагола «быть» (einai) — это «настоящее вечности», неуязвимое для «уже-бывшего» и «ещё-не- бывшего» бытия, и вместе с тем это — избранное бытие, пребывающее непосредственно в Избранном и Возлюбленном, в Иисусе, «посреднике Нового Завета» и в Его «Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева» (Евр 12.24; Еф 1. 7).
Церковь, ангелы, Адам, «предопределённые» — все они находятся на небесах (εν επουρανιοις)1 как избранные в Нём, искупленные Им, обручённые Ему. Павел даже помещает первого Адама (1 Кор 15. 44 и сл.) изначально на земле, с тем чтобы отвести «последнему Адаму» — как «человеку с неба» — решающую единительную роль. Но этот последний Адам — не кто иной, как Кровоточащий, «Агнец, закланный от начала мира» в «вечное спасение» (Евр 9. 12), говорящий — самим событием излияния своей крови - громче, чем все другие, внутривременные, события-убийства («Авелева кровь»), как они были суждены Богом, «Судией всех».
Таким образом, внутривременное событие: отпадение, грех, утраченное бытие и утраченное время — уже заранее покрывается предопределённым Первенцем, Он же есть последний Адам, Альфа и Омега всех времён, что ясно выражено говорением — самым громким на свете — Его крови, т.е. тем, что Он, ломая перегородки, пролагает свой путь сквозь время и сквозь смерть. Надвременное место — место Христа — находится не только «над», «до» и «после» времени, оно его перекрывает так, что одновременно и содержит его внутри себя. Но содержит не в том смысле, в каком трансцендентность Бога содержит все тварные вещи, будучи им имманентна, а так, что самим событием вочеловечения, смерти и Воскресения Христа оно целиком, без остатка втянуло в себя время в его подлинном, непретворённом виде. Это нисхождение Сы-
1 См. Н. Schlier: Epheserbrief (1957) 45 и сл.
49
на в преисподние места земли и восшествие затем «превыше всех небес» (Еф 4. 10) и есть мера охвата всего вертикального времени, т.е. такая мера, в пределах которой только и может совершиться, для каждого индивидуальное, обращение времени (επιστροφή, сопversio), - подобно тому как для самого Единственного оно легло в основание подлинно исполненного времени. Тем, что Он, как грядущее1, грядёт во плоти, актуализуясь в настоящем времени, Он приносит полноту — в пустоту, наполняя её грядущим, но при этом не разрушает её временную форму, а превращает эту пустоту, вместе с её основанием, грехом,- в прошедшее. И это есть окончательный, хотя и вершащийся как событие, итог нисхождения в «преисподнюю», которая тем самым в некоем смысле (верно угаданном Шеллингом, хотя впоследствии вновь затемнённом его спекулятивным методом) превращается в «вечное прошлое»2. Всё, что не поддалось синтезу Христа, что окончательно отброшено, будь то в жизни отдельного человека или в совокупной жизни мира, и что сделалось по этой причине абсолютно безвозвратным, превратилось в некое «больше-никогда», — это и есть подлинное прошлое. Те, кто превратил своё настоящее, некогда бывшее таковым, — в прошлое, возносят нескончаемые жалобы:
«И восплачут и возрыдают о ней цари земные, блудодействовавшие и роскошествовавшие с нею, когда увидят дым от пожара ее... И купцы земные восплачут и возрыдают о ней, потому что товаров их никто уже не покупает... И плодов, угодных для души твоей, не стало у тебя, и все тучное и блистательное удалилось от тебя, ты уже не найдешь его... И голоса играющих на гуслях, и поющих и играющих на свирелях, и трубящих трубами в тебе уже не слышно будет; не будет уже в тебе никакого художника, никакого художества, и шума от жерновов не слышно уже будет в тебе; и свет светильника уже не появится в тебе; и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе...» (Откр 18.9 и далее).
1 «Божиим грядущим» [Gottes Zukunft] назвал Генрих Нойштадт одну из своих духовных эпических поэм, в которой он описал первое и второе пришествие Христа.
2 Schelling: Die Weltalter (hrg. v. M. Schröter, München 1946).
50
То, что таким образом кануло в безвозвратность, уже не может быть избрано Богом; это зло - великая вавилонская блудница, воплощение всего, что в «блуде», - отвратилось от любви Божией и, отвратившись, в принципе не может быть возвращено. И поэтому оно находит свой конец за самым кромешным краем, «во тьме внешней» (Мф 8. 12), чьё самоистребление можно наблюдать лишь «издали» (Откр 18. 10; 15. 17). Но то, что не погрузилось в безвозвратность, очевидным образом может быть возвращено, хотя на время и ушло: его можно вернуть в вертикальный временно́й порядок Христа, тогда как в пустом горизонтальном порядке оно кажется невозвратимым. Так, Израилю, когда он обратится, обещано «восставление» в изначальном состоянии (αποκαταστήσω σε Иер 15. 19, Септ.), что имеет в виду и Пётр в своей речи к евреям, предсказывая им «времена восставления всех вещей, αποκαταστάσεως πάντων» и пришествие Христа, отсроченное до того времени (Откр 3. 21). Ведь «грядущее Божие», осуществляемое вочеловечением Христа, не означает, что Бог, вступая во временно́й поток, должен быть им унесён подобно всем остальным наступающим и проходящим вещам. Хотя Он действительно становится временным (и потому должен страдать и умереть), всё же Он и во времени остаётся собою, Вечным, привнося свою вечность во время и в его бренность. Однако вечное неподвластно временному, и потому оно, даже став уже пришедшим, сохраняет временную форму наступающего, грядущего. Эта неподвластная предоставленность вечно наступающего-присутствующего - временному находит выражение в библейском понятии «ныне».
«Ныне»-это презенс вертикального времени спасения, который, будучи взят «в себе», является для человека и мира настоящим временем, но нужно, чтобы человек и мир в своём обращении смогли уловить его и обратить во время «для себя», «ныне» пари́т одновременно внутри и сверху горизонтального «теперь», в котором его нельзя зафиксировать как нечто идущее из будущего прямо к нам в руки (ибо горизонтальное время преходит и не поддаётся фиксации), но оно не является и чем-то вневременно парящим «вверху», вне времени, т.к. «грядущее Божие»-это
51
не вневременная идея, а низвергшееся событие Божественной свободы. Уловить это «ныне» (Евр 3. 7 - 4. 7), это «теперь» (νυν), это «время благоприятное» (καιρός δεκτός 2 Кор 6. 2, ср. Ис 49. 8) можно, возведя сердце туда, «где ни моль, ни ржа не истребляют, и где воры не подкапывают и не крадут» (Мф 6. 20). Это «Горе имеем сердца!» есть приучение - заново - к любовной приверженности Богу, в котором живёт небесный Иерусалим, приверженности единственному восшедшему — Христу. Лишь с этим восхождением осуществляется единящая интеграция всех частей разбившегося ветхого Адама в новом, всеохватном Адаме1. Таким образом, хотя обращение человека как обращение хода его времени (то, что Макс Шелер обозначил как «раскаяние и новое рождение») есть акт, вполне постижимый с точки зрения религиозной философии, ибо он действительно, как показал Августин в «Исповеди», может быть совершён самим человеком, всё же подобное восприятие обратимости времени — и совершающегося в нём суда над нами — только тогда становится для нас понятным, когда этот акт происходит в русле всеобщего обращения времени, совершаемого по инициативе Бога. Иначе получится, как это описано Шелером, некое (пелагианское или даже теургическое) принуждение Бога к прощению — потому лишь, что человек раскаялся.
Но здесь нужно помнить о том, что обращение всемирно-исторического времени произошло по благодати, явленной в человеке Христе, Который вступил в греховное время с его внутренней тщетой не как некий «принцип», но именно как «человек» (1 Тим 2. 5). Тщета неизбежно должна была наложить отпечаток на Его земное существование и земные дела, причём не усреднённый, «общечеловеческий» отпечаток, но особенно яркий, ибо Ему, покорному до самой своей смерти, пришлось измерить всю бездну неосуществлённого времени - вплоть до преисподней. Поэтому Его созидание состоит не в том, чтобы, так сказать, шаг
1 См. тексты Августина: Sermo ed. Mai 98 (Morin 347-349); Sermo 9.1,7-8 (PL 38, 570- 571); Sermo ed. Morin I 20 (Morin 504-506).
52
за шагом обращать тщетное время, постепенно придавать ему характер исполненности; скорее, Он должен был принять на себя и в себя всё совокупное течение времени, устремлённое в абсолютное прошлое, и тем добиться обращения целого - начиная от его конца. По этому поводу Отцы Церкви говорили, что Христос появился тогда, когда мировой грех достиг своей полноты1. Лишь увидев всю полноту отчуждения от вечного Божьего настоящего, всю окончательность исчезновения времени в вечном прошлом, Спаситель вступает в жизнь в этом преходящем времени. Но почва, на которую Он опирается посреди этой беспочвенности, — это Его сыновняя верность Отцу; объединительной скрепой является здесь не «событие» (вечности во времени), а послушание, оказываемое из любви. Крайняя расщеплённость между устремлённым к своему концу греховным временем и не имеющей пятна вечностью образует место, где являет себя во всей жизненной полноте интимнейшее любовное единение Отца и Сына (триединая расщеплённость в лоне вечной жизни), и вместе с тем вклинившаяся сюда расщеплённость самого творения между вечным Богом и временно́й тварью достигает своего заключительного смысла. Так время творения и даже греховное время с помощью наисвободнейшей Божественной благодати превращается в сосуд для самоманифестации вечной любви. Что означает на деле: прилепившись к Богу, стать над временем,-впервые становится ясным и доступным через жизненное деяние Христа. Поскольку же это деяние есть избирающая любовь, оно ускользает от любых попыток мифологического или гностического объяснения, будучи «вмуровано в самое основание христианского представления о времени».
Выбор, отданный возлюбленному и его воле, выбор по чистой и безусловной любви, выраженный в самом отчётливом, беззаветном «да» (2 Кор 1. 18-20), - такой выбор становится восхождением в абсолютную свободу, если возлюбленный — сам Бог.
1 Послание к Диогнету IX, 1-6; см. особенно: Григорий Нисский: In diem nat. Chr. PG 46, 1132; атакже: H. de Lubak: Katholizismus als Gemeinschaft, 229.
53
Тогда ничто не может прейти — и не остаться навечно, ничто не наступает, чего бы уже и прежде не существовало и не было даровано. Всё будет вознаграждено сверх всякой меры, если этот выбор посмеет стать ответом на дарованную в любви избранность: тогда взаимная погружённость превращается непосредственно в вечность. М. Ф. Шакка правомерно различает scelta (выбор как сравнение возможных вариантов) и elezione (однократное беспрецедентное избрание)1; второй тип выбора есть то, что Августин описывает как legere-eligere-diligere и что является у него основным собирательным актом Логоса. Применительно к вочеловечившемуся Логосу, однако, речь идёт о собирающем выборе из «ничто» как тщеты, т.е. об устойчивости (con-stantia), терпеливом пре-терпевании (patientία), о нахождении внизу (υπομονή),между тем как над головой всё растекается и рушится2, и это и есть любовь «до конца» (Ин 13. 1). Именно эта позиция позволила Христу, живущему во времени, сказать: «...прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин 8. 58; в свете этих слов следует читать и другие места, где встречается εγω-ειμί-:Ин 8. 24; 8. 28; 13. 19). Презенс - не просто абстрактное присутствие вечности во времени, но добывание вечности из времени, вкладывание - с помощью избирающей любви - вечности в самое сердце бренного времени, бегущего к смерти. Однократность любовного выбора Иисуса осуществляет однократность Его «теперь» и «ныне»: в этом отличие новозаветного απαξ (Евр 6. 4; 9. 7, 26, 27; 10. 2; 1 Петр 3. 18) и εφαπαξ (Рим 6. 10; Евр 7. 27; 9. 12; 10. 10) от прежних, платонических форм (εξαίφνης как вечность, вертикально вторгающаяся во время). Это — присутствие непостижимой свободы,
1 M.F. Sciacca. Scelta ed elezione, in: Filosofia e Vita, Quaderni trimestriali di orientamento formativo, anno 3, nr 4 (1962) 7-9. Объявлено о выходе более обширной работы, посвящённой этой же теме.
2 Erich Prziwara. Demut, Geduld, Liebe. Die drei christlichen Tugenden (Patmos 1961) 30-34. Пживара несколько односторонне противопоставляет христианское терпение платоновско-аристотелевскому учению о добродетели, между тем терпение как твёрдость и выдержка в любых страданиях есть основная добродетель Одиссея и некоторых героев классической трагедии.
54
но свободы, обретаемой через любовь, которая, хотя и владеет заранее всем своим будущим, но «предаёт» своё бытие на заклание, «проливает» его (Лк 22. 19-20); хотя и владеет прошедшим временем грешника, но лишь для того, чтобы — через прощение грехов и воскресение мёртвых - восставить его в новом настоящем. И наконец, она владеет собственным прошлым во всей его погружённой в смерть полноте, чтобы, воскреснув из него, «опять принять» его (Ин 10. 18). Так завершается «нисхождение» во время, чтобы восторжением Его сердца приучить людские сердца к вечности. После этого загадка аналогии (имея в виду двойной смысл апа, кажется, навсегда раздвоенный) перестаёт нас тревожить: становится видно, как время - даже и потерянно- е - может вливаться в вечность, причём не за счёт его разрушения, но потому, что оно исполняется - и исполняется не только извне и свыше, но и само, изнутри, способствует своему вечному исполнению.
Вместе с Христом, однако, спускается во время также «Иерусалим». Он ведь сам, в сущности, является Иерусалимом — со своей Невестой, которую Он извёл из себя и которая прилепилась к Нему Его же благодатью. Он есть Глава и Тело: Глава — на небесах, а Тело странствует по земле. Уже в последней книге «Исповеди» изображено это превращение Иерусалима в Церковь, а в «Граде Божием» показана сущность и судьба странствующего Царства Божия. Это странствие есть паломничество, ибо время, текущее к смерти, остаётся сосудом для времени спасения. Но текущее к смерти время нельзя перегородить дамбой, и если. Царство Божие «растёт» сквозь эту пустоту, то происходит это неприметно, посредством изведения сокровищ из царства моли, ржи и воров - горé и сокрытия их в вышнем Царстве. Невозможно поэтому применить к Царству и Церкви понятие временно́й эволюции. Царство собирает себя в вертикальном, принципиально неприметном измерении, и вся этика Христа и апостолов научает упорному терпению, которое, проходя сквозь все земные дела и свершения, всё глубже познаёт необходимость такого изведения. Церковная экзистенция — это топтание на
55
месте, это странствие в темноте веры (Иоанн Креста), в подземном полумраке, сбивающем все расчёты (Тереза из Лизье). Непрерывно актуализующее себя перекрестье преходящего времени и времени спасения приводит к тому, что пребывание Церкви протекает как непрекращающееся драматическое событие, которое — именно из-за вселения в него вечности — никогда невозможно окинуть взглядом. Чреватость этого времени событием в потрясающих образах показана в Апокалипсисе, однако все эти образы взвешены названного перекрестья и не допускают ни однозначно горизонтального толкования (как описания всемирно-исторического измерения), ни однозначно вертикального (как описания всегда неизменной борьбы между Небом и Землёй). Сам образный характер рассказа уже свидетельствует об этой неуловимой взвешенности.
В этой взвешенности Августин и оставляет странствовать Царство Божие. Пребывать в историческом времени — значит совершать паломничество на чужбине. И не потому, что Бог не присутствует и промыслительно не управляет миром, а потому, что сама форма временности из-за своего не-единства есть форма отсутствия творения в единой вечности. Если в качестве пространства для продвижения, пространства длящейся надежды она является источником онтического обретения, то в качестве пространства непрестанного отказа от ускользающего она оборачивается онтической потерей. С точки зрения Бога, эта потеря и есть Праведный суд: постоянное исправление всего недостаточного, чтобы направить его на то, что лишено всякого недостатка. Таким образом, имманентному суду, в свою очередь, имманентна благодать, позволяющая нам вновь и вновь оставлять позади себя всё, казалось бы, окончательное — в согласии с законом: «умри и стань». Благодать, столь глубоко проникшая в плоть времени, что мы пытаемся её уловить, не считаясь с самим милостивым Судиёй; но она лишь глубже являет своё сокровенно длящееся присутствие внутри отсутствия и пресуществляющего разложения временно́й сути.
56
Именно потому, что непрестанное изведение времени есть благодать и содержит в себе смысл спасения, странствие в пустоте должно иметь скрытый смысл (как осмысленность направления) и тем самым приуготовлять урожай, который непременно должен быть убран. Это долженствование означает окончательность. Две вещи обретают окончательность вместе: пустота времени как смерти и смысловое содержание времени как процесса сохранения в вечности. И то и другое, смерть и хранение, нераздельны и имманентны текучему времени. И вот что удивительно: урожай не может быть собран, пока время не остановится, и в этом собранном урожае будет сохранено всё спасительное содержание временной формы. Образ созревания остаётся лишь образом, ибо в известном отношении время никогда не созревает и плод, сам себя стяжающий у Судии, отнюдь не находится в пределах видимости и досягаемости для того, кто зреет. Созревающий зреет не в себя, а в Бога, но это совершаемое в сокрытой открытости созревание — подлинно. Ветхозаветные праведники, которые были лишены такой открытости навстречу вечному, по необходимости довольствовались этим земным образом и умирали, когда благодать Бога доводила их, «насыщенных днями», до «старости»1. С христианской точки зрения, такой насыщенности уже не может существовать ни для отдельного человека, ни для всей странствующей Церкви. Августин отказывается допустить существование для Церкви конечного земного состояния, которое качественно отличалось бы от всех её прочих состояний2. Вечное не становится с течением времени более открытым, форма времени раскрывает его лишь в прикровенности. Заручиться вечностью, находясь во времени, можно не попыткой как-то выпрыгнуть из времени, но лишь послушанием и повиновением, проявляемыми в самоотречении, которого требует от нас время: блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное; блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.
1 Быт 25. 8; 35. 29; Иов 42. 17.
2 См. выбранные мною тексты из «Града Божия» (Die Gottesbürgerschaft. Fischerbücherei 374) S. 241-260.
57
II. ЗАВЕРШИМОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
А. ЧЕЛОВЕК В ПРОТИВОРЕЧИИ
И РЕЛИГИОЗНЫЙ ВОПРОС
1. Незавершимость сущности
Человек осознаёт себя как сумму и средоточие космоса. В нём, как в фокусе, сконцентрированы всё богатство и все высшие формы живого; ни один вид животных не является ему абсолютно чуждым, он содержит их все в себе в преодолённом и снятом виде, он смотрится в них, как в зеркало, и — на «басенный» манер — узнаёт в них свои характерные черты. Уже схоластическая эмбриология обнаружила, а палеонтология и биология нового времени подтвердили, что человек в процессе своего онтогенеза вобрал в себя все стадии, пройденные природой в направлении к нему самому. В этом отношении нынешний человек в своей основе связан с универсумом природы и со всем мировым целым не более, но и не менее тесно, чем человек мифологических эпох или античности, если уже тогда он понимал себя как «микрокосм».
Очевидно, однако, что человек является микрокосмом не в силу внешней суммации разрозненных сторон космической реальности; он, как её квинтэссенция, не является ни растением, ни животным, ни чем-то ещё внешним по отношению к себе: в понятии «микро-» заключено, в частности, значение «сгущения», которое возвышает человека в качестве мирового синтеза — над самим этим миром. Возвышаясь над непосредственно данным, он является опосредованным по отношению к самому себе, является духом и личностью. Он может открыто смотреть в открытость бытия в целом, которое по самой своей сути не имеет иных границ, кроме Ничто. И хотя человек — это всегда Единственный, он
58
может быть таковым не иначе как со-образно бытию в целом. Исходя из бытия в целом и в отношении к нему и дана человеку свобода: свобода от каких бы то ни было принудительных уз особого бытия, приуроченного к его единичности. Правда, такая приуроченность существует, но лишь ради и освобождённости в целом. Это стояние в открытости и устремлённость взгляда — внутрь не отрешают человека, в качестве духа, от природной основы, но придают ему силу для более проникающего, настойчивого и глубокого укоренения в природных основаниях. Приливы плотского влечения вздымают и отпускают животное, подобно волне, но человеку дано понять и изведать эрос духовно-внутренне, создать для него, духом и любовью, род длящегося присутствия внутри просветлённого пространства своего сердца. Он может, напротив (как это хорошо удавалось немецким романтикам), воплотить бесконечность духовных измерений в пространстве матерински-ночной природной основы и вернуть этой основе ту освящённость, которой его самого наделила природа. Ибо природа в человеке никогда не была бездуховной, как и человеческое дитя никогда не восходит однонаправленно — из нижнего природного слоя в духовное бытие, но всегда из духовно-глубинного пробуждается к сознанию и свободе.
Как может существо, подобным образом устроенное, быть за- вершимым? Поскольку оно является квинтэссенцией мира, его завершение возможно лишь при условии, что вместе с ним и в нём обретёт своё исполнение весь мир. Но поскольку человек как дух превосходит мир, поскольку он открыт для бытия в целом, то для его завершения исполненности мира недостаточно. Возвышаясь над миром и его сущностью, человек является личностью; личность больше «сущности», всегда многосторонне предицируемой, она уникальна. Она - то, что бытийно оправдывает непревзойдённую окончательность всякой конкретно-персональной любви. Хотя каждый человек -личность и каждый обладает подобной неповторимостью, всё же этот признак не может считаться предикатом некоего «сущностного качества» человека. Как «духовное естество» человек, вплоть до самых своих ин-
59
тимных глубин, разделяет с другими людьми общие, родовые черты, но при общности духовного естества человек как личность отличается от других настолько, что категоризация общего рода становится здесь невозможной1. Лишь только вопрос о возможности завершения поставлен, пусть пока лишь предварительно и формально, нужно с самого начала исключить допущение о том, что личность вступает в жизнь и уходит в рамках пола, как бы ни понимать телеологию пола: статически, динамически либо в плане материалистической, биологической или даже теолого-мистической эволюции. Этому запрету на любого рода подчинение личности — мировой сущности непосредственно противопоставлен, однако, другой запрет: представлять личность «акосмически» (Шелер) и видеть её завершимость не иначе, как по ту сторону мировой сущности (а значит, по логике, и по ту сторону её собственной телесности).
Образ человеческой любви настойчиво указывает на нерасторжимую связь, существующую между духовным естеством и личностью, так как обрести полноту и блаженство на почве своего природного бытия или своей личности человек может лишь в обращённом к другому человеку «Ты», т.е., если говорить об основе, — в различии полов, открывающем путь к головокружительной мудрости, в различии, которое natura naturans (природа порождающая) вымыс-
1 Таинство различения между духовным естеством и личностью было со всей остротой воспринято Антоном Гюнтером, вся его мысль неотступно вращается вокруг этого вопроса. Он, однако, не избежал смешения между сверхнатуральным в личности и теологически надприродным и таким образом впал в идеализм, которому сам же объявил смертельный бой. Конечно, верно, что уникальность человеческой личности коренится в уникальности замысла о ней и её призванности-к- наличному-бытию со стороны абсолютной уникальности личного Бога, в этом смысле человеческая личность стоит в непосредственном отношении к личности Бога. Но это не означает непосредственно и не предполагает с необходимостью, что бесконечная свобода личного Бога непременно откроет и передаст человеческой личности всю глубину своей Божественной сущности. Можно лишь сказать, что тварная личность впервые осознаёт себя как личность в услышанном через откровение призыве Бога.
60
лила ради осуществления акта интимнейшей встречи и единения и которое стоит у самого корня видовой сущности, вкладывая в неё эрос как основу, но и, в той же мере, давая человеку почувствовать от века неустранимую, неимоверную разницу между двумя духовными личностями. И всё же мироотношение личности возникает не в такой любви, пусть даже конкретно-персональной. Человек как познающее и устремлённое вперёд существо превосходит всякую связь с отдельным «Ты» и остаётся свободным по отношению к мировому целому, т.е. к миру труда, миру исследования, миру, который надлежит построить и осуществить в человеческом сообществе. И более того: чтобы быть открытым миру, он остаётся, уже за пределами мира, открытым для бытийного целого, которого он не сможет узнать, пока будет пытаться собрать его путём количественного суммирования мировых вещей (скажем, через межпланетное расширение своего могущества и территории проживания). Но он лишь потому и производит эту «техническую» вылазку в область количественного, что ему изначально отказано в удачном исходе подобного же, но философского предприятия в области качественного. Получить откуда-то в своё владение и для своего обозрения бесконечное «царство духов» как совокупность разнокачественных личностей - эта мечта обуревала Лейбница и Гердера, молодого Шиллера, Гёльдерлина, Новалиса и Гегеля, но они, само собой разумеется, не смогли перевести её в категории трезвого мышления.
Ни другое «Ты» как любимое-избранное, ни мировое целое как мир трудов и достижений, ни несбыточная целокупность всех «Ты» не могут дать человеку успокаивающего ответа. Ответ ему может дать лишь само абсолютное бытие, но выступающее как духовная личность - по ту сторону различия между духом и природой, а также ещё более глубокого различия между личностью (как абсолютным уникумом) и бытием (как абсолютной универсальностью и целокупностью). Внутри мира нет связующего пути между этими двумя полюсами напряжения; Дон Жуан пытался найти опосредование, опираясь на отдельное «Ты», и тем разрушил сам исходный пункт: верность и персональную конкретность любви «Ты» к «Ты». Пантеист в своей попытке опирается на мировую целостность, обращая на неё личную
61
любовь, что может привести лишь к опьянению иллюзорным. Средний человек скоро сдается, заканчивая компромиссом между не поддающимися полной интеграции половинками земного бытия: дружбой и учением, семьёй и конторой, личным и политическим существованием. Отказавшись от возможного достижения бытийной полноты, человек может извлечь определённое удовлетворение из некоей витающей перед ним возможности взаимного дополнения и оплодотворения разных сфер, не способных к полному взаимопроникновению, и в тревожности этого мерцания ощутить жизненное начало, предохраняющее его от окончательного обуржуазивать и оставляющее надежду на некий перелом.
Зияющая в человеке сущностно неустранимая брешь негативным образом опоясывает место его богообщения. Полнота сделалась бы возможной, если бы сердцевина природно-духовного «Я ~ Ты» и превозмогающе-абстрагирующая свобода познания и устроения мира могли встретиться друг с другом в охватывающем их третьем отношении, — как исток — смогло бы обосновать оба эти вектора и — уже как смысловая цель - окончательно вобрало бы их в себя. Ведь квазибесконечная любовь между двумя конечными существами возможна, лишь если в бытийной основе правит бесконечная любовь, то есть если то, в чём клянутся друг другу любящие, не является непременно опьяняющим преувеличением, или «уловкой природы» (которую она потом сама цинично раскроет), или терпящим крах самомнением. И точно так же растворение духовной личности в абстрактных запросах политического или технического мира труда лишь тогда не будет предательством духовной глубины ради чисто анонимного муравьиного существования (манящего утопическими обещаниями светлого будущего, но не для человека как личности, а для человека как рода), когда за и над объективным духом, которому индивид должен принести себя в жертву, стоит бесконечный субъект, к которому он приближается сквозь все эти пространства свободы, миро-покорения и миру- покорности, — приближается с такой же и даже более интимной сердечностью, какую он испытал в лоне родительской, братской ли, супружеской любви или в дружбе.
62
Но блаженство от подобного молниевидного усмотрения в этом третьем, религиозном отношении возможной полноты экзистенции, то неимоверное обетование, которое оно с собой несёт, — всё это сразу ускользает от нас, сто́ит нам попробовать непосредственно до этого дотянуться. Мало лишь указать на то место, где нужно искать это высшее третье и где наличное бытие должно завершить себя, ибо остаётся в силе вопрос: способно ли оно, как оно есть, вообще себя завершить? Если же оно не может завершить себя в целом, согласно общему замыслу относительно него, тогда никакие частичные, фрагментарные исполнения не помогут: их частный смысл будет навсегда подорван и по праву дезавуирован бес-смысленностью целого. Сомневающемуся и отчаявшемуся человеку, который, исходя из представления о всеобъемлющем, постоянно разоблачает все частные смыслы (касающиеся любви, знания, добродетели или каких-то достижений) как бессмысленные, возразить невозможно. Но если человек есть всего лишь фрагмент и как таковой не может быть завершён, то, несомненно, лучше бы ему вообще не быть, и тут ему не остаётся ничего иного, как начать урезать и редуцировать свою сущность до тех пор, пока все противоречия не отпадут и он не обретёт некое подобие совершенства, но на более низком и скромном уровне.
Мучительная тайна не проясняется и после того, как человек на место горизонта, в виду которого он мог бы завершить себя в своей конечности, ставит идею бесконечного Бога. Этим он, пожалуй, обрекает себя на ещё большие муки: как может Бог, благой, бесконечный и потому ни в чём не терпящий нужды, помочь этому очевидно незавершимому созданию, ограниченному образом своего наличного бытия, дорасти до полноты? Ибо его наличное бытие не только конечно и от мира сего, оно ещё и смертно. Всякой мысли, сколь угодно целостной, смерть представляется некоей непреодолимой каменной глыбой, лежащей на пути. Если даже считать, что её пугающий образ вторгся в изначальную природу уже во вторую очередь, то и тогда конечность земного существования вызывает неизменно тревожащий вопрос: как вообще можно помыслить единство и даже идентичность заведомо конечного при-
63
родного существа (каковыми мы все являемся как представители известного вида и рода) - и бесконечной духовной Личности с её требованиями бесконечного познания и любви? Справиться с этим вопросом не удаётся, если считать человека состоящим из «смертного» тела и «бессмертной» души: «шов», как уже было показано, проходит не здесь, а между космическим духовно-душевным естеством и надкосмической и непосредственно-божественной Личностью. Подмена происходит и тогда, когда, вслед за Оригеном, космическую душу рассматривают как некое состояние (κατάσκζσις) самоотчуждённости духа, ибо те акты, которыми духовная душа в этом мире обретает опыт, познаёт, любит, имеют по крайней мере не затронутую разрушением, чисто тварную сторону, благодаря которой они содержат в себе вечность и являются идеально-непревзойдёнными. Если же бытийная и познавательная формы тщеты и бренности изначально вплетены в форму творения (в августиновском смысле), что окончательно превращает земную жизнь в подобие сфинкса, тогда сам чистый образ творения (уже не поддающийся реконструкции) был неким иероглифом.
Кентаврическая сущность человека обнаруживает нечто незавершимое, указывающее на некий более высокий, ему самому недоступный образ завершения, который, хотя он с формальной точки зрения вообще локализован в сфере богоотношения и негативно очерчен, тем не менее оставляет открытым вопрос: «Как достигнуть завершения?» — и даже необходимо должен подразумевать его открытым, так как в противном случае отношение между Богом и человеком будет определено и сформировано во всём его диалогическом драматизме одним лишь Богом.
2. Противоречие смерти
В смерти незавершимость человека раскрывается как чистое противоречие, ибо в своём падении в бездну пре-существляющего распада он прежде всего увлекает за собой последнюю туманную надежду на достижение полного бытия. Когда дорогое лицо покрывается бледностью и становится добычей тления, происходит как бы окончательное падение занавеса: вот это,
64
единственное, навсегда остаётся по ту его сторону; никакое переселение душ, никакая встреча на «других планетах» ничего тут не заменят и не продлят. Однако смерть, которая таким образом поражает самую сердцевину жизненного смысла, — это не просто катастрофа, пришедшая извне, не обрыв нити судьбы; скорее, через неё становится очевидным общее сползание жизни под уклон - прочь от видения целостности.
Смерть нельзя понять ни как внешнюю беду, ни как конструктивный экзистенциал (из-за её противоречия с самим смыслом земного бытия), с каким бы отчаянным напряжением мы ни пытались доказать обратное. Ведь в конце концов никто не способен дать «вечную клятву верности на время». Однако сердца не беспрерывно бунтуют против мрачного всесилия смерти лишь потому, что гонимый ею ветер судьбы издревле склоняет перед ней леса души, что «власти» неверности, несправедливости, измены, всех видов душевной косности, телесных болезней, дряхлости с самого детства хорошо нам известны во всей их разрушающей и разъедающей сущности, и не только как нависающие над нами силы, но как внутренние, с коими мы, похоже, давно состоим в союзе, непостижимом для нас самих, который мы помимо своей воли заключили в некоем теперь уже для нас недоступном месте. Проблема Кафки: каким образом чужеродность «властей» (из коих худшая - это вина) сначала нас извне, чтобы затем проникать в нас, слой за слоем, пока мы не окажемся «вынужденными» признать их в себе как свою собственную разрушенность и произнести: «Я виновен». Но ужас от этой чужеродности между тем не проходит, поэтому сердце, признавшее себя виновным (и не акцидентально, но на уровне экзистенции), постоянно готово взбунтоваться против принуждающего его земного бытия и начинает озираться в поисках инстанции, которая законным образом освободила бы его от приговора, склонившего его под ярмо подобной судьбы и вынесенного всё же лишь волей некоего «бога».
Но в какой-то момент эти силы всё же востребуют человека, и, как бы он ни изворачивался, ему от них не скрыться. Он так и не смог проснуться к осознанию своего достоинства и своей миссии в этом мире без того, чтобы обнаружить в себе червя, уже
65
впившегося в самую сердцевину данной ему свободы и любви. Он признаёт долженствование - и не как безразличный закон, а как путеводитель к истинной свободе, — но при этом чувствует ленивое нежелание следовать указанным путём, ощущает косную инертность и оцепенелость сердца, предпочитающего это своё состояние усилиям любви. Любовь требует преодоления, и вот уже ребёнок ищет способа испытать усладу любви, избежав преодоления, обрести «Ты» и весь мир, не утруждая при этом своего «Я», -и в этом и состоит сущность нелюбви, рядящейся в любовные одежды, сущность «порочности».
К зловещему кружению рока между «не могу» и «не хочу», из которого ребёнок, впервые приобщающийся к греху, изо всех сил пытается вырваться, присоединяются - нависая всё ниже и неотвратимей — «власти», олицетворяемые в «man»,чью пронизанность ложью сердце вначале ещё хорошо видит, но постепенно поддаётся их подавляющему воздействию, так как вынуждено признать бесполезность всякого радикального протеста. Правота - за миром взрослых, и в этом мире взрослых Adikia, Несправедливость, очевидным образом составляет неотъемлемую часть. И я сам, по мере вхождения в возраст, должен мириться с несправедливостью. И пусть в этом мире — в общественной и в частной сфере — предпринимаются попытки как-то преградить путь этим разрушительным «властям». Участвовать в подобных действиях - благородно и достойно хвалы, однако нигде, ни в приватной, ни в общественной жизни, человек не сможет поразить гидру. Он повсюду носит её с собой как своего врага, она растёт вместе с ним, и человеку часто кажется, что по мере усиления его собственных попыток одолеть её, превратив мир в рай, число змеиных голов удваивается с каждым новым ударом.
Там, где он полагает возможным отметить реальный «прогресс» в организации нравственного миропорядка, этот чаемый прогресс является ему неотрывно от зияющей апокалиптической бездны. И происходит это потому, что ощутимый прогресс — не только в технической, но и в культурной, и в нравственной сфере — по самой своей сути может наблюдаться в человечестве лишь
66
с природной его стороны, тогда как глубина личности Единственного, чья родина - в вечности, противится такой переориентации на родовое начало. Прогрессистский оптимизм технической культуры лишь потому столь шумлив, что ему становится всё более необходимо заглушить предсмертные крики насилуемых личностей. Даже такой антисоциалист, как Ницше, который, по-видимому, возлагал надежду на величие Единственного, в решающий момент поневоле переоценил все личностные ценности, заменив их природными и попытавшись вывести их из биологического: сверхчеловек должен быть «покаран», и с этой целью все моральные оценки (которые свидетельствуют о нашей глубочайшей неспособности к добру, - то, что Кант назвал радикальным злом в нас) отныне растворяются в биологической силе. Между тем, история показала, что проект Ницше сливается с построениями его злейших противников и что его верные устремления могут быть сохранены лишь на совершенно иных, чем у него, основаниях.
3. Религиозный проект выхода из противоречия
Человек не был бы самим собой, если бы постоянно не осознавал сущностное противоречие, возрастающее одновременно с усилением мирового рока, вовлеченность (со всё более явственными чертами демонизма) в оптимистические и многообещающие попытки усовершенствования мира, в попытки распутать узел, имя которому — человек, именно постоянная занятость (всё более тотальная) этими прекрасно понимающими друг друга и на вид такими неотвратимыми силами экономики, общества, мировой политики и мировой техники приводят к тому, что он с содроганием начинает замечать угрозу, нависшую над ещё оставшейся у него толикой свободы и сердечного мужества, видит, сколь ужасен заговор этих «властей», которые вместо истинной радости, истинной боли, истинной веры и самопожертвования подсовывают ему их эрзацы, чья легитимность целиком зиждется на молчаливом предательстве вечной Личности.
67
Однако обострившаяся мировая ситуация являет ему в зловещем свете лишь судьбу человеческого бытия вообще. Если выше было уяснено, что окончательная возможность благого и целостного бытия может, исходя из самой природы человека, быть намечена лишь в высшей степени формально, но отнюдь не содержательно, так как необходимый синтез отдельных элементов неосуществим наглядно, то неизмеримо ближе это касается человека в разрушенном состоянии. Проект спасения, который человек может привести в исполнение своими силами, не только превосходит его природу — он ей противоречит. Как бы он ни старался привести этот проект в исполнение, один какой-нибудь необходимый элемент всегда остаётся неучтённым, потому что неразрешимое противоречие коренится в самом ядре стремящегося к спасению человека. Это будет показано ниже посредством сжатого систематического обзора возможных путей спасения — путей, которые, коль скоро они намечены самим человеком, с необходимостью распадаются на два главные направления. Третий путь, примиряющий противоречие, может быть намечен и предложен только Богом и как таковой единственно и может по праву именоваться «откровением», сколько бы другие планы ни претендовали на это название. Эти планы могут быть с верою приняты многими людьми и даже целыми народами и культурами в качестве «откровения», поскольку они реально выражают какой-либо аспект процесса спасения, причём с такой ясностью, которая недоступна среднему человеческому сознанию. Однако этого ещё недостаточно, чтобы считать их подлинным «откровением», поскольку они, как рациональные проекты, в достаточной мере объяснимы через проектировочную способность человека. И ещё потому они не могут быть в окончательном смысле названы «откровением», что не способны развязать ключевые узлы экзистенции: они их в лучшем случае разрубают.
И этому отнюдь не противоречит то, что на уровне предварительного проекта спасительного откровения, в сфере чисто формального, они могут содержать нечто вроде образного наброска откровения, исходящего от Бога. «Формальное» здесь означает
68
разметку пространства, в котором должно произойти событие, если только действительно этому существу, человеку, суждено стать получателем спасительного откровения. Эти формальные рамки человеческое воображение попытается затем сразу же заполнить материально, т.е. конкретными предваряющими набросками: мифами о спасающих божествах, которые (мифы) разъясняют то, что должно произойти, и одновременно вызывают это заклинанием из мира чистой фантазии и помысла в мир действительный. Не случайным, однако, но весьма существенным является то, что подобным мифам не дано достигнуть почвы реальной человеческой истории, ступить на подмостки исторического мира. Они, таким образом, сохраняют в себе эстетический момент, который является неотъемлемой частью их волшебства, но неотделим и от их заколдовывающей неспособности к спасению. Мифы возникают из невозможности для человека чисто антропологически спасти самого себя и привести к целостности. Точно так же и никакой отказ от мифа (как предполагаемого самоотчуждения духа) с целью растворения в конечной экзистенции не снимает этого положения. Пути назад, под защиту мифа, более не существует, остаётся лишь путь вперёд, за его пределы, ведущий к действительности и открывающий возможность целостного бытия, чаемую мифом.
69
Б. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ВЫХОДЫ
И ХРИСТИАНСКИЙ ПУТЬ
1. Путь видимости
Прослеживая пути человечества к спасению, т.е. к богообщению, нужно сразу же заметить, что эти пути, как в ищущем созерцании (theoria), так и с точки зрения экзистенциального проживания (praxis), являют собой самые смелые проекты и высочайшее напряжение духа, воплощаемые в истории жертвой всей жизни как отдельных людей, так и целых народов. Ни в коем случае нельзя с самого начала трафаретно характеризовать их как демоническое ослепление, а выискивающий их человеческий дух — как «fabrica idolorum», даже если в итоге эти пути обнаружат свою фрагментарность и ни один из них не сможет привести к полному, объективно нераздельному спасению. Оттого-то эти пути видятся в двойном свете: выражая самую истовую устремлённость к спасению, они могут в завуалированном виде нести в себе спасительную благодать и при этом, как созданные самим человеком, могут ещё глубже увлечь человека в состояние распада. Здесь не увидишь, как Бог направляет сердце Единственного, но можно установить, как объективный путь соотносится с объективным запросом человечества.
Первый путь — это воспарение сердца, когда оно целиком оставляет позади чреватое противоречиями земное существование, чтобы сразу укрыться в области Божественного, понимаемого как надмирное. В основе этого лежит простейшее рассуждение: всякая множественность противопоставлена единству, от которого она таинственным образом отпала; истинно сущим может быть только единство. Поэтому разница между Богом и миром, между единством и множественностью есть также разница между истинным и неистинным бытием, между бытием и видимостью. Время и пространство ежесекундно подтверждают разрозненность вещей, их постоянное взаимопревращение. Они образуют сансару, вращаемую силой майи и тришной, жаждой
70
иного. Путь спасения требует внутреннего отказа от мирских различий, теоретически — узрением их всех разом в отношении к идентичной Божественной основе, практически — отказом от поиска удовлетворения в конечном, частном бытии. Если в этой системе что-то ещё можно назвать любовью, то это - сохранение верности по отношению к «Ты», и именно не в его отличии, а в его полной идентичности любящему «Я», которое, однако, само исходит в этой любви не из своей различающей точечной позиции, а из надмирной самости Бога; что же до индивидуальности, ещё томящейся в своей тюрьме, то «Я» может испытывать к ней лишь глубокое «сострадание». Но и сострадание оказывается лишённым своего специфического содержания, поскольку истинное со-страдание имеет место лишь до тех пор, пока сам страдающий — оставаясь в состоянии различимости с тем, кому он сострадает, - пребывает вместе с ним в реальности этого мира. Уклонение же от вновь достигнутой идентичности в сферу различимости может, собственно говоря, иметь лишь символическую ценность. Путь спасения, основанный на схеме видимости, т.е. на признании нереальности смертельного противоречия, а значит, и самой смерти, хотя и свидетельствует о далеко зашедшей отваге духа, который властно кладёт пределы всему мировому целому вместе с его законами, с тем чтобы подвергнуть его отрицанию с позиции высшей свободы, однако остриё этого отрицания попадает в самую сущность человека, который спасает (в абсолютном) свою истинность лишь тем, что отбрасывает свою мирскую реальность как нечто бренное.
В наиболее радикальной форме этот путь прошла Индия, объявившая лишь видимостью всякую индивидуальность, всякое взаимное пред-стояние. Однако пути спасения, предложенные греками, отшатнувшимися от крайних выводов азиатской мысли, в большинстве своём также тяготеют к этому полюсу. Монизм Парменида, равно как дуализм Платона (пренебрегавшего телесным существованием ради спасения лишь «бессмертной души» человека), космический центральный огонь стоиков, отлетающие искры которого (scintillae animae)суть отдельные ин-
71
дивиды, вновь стремящиеся к центру, а также, конечно, неоплатонические пути, предполагающие убывание бытия при эманации; спасение человека понимается здесь либо как восхождение по ступеням (nus-psyche-hyle)к сверх-умному Единому (hen), либо как возвращение, после смерти, всех составных элементов человека в соответствующие сферы. Все эти формы спасения, при некоторой их взаимной противоречивости, объединены общей попыткой сохранить «бессмертную» часть человека, бросив остаток на волю поглощающих мировых «властей». Сохранённое таким образом объявляется «подлинным», а брошенное - «неподлинным». Каким бы прекрасным и возвышенным ни выглядело это в теории, на практике всё значительно туманней, ибо пропадает всякий смысл окончательно и бесповоротно связывать себя с бренным миром. И поскольку во всех подобных системах «бессмертное» приписывается Божественному, постольку в их основании лежит азиатское начало, делающее невозможным исполненное серьёзности любовное предстояние Бога и человека. Оно возможно лишь в предварительном смысле, пока человек, погружённый в экзистенциальную борьбу, продолжает оставаться иным Богу, пока он как милость воспринимает протянутую ему из Божественной сферы руку, чтобы освободить его из узких рамок борьбы (стоики), мешающих ему попасть в такт мировому закону.
Если отказ от конечного удовлетворения здесь столь притягателен в своём героизме, то лишь потому, что он всё же даёт возможность подняться над противоречием и таким образом освободиться от боли; однако не исключено, что отказ от боли, если взглянуть на него с точки зрения возможной целостности человека, ещё более гибелен, чем отказ от удовольствия. Греки почувствовали это и, по крайней мере в классический период, предпочли оставить в силе последнее противоречие между последовательно продуманной метафизической антропологией и неотъемлемыми данностями земной жизни, вместо того чтобы, ведя одну линию ради достижения человеческой полноты, в конце концов упразднить самого человека. Их мысль держалась
72
столь близко к реальности, что метафизическая перспектива в итоге не ставила эту реальность под сомнение, но скорее окружала её как преображающий ореол, а отношение между преходящим и вечным существованием сохраняло некую поразительную взвешенность. Лишь имея в своей основе подобное состояние взвешенности, мог родиться такой феномен, как трагедия: человек в ней сохраняет связь с порядком богов и ради этого даже готов принести в жертву самого себя, но и напротив: порядок богов соотнесён с человеком и довольно часто бывает, ради человека, вовлечён в его противоречие. Если мир - это «видимость», то всё же её любят сами боги. Трагичность противоречия преодолевается не отрицанием, как в Индии, но становится предпосылкой для очищения сердца (катарсис). Таким образом, некий мечтательный образ целого по-прежнему остаётся в поле зрения, но с тем условием, что это неустойчивое равновесие ни с какой из сторон не будет нарушено действительностью.
2. Путь трагической борьбы
Но здесь в наше поле зрения попадает второй возможный путь. Противоречие земного бытия как таковое столь значимо с точки зрения действительности и, значит, истины, что вопрос о спасении не может быть решён независимо от него. Пути, на которых это противоречие считается лишь видимостью, упраздняют злой рок, но заодно также — и то благое, что от него не отделимо. Что придаёт земному бытию глубину и величие, как не боль и трагизм? Что закаляет человека и шлифует заключённый в нём алмаз, если не страдание? И не какая-то внешняя, случайная и устранимая боль, но именно боль неотъемлемая, таящаяся в самой судьбе: быть человеком. Взаимный восторг, который возникает при встрече природы и духа (несмотря на всю взаимную угрозу), заключает в себе такое несравненное величие, которого ни зверь, ни «бог» достичь не могут. В шекспировских трагедиях, посвящённых чудовищу под именем «человек», это ни с чем не сравнимое нависание над всеми безднами есть именно то, что
73
заставляет нас содрогаться. Или в «Фаусте», когда герой говорит и как бы не говорит мгновенью: «О, как прекрасно ты, повремени!» — и наконец в вечном усилии заранее обретает спасение.
Также и вне греческой трагедии, в мире германской героической саги, трагическая ситуация как нечто из ряда вон выходящее и возвышающее человека во всей его чистоте — оставлена в её подлинном виде. Это была не наша современная «разорванность», а определённое понимание величия, которое, наряду с трагической гибелью, предполагает также нерасторжимый сплав верности и вассалитета. Какими бы бессмысленными они ни казались перед лицом гибели, именно в гибели они обретают сияние вечности, благодаря которому их воодушевляющая и прославляемая в песнях память передаётся поколениям потомков. Мифологический мир богов, образующий небосвод над этим образом земли, сам может являться лишь отражением земного величия: даже царство вечного расколото в смертельной борьбе, в нём повсюду - битвы и гибель, и ни вращение небесных сфер, ни философские учения о вечном возвращении не могут здесь принести никакого умиротворения.
Однако специфически человеческое не явилось бы на свет в этой картине мира, если бы в ценностных представлениях о верности (и её противоположности — измене) этическое не превалировало и не брало верх над чисто витальной силой. Человек и здесь остаётся в рамках понятия права, родового порядка, и поэтому борьба разворачивается между правым и неправым и таким образом возводится в ранг абсолютного.
В этой перспективе становится ясно, что дуалистические системы, на первый взгляд лишённые смысла, не так уж легко преодолеть. Маркионизм, например, который абсолютизирует библейское противопоставление закона и благодати (Ветхого и Нового Заветов) как противостояние двух божеств, отражает - в рамках гностических представлений -повсюду бытующую антропологическую схему. Эта последняя допускает двоякую акцентировку. Либо человек, это естественное создание тёмного мирового бога, восстал против его противоречивых законов, не-
74
сущих смерть, и таким образом - милостью высшего Бога — пробился в царство свободы и духа. В этом случае маркионизм есть лишь драматическая игровая форма пути спасения, намеченного выше: от множественности к единству. Но можно считать и по-другому, — что человек явился жертвой двух борющихся божеств и, лишь погибая, может вырваться из-под власти мирового бога и припасть к лону небесного Отца, Бога милости и свободы. Эта переливчатая смесь гнозиса и христианства встречается в многочисленных протестантских вариантах, в чистейшем виде, возможно, - в некоторых мифах Блейка, но наиболее открыто - в драмах Шиллера, где трагизм прорыва сквозь царство когда-то правое, но обветшавшее и потому ставшее неправым, в царство свободы обнажает форму и смысл бытия. И как бы широко гибнущий герой ни открывал этим своим прорывом двери в царство свободы для будущих поколений, - эта обеспеченная свобода потом всё равно превращается в нечто низменное и скучное. Всё человеческое величие концентрируется в борении ради этого прорыва, в котором гибель и взлёт составляют одну нерасторжимую фигуру.
Иранский и манихейско-катарический дуализм всегда находятся поблизости, когда агональная ситуация прорыва понимается как изначально человеческая; подобная метафизика может быть осмыслена не иначе, как фон для агонально-аристократического образа человека. Чтобы та борьба, которая разворачивается в интимнейшей глубине наличного бытия (polemosетphylios)и которая превалирует в крупных досократических картинах мира (Гераклит, Эмпедокл), была воспринята и выношена как высочайшая идея в плане вечности, нужен человек, испытанный горем и противоборством, который научился бы любить просветляющее его горнило страданий и презирать все более доступные способы гармонизации. Ницше, который всякой попытке эсхатологически исключить страдание противопоставлял извечно его интегрирующее «вечное возвращение», тем самым выдвигал антипессимистический силоутверждающий идеал: «В страдании не меньше мудрости, чем в наслаждении, оно в той же
75
мере принадлежит к видосохраняющим силам высшего порядка». «Неудовольствие — необходимый ингредиент всякой деятельности, в основе всей органической жизни содержится воля к страданию». В противоположность «пути видимости», на котором страдание изначально искореняется и тем самым происходит аннигиляция «жажды» и алчности, путь трагической борьбы никогда не утрачивал чувства исторической реальности; он не обещает парения над бездной, но всякий раз, как нога ударяется о камень, позволяет убедиться в его подлинной реальности, принять участие в этой реальности.
3. Предварительный характер обоих путей
И всё же не было ещё такого безумца, который объявил бы, что путь страдания - это и есть путь к Богу и что умножение страданий приближает к абсолюту. Страдание в лучшем случае остаётся эпизодом, нужно лишь, чтобы оно, во всей своей просветляющей и закаляющей силе, не теряло подобающего ему места во всеобъемлющем целом мирового здесь-бытия, которое толкуется как недостижимый горизонт, как «Божественное». «Божество — это день и ночь, зима и лето, война и мир, насыщение и голод, оно видоизменяется, как масло при смешении с благовониями» (Гераклит). Поэтому данный путь «бессмертной борьбы» (Платон) - это, собственно говоря, не путь, а способ самопонимания пребывающего-у-себя человека, который, в меру своих максимальных возможностей, набрасывает для себя образ Бога. Не стоит и говорить, что по названной причине этот второй проект менее религиозен, чем первый, так как на первом пути человек от себя (как противоречивой множественности) стремится к единству, которым сам не является, тогда как здесь ему вполне достаточно самого себя и он рисует образ Бога по своей мерке. Первый путь, оттого что он утверждает Единое как изначальный свет и сияние, ещё не является (как многие поверхностно думают) оптимистическим; он проектирует образ Единого ценой радикального отрицания и растворения всякой подчинённой мировым законам действительности, и в этом смысле радикаль-
76
но пессимистичен. Второй же путь, на первый взгляд пессимистический, ибо он основан на преодолении исполненного внутренней борьбы противоречия, гораздо более жизнеутверждающ, хотя и требует героизма; он отказывается от какого бы то ни было иного (трансцендентного) спасения и довольствуется спасительными силами, господствующими над земным бытием как оно есть.
Однако оба эти пути весьма редко встречаются в чистом виде и по отдельности, но всегда — во взаимосвязи друг с другом, в которой отдельные части могут видоизменяться, но никогда не отсутствуют полностью. Ведь и мистическое восхождение к Единому по-своему сопряжено с болью сердца за свой отказ, и героическая борьба подразумевает последнее примирение с экзистенцией. Они даже дополняют друг друга, доводя до полноты образ Бога: ведь если бог первого пути не есть просто нераздельная бессердечная пустота, то эманацию нужно понять как «безвозмездно лучащееся благо», и если трагическая борьба (agôn) имеет Божественное обоснование, то подверженность богов судьбе всё же подразумевает некую уязвимость и осознание своей ответственности, а также открытость Божественной основы всех вещей для гибельного мирового рока.
Для предчувствующих, интуитивных проектов, связующих Бога с миром, проектов, почти бессознательно смешивающих и взвешивающих разные элементы, мифологический мир представляет полное изобилие. К чему бы ни приводило это смешение, в какие бы образы ни облекалось — от примитивных африканских, индейских, полинезийских до утончённых гностических, — всегда в качестве составных частей появляются, словно в калейдоскопе, символически значимые фигуры, которые вряд ли стоит здесь классифицировать. Однако мифологические религии всегда связывают между собой оба элемента: [l] сферу земного правопорядка, охватывающего как частную, так и социальную области, где этический катарсис, в предварительной форме, достигается через отказ, дисциплину, страдание, искупительную и примиряющую жертву, однако всё это — в постоянной
77
проекции на [2] трансцендентный горизонт небесной благодати, обетованного спасения, т.е., в некотором смысле, на основное отношение завета с милосердным Богом. И таким образом этико-политический земной порядок с его активным представлением о добродетели обеспечивается через трансцендентное отношение к спасению, чаемому верой, надеждой, а также (с верностью обетовавшему Богу) — любовью.
Вместе с тем, ясно, что переход на почву истории, спасение на этой почве от всех коллизий земного бытия, хотя и весьма интенсивно возникает в представлении, но — всё-таки только в представлении (Бог, который был бы более реален как мифологическое существо, становится неощутимым в рамках истории), и поэтому спасение человека для подлинной возможности бытия, зависящее от этого соприкосновения с реальной плоскостью смерти, так и остаётся на стадии предварительного наброска. Чем менее отрефлектированно мифологический образ-представление функционирует в реальности, тем более полно бывает им оформлен земной порядок (применительно ко всему народу и к отдельной личности), однако с наступлением века философии мифо-магическая сила религиозной образности стала сходить на нет и из-за неё во всей наготе вновь выступила неразрешимая апория исторического, противоречивого человека. В этой ситуации открывается третий, библейский и христианский путь.
Прежде чем мы примемся за его рассмотрение, необходимо заметить, что трансцендентность человеческого здесь-бытия, которая, в поисках собственной полноты, выражает себя в несводимых друг к другу проектах, является сущностной, т.е. онтической. Это не «идеологическая надстройка» над непреодолимо фрагментарным основанием, но нечто большее: прорыв фрагментарного к своей полноте. Эта трансцендентность сказывается в представлении о «бессмертии души», которая является наилучшим выражением бытийного постулата полноты. Поскольку словом «душа» в данном случае обозначается «сущностное ядро» человека, не подверженное разрушению от растянутости
78
времени, здесь проявляется философское умозрение, которое прочитывается в самом человеке и не связано с христианским откровением. Однако само это умозрение указывает в пустоту, так как «бессмертия души» недостаточно, чтобы обеспечить сокровение времени в вечном, — дело, для человека абсолютно немыслимое. Мифологическая способность воображения необходимым образом добавляет здесь недостающее до полноты, но без философски-надёжного обеспечения. Никакая рациональная спекуляция (что-нибудь вроде рассуждения об универсализации души, отделившейся от конкретного тела, посредством её связи со всекосмической материей) не имеет достаточно почвы под ногами, чтобы составить ясное представление о пополнимости человеческого фрагмента. Поэтому в отказе Карла Барта принять «бессмертие души» как доказательный тезис содержится зерно истины: если этот тезис и доказуем философски, то всё же и он содержит лишь фрагментарный ответ на вопрос о целокупном бытии человека, полный же ответ достигается лишь на пути откровения1.
4. Третий путь-путь любви
а) Сродство и отличие
Библейско-христианский путь можно было бы, поверхностно рассуждая, рассматривать как один из множества мифологических вариантов, который лишь наиболее удачным образом связывает два вышеназванные полярные пути. Согласно этому представлению, у первого пути заимствуется формальная схема: исхождение мира из Бога и последующее его возвращение к
1См. обстоятельноеисследованиенаэтутему: Ansgar Ahlbrecht OSB: Die bestimmenden Grundmotive der Diskussion über die Unsterblichkeit der Seele in der evangelischen Theologie. Catholica 17 (1963) 1-24. А также: M. Schmaus: Unsterblichkeit der Geistseele oder auferstehen von den Toten? In: Pro Veritale. Festgabe für L. Jaeger und W. Stählin, 1963.
79
Богу. Именно таким образом истолковывала христианство александрийская теология (влияние которой сильно сказывается ещё в схоластике и в мысли Возрождения): Бог Отец для неё — абсолютное единство, Сын — потенциальная множественность мира идей и вместилище для последующего вочеловечения, Святой Дух — собиратель (посредством идей) множества вновь в абсолютное единое. Дело творения и вочеловечение Бога представляются преимущественно как «саморасподобление» Бога, добровольное склонение высшего к низшему (synkatabasis),а возвратные пути — главным образом, как пути единящего прозрения сквозь множественность Божественной единой основы (theoria, gпоsis).
У второго пути христианство, как может казаться, заимствует всю серьёзность агонального начала, сосредоточенного в средине Креста: для умирения мира через страдание, для сверхгероической борьбы «льва Иуды» с силами хаоса и ада, для преодоления греховного противоречия с помощью искупительного противления ему. Причём, как и в мифе, вызывающее катарсис страдание распятого человека переносится в Божественную сферу и, уже как «страдание Бога», открывает для мира Его вовлечённость в судьбы Его собственного творения. Эта вторая схема может обладать в отношении христианства такой же объяснительной силой, как первая в интерпретации александрийцев; мы наблюдаем её, среди прочих, у Лютера, Паскаля, Бёме, Баадера.
Однако истинная отличительная черта христианства всем этим даже не затрагивается. Заключается же она в том, что событие спасения, благодаря которому между Богом и человеком устанавливается отношение искупления, разыгрывается внутри истории и Бог не подаёт никакого знака и не произносит ни единого слова в расчёте на человека, но использует человека, во всей его бытийной проблематичности, хрупкости, незавершимости, - как язык, на котором Он выражает слово спасительной полноты. И поэтому Бог употребляет разрозненное во времени наличное бытие в качестве звукового письма, для того чтобы
80
запечатлеть на человеке и мире знак надвременной вечности. Человек Иисус, чья экзистенция и есть этот знак и Божье слово, обращённое к миру, должен поэтому пережить во времени трагическую расщеплённость и преодолеть её силой (августиновской) избирательной приверженности избирающей воле вечного Отца, чтобы тем всеохватнее осуществить сущностно недробимую целостность в сущностно незамыкаемой фрагментарности. Об этом, т.е. о том, как это возможно и каков образ этой экзистенции, пойдёт речь в последней части данной книги. Однако и теперь достаточно ясно, что, коль скоро это уже произошло, историческая экзистенция включена в возвратное движение к Богу, — и для этого нет нужды считать её видимостью или убегать от неё.
Проведённый здесь христологический синтез принципиально отличается от любого синтеза мифологического воображения; его сила и действие лежат по ту сторону всякого ожидания и представления - в воскресении мёртвых. Поскольку христианское провозвестие с самого начала целиком сконцентрировано вокруг этой срединной точки и истолковывает всё остальное: вочеловечение, жизнь, учение, страсти и вознесение Христа, излияние Святого Духа — исключительно в соотнесении с ней, то она становится бесспорным ядром керигмы. Здесь не представляется возможным развернуть всю стянутую к этой средине и вновь источаемую вовне полноту в её наглядной истинности; для нашей темы достаточно установить, что христианство своим провозвестием воскресения из мёртвых претендует на то, чтобы дать единственно полное, единственно удовлетворительное решение антропологической проблемы и тем самым недосягаемо превзойти все мировые религии и философии, — правда, лишь если само оно будет понято не как некая сверхрелигия или сверхфилософия, а как чистое деяние Божественной благодати. Выше уже было указано, что оба фрагментарных пути мысли в человеческих религиях, мистический и мифологический, унитарный и дуалистический, каждый на своём уровне и со своей ограниченной ценностной установкой, взаимно сопряжены друг с другом.
81
Но оба они оказались не в состоянии сокрыть конечность и временность исторического человека в лоне Божественной вечности, что может произойти лишь через воскресение из мёртвых. И хотя оно остаётся тайной, которая, будучи необъяснимой, возвещает, в самом центре исторического пространства, засвидетельствованный факт и принимается в своей неустранимой необъяснённости, тем не менее оно — единственное убедительное разрешение загадки человека, так что если кому-то и покажется необходимым отвергнуть истинность этого события по причине его чрезмерной «экстравагантности», всё же и ему придётся признать, что сама его возможность, его идея дают адекватный ответ на вопрос о здесь-бытии. Воскресение - не сказочный эпилог жизни Христа, а сумма, подведённая под её балансом. Однако эта сумма выводится иначе, чем применительно к другим людям, не как (в лучшем случае) живое завещание, «дух», продолжающий действовать ещё более или менее долго. «Дух» этого Умершего имеет такую жизненную силу, что может сотворить Его целостную духовно-телесную реальность как живо присутствующую. В «памяти» о Его смерти, как её празднует община верующих, Он продолжает жить среди них.
Можно было бы даже на мгновенье оставить в скобках то, что именно христианское провозвестие возвещает указанным фактом (закладывая основу и само следуя из этой основы): что этот Распятый и Воскресший в некоем совершенно особом смысле является Сыном Божиим. Ибо с антропологической точки зрения важнее то, что отличает Его от остальных, мифологических божьих сынов: что в историческом смысле Он есть «Сын Человеческий», реально рождённый и умерший, который жил и страдал, как все, и затем укрыл эту конечную реальность плоти и крови в вечной жизни и спас её, указав своим братьям выход из врат ада. Тем самым оказывается преодолённым первое противоречие: что человек является одновременно природным существом и духом и что дух в своём притязании взрывает рамки природного, хотя и не может отказаться от него. Во Христе возможны вечная любовь и верность — и при этом законы
82
плотского и смертного сердца не мстят этой любви, как будто бы воображаемой и ложной.
б) Переоценка смерти
Лишь затем, для устранения второго, более глубокого противоречия, нужно принять во внимание, что смерть этого Воскресшего необходимо подверглась внутренней переоценке как свободно избранная в любви и что в ней (смерти) разрушенность всех сердец, их греховная неспособность к любви преодолевается, т.е. искупительно снимается, и они освобождаются от парализующей тяжести рока. И ещё нужно уяснить, что подобная историческая экзистенция стала жизненно возможной, лишь когда разбуженное для совершенной любви человеческое сердце было сокрыто, прежде всех других вещей, в сердце Бога, который, любя, пожелал погрузиться в пучину человеческого рока, чтобы, впустив в себя мучительное противоречие, до основания его преодолеть. Недостаточно лишь абсолютного героизма человеческого сердца, чтобы, выстояв против всесокрушающей судьбы, создать (в рильковском смысле) Бога, в котором все временные и смертные обрели бы наконец укрытие и спасение. Такая чисто «интранзитивная любовь», которая своей чистой интенсивностью согревает ледяную мировую ночь, должна была изначально быть Божественной, если бы подобное дело ей удалось. Какой бы интранзитивной ни осознавала себя любовь Человека на Кресте, покинутого Богом (в чём Рильке, в свою очередь, ощутил нечто глубоко «заваленное», и это ставит его к христианству гораздо ближе, чем он сам думал), всё же она стремится непосредственно влиться в безграничность Божественной любви и адекватно на неё отвечает. Из глубокой шахты полной тщеты и заброшенности она воссылает свой со-ответственный отклик абсолютной безвозмездности Божественной любви, обращённой к миру, — любви, которая в качестве последнего аргумента может привести лишь себя самоё. Тщета и заброшенность как образ бытия, погружённого в грех непослушания, превраща-
83
ются в артикуляцию слова верности и невинности и в самой смерти достигают её преодоления, сверхбытия в укрывающем лоне вечности. Навстречу выхватывающему жесту смерти Умирающий совершает жест самоотдания, который, в свою очередь, имеет мерой самоотречение Бога ради любви к миру.
Только теперь впервые осуществляются надежды мистики и мифа на истинное «явление» Бога (Epiphaneia) как спасение для человека, на то, что при вступлении на путь спасения всё мирское будет целиком про-«явлено» для Божественного. Эта «явленность»» больше уже не является отказом от безрадостной исторической действительности — как мистическое отрицание конечного или как её мифологический перевод в образы, созданные способностью воображения, — нет, действительность становится местом и материалом явления живого Бога. В идентичности Сына Божия и Сына Человеческого проявляется теперь не только истина человека совместно с истиной Бога, - любовь человека к Богу становится идентичной любви Бога к человеку, и в то же время любовь человека к человеку (если только она соответствует христианскому масштабу любви) становится сущностно идентичной любви человека к Богу. Должно также выясниться, что в несущем человеческие грехи искупительном страдании и смерти Единого, который одновременно есть Бог и Человек, Бог сам идёт на смерть, со смиренной и униженной любовью предавая себя власти человеческого и мирского рока, чтобы впоследствии стать исполнением не только первого образа Бога — образа трансцендентного единства, но и второго образа, внутри которого остальные боги оказываются вовлечёнными в трагическую борьбу. Однако единство обоих образов, опять-таки, невозможно в простом зрительном совмещении, но — лишь в чём-то не-чаянном, для самого человека неосуществимом, обращённом к нему лишь свободным самораскрытием сокровеннейшего Божьего сердца: в том, что Божий Дух лишь тогда возвысится над всяким противоречием и роком, когда Божье сердце, в крайнем любовном смирении и беззащитности, сможет упредить всякую ненависть и наветы.
84
в) Ветхозаветное представление о человеке
Постепенное экзистенциальное приучение к подобной полноте земного бытия — это и есть Ветхий Завет, т.е. совместная история Израиля и единого Бога, который не только совершает «великие дела» для своего избранного народа и как истинный Бог выступает против бессильных богов других народов, но также с полной серьёзностью держится заключённого в историческом времени союза-завета, и, когда обручённая Ему супруга нарушает этот союз, как блудница (Иез 16 и 23), Он ведёт себя как обманутый и опозоренный возлюбленный. Как Господь Он должен грозить наказанием и судом, как любящий - не может не проявить «любовной слабости» вплоть до самоуничижения, и при этом обещает не удерживать бежавшую от Него, но, искупив её грехи, вернуть её к новому, вечному союзу. Перед лицом этого откровения любящего сердца Божьего, явленного через заключение завета, человек обретает способность тщательно обдумать непостижимую для него самого закоснелость его собственного сердца, своё изначальное пребывание в стародавнем грехе и уяснить для себя своё незапамятное отпадение от изначального завета любви, ради которой, собственно, и существует творение в этой мировой реальности. Древнее сказание о рае, о грехопадении и о наказании, т.е. подчинении, через жизненную нужду, силам смерти, боли и порабощения, хотя оно частично подёрнуто мифологическим флёром, является выражением экзистенциального различия между величием любовного императива и невозможностью его исполнить, различия, которое человек повсюду носит с собой и которое он впервые осознаёт как «первородный грех» во всей его реальности только ввиду исполнения завета партнёром человека, Богом.
Размышление о реальности завета, составляющей совместную историю Израиля и Бога, от века к веку лишь углубляет два неразрывные положения, которые взаимно отражают друг друга и извлекают друг из друга всё новые смыслы: что сердце человека, когда оно предоставлено самому себе, не случайно и не от раза к разу, но по самой своей сущности даёт сбой в отношениях с Бо-
85
гом и что сердце Бога не только в отдельных событиях, но и вообще никогда не даёт сбоя в отношениях с человеком — из-за внутренней любовной необходимости и Его свободной любовной связанности с избранным по любви, и благодаря этому оно может влить в сердце, подверженное сбоям, любовную силу для пребывания в верности (или, по библейскому слову — в «вере»).
г) Троичность, Святой Дух
Не что иное, как присутствие раскрывающего себя Бога, высвечивает недостаточность человека для самого себя, поэтому человеку запрещено использовать самого себя, в своей изначальной наличности и зияющей раздвоенности, как меру для самооценки. Если он всё же попытается это сделать, то ему удастся лишь констатировать существование этой раздвоенности между «чувственным» и «сверхчувственным» человеком (homoпоитепоп, по Канту), а также, возможно, — существование «радикального зла», препятствующего сближению первого со вторым вследствие парализованности потребной для этого свободы. Но, быть может, будет также — от лица «сверхчувственного» человека - установлен категорический императив, который хотя и не обещает исполнившему его абсолютного счастья, но добавляет к арсеналу его рациональности (неверифицируемую) идею целостности человека, его свободы и бессмертия в Боге. До этого предела доходит философствующий человек, однако антропологическая проблема таким образом не разрешается. Она лишь встаёт во всей её остроте. Взятый сам по себе, человек воплощает невозможность полноты и даже — в глубине, на уровне «радикального зла» — отказ достичь хотя бы этой своей ущербной полноты.
Однако оказывается, что такая «негативная» философия изначально охвачена «позитивной» философией откровения. Человек уже не сводится к своей собственной загадке, он истолковывается в пространстве, уготованном Божией любовью, в котором он заранее этой любовью ориентирован: ею исправлен, на
86
неё направлен, для неё освобождён и наделён полномочиями. В этом раскрытии вновь обнажается тайна Сына - Божьего и Человеческого. Ибо, не будь сам этот Сын устремлён и направлен из себя -вовне, Он не был бы Человеком и не имел бы учеников. Но если бы Он, как все остальные с их несамодостаточностью, был направлен на себя как на идеал, тогда Он не мог бы стать спасителем людей от этой несамодостаточности. Здесь открывает себя внутреннее пространство Бога. То, что в самоотчуждённом человеке есть по необходимости взгляд на Бога снизу вверх, молитва, послушание, вера, надежда, любовь, - всё это в Сыновнем у-себя-бытии —впервые и тем вернее —приобретает окончательность и начинает соответствовать Божьим глубинам. В самом Боге лежит прообразующее пространство для отобразительного человеческого богоотношения: пространство для любви между Отцом и Сыном, т.е. для Бога в модусе рождающего дарения и для Бога в модусе порождённого приятия (с последующим возвращением абсолютно со-ответственного), и всё это — в самости любящего Духа, который как Единственный выходит из двойного источника любви и связывает различающей связью оба названных модуса в едином плоде любви. Эти бездонные источники жизни в вечном Боге прочитываются в Нём как единственно достаточная предпосылка Его исторического явления в качестве Сына Божия и Человеческого, ибо Он — как явленная средина — указывает, ввысь и назад, на пославшего Его Отца и впереди обетует исходящего от Него и от Отца Духа, который в свободе открывается миру там, где кончается «плотская» жизнь, текущая к смерти, и начинается жизнь «духовная», из смерти восстающая.
Высвобождение Святого Духа для человечества не означает, что экзистенция Спасителя, разрешившего экзистенциальное противоречие и радикально освободившего людей из-под власти рока, парит теперь в вышине над каждым, кто следует Христу как своему пути, в виде чистого трансцендентного идеала, которого человек точно так же не чает достигнуть, как прежде терпел разрывающее различие между императивом
87
любви и своей неспособностью его исполнить. Так было бы в том случае, если бы последним словом было такое отношение между грешником и Спасителем, при котором первый ничего не может сделать для своего спасения, а второй, вместо грешника, сам приуготовляет и делает всё, для него потребное. Тогда, несмотря ни на что, дело никак не зашло бы дальше некоего «как бы», чисто внешнего занесения заслуг Сына Божия на счёт лишённого этих заслуг грешника, т.е. такого отношения, которое не преодолевает трагического различения в человеке. Если считать подобное учение крайним проявлением протестантизма, в таком случае этому последнему не хватает серьёзности в подходе к аспекту Святого Духа.
Ниспослание Святого Духа после исполнения Сыном дела спасения опять-таки несёт с собой нечто совершенно новое: интериоризацию исторически-однократного деяния в узком и конечном сознании человека. Это деяние есть для человека внутреннее, идущее снизу воодушевление и побуждение к дерзновению христианской любви. Излияние и вливание Духа в сердца, о чём говорит Павел, а также яркая проповедь церковного учения о «влиянии добродетелей» (т.е. об укреплении) веры, надежды и любви свидетельствует, что трагическое различение в человеке приводится к окончательной аннигиляции властью самого Бога Духа Святого. Это страшное напряжение всех сил человека (каждого в отдельности и всех вместе) в Святом Духе, а вместе с микрокосмом — и всего ему со-образного макрокосма, Павел (Рим 8) и Иоанн (Откр 12) уподобляют родовым мукам. Согласно Павлу, Бог Дух Святой не только принимает участие в этом рождении нового человека и нового мира, — Его крики и стоны понуждают, проталкивают, настойчиво требуют невозможного от человека и — силами Бога — в конце концов совершают.
Отныне путь каждого к Богу-Единству неотделим от пути Человека с кровоточащим сердцем, которое на Кресте разбилось и излилось за всех и которое Дух Умирающего ежедневно вновь разбивает и расплавляет во всех, кто согласился пойти за
88
Ним. В христианстве человек не «поддаётся» Богу (как на пути единения), он со всей серьёзностью воспринимается в своём отличии от Бога, даже и в самом вочеловечившемся Боге. Но в своей трагической различённости он также не абсолютизируется как «поле битвы богов», поскольку Дух Божий входит в него изнутри и укрывает его различительные качества (завершая их, сохраняя и преодолевая) во внутрибожественном любовном различении. Какие бездны, какая смертельная серьёзность любви за этим скрывается, открывает нам Бог, который в полной мере предоставляет простор для трагических и апокалиптических различий между Богом и миром, Богом и адом внутри своего собственного всеохватного различения.
Впервые это становится ясно на примере Отчего творения, которое во всём своём возможном и реальном распаде, трагичности и демонии не только заранее получает ответ от сердца своего Творца, но и необходимо должно быть им вынесено и выдержано, ибо иначе Бог-Творец сам приобрёл бы демонические черты - либо возвышенного безразличия, либо вовлечённости в судьбы мира. Бог, который с высоты своего недосягаемого блаженства оставлял бы страдание на долю своих творений и вменял бы это себе в славу, — такой бог не соотносился бы с тварью как прообраз и отображение.
Во второй раз это становится ясно на примере Сыновнего примирения, когда Сын искупает грехи мира не с отдалённой дистанции (фарисейской) «чистоты», но тем, что без колебаний уравнивает себя (именно потому, что Он есть Любящий как таковой) с грехом и судьбой своих собратьев-людей. Он не ставит рядом с трагическим различением некое другое, нетрагическое, Он вбирает трагическое различение в себя, проживает его до самого основания, но — с более долгим дыханием, свойственным любви, которая позволяет Ему, побывав в тёмных адовых безднах заброшенности, вновь воскреснуть для Отца и для мира.
И в третий раз это проявляется в деле спасения, совершённом Святым Духом, который преодолевает дурное различение, находящееся в грешниках, -не играючи, за счёт своего Божествен –
89
ного превосходства, а бесконечным усилием того, кто входит в безнадёжную узость и глушь конечного и падшего сознания, — для того чтобы вместе с Ним и на его основаниях это сознание раскрылось для бесконечной любви. В этом любовном самоуничижении Божественный Дух любви являет свою сущность, зримую в предупреждениях Павла: не затенять и не угашать Духа (словно Он — необыкновенно зыбкий, нежный и уязвимый язычок пламени). Ибо очевидно, что в деле спасения Дух не отчуждается от своей Божественной природы, но скорее погружает её в тварное сердце. Дух, который «всё проницает, и глубины Божии», есть истинный Ведатель и Управитель последних, заключённых в самом Боге возможностей: проникать в иное, враждебно закрывшееся от Бога и задраившее для себя все выходы. Возможностей, которые не могут быть по-христиански истолкованы ни через драконовские судебные меры маркионитского Яхве или блейковского Уризена, ни через дьявольские указы тертуллиановско-кальвинистско-янсенистского Бога, но лишь через учение о Святом Духе, который в своей любви упреждает эти последние трагические противоречия. Однако здесь уже вступает в силу католическое учение о Церкви.
90
В. ЧЕЛОВЕК
В ЦЕРКОВНОМ ОПОСРЕДОВАНИИ
1. Церковь как человеческая целокупность. Мария
Упреждение всего мирского греховного трагизма Святым Духом, и не только по ту сторону этого трагизма, где-то на чистых небесах, а в самой его сердцевине, свидетельствует о том, что Бог Святой Дух, вошедший внутрь человечества, может стать безмерно ему со-чувствующим и, благодаря самой любви, со-ведающим и всё-таки избежать трагизма нелюбви. Более того: именно свобода от всякой нелюбви и сердечной чёрствости делает возможной эту интимность, это высшее понимание в совместном с человеком существовании, что так свойственно Духу.
Если это так, то преодоление трагического различения - в плане экзистенции или Святого Духа — надёжно осуществляется лишь тогда, когда Дух не противопоставляется, как единственно всемогущий, всей общности немощных людей, но когда мера мощи устанавливается и в духовно-человеческом - как укрывающее лоно (и в человеческом смысле тоже), в котором дети Божии рождаются и входят в совершенный возраст. Субъект этого свершения обязательно должен быть женским и, кроме того, иметь прямое отношение к вочеловечению Сына Божия в смысле первичного, телесного, в самом себе продолжающегося, евхаристического и экклезиологического процесса. Поэтому субъект этот, который должен реально существовать, есть Мария, осенённая Святым Духом и понесшая во чреве Сына Отца. В событии, каким является совершеннейший акт веры при слышании Божьего слова, - в этом событии Ею завершается и подытоживается деяние «Дщери Сионовой» и кладётся основа и начало деянию «Невесты-Церкви». «Непорочное зачатие» составляет неотъемлемую часть всей логики откровения, впервые делающую возможным учение о вочеловечении (т.е. рождении от подлинной Матери, которая, однако, не может передать
91
Чаду по наследству ничего греховно-разрушенного), как учение о Церкви, созданной Сыном славной Невесты для себя, «не имеющей пятна или порока» и, со своей стороны, обеспечивающей христианскую жизнь в любви — по ту сторону трагического распада. О том, что эта Mater purissima, которая каждому отдельному верующему являет также и по-человечески достоверный образ непорочного существования в любви, пребудет до конца света как Mater dolorissima,свидетельствует видение Апокалипсиса. Но к тому же приводит и размышление о Её несравненном, основанном под сенью Святого Духа единстве со Святым Духом, который стенает в страждущих сердцах. Она как отдельная личность (Мария) и как тварная «совокупная личность» (есclesia)стоит под Крестом: «под», ибо вместе со всеми грешниками, в солидарной со всеми неприметности, и потому ни в малейшей степени не претендуя разделить единственность Распятого, но всё же - именно под «Крестом» (а не под грехом), ибо только в образе Креста и крестного опыта произошло - и постоянно происходит превращение греха в чистую любовь.
Эту реальность Марии-Церкви имел в виду Августин, когда он отыскивал средоточие растянутого и разрушенного времени, — отыскивал не в Божьей Вечности и нетварной Премудрости, а в (собранном посредством любовного выбора) сверхвремени Премудрости тварной, которая как первое творение лежит в основе всей остальной тварности. Не своей волей поверглась Она в бренную растянутость, не из Неё истекла тщетная пустота времени, но Она сохраняет разрозненное в своём вечно собирающем лоне, Она вместе со всеми нисходит во время, не спуская глаз с вечной любви, Она сострадательно разбивается вместе со всем фрагментарным, чтобы сделать все фрагменты причастными к Её никогда не теряемой цельности. Это Её духом сказано: «Для всех я сделался всем», «Кто соблазняется, за кого бы я не воспламенялся?» и многие другие слова Павла.
Как Мать, избранная д ля рождения Сына и изначально освобождённая от разрушительного первородного греха, Мария в то же время необходимо является субъектом любви, адекватно соответствующим
92
Сыну и от Него принимающим свой образ (Еф 5. 27), является той «Невестой» и (в эсхатологической перспективе) «Супругой», которая — для всех и во всех — осуществляет любовный завет между Богом и миром, сердцем вечным и сердцем сотворенным.
2. Авторитет в Церкви
Исходя из этой бытийной основы, можно понять всё то в Церкви, что, обладая весьма жёсткой структурой, выступает как объективно «установленное» и представляет для верующих большие трудности. О существовании «установленного» в Церкви говорит то, что общность, дающая ответ историческому Сыну Божию, 1) должна иметь исторический, т.е. занимающий место в пространстве и времени образ, 2) в качестве общности, наделённой известными формами, всегда предшествует принадлежащим ей и возрастающим в её лоне индивидам и, наконец, 3) как зримая и предшествующая всем индивидам должна нести с собой — подобно Марии — нечто от приверженности норме. Это относится прежде всего к функциям служения, чьи формы «установленности» восходят к историческому Христу (как поручения, обязательно подкреплённые полномочиями), но которое — поскольку Церковь (ecclesia)одушевлена Святым Духом — может осуществляться лишь в норме этого Духа любви, т.е. так, как Он сам правит в матерински-невестной Церкви. Никакого иного духа Христос не оставил миру. Поэтому недопустимо «дух служения» как род «Отчего авторитета» противопоставлять «духу церковной любви» (который управляет харизматическими дарами и устроением церковной жизни), аргументируя это тем, что дух служения «функционирует», исходя из обетований Христа — даже и тогда, когда дух любви покидает Церковь. Подобные высказывания разрывают тринитарное единство Христа и Духа и способствуют такому пониманию Церкви, к которому неизбежно применима критика Тертуллиана, Иоахима Флорского и даже Лютера. Церковное учительное служение (заодно с его «непогрешимостью») не имеет столь непосредственной связи с проповедующим Христом, чтобы среди Его последователей не
93
мог — как частица Матери-Церкви — найтись такой мудрец, который учил бы так же, как Учитель Христос, т. е. в единстве слова и жизни, истины и любви. И если Святой Дух изливает именно это единство в непорочную Невесту-Церковь и приучает к нему её чад, то «непогрешимость» уже не может, минуя «непорочность», т.е. конкретное свойство Невесты, восходить к Христу, но должна тоже принять непременную форму, - ту, в которой исторически предстаёт святость Церкви-Невесты, состоящей из неизбежно «порочных», по-своему неправых и греховных людей. Если это так, то церковный авторитет не может под предлогом смирения, не желающего смешивать себя с единственным Спасителем и имитировать лишь Ему доступную тождественность служения и любви, априори ограничивать себя чисто формальной своей стороной, которой в таком случае дуалистически противостоял бы харизматически подтверждённый духовный авторитет, скажем, святых. Подобный крайний дуализм не может быть заложен в онтическом существе Церкви. Всякая неполнота в церковном служении должна допускать критику с позиции тождественности, которая заложена в благодати Марии, иначе говоря: всякий авторитет может осуществиться на практике лишь исходя из (страдающей) любви, в ответ на любовь, а также, поскольку это возможно человеку, — в любви и в её выражении. Сказанное в совершенно ясном свете представляет служение Павла, единственное оставившее о себе достаточно полное свидетельство в Новом Завете.
3. Прозрачность образа Церкви
Если «Невеста» есть отражение образа Сына и Жениха, произведённое Святым Духом в человечестве, то она не может иметь собственного, отдельного от Сына, образа. Всё, что таковым кажется, есть сотворённый Сыном образ-ответ на произошедшее в Сыне вхождение Бога в мирской образ. Этот ответ даётся последним деянием предающей себя на заклание любви Сына, отдавшего за своих свою Плоть и Кровь и этим исполненным высочайшей реальности актом (как «благодарением» От-
94
цу, или «eucharistia») основавшего Церковь из реальной Плоти и Крови в таинстве Евхаристии. Здесь достигается высший христианский синтез обоих путей человечества, поскольку эта жертва Плоти и Крови есть в прямом смысле путь всеобщего единения в Сыне, ведущий к Отцу (Ин 17), и поскольку это единение совершается в страшной смертельной трагедии страждущего и покинутого бесконечным Богом творения. Церковное бытие осуществляется изначально в постоянном анамнезисе этого события-источника («сие творите... в Моё воспоминание»). И если «Евхаристия» составляет единое целое с этой объединительной смертью, то же самое относится и к остальным «таинствам», особенно к крещению, которое означает погружённость - раз и навсегда - в смерть Христа (а тем самым и вхождение в церковную общность); к осуществляемой через крещение конфирмации, при которой в христианина, достигшего совершеннолетия, вкладывается пополняющая, положительная церковная форма; к исповеди, которая означает действенную погружённость грешника в общую исповедь мирового греха на Кресте и во всеобщее отпущение грехов Отцом на Пасху. Аналогичные доводы легко можно привести и относительно других таинств.
Применительно ко всем этим положительным опосредующим данностям церковного пространства главное - это возможность постичь их в исходной точке и тем самым — так их представить и прожить, чтобы стала явной их прозрачность и виден источник. Все подобного рода установления требуют,-чтобы быть понятыми как таковые,-непрестанного редуцирования их к исходному состоянию Церкви, равно как и Церковь в целом становится достойной веры мира только благодаря подобной редукции к Христу. Сам же Христос делает себя доступным пониманию тем, что постоянно разлагает единожды «установленный» синтез и делает его прозрачным для взгляда на Отца и на людей. Тем самым Он не встаёт (по-ариански) как третий образ между Богом и миром, но выступает как чистое осуществление их встречи. В этом и состоит смысл христологического догмата, окончательно сформулированного на Халкидонском Соборе: «природа»
95
Бога, «природа» человека, не сведённые в пределах некоей более широкой природы, а опосредованные текучестью одного Лица (hypostasis). Если уж сам Богочеловек есть чистое с-веде- ние [Re-duktion], то как может Церковь (Его «мистическое Тело») быть чем-то иным!
С этой редукцией связана «понятность» таинства откровения, не разрушающая самой таинственности, поскольку редукция должна развиваться по двум направлениям: как истолкование Бога и как истолкование человека. Истолкование Бога здесь первенствует, так как лишь в присутствии любви человек может быть приведён к своей истине (и, соответственно, быть понят). Тот факт, что Бог открывает себя человеку по своей собственной Божественной инициативе, обусловливает «положительную данность» христианского начала и неразрывную связь самопонимания человека с этим свободно совершаемым деянием Бога. Оба несовпадающих пути спасения, как их удалось набросать самому человеку, негативным образом выгораживают место для подобного деяния Бога, поэтому исполняющее, позитивное Божественное деяние не является внешним по отношению к деянию и бытию человека, но, несмотря на всю его чудесность, наполняет пустое пространство и разрешает безнадёжную проблему. Ведь Бог в конечном итоге не есть только лишь внешнее, иное, пред-стоящее человеку, но как Творец и праоснова — также и «не-иное» (non aluid, по слову Николая Кузанского), и таким образом Бог, истолковывая себя человеку, по внутренней необходимости заодно истолковывает также человека — человеку.
Двойное разрешение христианского деяния-факта — через Бога и через человека, а также все далеко идущие теологические и антропологические следствия этого факта подтверждаются, наконец, и тем, что именно Христос сделал своей главной заповедью, через которую разъяснил и с которой соотнёс все остальные заповеди. Иоанн говорит об этом: кто не любит брата своего, тот не может полюбить Бога. Тождественность любви к Богу и любви к ближнему не есть лишь некое «установление» — оно само тождественно гипостатической тождественности Бога и че-
96
ловека во Христе: как Он, вместе Бог и Человек, любит нас, так и тот, кто отвечает ему благодарной любовью, одновременно и нераздельно любит в Нём Бога и Человека. Это оставляет позади любой из возможных гуманистических проектов и является высшим почитанием и прославлением человека. Вся европейская и мировая цивилизация, которая действительно опирается на христианский фундамент (а не на то, что неправомерно соотносилось с Христом), являет собой поэтому не только непревзойдённую религиозность, но и непревзойдённый гуманизм.
97
Г. ТЕОЛОГИЧЕСКАЯ РЕФЛЕКСИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ
1. Целостность философская или теологическая?
Христианство указало человеку неожиданный путь к исполненности, никак иначе не достижимой, но этот путь рассчитан на верующих в Воскресение Христа и потому раздражающ для разума и побуждает его к постоянной борьбе. Вся двухтысячелетняя духовная история христианства — это непрекращающаяся и всё более ожесточённая борьба за человека и его отношение к Богу, или, точнее, борьба за первенство между двумя типами самопонимания: таким, которое человек как наделённый духом вменяет себе в обязанность и пытается осуществить посредством философии, и другим, основанным на вере, которая человеку как диалогическому существу открывается говорящим к нему Богом в виде конечной истины.
Указанный дуализм, хотя он всегда присутствовал в христианской истории, углублялся и заострялся с духовным развитием Церкви по мере того, как более ранние, несколько поспешные попытки гармонизации обнаруживали свою недостаточную продуманность и философская постановка вопроса всё осознаннее противопоставляла себя теологической и отделялась от неё. Подлинная «секулярность» человека и его культуры возможна лишь «после Христа», так как древние культуры естественным образом религиозны и в этом смысле теологичны, между тем как христианство до такой степени поляризовало эту повсюду разлитую религиозность вокруг нового центра, что отныне решение в пользу или против Христа влекло за собой принятое или отвержение религиозного смысла земного существования и культуры. Все попытки возродить естественную религиозную атмосферу прежних времён — самая величественная из них представлена движением восемнадцатого века, которое носит название «Просвещение», — всегда имели более или менее явственный полемический и тенденциозно-негативный оттенок.
98
Античная религиозность была столь велика (ср. речь Павла в ареопаге, начавшего с упоминания «неведомого бога» и поэтической цитаты «мы его и род», Деян 17. 23, 28), что Отцы Церкви, по надлежащем опровержении многобожия, считали возможным принять античную концепцию человека, лишь несколько прояснив её в необходимых местах и по-иному расставив акценты. Поскольку во внебиблейском пространстве не было никакой причины разделять философию и теологию (так как человек мыслил свою завершимость лишь в связи с трансценденцией в божественное пространство и сферы языческого богоявления вторгались в наш космос со стороны абсолютного в равной степени космологически и теологически), то Отцы Церкви могли рассматривать языческую (философскую) теологию как недостаточный, но вполне пригодный набросок теологического самопонимания человека в свете библейского откровения. И хотя при этом между античной и библейской антропологией обнаруживались явные разрывы - например, в вопросе о теле и душе в составе человека (см. выше, раздел Б), - это уступает по значимости тому факту, что основная идея греков, по которой человек обретает спасение только в Боге, поверх своей земной составленности, нашла в христианстве подтверждение и углубление. Если исходить из сил земной, смертной экзистенции, то подобное спасение во всяком случае недостижимо без Божественной помощи, без само-проявления и само-снисхождения Божества, одним лишь чисто земным накоплением. К тому же спасение лежит в небесной сфере, которая недоступна для земной экзистенции, и в этом смысле оно «надприродно».
Такое представление о благодати и о надприродном не требовалось опрокидывать, но нужно было лишь прояснить, чтобы придать ему библейско-христианский смысл. Радикально новое заключалось в свободной персональности бесконечного Бога, который открывал себя Аврааму, Моисею, пророкам и наконец явил себя во Христе, благосклонно и милостиво обеспечив человеку недоступное тому спасение тем, что открыл человеку доступ к своей сокровенной, горней реальности и сущности. То, что
99
древние народы пытались представить — лишь интуитивно и со многими затемняющими деталями — в своих мифах и рассказах о явлении богов, в религиозно-государственных празднествах и культово-сакраментальных драмах, теперь, в библейском пространстве, было обеспечено самой благодатью, поистине исходило от Бога, вне человеческого предвосхищающего гиперболизма, в полной ясности, вместе с требованием радикально покаянной и отрезвляющей перемены мыслей. Так «семена истины» (logoi spermatrikoi), рассеянные в язычестве, после надлежащего очищения вошли в христианскую теологию. Существенной, как было сказано, оставалась лишь основная схема: конкретная земная человеческая природа завершима — как в индивидуальном, так и в социальном плане — лишь по ту сторону самое себя, в пространстве Бога, т.е. лишь «надприродным» образом. Эта идея была настолько всеобъемлющей, настолько исключала все другие возможные осмысления экзистенциальной проблематики, что вопрос о том, что же представляют собой человек и человечество помимо этой трансценденции в Божественный мир, казался совершенно абсурдным и даже не поднимался. Кроме того, сам благодатный характер самооткровения Бога, сущностная «чистота» Его само-предоставления (а какая личная любовь не отмечена печатью благодати и не переживается как милость?) ещё препятствовали отчётливой постановке вопроса о том, что же случилось бы с человеком, не будь этой благодати.
Описанное отношение мы застаём ещё у Фомы Аквинского, который приписывает человеческой природе единственную, и при этом «надприродную», цель (под «природной» целью, о которой он в связи с этим говорит, он понимает принципиально посюстороннее, максимально достижимое для смертного человека в этой земной жизни, но заведомо недостаточное для оправдания человеческого тут- и так-бытия) и, в частности, как ученик Аристотеля не останавливается перед тем, чтобы придать природе внутреннее целеположение, ориентирующее её за пределы собственных сил и возможностей, на нечто сущностно
100
недостижимое. Фома даже видит в этом кажущемся парадоксе знак достоинства человека, ибо «более благородной сущностью обладает та натура, которая может достигнуть совершенного блага, пусть даже пользуясь для этого помощью извне, чем та, которая не может достичь совершенного блага, но достигает лишь блага несовершенного, для чего ей достаточно собственных сил» (Summa Theol. I П, q5, а 5, ad 2). Тот, кто может так рассуждать, мыслит в равной степени по-античному и по-христиански: по-античному, так как человек при этом изначально обнаруживается и мыслится как составная часть всеобъемлющего целого (т.е. Божественной и космической природы), в котором только и возможно его завершение; по-христиански, так как эта очевидная приуроченность выступает как благодатная открытость Бога, которая реально обеспечивает человеку подлинную, спасительную трансценденцию. К тому же совсем не кажется абсурдным вслед за Фомой, мыслившим на рубеже средних веков и нового времени, провозгласить наличие собственных сил у человека и задаться вопросом: в какой мере его природа позволяет ему поднять глаза на Бога и выступить Ему навстречу, а также: располагает ли человек какими-то возможностями, чтобы принять лично открывшегося ему Бога под свой кров, впустить Его внутрь своей тварной духовной личности. Этот вопрос может и должен быть поставлен, и ответ, данный на него Фомой Аквинским, в главных чертах был принят Первым Ватиканским Собором: человеческий дух может и должен самостоятельно понять, что мир и Бог — не совпадающие величины, что мир и человек имеют трансцендентный источник и трансцендентную цель в абсолютном (и такое отношение, с христианской точки зрения, позволяет впоследствии истолковать себя как свободное «творение»), которое, хотя и «непостижимо» в себе и «несказанно возвышается над всем, что находится или может быть помыслено вне его», всё же может быть понято как причина и цель всего тварного (а потому не необходимого, но произвольного, Vatic. sessio 3, Кр. 1—2 и соответствующие правила: Denz 1782—5, 1801—06).
101
У Фомы Аквинского этот вопрос ещё не адекватен его более поздней постановке у Мишеля Де Байя (Baius, род. 1513), а именно: не принадлежит ли к целостности человеческой природы также и её благодатное завершение, т.е. не является ли «надприрода» (по крайней мере, в первоначальном райском состоянии) чем-то должным по отношению к природе, неотделимым от неё и в этом смысле - «природным»? В порядке реакции на эту осуждённую Церковью аксиому юриста Де Байя барочная лишь углубила пропасть между «природой» и «над-природой»: казалось, что спасти представление о недолженствующем характере благодати (как причастия Божественной природе) можно теперь не иначе, как противопоставив человека, фактически призванного и возвышенного до уровня над-природы (т.е. до конечной цели: непосредственного созерцания Бога), — другой, правда, исключительно лишь возможной «чистой природе» (naturaрига), которая как реальность никогда не существовала, т.к. первый человек был сотворён уже в благодати, но которая безусловно могла бы существовать, поскольку благодать подлинно остаётся благодатью. Отсюда недалеко до попытки наметить контуры этой гипотетической «чистой» человеческой природы (ибо эта природа могла бы существовать как реальный момент внутри целостности фактически наличной человеческой сущности) и затем перейти, например, к вопросу: какой могла бы быть чисто природная конечная цель, если отвлечься от созерцания Бога, или: может ли воскресение плоти (понятое как увековечение земной человеческой целостности) принадлежать к благам «чистой природы»? Опасная теория, имевшая далёкие последствия и — под видом служения христианской теологии — нанёсшая ей глубокий вред: подобное извлечение якобы «чистого» человека из-под его христианской драпировки не только предвосхищает пост- и антихристианское мыслительное направление, но и представляет надприродную направленность человека на Бога избирательной любви как несущественную или, во всяком случае, легко устранимую добавочную структуру. Тому, о чём теология размышляла здесь в порядке эксперимента и абстракции, суждено было вскоре, в
102
рамках английского свободомыслия и континентального Просвещения, предстать в качестве схемы реального человека. Совершенно естественно, что возвращение к адвентистски-открытой ситуации позднеантичной философской теологии стало уже невозможным и что теперь, в послепросвещенческом учении о человеке, намеченная в начале апория, свойственная вообще всякому подобному учению, гораздо сильнее давала о себе знать. Либо человек подлежит спасению через возврат к духу (освобождаясь из материи) — при условии отказа от его уникальной персональности (как у Гегеля, его предшественников и последователей), либо трагический дуализм остаётся последним словом, которое героически возводит незавершимость (в форме вечного возвращения) в абсолют (у Ницше), или постигает фрагмент в «крушении» (Ясперс), или в «решимости к смерти» (Хайдеггер) улавливает проблеск целостности, которую можно усмотреть и приобщиться к ней лишь через отказ от неё. В результате, уверившись в невозможности собственного завершения, человек вообще приходит к отрицанию своего духовного бытия и начинает воспринимать себя как родовое биологическое существо (философия жизни, марксизм), которому доступно лишь анонимно-эволюционное существование, либо в своём поверхностном и декадентском экзистенциализме трактует самого себя как вечный самовозникающий знак вопроса и прямиком движется к собственной гибели.
Христианская теология не пыталась придать идее возможной чисто природной целостности никакого иного смысла, кроме сугубо гипотетического. Можно задаться вопросом: является ли эта гипотеза (в её абстрактной формулировке не выдерживающая никакой содержательной полноты и неведомая старой теологии) неизбежной для христианской мысли? Апорий конкретного человеческого существования она преодолеть не в состоянии: реальный человек испытывает мучительную невозможность самозавершения. Казалось бы, для удовлетворения разума достаточно было бы выявить диалогический характер человека. Уже Адам, каким он изображён в сказании о рае, хотя и был со-
103
творён в полноте Божественной благодати, испытывал тревожную неудовлетворённость, пока Бог не дал ему в супруги Еву. Адам совершает трансценденцию, он перебирает всё природное, нарекая и тем самым познавая его, в поисках недостающей успокоительной полноты; но он её не находит. Странная человеческая натура, обречённая - в очевидном отличии от изначально парных животных - томиться по Другому, который не просто - был, но получен от Бога как благодать, что одновременно и ранит человека, и приводит его к полноте. Ибо Ева была сотворена из вынутого у него ребра (он имел её в себе, и всё же она — больше, чем он, и в нём не содержится ключа для её разгадки), когда он пребывал во сне, в беззащитном экстазисе, который, по мнению древних богословов, предуказует Крест. Почему же диалогическое отношение к Богу, через которое Адам действием благодати приобщается к Божественной природе, сразу же не пробудило и не побудило его, по мере и даже сверх его природных возможностей, к тому, для чего он вообще был задуман Богом?
Выше мы отвергли отождествление духа (как личностно сверхнатурального) и наделённости Божественной благодатью (как теологически надприродного), лежащее в основе системы Антона Гюнтера. Встреча двух человеческих личностей в любви и узнавании является сверхнатуральной, но не надприродной. Между тем, сказание о рае повествует, что Адам, ещё прежде, чем узнать себя в Еве, имел «беседу» с Богом и, таким образом, язык уже был реальностью для Адама. Человек же (понимаемый либо как отдельная личность, либо как пара) пробуждается к языку не иначе как в ответ на обращение к нему абсолютного Слова. Лишь отвечая на испытанную им любовь, он сам приходит к слову. Человеческий язык никак не мог «развиться» из животных звуков. Различие сверхнатурального и надприродного в процессе происхождения языка столь трудноуловимо, что всякая наглядная явленность первого сразу разрушается в отсутствие второго. Теологическое требование гипотетического чисто природного человека, в сущность которого входит язык (Ари-
104
стотель), но который при этом не состоит во (взаимном) диалоге с Творцом,-такое требование непредставимо.
Соотнесение Адама с Христом выражает последнюю мысль христианского учения о человеке: «первый Адам» создан и уготован для второго Адама, является образом и притчей грядущей всеисполняющей Личности и потому не подлежит окончательному толкованию, но может быть понят лишь благодаря окончательной личности умершего и воскресшего Сына Божия. Трансценденция смысла жизненного существования Адама, согласно которой его человеческое бытие получает своё толкование лишь в превосхождении его собственных сил, лишь в полёте несущей благодати, имеющем своей конечной целью Бога, — эта трансценденция становится тогда началом, инкоативной опережающей тенью экзистенции (завершительной и всеосмысляющей) Человека Иисуса, который существует лишь приподнято- включённым в личность открывающего себя Бога Слова, лишь в жертве и захваченности, которая — как в себе уникальное и преизбыточное — именно поэтому задаёт форму для всего человеческого облика.
Если это так, то сама постановка вопроса о разделении «философии» и «теологии» снимается ещё раз, уже на современном уровне. В античном и средневековом понимании обе «науки» либо полностью совпадали, либо философия была лишь моментом всеобъемлющей (природно-надприродной) теологии. Речь ведь всегда идёт о том, чтобы высветить мыслью действительно сущее; но для античного и для библейско-христианского человека действительно сущее — это то, по отношению к чему и в чём открывает себя Божественное, т.е. одновременно природное и надприродное. Но тот смысл, от которого только и исходит полнота, может лежать лишь в надприродном, в полученном от Бога. Поэтому он является непреложно-обязательным также и для философии и под этим знаком должно быть прочитано земное здесь-бытие. С христианской точки зрения это означает, что первой и вместе с тем последней мыслью Творца было «всё земное и небесное соединить (соединение — anakephalaiosis) под
105
главою Христом» (Еф 4. 10), так что всё не попавшее внутрь этих скобок предельного синтеза остаётся фрагментарным и не до конца прозрачным. Если этот высший замысел, обусловивший всё творение как таковое, в действительности есть чистая, никем не заслуженная благодать, то все внутренние законы и обличья тварного мира сами собой попадают в сферу этой всеобъемлющей благодати, что делает излишней постановку вопроса о каких-либо возможностях за её пределами: они становятся столь призрачными, что никакое значимое высказывание о них невозможно.
2. Свобода и первородный грех человека
Сказанное бросает некоторый свет на эту самую тёмную область теологического учения о человеке. Причём свет двойной: идущий и от изначальной точки сотворения человека и со стороны конечной цели, каковой является исполнение человеческого смысла во Христе.
Если Адам с самого начала, в момент своего появления на свет уже был избран, возвеличен и призван — сверх своих природно-человеческих сил — для любви к вечному Богу и для надприродного завершения, которое отвечало бы масштабу этой любви, значит, Бог должен был снабдить «первого» человека (который является моделью и парадигмой для последующих людей) силами, достаточными для этого особого диалогического существования в любви. Можно также сказать, что Бог, который с бесконечной личной любовью склоняется над своим новорождённым созданием, чтобы излить в него эту любовь и пробудить её в нём для ответа, в божественно-надприродном плане отчасти напоминает мать, которая личностной силой своего сердца поистине творчески пробуждает любовь в ребёнке. Конечно, эти два плана различаются между собой: Бог — не тварь и не человек, и Его благодатная склонённость есть нечто иное, чем любовная приверженность одного человеческого сердца — другому. И всё же аналогия действует, особенно когда любовь матери бывает подлинно самозабвенной и потому черпает силы из
106
абсолютного, Божественного запаса любви. Важно то, что дитя, таким образом пробуждённое к жизни, одаренное извне силами любви, пробуждается к себе самому и к своей истинной свободе, которая есть не что иное, как свобода любовной трансценденции, выводящей его из узкой обособленности. Никто не может пробиться к своей собственной сердцевине и основанию, стать свободным в отношении себя и всех других существ, если не будет орошён любовью, согрет её лучами. И столь же мало человек способен самостоятельно и для себя придумать язык, через который он мог бы обрести свободу для именования, и тем самым первичного присвоения, всех вещей1.
Эта первичная рефлексия относительно границ индивидуальных возможностей и зависимости этих границ от благодатной любви ещё не выходит за рамки вопроса о греховной несостоятельности. Она показывает также, что человек как биологическое существо, вышедшее из животного мира, сам не обладает достаточной духовной и разумной силой, чтобы, упорядочив, превозмочь мир своих инстинктов, и что родовая и инстинктивная организующая сила, которая в животном царстве регулирует жизнь отдельных особей, на ступени человека может быть заменена лишь личной и свободной взаимопринадлежностью (которая интегрирует биологические законы на своём, более высоком уровне). Отдельный человек никогда не сможет достичь подлинной свободы, иначе как через господство взаимной любовной открытости между людьми. Если это справедливо для сферы духа как таковой, то, разумеется, в той же и даже в большей мере справедливо по отношению к человеку, возвысившемуся до любовной общности с Богом.
Если предположить, что этот порядок любви нарушен, тогда смятение в человеческом существе, вторгшееся между творением и спасительным завершением, заранее объясняется и умиряется направленностью на второго Адама - Богочеловека Хри-
1См. обэтом: Gustav Siewerth, Metaphysik der Kindheit (1957), Philosophie der Sprache (1962).
107
ста. Момент греха неразрывно связан с нехваткой у отдельного человека собственных сил для достижения надлежащей любви. Этот грех обременяет не только человека как отдельного индивида, но прежде всего именно человеческую общность — связь поколений, семей, родов, — которой перестаёт хватать пробуждающей любовной силы, что могла бы поднять нарождающихся детей до высотной отметки: той любви, которая необходима для свободы индивида и общества. Подобный недостаток, печать которого лежит целиком вот на этом конкретном человечестве, совсем не обязательно рассматривать лишь как «кару» за некую древнюю вину; его можно также истолковать (при условии единства Божественного замысла о мире) как воспитание и постепенное приучение к обеспеченной во Христе любви, любви Божественной и потому также человеческой.
То, о чём здесь говорится как о возможности, т.е. греховное нарушение общего отношения человека к Богу, согласно библейскому откровению, является реальностью, т.е. нарушением связи поколений («первородный [наследственный] грех», «наследственная вина»), которое сказывается на каждом индивиде («личный» грех). Социальный момент охватывает и обуславливает момент индивидуальный, иначе было бы непонятно, почему индивиды в своём свободном обращении к Богу, идущем вразрез с греховным состоянием остальных, не могут избежать принуждения с их стороны. Но как раз этой свободы они и не имеют: общий греховный недостаток не даёт им исполнить акт совершенной личной свободы, к которому они призваны как природно-социальные личности и, тем более, в качестве избранников для личной любви Бога. В предложении Божественной милости и любви не может быть недостатка, Бог готов нас любить и уделять нам себя не меньше, чем это было в отношении Адама. Поэтому нехватка - лишь в приемлющей воле человека, а поскольку таковая пробуждается в индивиде именно в рамках социальной связи поколений, то эта недостаточность приемлющей воли, этот обрыв любовной преемственности по необходимости наследуются.
108
Поэтому широко распространённый в древней Церкви взгляд, согласно которому первородный грех передаётся через акт рождения, т.е. вообще через сексуальность или, ещё шире, через влечение (вожделение), оправдан в той мере, в какой сексуальное начало, как оно проявляется в акте размножения, переживается и осуществляет себя не на высоте самозабвенного любовного дара, что только и достойно человека, а гораздо ниже, причём объективная направленность самоотдачи превращается в субъективно-эгоистическое извлечение наслаждений. Именно здесь биологические инстинкты, свойственные животному сознанию, которое не пробивается к постижению бытия, но глухо коснеет в самом себе и способно переживать свои инстинкты лишь как функциональное наслаждение, - именно здесь они становятся непроницаемыми для человеческой духовности и не могут подняться на ту духовную ступень, где должны бы пребывать, — на службе личной любви, которая выводит их в сферу речи.
Скованность свободного центра личности, которая, чтобы полностью стать самою собой и свободно себя осуществить, должна обладать достаточной силой для полноценного ответа Богу и собрату-человеку, - эта скованность (не совсем лишающая человека свободы, вопреки Лютеру, но лишь препятствующая её полному самоосуществлению) имеет в себе нечто демоническое и характеризуется Библией как тирания демона («князя мира сего») над человечеством и миром. Подобное рабство имеет своим следствием повсеместную подмену шкалы ценностей с оглядкой на разрушительное действие судьбы. Лишь любовной смертью Христа оно может быть сокрушено и уничтожено для всех тех, кто прилепляется к Его любовной силе и черпает из её источника. Любовное деяние Христа вызвано не тем, что отвернувшийся от человека и ставший немилостивым Бог вновь к нему обратился (что было бы грубым антропоморфизмом), - это человек, утративший способность принимать милость Бога, отвернулся от Него и теперь вновь обрёл силу сказать: «Да будет» — Богу и свободе.
109
В каком же смысле эта унаследованная слабость и неспособность к полной, освобождающей любви может считаться «виной» или даже «грехом»? В качестве первого, ещё не вполне удовлетворительного ответа на эту тёмную загадку можно было бы указать на двусторонность всякого свободного деяния человека, которое бывает одновременно личным и социальным, и значит, в месте изначального вступления в действие человеческой свободы (в «первом» человеке) всегда уже участвует (архетипически) вся эта свобода. Метафизическое место, где принимается подобное решение, соотнесённое со всем человечеством, тем самым оказалось бы востребованным и «пойманным в окуляр», но изнутри истории необнаружимым. По крайней мере можно было бы поставить вопрос, не находится ли это место поверх всего развёртывающегося материального космогонического процесса, в особенности процесса биологической гоминизации человека, которая тем самым изначально и до самой своей глубины («недобровольно», по слову Павла, Рим 8. 20) подпадала бы под действие закона рождения и смерти, а значит, «тщеты» (т.е. пустого тщеславия, vanitas)и со «стенанием ожидала» бы откровения Богосыновства. Таким образом было бы преодолено представление о том, что «грехопадение», которое поражает всё входящее в орбиту космического времени, будто бы произошло в определённый исторический момент общемировой истории и там во всяком случае позволяет себя локализовать. Мы приблизились бы тогда к идее некоторых Отцов Церкви, которые рассматривали космический процесс в связи с негативным, по отношению к Богу, решением человека как такового, что не нуждается ни в «гностическом», ни в оригенистском толковании (согласно которым материальность сама по себе является последствием греха), но более походит на трактовку Григория Нисского, который считал, что Бог наделил человека биологическим (сексуальным) влечением, praeviso peccato,в предвидении греха, и это можно понять таким образом, что указанное негативное решение вливается как часть в (предшествующий по времени) процесс гоминизации. А так как истинная свобода не
110
может быть прямым результатом несвободного процесса, то человеческая свобода должна быть в некоем необнаружимом месте включена в волеизъявление Творца как партнёр Бога1.
Если усомниться в этом пути как пролегающем в опасной близости от гнозиса (и порождённой им каббалы), то придётся переставить акцент на мотив эдемского змея, на последствия произошедшей уже в «саду невинности», ещё до появления человека, космической катастрофы, крушения в царстве «сил», этих изначальных духовных естеств, которые столь неотъемлемо принадлежат единому космосу, что античность видела в них первичные двигатели и созидателей материального мира (эта тема в изменённом виде вновь возникает у Шеллинга и Баадера), а Библия считала «властителями космоса», т.е. личными духами народов. Тогда человеческий рай предстаёт как нечто изначально включённое в нарушенный мировой порядок и человек, призванный к Богу, к свободе отвечающей решимости, оказывается подверженным демоническому настоянию. Так была бы заодно теологически оправдана романтическая психология Кьеркегора («Понятие страха»): быть может, там, где человек пребывает в невинности и детской благодати, не зияет, демонически и головокружительно, глубина свободы как таковой, но, скорее, искусительно приближается глубокое нутро демона. При таком взгляде человек вводится в уже начавшуюся до него драму как один из актёров. Его состояние до и после грехопадения объясняется не только исходя из него самого и его отношения к Богу: есть ещё третья сила, которая вступила в игру раньше него. Это столь весомо, что у Августина появляется мысль (повторённая потом многими), что человек был создан для того, чтобы заполнить брешь, образовавшуюся в небесном Иерусалиме отпадения Ангелов2. Ансельм не вполне отклонил эту мысль, однако хотел сохранить самоцельность человеческого (а значит, и космического) су-
1 Таким образом я интерпретировал учение Соловьёва о падении мировой души (то есть человечества). См. «Herrlichkeit» Bd. И, 676-681.
2 Augustinus: Enchiridion с 29 (PL 40, 246), с 61 (261); Gregorius Magnus: hom. in Evang. 21, 2 (PL 76, 1171).
111
ществования: нельзя себе представить, чтобы человек был создан ради участия в некой другой, превосходящей его драме1. Ссылка Евы на другую силу («змей обольстил меня») формально справедлива, но не снимает с неё вины: сам выход в зону уязвимости для обольщения есть акт свободного решения, касающегося лишь её и Творца, которому она была обязана верностью2.
Первое толкование является антропоцентрическим, второе — космоцентрическим. Отцы Церкви связали оба эти аспекта вместе, обнаружив тем самым фрагментарный характер нашего знания относительно фрагментации земного бытия. Откровение не обеспечивает для нас целостного знания истоков; к единству приводит лишь путь, направленный вперёд. Но это означает, что солидарное человечество, центрированное вокруг Адама, с самого начала было несомо и поддерживаемо вторым Адамом, подлинным Богочеловеком, который выправляет и примиряет в себе ущербную «богочеловечность», как она исторически раскрывается в отношениях между Богом и человечеством. Во всём этом необходимо участвует (как было показано выше) и вторая Ева, которая в сущностном смысле дана второму Адаму в подруги и с которой был снят наследственный грех, чтобы Она могла родить Его и впоследствии стать плодоносным церковным лоном (как Невеста, не имеющая пятна или порока, Еф 5. 27) для всех братьев и членов Христовых. Точно так же заранее объемлются и примиряются падшесть и трагика пола, чреватого смертью, ибо один Человек, хотя и вошёл в земное бытие вратами пола, - но не как детёныш животного, подвластный силам рока: это Тот, кто принял и рождение и смерть из свободной любви и тем самым произвёл их переоценку. Колесо судьбы, колесо наследственного греха, с его круговоротом метафизической и физической причинности, здесь разбивается: ещё изначального решения человечества — существовать не для
1 Cur Deus Homo I 16—18 (Schmitt II 74-84).
2 О данном вопросе в целом см.: Gustav Siewerth. Entwicklungstheorie und Offenbarung (In: Erbe und Entscheidung, 14. Jg. Aachen 1960, 1-26).
112
Бога и в Его милости, а в себе и для себя (как временная и смертная «природа»), было принято решение Бога: «прежде основания мира» избрать и любить нас в Его возлюбленном Сыне, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним как Его дети (Еф 1.4-5).
Этим подразумевается, что, находясь в законе первого («ветхого») Адама, человек не совпадает с самим собой. Он начинает признавать и понимать это, когда осмеливается перейти в «закон совершенный, закон свободы» (Иак 1. 25), т.е. собственной идентичности. И, совершая этот переход, он постигает, что освобождается не из темницы мирового рока, а от заложенного в его собственной свободе «нет», от не-мощи, которая в сущности является не-желанием, т.е. не-желанием-идти-до-конца, освобождается от скрытой или даже явной воли к бунту, которую он ни в коем случае не может рассматривать как чисто внешнее принуждение, но должен признать в ней также и внутренний момент своей воли.
3. Человек между верой и знанием
Из всего этого следует, что во многих отношениях человек пребывает в постоянном движении между знанием и верой. Сначала -как сотворённый дух, который дважды превосходит себя, поднимаясь до межчеловеческого Ты и до абсолютного Божественного Я. Как только он превращается в Я, будучи пробуждён любовью со стороны Ты, он становится знающим, понимающим самого себя, рефлектирующим духом - постольку, поскольку он, любя и доверяя, т.е. веря, сдаётся и предаёт себя на волю Ты. И чем глубже он начинает понимать через этот акт самоотдачи, что есть здесь-бытие и бытие вообще, тем непреложней это понимание рождает новую самоотдачу, которая теперь уже есть доверяющая отвага, опирающаяся на приобретённое знание-опыт. Если первое движение было верой, переходящей в знание (fides quaerens, inveniens intellectum),то второе движение — это новая вера, возникшая из саморастущего знания (intellectus gignens fidem).
113
Таким образом, названное межличностное отношение — это нечто большее, чем общее педагогическое требование, согласно которому тот, кто хочет нечто узнать, должен начать с приемлющей веры, чтобы постепенно, усваивая всё, достойное знания, прозревая рождение связей из их начал, оставить веру позади себя. Ближний — не «материал для познания». Даже если я всю жизнь прожил с ним бок о бок в супружестве, глубина его Я, его свобода могут стать для меня понятными не иначе, как через моё доверчивое самораскрытие и приятие его свободного само-сообщения, т.е. через «откровение».
Тот, кто этим проникся, сможет раскрыться также и для восприятия низшей природы и постичь многое такое в природных сущностях - ландшафтах, растениях, животных, созвездиях, — что недоступно для чисто познавательного («научного») подхода. Глубина смысло-образов природы, значение её языка, весомость слов её откровения — всё это открывается лишь тому, кто сам в готовности раскрыт для восприятия.
Однако если все природные сущности, включая человека, сообщаются друг с другом в пределах общей тварной природы, с которой они естественно со-образованы, то для диалогического отношения между Богом и человеком это уже неверно. Абсолютная истина Бога не совпадает с конечной, мирской истиной человека. Поэтому там, где Бог через откровение уделяет себя человеку, Он должен, наряду со своей истиной, наделить человека соразмерной и сообразной этой истине открытостью и восприимчивостью. Он должен заключить предмет и восприемника Его самораскрытия в одном общем Посреднике Божественного света и создать то, что Фома Аквинский называет соприродностью теперь уже между Богом и человеком. Эта последняя на языке христианской теологии имеет два наименования: одно — объективное, обозначающее бытийную категорию, благодать (в смысле участия во внутренней реальности Бога: в качестве «освящающей» она даёт бытийную причастность к сущности Бога, в качестве «помогающей» — действенно побуждает жить и творить, исходя из
114
этой реальности), другое — субъективное, связанное с сознанием: Божественная добродетель (т.е. годность, дельность по к Богу) как вера-надежда-любовь. Это «триединство» подразумевает единый настрой в трёх аспектах: предпочтение Бога всему собственному по той причине, что Он есть Он сам (любовь) и потому безусловно прав, в частности, по отношению ко мне (вера), и в этом моё спасение (надежда). Эти три аспекта нельзя подвергнуть линейному упорядочению, они взаимно обусловливают друг друга в круговом порядке и вызывают друг друга. Надежда, в обрамлении веры и любви, ручается, что человеческая субъективность в трансценденции не подвергнется отрицанию, но утвердит самоё себя, правда, уже не в себе, а в Боге. Вера, о которой здесь идёт речь, будучи «живой» (т.е. любящей), есть дарованная Божественной благодатью готовность предпочесть Божью истину, причём не только тогда, когда она представляется нам правдоподобной и завершает до целого наши земные начинания, но и тогда, когда она (по крайней мере, временно) как будто противоречит всем нашим собственным помыслам. Даже в этой тьме истина веры сохраняет своё особое сияние, пока мы с любовью ожидаем, что Бог нас превзойдёт и что загадка мира и его мучительные противоречия (страдание, несправедливость, глупость, торжество зла) будут разрешены - и во всяком случае без помощи легко постигаемых формул и патентованных средств сверхъестественного действия. Вера, любовь и надежда странствуют по фрагментарному полю существования, приближаясь к завершению, ещё не доступному для зрительного охвата. Поэтому им остаётся лишь проявлять недоверчивость, когда им до времени предъявляют некую целостность как нечто узнаваемое и постижимое. Фрагментарный характер мира и человека в их глазах — гарантия истинности. Подобно тому как умные пальцы слепого ощупывают острые края глиняных черепков, так и они по разломам экзистенции узнают о том, в каком направлении идёт путь к целостности, на который их наставил Бог. Одним из таких черепков для ощупывающих
115
рук человека является Христов Крест, на котором перекрещивается, распутывается и вновь запутывается бесчисленное количество смысловых нитей. Умопостигаемый синтез в данном случае тем менее возможен, что синтез Бога осуществляется как раз путём полного разбиения всех человеческих планов, требований, страстных желаний. Вера, любовь и надежда странствуют в ночи: они верят в неимоверное, любят и надеются на безнадёжное. Ночь, это исчезновение сподручного единства, спаивает их воедино.
Подобное единство христианского настроя веры-надежды- любви (как странствования и ухода вовне) составляет непревзойдённую основу христианского способа понимания, или знания, которое свою ближайшую аналогию находит в знании любимого человека. Это знание совсем иного рода, чем научно- психологическое, оно прекращается в тот миг, когда любовь охладевает и больше не образует моста между двумя душами. Так, бывают переполняющие душу минуты, когда Бог позволяет человеку отдельным проблеском или в созерцательном покое увидеть весь пейзаж Божественной истины едва ли не по морщинке на лице Господа. Непонятное может тогда ошеломляющим образом высветиться и войти в опыт верующего. Однако любящий и верующий никогда не пожелает такого «гнозиса», тем более не станет неистово его домогаться, но предпочтёт жить с доверяющим приятием. В своей столь характерной открытости он не будет из ложного смирения замыкаться в скорлупе «старушечьей» веры, но всюду, где веро-понимание ему даётся, — воспринимать его и так, со всё большей любовью, позволять глубже и глубже вовлекать себя внутрь любви. Посредником такого понимания в любви является Святой Дух, который, как «дух детства», способствует двум вещам: [l] непосредственному и открытому доступу (parrhesie) ко всем сокровищам и тайнам Бога и [2] духу детского простодушия, который позволяет себе не больше, чем ему пристало. Волшебство семян, заложенных во взаимном отношении с Богом, заключается в том, что дух совершеннолетия и дух детства произрастают в одинаковых условиях. Правда,
116
взрослое состояние христианской и тварной мысли подразумевает понимание того, что из мировых и человеческих черепков не создашь целого, тем более Божественно-целого, и что поэтому шумящее приближение в дни Пасхи истинного «духа целостности» неизбежно начинает с того, что разбивает на куски и смешивает все ложно превозносимые целостности. Перед лицом упорядочивающего мирового разума Дух может предстать и предстаёт неким анархическим хаосом. И любовь и вера об этом «знают» и не отступают перед этим.
Всё это получает отзвук в сфере церковных и человеческих отношений. Лишь через единство веры и знания христианин достигает совершеннолетия для исполнения своей миссии в Церкви и мире. Он должен суметь духовно отстоять и защитить перед миром то, что постиг верующим знанием и знающей верой. Но точно таким же знаком совершеннолетия является его способность всё время по-юному прислушиваться, ни на мгновенье не отделяя своего знания от своей веры и своей совести от совокупного христианского сознания, сконцентрированного вокруг одного лишь Христа и Церкви (как Невесты, не имеющей пятна или порока). Если раньше речь шла о том, чтобы посредством капитальной редукции истолковать и понять всё христианское и церковное через отношения между Богом и человеком, то теперь подобная редукция возникает с другой стороны: как возвращение всякой личной фрагментарной очевидности во всеобъемлющую очевидность-любовь между Христом-Женихом и Церковью-Невестой. Лишь имея в виду эту конечную цель, лишь подняв взыскующий взгляд на этот совершенный «горний Иерусалим», можно перевести разъединённое и затемнённое в своей временности — в проясняющий духовный свет. Поэтому выработка «церковного настроя» и вживание в христианский гнозис, поскольку он обеспечивает существование в вере, любви и надежде, — просто совпадают.
117
Д. ВЖИВАНИЕ В ХРИСТИАНСКУЮ
ЦЕЛОСТНОСТЬ
Где сокровище человека, там и его сердце. Августин любил эти слова и многократно их парафразировал. «Здесь в расчёт идут труды, там решает всё покой; здесь трудом оставь следы, вечный дом твой—там устрой. На земле нет такого места для сердца, где оно смогло бы сохранить себя в целости: будучи брошено в землю, оно погибнет. Если у кого есть что ценное, он хранит его высоко и надёжно. Многие, если не все, заслышав о приближении войны, ищут потайное место для своих сокровищ... Но что для человека дороже сердца? Чрез него владеешь и всем земным. Горе имеем сердца!»1.
Сокровище, в вере посылаемое и получаемое, есть не что иное, как уготованная в Боге целостность человека. Вера, любовь и надежда суть способы, какими можно сохранить в вечности неровно бьющееся сердце вместе со всем тем, что оно любит и влачит за собою во времени. От сердца исходит основное требование веры: верность. В этом заложено диалогическое зерно, связующий смысл всей этики. Не пустой «долг» (который есть монологическое соотнесение эмпирического человека с идеальным), а неотступная — из любви — приверженность безвозмездно дарованной любви. Верность есть выдерживающее пребывание в однажды избранном и обетованном. Мы употребили здесь два слова, ключевых для новозаветной этики. Вы-держка, а точнее - под-держка, υπο-μονή, patientia, «...в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы...» (2 Кор 6.4-9), — это терпение, которому наставляет Иаков, приводя в пример крестьяни-
1 Serm. Morin I 20 (504—506).
118
на, ожидающего дождя, терпение христиан, которым следует укрепить сердца ввиду близкого пришествия Господня, терпение пророков, выдержавших страдания (Иак 5.7-11)1. У Иоанна υπομένειν (выдержка, под-держка) упрощается до пребывания (μένειν),понимаемого как непрекращающееся здесь-бытие любви, которая не обращает вопросов к своим собственным деяниям, ни о чём не спрашивает у Господа, который оставил её пребывать, и потому не отвечает на удивлённый вопрос, зачем ей здесь оставаться: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?» (Ин 21.22). По ознакомлении с тем, где Он живёт («пребывает»), через пребывание у Него (Ин 1.39), благодаря просьбе «побыть у них» («и Он пробыл там два дня», 4. 40) - постепенно раскрывается тайна о том, что Он как Сын пребывает вечно (8, 35), ибо Бог Отец пребывает в Нём (14, 10), и что для верующего всё исполняется пребыванием в этом Пребывающем, который сам, вместе с Отцом и Духом, пребывает у пребывающих (Ин 8.31; 14.17; 15.4—10; 1 Ин 2.6,10,14,27-28; 3. 6, 9, 14-17, 24; 4. 12-16). Если в понятии «выдержка, поддержка» ещё чувствуется оттенок напряжения, необходимого для того, чтобы не быть унесённым потоком времени, привычек, бед, то слово «пребывание» уже не подразумевает усилия, но лишь верность любви — по отношению к любви (manete in delectione mea), которая сама пребывает в любви - к любви (etmaneo in ejus dilectione,Ин 15.9-10). Любовь Иисуса к Отцу- одна и во времени, и в вечности: оставаясь во времени, она сверхвременна. И любовь учеников к Иисусу тоже может — если прилепится к Его любви, — получить часть в этой сверхвременной временности.
Существование любящего во времени является поэтому загадкой для мира, так как оно видится не менее, если не более фрагментарным, чем существование всех остальных. Ибо оно, это существование, не прилагает никаких усилий, чтобы вместиться в свой собственный замкнутый, временно́й образ. И та любовь, к которой оно прилепилось, тоже как будто не делает усилий. Сокровище, авместе
1 Erich Przywara: Geduld (in: Demut, Geduld, Liebe 1960) 27—46.
119
с ним и сердце, находятся где-то далеко, в вечном, где любящему, живущему глухо й одиноко в земной «хижине», уготован «от Бога» «дом нерукотворный, вечный», по которому «мы и воздыхаем», - причём не как некий другой, новый образ бытия, но как целостность, окончательно собравшая в себе всё фрагментарное, как «платье, надетое поверх прежнего» (2 Кор. 5. 1-4). Поэтому временное здесь-бытие остаётся «изгнанием» и любящий томится — по родине, хотя любовь остаётся неизменной как до, так и после смерти, так что её безразличие относительно границы того и этого света берёт верх над томленьем (2 Кор 5.8; Флп 1.21-23).
Верующая любовь как пребывающая уступает дело завершения целого Господу, который сам и есть её целостность. Он примагничивает из этой любви всё самое лучшее, сокровенное, отмеченное наибольшим единством, отчего на земле после неё остаётся нечто в высшей степени разрозненное, порой лишь одна зола, тогда как весь жар, возможно, непредсказуемо больший, оказывается у Господа, который отдаёт его непредсказуемой мерой и на непредсказуемое время миру, каким Он его застал. То, что предстаёт взору, может выглядеть как нагромождение осколков, но может также явить собою прозрачную картину, сквозь которую видно целое, неземное, составленное, быть может, совсем не из этих фрагментов, и чей дом - не от мира сего. Закон, управляющий соотношением между фрагментом и целым, есть закон «вытяжки» (в сферу правления любви) и раздаяния (во исполнение поручения любви). Подобная «вытяжка» может иногда доходить до кажущегося вампиризма: действительно, всё самое лучшее, взлелеянное, обнадёживающее и насущное вытягивается из осколочного земного образа, чтобы Божья любовь растратила и использовала всё это в государственном хозяйстве «горнего Иерусалима»,-причём без малейшей возможности контроля со стороны ограбленного, или свидетеля ограбления, или того, кто осознанно или невольно извлекает из этого пользу. Так, даже полнота, введённая в определённые фрагменты самим Господом, не может быть констатирована: сила Его Креста ощущается в Церкви повсюду; нам мнится, что мы вот-вот её ухватим где-то поблизости, однако превратить эту очевидность в посюстороннее свойство Церкви (nota ecclesiae) не удаётся.
120
Более того, описанная «вытяжка» непосредственнее отвечает цели, чем раздаяние, ибо нужно из временного Иерусалима построить вечный, а не наоборот. Каждая новая смерть не только пополняет вечный Град еще одним членом, но и переносит туда частицу сердец, покойного. Этот закон настолько действен и окончателен, что никакая перспектива развития человечества в будущем не может поставить его под вопрос: д ля этого пришлось бы открыть такой горизонт, на котором и смерть, и спасительный Крест Христов оказались бы позади нас как нечто незначительное и преодолённое. Но это могло бы произойти только при том условии, что земное бытие и благо личности были бы принесены в жертву некоему анонимному, родовому человечеству: искомой целостностью и было бы тогда человечество, которое, прорастая сквозь поколения, определялось бы как истоком своими собственными первоначальными, всегда фрагментарными, стадиями. Подобный идеал можно вообразить лишь при отрицании всей фундаментальной структуры здесь-бытия, намеченной в начале; будучи в воспитательном порядке привит становящемуся человечеству, он непременно разрушил бы самое ядро человеческого бытия.
Так человек, исцелённый спасительной целостью Бога, цельный - и в этом простом смысле цельно-святой - пребывает в чудесном, для него самого непостижимом и как раз поэтому таинственно окрыляющем парении. Прекрасно осознавая свою земную незавершимость, он не тяготится ею как тюрьмой и не одержим навязчивой идеей — достичь завершения любой ценой. Зная о доме, строящемся для него милостью Бога, он может утешно жить в своей хижине- развалюхе и вольно странствовать во времени. Соглашаясь с тайными ограблениями в пользу недоступной горней высоты, он не возражает и против тайных пожалований свыше: его силы растут, как раз когда ему кажется, что он их окончательно потерял, у него вырастают крылья, и он получает в своё господство куда больше, чем сам решился бы на себя взять. И поэтому он может видеть в полученном нечто удивительное, чужое, попавшее к нему в руки лишь непостижимой игрою и потому подлежащее дальнейшей переда-
121
че. Цельность проливается и лучится сквозь фрагменты тем беспрепятственней, чем яснее и проще эти последние сознают свою частичность. И странное родство между духом льющейся и лучащейся целостности и духом безмятежности фрагмента становится тогда очевидным, словно отказ от самозамыкания в собственной целости и есть вживание в самую эту целостность, словно Бог ближе всего подходит к человеку именно в смирении и нищете безразличия, в открытости для смерти, в отказе от каких бы то ни было полномочий и гарантий от Бога. Та превосходящая сила, которая веет сквозь таким образом отказавшегося, действует изнутри его бессилия, поверх всякой другой силы или бессилия. И целительное спасение присутствует в ущербном, потерпевшем крушение настолько свободно, что никто не может ему помешать оставаться целым даже и в части.
122
III. ЗАВЕРШИМОСТЬ ИСТОРИИ
А. ВОПРОС О ТЕОЛОГИЧЕСКОМ
СМЫСЛЕ ИСТОРИИ
1. Ядро вопроса: личность и история
Самое загадочное в человеке - это его двусоставность; в нём сосуществуют природа (т.е. воплощённая духовная душа, «индивид») и личность (в её беспримерной и вечной уникальности); оба эти начала нераздельны, более того, настолько двуедины, что нельзя даже помыслить человеческую личность, лишённую природы, или безличностную человеческую природу1. Предыдущие рассуждения касались человека преимущественно в его персональности как обособленного существа, которое, вопрошая о собственной завершённости, не может обрести покоя, пока не уверится в воскресении из мёртвых, возникающем в историческом пространстве лишь в связи с вестью о любовной смерти Сына Божия, строго по ту сторону всякого горизонта научной или метафизической космологии и антропологии.
Однако человек — это не только совокупность личностей, составляющих род, но также и род, составленный из личностей. Род продолжается, тогда как личности появляются и исчезают; но, продолжаясь, род всегда состоит из личностей, поэтому его смысл как рода (если таковой смысл имеется) не может стать предметом вопрошания и получить определение в отрыве от смысла личностей. Вместе с тем этот смысл не совпадает про-
1 Эта мысль выражена здесь философски, однако она верна и в теологическом отношении, т.к. в христологии человеческая личность не игнорируется (как нечто необязательное), но напротив: Человеку Иисусу сверх всякой эмпирической уникальности присуща абсолютная уникальность как беспримерному и «единственному» Сыну Божиему.
123
стейшим образом со смыслом отдельной личности, поскольку последняя, хотя и является, с одной стороны, также индивидом и, значит, частью некоего объемлющего её целого, но, с другой, данный индивид—всегда личность и потому это объемлющее целое в его смысловом содержании не может быть определено путём абстрагирующего вынесения за скобки ограниченного смысла индивидуальной судьбы. Уже это простое соображение показывает, насколько трудно очертить в чистом виде сам вопрос о смысле истории в целом.
Далее, однако, мы будем рассматривать этот вопрос не в общем виде, а в специальной теологической постановке. Этим мы не ставим под сомнение правомерность и даже необходимость также историко-философского вопрошания об исполнимости истории (или, что то же, о её смысле), ибо затронутый теологическим словом Бога — это всегда человек (в качестве исторической природы и личности), а вопрос о его самопонимании всегда актуален и неотъемлем от самой его сущности. Всё же в дальнейшем нас будет интересовать именно историко-теологическая сторона вопроса, хотя и в весьма сжатом и обзорном виде. Если внимательно присмотреться, то, невзирая на обилие рассуждений о «теологии истории», вопрос в такой форме ставится сегодня католической теологией очень редко. На самом деле он принадлежит в теологии к числу пугающих или, точнее, наряду с пугающим началом целостного христианского откровения, он гораздо сильнее, чем какой-либо другой проблемный комплекс, задевает христианина за живое.
Прежде всего, проведём формальные и материальные границы нашей темы. Граница формальная. Вопрос о смысле истории будет поставлен теологически, т.е. в перспективе theos legon, исходящего Божьего слова: что — на пространстве Священного Писания — сообщает христианское откровение об истории? Тот факт, что сама возможность ответа предполагает понимание верующим Божьего слова в его выраженности, т.е. что Божественная теология влечёт за собой и даже уже содержит в себе теологию человеческую, — этот факт относится к самой сущности откровения. Но это означает, что
124
человеческое самопонимание истории, каким бы отрывочным и диалектическим оно ни было, также принадлежит истории; ведь именно человек и никто иной делает историю, пусть даже его «партнёрами» в ней являются природа и «власти», с одной стороны, и Бог — с другой. Теология не может упредить это человеческое самопонимание истории, поэтому не стремится самостоятельно вывести высший синтез человеческого и библейского понимания истории, как это, по- видимому, всё же удалось сделать Гегелю. Она лишь может - если будет сохранять верность себе — приложить к самой истории и к человеческому пониманию истории (как бы много нового оно, на наш взгляд, ни привносило с течением времени) масштаб Божьего слова. Когда человеческое понимание истории привносит нечто новое (как это, по всей видимости, происходит сегодня), то для толкователя откровения это означает запрет бездумного применения к новой ситуации как традиционных, так и современных историко-теологических подходов. Напротив, он должен рассматривать историю под знаком Божьего слова, в наивном и первичном противостоянии с нею, с непосредственным усилием мысли.
Материальную границу провести гораздо сложнее, причём в двух отношениях. Во-первых, слово Божие, как оно выступает в Ветхом Завете, а также в Евангелиях и в Деяниях апостолов, само является историей. Правда, это особо выделенный участок истории, однако его нельзя отгородить от остальных, сказав при этом, что именно на данном участке в горизонтальный ход мировой истории вертикально вторгается событие Божественного откровения. Если бы дело обстояло так, то библейская история, взятая сама по себе, в своей временно́й протяжённости, оставалась бы самым обычным отрезком мировой истории, между тем как она, как раз в её человеческой событийности, в том историческом облике, который она принимает внутри всей истории человечества, оказывается со-определённой и насквозь оформленной вторгшимся Словом и Духом Бога. Иудейская история — это мессианизм, ориентированный и устремлённый в будущее; христианская праобщина с её эсхатологической установкой по-своему такова же. Но это сформированное Божиим словом истори-
125
ческое пространство изначально миссиологически распахнуто в общую историю: в Ветхом Завете —через обетование Аврааму о том, что в нём благословятся все народы, в видении Второисайи о Иерусалиме как центре всех царств1, в исторической апокалиптике Даниила; в Новом Завете - в силу поручения апостолам и всем христианам проповедовать всему историческому человечеству. Бог Израиля и Господь Церкви с самого начала берут на себя власть и правосудие над всей историей, и, в свете вышесказанного, это противоречит представлению о том, что мировая история, развиваясь чисто имманентно, лишь в конце подлежит трансцендентному суду, и означает, что сам имманентный процесс развития всегда подвластен судящей и спасительной силе Господа и вместе со своим внутренним смыслом — именно в силу существования Израиля и Церкви - открыт для смысла Божьего. Фоном этой перспективы служит теологическая истина, которая у Лютера и в лютеранской теологии известна как принцип двойного управления миром: левой и правой рукой Бога. Но ещё более глубокой её основой является восходящая к Ветхому Завету диалектика «славы» Божией в истории и на земле Израиля, точно так же — в истории и на земле всех языческих народов, и, тем самым, диалектика иудея и язычника, под разным углом предстающая в Законе и в Евангелии, двойная диалектика, которая составляет центральный пункт теологии истории у Павла.
Во-вторых, трудности материального отграничения состоят в том, что, как было указано выше, вопрос о смысле истории не может быть ни уравнен, ни полностью отделён от вопроса о смысле отдельной жизни как таковой, очевидным и однозначным образом призванной и востребованной Божьим Царством. Каждому отдельному человеку указано, чту он должен делать: он должен обратиться и исповедоваться в своих грехах, должен верить, любить, надеяться, укрепляться в терпении, нести Христов Крест вместе
1 Cp. Josef Schreiner: Sion-Jerusalem. Theologie der heiligen Stadt im Alten Testament (Kösel 1962).
126
со всеми Его учениками, креститься в Христову смерть, совершать трапезу в воспоминание Его страстей и вместе с Ним - воскреснуть. Если бы всё это, в миллионах вариаций и повторений, и составляло смысл истории, тогда проблемы, о которой здесь идёт речь, не существовало бы. И там, где смысл истории по возможности сводится к смыслу отдельного христианского здесь-бытия, где, например, проблема правления, власти, политики сводится к психологии и этике правящей и политически ответственной личности (к чему отчасти склоняется Августин в «Граде Божием»), — там смысл истории теряет всякое отличие от смысла отдельной христианской жизни. Ибо история как таковая, коль скоро она есть нечто большее, чем сумма отдельных субъектов, сама по себе не является субъектом, от которого можно было бы ожидать христианского мироотношения или поверять его христианскими нормами. Эмпирическую историю в целом не заставишь креститься, от неё нельзя потребовать веры. Но в чём же тогда состоит реальность истории, если взглянуть на неё с собственно христианской точки зрения? Очевидно, что история не является неким мировым духом, который разворачивается и действует поверх голов отдельных индивидов, напротив, в лучшем случае, если можно говорить об объективном духе, она есть такой объективный дух, глубочайшим образом воплощённый в субъектах, как universale in re. С другой стороны, люди-субъекты — это не атомы, а человечество — не агрегат из атомов, но, скорее (при всей непосредственной близости к Богу каждой отдельной личности), всё же представляет собой физическое и оптическое целое, «тесто», как говорили Отцы, род, который сам членится на оптические целостности, например, народы, культуры, материки и т.д. Наш вопрос — о судьбе этого целого, которое не несёт на себе экзистенциального груза (но и достоинства) рождения и умирания вместе с индивидом и поэтому не разделяет с отдельной личностью её ограниченного горизонта, очерчивающего её отношения с Богом и с Христом, но как некая сплошная длительность простирается сквозь времена. Мы же вкладываем в эту временную протяжённость и (употребляя это слово со всяческой предосторожностью и безоценочно) развитие
127
как таковое некий смысл, — как и во всякое бытие или событие. С теологической точки зрения можно сказать, что не будь этой смысловой предположенности, это упразднило бы Страшный суд, ибо тогда суд исчерпывал бы себя всей совокупностью отдельных судов (над каждым человеком после его смерти). Существование этого смысла предполагает интеграцию всех отдельных судеб в единую судьбу человечества, являющую собой нечто большее, чем сумма её бесчисленных частей.
2. Расширение вопроса: религиозное время
и время откровения
Теперь, после сделанных разъяснений, мы можем открыть нашу тему положением о том, что, согласно христианскому откровению, как история в целом, так и каждый человек в отдельности исходят от Бога и к Нему возвращаются. Это положение, могущее показаться банальным и даже не собственно библейским, ставит под вопрос общераспространённое ныне историко-теологическое утверждение, что языческое, мифологическое время является циклическим, т.е. всякий раз возвращается к своему началу, тогда как время откровения движется по прямой. Если под этим подразумевается лишь то, что библейское время строго однократно в своём движении, а в мифологических картинах мира (и то не во всех!) оно может всякий раз начинаться заново, т.е. уподобляется событиям годового цикла и значит — космическим движениям (что может привести к представлению о космических годах, имеющих огромную протяжённость), - в таком случае на это нечего возразить. Впрочем, уже здесь можно задаться вопросом, не относится ли качество однократности и целенаправленности библейского времени прежде всего ко времени ветхозаветному, в котором само откровение имеет временно́й и исторический характер, и может ли подобная линейность иметь место и в новозаветном времени, после вознесения Христа. Ведь с историко-теологической точки зрения во всяком случае неясно: можно ли здесь по-прежнему говорить о событии, произошедшем во времени, или — о пребывании (μένειν) в некоей
128
скрыто наличествующей вечности под покровом набегающего и исчезающего времени. Но если всё-таки относительно времени, в котором располагается Церковь, констатировать ту же линейность, что присуща ветхозаветному времени (ибо иудейское начало позитивно снято в христианском), не ограничиваясь лишь самой по себе мировой историей, в которой Церковь имеет длительность, то тем самым будет высказано определённое утверждение о теологической релевантности мировой истории от Христа до Страшного суда.
Оставим пока эту проблему открытой и обратимся снова к вопросу о цикличности времени. Если отвлечься от специального представления о повторяемости времени или о «вечном возвращении», то и тогда любое религиозное понятие времени, будь оно мифологическим или библейским, необходимо является цикличным, временное творение изошло от Бога, то для религиозной мысли любого типа это аналитически означает, что оно должно вернуться к Богу и что тем самым оно повторяет, на отмеренном ему промежутке, образ круга, присущий абсолютному1. Сын, который становится Человеком, связывает оба круга — «теологический» (тринитарный) и «икономический», — когда говорит: «Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять оставляю мир и иду к Отцу» (Ин 16, 28) и тем увлекает и мир на свой круговой путь. Циклическая форма исхождения и возвращения, присущая времени и миру, свойственна всякой религии и сама по себе не обнаруживает ничего пантеистического. Она также представлена в качестве временно́й и мировой формы в Библии, которая совпадает с большинством религий в том, что сближает исхождение от Бога и отпадение от Него и вслед за рассказом о творении помещает рассказ о грехопадении, возвращение же трактует как обращение, примирение и спасение, а поворотный пункт во времени, когда истекающее время обращается вспять, — как событие (уже не мифологическое, но историческое), с которого начинается возвращение домой. В этом заложена, при всех глубинных различиях, сама
1 Georges Poulet: Les métamorphoses du Cercle (Plon) 1961.
129
возможность диалога между Иринеем и Валентином, между Оригеном и Цельсом, между Августином и Евсевием, с одной стороны, и Плотином и Порфирием, с другой; но отчётливее всего — между библейской вестью о Дне Господнем с его разрушительно-спасительным огнём и германским представлением о Муспелле, а также кругом мифов о Рагнареке. Максим Исповедник вполне осознанно размышляет о том, следует ли стремиться к Богу, выбираясь из разрушенного времени назад, к раю, или двигаясь вперёд, навстречу Страшному суду. Оба пути ведут к одной и той же цели, однако возвратный путь нам преграждён завалами, поэтому к собственному истоку нужно продвигаться вперёд1. То же самое религиозное понятие времени лежит в основе Августинова «Града Божия» и «Суммы» Фомы Аквинского2. Фантом чисто линейного времени мог возникнуть лишь тогда, когда человек стал воспринимать время уже не религиозно-теологически, но на естественнонаучный лад, как целиком принадлежащее миру, и при этом сразу оказался в плену «антиномий чистого разума», ибо как может чисто мирское время, текущее «по прямой», «влиться» в Божью вечность3?
Вернее было бы сказать так: во всех историологических системах высокоразвитых культур религиозное время — это в первую очередь время вертикальное, т.е. длительность, осуществляющая себя как «растяжение» (διάστασις, distentio) — через различие между Божественной вечностью и отстоящим от неё миром, и затем вновь восстанавливающая себя в качестве истинного, целостного «вечного времени»—черезвозвращение к Богу и снятие этой напряжённой двойственности, переживаемой как пагубная4. Об этом повествует миф, о внутреннем, если угодно, «мистическом»
1 Quaest ad Thalass 59 (PG 90, 613D).
2 Chenu: Introduction à S. Thomas d’Aquin 1950, 270.
3 Здесь стоит вспомнить ценный трактат Канта «Конец всех вещей»: «Дойдя до этого, размышляющий человек погружается в мистику (ибо разум, поскольку он... охотно идёт на дерзновение в трансцендентном, тоже имеет свои тайны), коль скоро его разум перестаёт понимать себя и свои желания... и самое мышление прекращается» (Insel 1921 Bd. 6, 647).
4 См. главу I.
130
опыте человека, позднее перерастающем в схему политико-исторического времени. Спасение времени заключено в слиянии фигуры царя (как воплощённого средоточия народа) и Бога (через которого народ спасительно приобщается к Божественному миру). Это слияние сохраняет действенность от рождения, или, точнее, от интронизации царя (т.е. инкарнации Бога в нём) до апофеоза его смерти. Политическое время есть, таким образом, не что иное, как душевное время; горизонтальное время обретает свой смысл и исток во времени вертикальном (соединяющем человека с Богом), однако это последнее, по самому своему существу, является уникально-эпохальным, всегда-настоящим. Отсюда следует, что толкование исторического времени как многократного повторения (вертикальных) спасительных циклов или даже как «вечного возвращения одного и того же» более не соответствует изначальному мифологическому ощущению времени, но представляет собой условную секуляризованную спекуляцию, из которой ощущение религиозной жизни частично выветрилось.
Здесь важно то, что библейское время чисто формально не отличается принципиальным образом от такого времени. Как дело и результат творения оно есть длительность, направленная от Бога — снова к Богу. Как греховное время и как время спасения оно сходствует с контрастным перемежением света и тени: отвращение от Бога - и совершённое Его милостью обращение к Нему. Оно также является по сути душевным временем, личной этической длительностью, но никогда — сверхличностным нейтральным медиумом мировой истории. Даже и тогда - как в случае с обетованием Аврааму, — когда временные масштабы откровения начинают раздвигать рамки отдельной личности, это не меняет дела, т.к. теперь богоотношение отдельной личности - как надежда на спасение — вдвигается во временное будущее, тоска по возвращению к Богу принимает образ Авраамовой тоски («Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался», Ин 8,56): спасительная возможность целостного бытия отдельной личности, получающая впоследствии своё ре-
131
альное обоснование в воскресении Христа, становится таковой через возможность целостного бытия всего народа и, в конце концов, человечества, благодаря чему отпадает всякий повод к возникновению горизонтальной циклоидности. Горизонталь времени откровения как времени обетования и исполнения во Христе является в целом функцией вертикального события, имеющего место между Богом и человеком: она вбирает в себя решающие шаги, предпринимаемые Богом для возвращения удалившегося от Него человека. Но эти шаги таковы, что они реально образуют некую фигуру на продольном разрезе мирового времени и тем самым придают этой временно́й протяжённости, всемирно-историческому измерению (сверх всего того, что было прежде доступно религиозному видению) неизменное и для каждого обязывающее значение.
Это можно видеть уже по тому, что для иудейско-прахристианской мысли мировая история есть прежде всего и главным образом библейская история спасения, в которую внебиблейская история народов вторгалась лишь извне и с которой она по мере возможности синхронизировалась. Это казалось тем более убедительным и осуществлялось тем естественнее, что небиблейская история проектировалась по той же формальной схеме, которая содержательно могла мыслиться в одном русле с единым временем откровения, а также потому, что библейское свидетельство спасения (ср. Теофил Антиохийский) представлялось единственно надёжным рассказом о праистории человечества, которая иначе терялась в сумраке народной мифологии. Лишь в качестве библейской истории спасения история человечества обретает «направление течения» и прочитываемый во времени «смысл» («Sinn» — др.-верхи.-нем. sinnan— «путешествовать, идти»; др.-герм. *sinqa— «путешествие»; лат. sentire — «взять след»; cp. «im Sinn des Uhrzeigers» — «в направлении часовой стрелки»; фр. sens как «смысл» и «направление», sens unuque, sentier).Такое восприятие сохранилось не только у Оттона Фрейзингенского, но и у Боссюэ, и лишь Вольтер и, незадолго до него, Вико сумели преодолеть это пратеологическое осмысление истории, заме-
132
нив его концепцией общечеловеческой мировой культурной истории. У них впервые мировая история покидает оболочку истории спасения, но явно не без серьезных заимствований, ибо историческое «течение» христианского спасения расширяется теперь до общего естественного течения истории, понимаемой как «воспитание человеческого рода» или просто в духе секулярной веры в прогресс.
Эта секуляризация, с теологической точки зрения, не должна слишком расстраивать, так как, во-первых, старое и наивное отождествление истории спасения и мировой истории было всё же недопустимой крайностью и, во-вторых, всё то, что произошло в истории человечества от «Адама» до Авраама и что также может считаться «развитием» (хотя и в другом, не теологическом смысле), — всё настоятельнее требовало выражения. И лишь теперь, когда различие между обоими типами «развития» сделалось очевидным, стало возможным осмысленно поставить вопрос о теологическом смысле внебиблейской истории.
Между тем, древняя христианская концепция истории имеет ещё одну внутреннюю границу, которая косвенным образом уже возникала перед нами. С христианской точки зрения, история откровения разворачивается лишь в соотнесении с Христом и оканчивается Его смертью и воскресением. Вместе с этой «полнотой времён», как сказано в самом Евангелии и всегда поддерживалось христианским созерцанием истории, принципиальным образом достигается и конец (исторического) времени. Скорое ожидание конца света представляло собой правомерный и в своём роде убедительный перевод этого факта во временное измерение. Теологически релевантное развитие после смерти и воскресения Христа (если отвлечься пока от обещанного обращения Израиля) представлялось внутренне абсурдным. С вознесением Сына к Отцу, на престол одесную Бога, наступает актуальный конец, и всё дальнейшее может служить лишь манифестацией этого конца и его утверждением в историческом времени.
133
Сказанное находит ясное выражение в древнехристианских периодизациях мировой истории, имевших между собой то общее, что Христом начинается последняя эпоха (обычно последняя из семи, отмеченных Адамом, Ноем, Авраамом, Моисеем, Давидом, пророками и т.д.). Итак, с начавшимся после вознесения Христа церковным временем вновь открывается то, ради чего, собственно, и предназначалось горизонтальное время откровения, — чистое душевное, или духовное, время, которое прежде выступало как вертикальное времяотношение. У Августина в «Граде Божием» это вертикальное время настолько преобладает (в образе «странствия» Божьего государства - вдали от Бога, но на возвратном пути к Нему), что историческое время откровения целиком попадает в его тень1. Теперь мы можем сказать, что горизонтальное ветхозаветное время есть постепенное приучение к окончательному времяотношению и времяпониманию, присущим личности Иисуса Христа, который устанавливает абсолютную норму для мирового времени своей земной жизнью, т.е. своим отношением к Отцу (отношением, которое не допускает никакого внутреннего развития, но всеисполняющим образом реализуется через различные ситуации человеческой жизни) и, следовательно, к Его kairos- собственно, к «часу» смерти и воскресения, в котором установлен (вертикальный) временно́й масштаб для всех человеческих — как вертикальных, так и горизонтальных — типов времяотношения и времяпонимания2.
Однако это тянущееся сквозь столетия церковное время не могло в конце концов не привести к возникновению историко- теологического вопроса - ещё задолго до того, как восемнадца-
1 См. выше гл. Ï, а также моё Введение к Избранному из «Града Божия» (в серии Fischerbücherei).
2 Всё это составляет предмет моей книги «Theologie der Geschichte» (3. Aufl. 1959), в которой сделана попытка представить вышесказанное как скрытое ядро (но не более того) христианского восприятия времени и истории. См. также ниже гл. IV, посвящённую слову и времени.
134
тый век обратил к профанной мировой истории подобный же вопрос о её философско-религиозном смысле. Эти вопросы взаимно перекрещиваются, ибо, даже если принять, что со смертью и воскресением Христа откровение достигло своей непревзойдённой вершины, которая в дальнейшем ходе истории могла быть лишь источником влияния и утверждать самоё себя, — то и тогда остаётся в силе вопрос: наделена ли мировая история лишь смыслом некоего пространства, в котором воссиял этот свет (и, возможно, сияет всё сильнее), или, как в новое время, процессу становления мира всё же отведена собственная смысловая область, причём помимо философской в итоге также и теологическая? Оба эти аспекта различимы друг от друга, поэтому в дальнейшем они должны быть рассмотрены по отдельности.
135
Б. ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС
О СМЫСЛЕ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРИИ
1. Форма и содержание церковного времени
В известном аспекте историческое откровение заканчивается вознесением Господа, с другой точки зрения, это не так. Дело в том, что за откровением непосредственно следуют по времени ещё два важных и тесно взаимосвязанных факта-откровения: это излияние Святого Духа и живое явление Церкви. Поскольку излияние Духа является историческим событием, вдохнувшим душу в Церковь, то таковым же является и его источник. Однако оба они могут быть названы историческими событиями лишь аналогически, так как, хотя они вторгаются в историю в определённом месте, у них нет исторического конца и — в полном смысле этого слова — исторического начала; они суть «историческая» актуализация надысторически-вечного внутри истории. Историческое начало — это в большей мере род уступки вознесённого Господа находящимся во времени людям. Для Господа (и Иоанн разделяет с Ним это видение) Дух находится в Церкви и доступен ей уже на Пасху1; ожидание пятидесятого дня уже имеет нечто от литургического церковного года и причастно апологетике, поскольку излияние Святого Духа являет собой зримое доказательства «прибытия» Сына к Отцу. Но и в историческом плане Церковь столь же реально утверждается уже событием Страстной пятницы и Пасхи, а харизматическое исполнение коллегиума апостолов Святым Духом выглядит почти как demonstratio ad extra (доказательство для внешнего мира).
1 Поскольку Христос есть въяве приблизившееся Царство Божие, то Святой Дух парит над Ним начиная с крещения в Иордане; поскольку Святой Дух скрыто является духом приходящего Царства, Он осеняет уже Деву Марию; поскольку Царство обещано пророками, Дух уже актуально действует в них. Сам Авраам мог верить только в Святого Духа.
136
Тем самым описывается особый характер обоих реальностей христианства, которые должны теологически определить течение истории после Христа; они являются исторически-имманентными факторами, тогда как их сущность и ядро остаются исторически-трансцендентными: они создают историю, сами ей не принадлежа, и при этом они — не меньше истории (как голые идеи или структуры), но больше неё: актуальность исполненной вечности внутри времени. Применять к ним термин «эсхатологический» можно лишь с большой осторожностью, — это слово чересчур нагружено и способно скорее затемнить смысл вещей, чем прояснить его. Ведь этим термином принято обозначать как присутствие последнего и вечного во времени, так и его — до поры — отсутствие, а также зиждимую им (последним и вечным) протяжённость самого времени. Нам же теперь необходимо увидеть Церковь и Дух как двуединый мотив — подобно вознесённому Христу, который для себя достиг исторического эсхатона и, перейдя его границу, актуализовал себя, согласно своему обетованию, посреди временно́й истории. «Господь есть Дух» (2 Кор 3,17), Он актуализует свою «славу» в свободе Духа, и, таким образом, можно утверждать и обратное: Дух есть Господь. То, что Дух истолковывает и оправдывает, что Он вкладывает в сердце человека и в его историю, — это и есть реальность Иисуса. Реальность, которой предстоит сделаться для мира и для христиан столь же исторически-прошедшей, сколь актуально-современной и эсхатологически-пророческой: «Он... от Моего возьмёт и возвестит вам... Он... будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» (Ин 16, 14,13).
Хотя это истолкование Иисуса через Святого Духа предназначено для Церкви, подобно тому, как и сам Дух нисходит на Церковь, а не на мир вообще, но наряду с Церковью оно разворачивается как раз в мире и для мира, ибо в том же текстовом поле речь идёт о том, что Дух «обличит» (ελεγχειν)мир, и произойти это должно отнюдь не вне или где-то рядом с живой Церковью Иисуса Христа, но — через неё и при ней. Это обличающее выведение-на-свет подлинной истины через Духа, в Церкви и при
137
Церкви, станет объективным смыслом истории от вознесения до второго пришествия Христа, однако никоим образом не в чисто эсхатологическом понимании (будто Он до поры остаётся совершенно сокрытым и должен явиться лишь на Господнем суде), но уже объективно открыто для тех, кто имеет уши, чтобы слышать. «И Он, придя, обличит мир о грехе и о праведности и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о праведности, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осуждён» (Ин 16, 8-11). Уже имеющее место противостояние мира и Христа объясняется, во всей своей исторической тотальности, внутриисторически: выходит на свет то, что является собственно грехом: неверие, т.е. непризнание факта Христа. «Речь идёт... не о единичном историческом факте неверия иудеев: напротив, с того момента подобное неверие становится реакцией на возвещённое слово, постоянно ставящее мир перед необходимостью решения относительно откровения. Дело обстоит не так, что мир однажды не признал некоего благородного человека: мир отверг откровение и продолжает отвергать его по-прежнему»1. Но через своё воскресение и вознесение Христос явил себя как «праведность», Он оправдан перед Богом и, следовательно, перед историей как раз в своём «исчезновении». Это и есть «суд» над князем мира: не имманентный суд истории, который совпадал бы с самой мировой историей, и не предстоящий эсхатологический суд, но суд, творимый надысторическим Духом через посредство Церкви уже в ходе истории, и для имеющих глаза (т.е. верующих) вполне актуальный и зримый как объективная историческая истина. Слово христианского провозвестия «и выдвинутое им требование прозвучало в мире, и с этого момента мир уже не может оставаться прежним. В поле провозвестия уже не может оставаться ни чистого иудейства, ни чистого язычества»2.
1 Bultmann, Johannes (14. Aufl.) 434.
2 Ebd. 436.
138
Поэтому, как время и вообще история исходят от Бога и направлены к Богу в неукоснительном воз-вращении (recirculatio) от Бога — снова к Нему же и как поэтому Бог, пусть оставленный и из-за Его невыносимости для мира отвергнутый, должен открыться в своём гневе на всю мировую историю (Рим 1.18), - так же и история мира, в котором Бог стал Человеком, исходит и развёртывается в направлении Христа: человек приходит «назад» к Христу лишь посредством жизненного движения вперёд к Христу, и потому Христос, купно со своей историей, своей отверженностью от мира, своим воскресением ради спасения мира посредством Духа и Церкви, — всегда откровенно присутствует в мировой истории. Recirculatio— старинный латинский перевод греческого anakephalaiosis, использованного Иринеем Лионским в его теологии истории; означает не просто обратный ток к началу, но временно́й процесс как интеграцию начала — в конец, и в этом - уже смысловое содержание самого данного процесса, поскольку он является вместе временным и надвременным.
У нас же пока речь идёт не о мировой истории как таковой, но об истории церковной. Как община, зримо структурированная самим Господом, и в то же время — как храм Святого Духа и по- прежнему живого Тела вознесённого Христа Церковь есть двуполярное строение, которое, однако, не может быть окончательно разделено надвое. С точки зрения теологии, церковная структура и церковный дух должны быть увиденными и истолкованными как единство. Поскольку Церковь есть структура и институция, она относительно неисторична, поскольку же она есть Дух и актуальное присутствие Христа, она потенциально-исторична в высшей степени. Поначалу это может казаться парадоксом, так как хотелось бы считать, что как раз зримый образ Церкви есть та её часть, которая подлежит истории. Церковная история, как представляется, затрагивает лишь видимый образ Церкви, тогда как Дух и присутствие Христа ассоциируются с вечным и эсхатологичным в ней. Однако во всём этом заключена лишь поверхностная истина. Для типа церковной историчности решающим является не тот факт, что Церковь как зримая институция, по-
139
добно всем другим историческим величинам, подвержена изменению и развитию и что имеется история литургии, история догматики, а также история пап и Соборов. Всё это Церковь разделяет с любой из нехристианских религий или христианских сект, и не в этом состоит её узнаваемость в качестве учреждения и актуального присутствия Христа (nota ecclesiae), но куда более —в её надысторической неизменности как соборной, апостольской и святой Церкви. Это фундаментальное устроение Церкви не является по преимуществу историческим, оно лишь во вторую очередь и акцидентальным образом. Это становится ясно, стоит сравнить её с Синагогой, устроение которой гораздо глубже подчинено историческому становлению, так как само откровение — как обетование прихода Христа — было причастно становлению и истории.
Нельзя также сказать, что церковная структура как таковая, в своей явленности, потенциально-исторична по преимуществу, ибо своей главной целью она имеет внутреннее строительство мистического Тела, а не несение света Церкви в мир и мировую историю. Ни таинства, ни иерархический образ Церкви не могут быть приманкой или зрелищем для мира; по своему смыслу они скорее обращены внутрь. Мы почти вправе сказать, что они суть агсапа (тайны) Церкви и, таким образом, взятые как структура, не обладают выраженным апологетическим смыслом. Таинства и иерархия суть средства, цель же, которая только и должна нести свет вовне, — это любовь. По ней узнаётся Церковь. Через неё структура обнаруживает свою духовную исполненность. Дух, который творит веру, надежду и любовь, являет в христианах живое присутствие триединого Бога, а история веры, надежды и любви в мире и есть по преимуществу подлинная церковная история. Описать её невозможно, так как она лишь одной своей половиной принадлежит историческому измерению, другая же, и более существенная, её половина остаётся сокрытой внутри Царства Божия — в человеческих душах. Мы наблюдаем действие импульсов, преобразующих мир, но не можем научно установить их причины внутри этого мира. Одна неизвестная молитва, одно тайное страдание вместе с Христом могут вы-
140
звать появление целых полей зримой действенности. Святой Дух в Церкви является историчным, но не внутриисторическим фактором. Он творит подлинную историю, будучи её господином. И Его истинное господство таково, что Он имеет свободу не только парить над водами истории, но и бить, подобно источнику, из её глубочайших оснований.
В противоположность Ветхому Завету и эпохе Христа церковное время как эпоха Святого Духа — это не время, где становится и совершается откровение, но время, в котором откровение, достигшее небывалой полноты, утверждается и выражает себя. Если во время становящегося откровения смысл мог быть прочитан в измерении этого становления (эпоха от Авраама до Христа содержит нечто от истинного развитая и раскрытая, такова же — эпоха жизни Христа и даже Его смерти и воскресения), то при достижении полноты, распространяющейся вширь, исторический закон этого распространения перестаёт читаться и даже становится невозможным. Поэтому все попытки дать теологическое описание истории церковного времени — причём не только феноменологически, но также и ноуменально - заранее обречены на неудачу. И не потому, что это время застывшего покоя или наоборот — духовного, харизматического хаоса, но потому, что порядок Святого Духа — это порядок Божественной свободы и бесконечности такой степени, что он не укладывается в категории мировой истории или истории человечества. Линии, которые мы прочерчиваем, могут многообразно открывать Божественную смысловую глубину, могут быть по-своему убедительными и даже очевидными, но они никогда не покажут больше, чем отрезок смысловой бесконечности, которая сама по себе остаётся необозримой.
Но несмотря на эту преисполненность смысла и слепящий свет, а точнее, как раз благодаря этому мы всё же вправе поставить вопрос о теологическом смысле церковного времени. Основательные размышления о Духе и Церкви допускают этот вопрос, однако предполагают преизбыточный ответ на него: ответ однозначно положительный, что касается исторического смысла, но априорно отвергающий и делающий внутренне невозможным лишь одно - периодизацию этого времени. Время откровения было эпохой ста-
141
новящегося слова Божия; в известной степени она стояла под знаком второго Божественного Лица: для того чтобы быть произнесёнными человеком, словам нужно время; предложения и цепочки слов требуют ещё больше времени; но тогда позволительно также вести речь о «воспитании человеческого рода» на предмет слышания и восприятия Божественного Логоса. Однако, когда Бог «в последние дни сии говорил нам в Сыне» (и говорит теперь, Евр 1. 2), то в одном слове бывает сказана вся полнота вещей и уже становится невозможным говорить о постепенном приучении к «многократному и многообразному» (Евр 1. 1) пониманию Единого, но лишь о том, чтобы увидеть единое в его единстве и единичности и затем либо принять, либо отвергнуть увиденное. Не может быть и речи о том, чтобы мы — каковы мы сегодня, со всей нашей развитой догматикой и богатой традицией — обладали более глубоким и всеобъемлющим пониманием сущности вочеловечившегося Божьего Слова, чем, например, отцы Церкви. Надысторическая потенциальная историчность Церкви является по своему типу абсолютно уникальной и может быть обдумана и принята лишь исходя из верового понимания откровения, что означает: вне христианской веры она обязательно останется непризнанной и неверно истолкованной — либо с уклоном в сторону институциональной склеротизации жизни, либо — в сторону внутриисторической духовной жизнедеятельности на одном уровне с другими историческими феноменами. Но от веропонимания людей Церкви мы вправе потребовать достаточного запаса прочности, чтобы противостоять попыткам ложных толкований и совместно осуществить объективно насущный синтез между структурой и живым Духом, который, однако, жив не только внутри Церкви, но жизненно проявляется во всемирно-историческом положении вещей и их размежеваниях.
Свойственное католицизму напряжение между структурой (как она преимущественно проявляется в иерархических функциях, в первую очередь на службе провозвестия и таинства) и живым Духом приводит к тому, что к единой истине приближаются либо с одной, либо с другой стороны. Подход со стороны структуры более свойствен восприятию и мышлению клира,
142
ищущему и усматривающему в историческом развёртывании Церкви одно определённое измерение, которое состоит в развитии и оттачивании формулировок учения, в так называемом догматическом развитии, в развитии литургии, церковного права и форм богослужения и даже в последовательной прорисовке и подчёркивании самого структурного момента. В противоположность этому теологическое восприятие и мышление мирян и членов монашеских орденов способствует лучшему усмотрению момента живого развёртывания в свободных установлениях Святого Духа, во всём, что является в Церкви как харизматическое и потому - непредсказуемо обогащающее, в первую очередь — в движениях великих монашеских орденов (для которых их иерархическое происхождение - не первично, но которые лишь вторичным образом из иерархической функции превращаются в каноническую форму) и, наконец, во всякой дарованной Церкви и спонтанно из неё произрастающей святости, в чём бы эта последняя ни выражалась — в традиционных или новообретённых жизненных формах.
Это двойное измерение роста требует несколько более тщательного продумывания, чтобы расчистить почву для примыкающего вопроса: как подобный исторический рост должен быть оценён с позиции откровения?
2. Развёртывание в структурном
Сколь бы богатым и впечатляющим это развёртывание ни было, самой сущностью Церкви ему поставлены чёткие пределы, посягать на которые для католического сознания немыслимо. Коль скоро всё развёртывание христианского учения и каждая очередная реорганизация внутренней церковной жизни (если только Церковь понимает себя как установление Христа) ориентированы согласно Писанию и традиции (в свою очередь, сверяемой по Писанию), то самим этим послушным взглядом — назад, к истоку, исключается вторжение в церковную историю всего чужеродно-нового (generatio aequivoca). Новым здесь может быть лишь лучше, глубже и полнее понятое старое — причём
143
даже без попыток перескакивания через промежуточные исторические этапы, характерных для протестантской реформы и некоторых сект. Тип возможного прогресса в данной области до некоторой степени предуказан тем, что мы можем обозначить как «прогресс» внутри самой Библии — от понимания Христа у Марка, через ряд последовательных ступеней, до Иоанновых писаний. Это прогресс, достигаемый медитативным погружением и развёртыванием Духа (spiritus), содержащегося в истории (historia) и букве (litteга) (составляющих для Августина — единое целое), -но не покидающий «современности» Христа. Характерно при этом, что почти совсем оторванное от littera Павлово евангелие Духа (в котором слова Христа практически не цитируются) оказывается включённым в этот процесс: Павел — современник синоптиков, а Иоанн в завершение синтезировал littera и spiritusв своём понимании historia.
Медитативный возврат к неисчерпаемой глубине начала, засвидетельствованный Писанием (начало — это не само свидетельство, а его содержание, т.е. историческое откровение), обусловливает все догматические и дисциплинарные нововведения, чем бы они ни диктовались: внутренней логикой теологии и инстанции порядка, созерцающих откровение, или изменившимся положением Церкви в мировой истории.
В первом случае, скажем, в становлении мариологической догматики в новое время (опиравшемся целиком на медитативное погружение в содержание откровения и потому по видимости шедшем вразрез с соображениями исторической своевременности, — хотя на более глубоком уровне оно отвечало этим соображениям, будучи направляемо Святым Духом), мы наблюдаем, быть может, наиболее острое чувство развития и обновления, какое только можно ожидать в церковном пространстве. Это — живое свидетельство Святого Духа в Церкви, который «от Моего возьмёт и возвестит вам» и тем самым реально возвестит также свою Божественную свободу и личностное начало в его отличии от Лица Слова. Дух чужд рабского следования litteraи обнаруживает в своей собственной свободе живую жизнь самого Божьего слова, которое изна-
144
чально больше, чем буква, и не может быть, как в темницу, заключено в какую бы то ни было книгу, даже и боговдохновенную (Ин 20.30; 21.25). Но тот же Дух, который открывает внутреннюю связность в слове откровения и путём сравнения духовного с духовным («spiritualibus spiritualia comparantes»,1 Кор 2. 13 — для Оригена это квинтэссенция теологической мысли) даёт выйти на свет новому духу, — обнаруживает тем самым свою свободу и неисчерпаемость, так что любая мысль о систематическом обзоре Божьей мудрости или откровенной мудрости Духа начинает выглядеть нелепостью и каким-то рационалистическим гомункулом. Ни последовательный ряд соборных и папских догматических вероопределений, ни развёртывание теологических спекуляций не могут (сколь бы глубоко осмысленно различные системы и «суммы» ни сменяли друг друга) в качестве исторического результата дать хоть сколько-нибудь обязательный совокупный образ откровения, словно бы время от Христа до Страшного суда Церкви уготовано специально для того, чтобы образ Слова, предстающий в Писании довольно отрывочным и запутаннным, был приведён к ясно обозримому, обогащённому теологическими выводами, возможно даже, в каком-то смысле исчерпывающему теологическому образу. Для того чтобы опомниться и отрезветь от этого теолого-гностического прогрессистского опьянения, достаточно просто взглянуть на наше сегодняшнее положение между экзегезой и догматикой, положение, которое означает долее нетерпимый кризис основ и принуждает нас ещё более тщательно прислушаться к изначальному Божьему слову.
Это не совсем приятное для догматики принуждение связано, однако, со вторым моментом - с изменением всемирно-исторической духовной ситуации; оно резко и не без жестокости выносит во внешний мир кажущуюся чересчур независимой внутри- церковную веру-медитацию. Ведь теологически-духовное созерцание всегда и не менее твёрдо стоит на службе церковного провозвестия, которое должно быть осмысленным и сообразовывать себя со слухом и восприятием современного человечества. Если Церковь в целом, во всех своих членах, но в первую очередь — в лице облечённой ответственностью иерархии, должна
145
всеми своими структурами, в меру их гибкости и адаптируемости, приспосабливаться к изменяющейся исторической ситуации (во всём, что касается типа человеческого мышления и представления применительно к проповеди, вопросов духовного осмысления той или иной эпохи в Литургии и т. д.), то отсюда ясно, что момент развития в первую очередь принадлежит стороне мировой истории, и лишь вторично и зависимо — церковной стороне. В своей надысторичности Церковь может облекать свою субстанциальную истину в ту или иную акцидентальную форму: какую именно она выберет, зависит от вслушивающегося времени. Здесь также возможны взаимные влияния. Так, наше время требует от литургических форм большей силы убеждения, большей прозрачности в отношении источника откровения — сравнительно с другими эпохами, когда внимание уделялось в первую очередь эстетической репрезентативности формы. При этом, однако, существенно то, что при любых изменениях положения Церкви в мире сообразовательные меры должны ориентироваться в первую очередь не на человека, а на Святое Писание, с тем чтобы, достигнув незамутнённого понимания подразумеваемого содержания, получить возможность более понятно передать и предъявить его современному человеку.
В этих изменениях, таким образом, гораздо сильнее сказывается историчность мира, чем историчность Церкви. Отдельные попытки адаптации не могут существенно изменить quod semper, quod ubique, quod ab omnibus.Но и там, где вера-понимание сталкивается с новыми аспектами, Церковь тщательно заботится о том, чтобы показать, что гносеологически новое является онтологически старым и что оно, поскольку это возможно, прослеживается вдоль гносеологической линии преемственности вплоть до своих истоков, если же в каком-то случае этих возможностей недостаточно, то новое освещается как нечто объективно всегда присутствующее, хотя — субъективно — усмотрено во всей своей значимости лишь теперь.
Обосновано это тем, что откровенная Божественная истина всегда, и даже в своей явленности миру, бывает лишь всеобщей
146
и абсолютной. То же самое справедливо даже в отношении лежащей в ином плане ветхозаветной истины, которая, хотя и имеет внутреннее историческое измерение, но не в форме поступательного восхождения частичных истин о Боге и Его отношении к миру, а в форме постепенного раскрытия и уяснения единой неделимой истины, которая и есть Бог. Так, обетование Божьему избраннику Аврааму уже заключало в себе абсолютно всё, и остальные, т.е. Моисей, судьи, цари, пророки и учители мудрости всякий раз лишь снимали очередной покров с изначально наличной целостности. Ветхозаветное откровение также в большей мере является «воспитанием человеческого рода», введением его возрастающего понимания во всегда равную себе Божественную истину, точнее, в условия всегда действительного завета Бога с Израилем (завета, который был ещё через Ноя заключён с человечеством и всем творением), - чем «развитием» самой этой истины в её мирском образе. Это тем более справедливо по отношению к Новому Завету, где явленный образ Бога обретает во Христе непревзойдённую полноту и ясность. В развитии этого образа с целью приспособить его к пониманию человечества участвует не столько Церковь, сколько само человечество, которое в процессе своего собственного развития нуждается в постоянном сообразовании Церкви со своим меняющимся положением. При такой постановке вопроса, однако, предстоит ещё разобраться в той связи, которая существует между процессом мирового развития и Церковью.
Если же это сообразование с миром совершается главным образом в форме харизматического дара живущего в Церкви Святого Духа, силой которого учреждается, например, новая форма христианской жизни, или является в сиянии новый святой как образец миру, или бывает послан в мир выдающийся основатель нового ордена, имеющий «ответ свыше» на «рождённую временем отмирную проблему»1, то тем самым тема «структурного развёртывания» пе-
1 Walter Dirks: Die Antwort der Mönche (1952).
147
реходит в (подлежащую разбору) тему развёртывания Духа. Вместе с тем, обе оси развития здесь соприкасаются, поскольку святые, наделённые силой убеждения, глубоко воздействуют на самопонимание Церкви в лице её иерархии, влияют своим гением на дух Соборов, лично дают начало реформационным движениям, которые затем продолжаются в лоне официальной Церкви. Поскольку, однако, структурные преобразования, исходящие от церковной институции, также не могут обойтись без участия правящего Духа и поскольку духовно-харизматическое преобразование в Церкви может производиться не иначе, как в послушании институции и с её одобрения, то в ходе истории Церковь представляет себя лишь в непостижимом согласовании обоих этих моментов. Как это ни странно, протестанты правы в двух своих суждениях: что Католическая Церковь с течением времени всё более сливается с собственным образом и сама себя формирует — и что при этом она с некой сомнительной и высокомерной д ля постороннего глаза свободой решается на нововведения, не санкционированные Библией. Эти утверждения, на взгляд со стороны, противоречат друг другу, и тем не менее оба они выглядят как вполне католические. Церковь, говорят они, непрестанно достраивает свои иерархические функции, организует и централизует их, и когда при Бонифации VIII притязания на внешнюю власть были разрушены, она с ещё большей беспощадностью стала распространять их внутрь самоё себя, что продолжалось вплоть до Первого Ватиканского Собора. Параллельно она облекала церковное право всё большей действенностью, всё глубже институциализировала формальную сторону теологии и ввела её в школьный арсенал клерикального образования. Но как согласуется с этой картиной то, что сегодня Церковь готова (в противовес чрезмерному влиянию римского епископа) подчёркивать епископальный статус Божественного права, повышать достоинство диаконии наряду со священническим служением, призывать мирян к коллективной ответственности наряду с клиром во всеобщей Церкви? Как получается, далее, что рядом со старыми, жёстко структурированными каноническими орденами она не только терпит, но и вдохновляет мало контролируемые в каноническом отношении, более свободные
148
общинные формы? Без сомнения, в этих и им подобных устремлениях мы можем восхвалять действие Духа, который в указанных случаях действует не вопреки церковной институции и ее структурам, но через них, доказывая им их инструментальный характер, а также исполняет постоянно предпринимаемые церковной институцией меры по самоусовершенствованию. И ещё: если, как утверждается, Церковь постоянно сдавала свои властные позиции становящемуся всё более самостоятельным миру, то тем самым не вручалась ли она снова сама себе в ещё более изначальном виде, без свойственного позднеантичной культуре привкуса, привносимого идеей бегства от мира, — и вручалась на этот раз в никогда прежде не испытанной близости к Евангелию? И разве — вопреки вышесказанному — даже материальная бедность св. Франциска, во всяком случае, в некоторых абсолютных устоявшихся формах у его последователей, не была чем-то таким, что сегодня уясняется как нечто вполне естественное или, как у «братьев и сестёр Фуко», обретает чисто евангельский смысл? И если всё это представляется пока слишком поверхностным, слишком самодеятельным, то усилия католической экзегезы должны быть направлены на то, чтобы указать критическому взгляду, что реформа Церкви под водительством Духа воистину может доходить до корней. Да, можно сказать, что Церковь с течением времени всё более становится «собою», но не в том ироническом смысле, который вкладывает в это критика, а в том под линном и серьёзном смысле, что Дух проводит её во времени через круг её собственных возможных образов. Это движение, как было показано, не может быть по-гегельянски систематичным, поскольку Церковь не есть ещё только ищущий себя дух, и тем не менее его вполне можно рассматривать как раскрытие во времени собственных оснований Церкви.
Но здесь сразу же возникает вопрос: обладает ли подобное продвижение — со всеми оговорками и ограничениями — каким- либо качественным характером? Не является ли оно просто количественным умножением свободных форм и делением клеток, накапливающим определённую историческую память о достижениях и неудачах? Или, быть может, историческая поступь
149
Церкви, сверх того, выявляет «смысл» в самом этом продвижении как таковом? До этого наши размышления, как представляется, не выходили за рамки количественного. Напротив: всякое изменение и прибавление в Церкви лишь глубже раскрывает внутрицерковную аксиому о том, что в каждом приобретении таится потеря: loss and gain. Даже, казалось бы, самые несомненные завоевания во внутрицерковной сфере, догматико-теологические, при ближайшем рассмотрении отчётливо обнаруживают этот закон двойственности: всякое уточнение происходит за счёт живой целостности, углубление частного знания - за счёт интуиции и даже по большей части за счёт естественного чувства соразмерности и равновесия. Догмат, будучи ярко освещён и тщательно сформулирован, теряет — именно из-за этого — в глазах «среднего» наблюдателя тысячи нитей и связей, которые вплетают его истину в единое целое; его детализация настоятельно требует (например, в мариологии) обдумывания целого на новом уровне, — но кто же будет этим заниматься? Как и в технике, повышение специализации усиливает воздействие на всеобщее, а вместе с тем — и ответственность, которую теперь, быть может, уже никто не способен и не желает ощутить. Сегодня мы наблюдаем действие «приводного ремня» между библейским и схоластическим рациональным образом мысли: каждый из них, будучи взят изолированно, ведёт к ощутимой потере чувства рельефа, вместе же они могли бы дать нашему зрению духовную перспективу; так, одностороннее улучшение зрения лишь одного глаза ведёт к потере общей остроты зрения. В подобных законах соразмерности проявляется конечность и тварность способности восприятия: всякий рост с мягкой неумолимостью бывает задержан и возвращён в инертно-подвижную средину.
Таким образом, однозначно определимый прогресс (шаг вперёд) не достигается на этом пути, но достижим ли он вообще? Можно ли, после всего сказанного, надеяться его достичь?
150
3. Шаг к Духу
Подобный решительный шаг постулировался на протяжении всей церковной истории, на него возлагались надежды как на необходимое исполнение. Если теология истории, создаваемая клиром, отличалась по преимуществу статичностью, то в орденской среде и у мирян-харизматиков она приобретала внутренний исторический динамизм. В самом принципе католической институциональности многие видят некое ещё не разрешённое противоречие с церквеучредительным принципом, с живым, умирающим и воскресающим Сыном Божиим, каковое противоречие может быть разрешено только тем, что институциональное будет если не превзойдено и преодолено, то всё же исчерпывающим образом экзистенциально освещено и выявлено в качестве Духа. Шаг от структуры (которая представляется как нечто родственное смертному послушанию Сына и жёсткости перекрещенных брусьев Креста) к Духу (изливаемому и управляемому Воскресшим), совершаемый в свободе от гетерономной обусловленности, как чистое само-обладание в Боге, - этот шаг от смерти к воскресению, от смертной плоти к бессмертному Духу, от рабского образа Второго Лица к образу славы Третьего Лица предстаёт тогда как единственный теологически легитимируемый шаг и единственный прогресс внутри церковной истории.
Различные метаморфозы этого шага и способы его толкования составляют историю христианской духовности. Антигностик Тертуллиан, столь страстно отстаивавший воплощение Слова, не смог устоять перед соблазном усмотрения параллелизма между институцией как душевной личностью и Церковью Духа как личностью духовной; власть ключей могла быть передана только лично Петру, т.к. подобное участие в Божественной полноте власти можно было доверить на будущее лишь пневматику, человеку, исполненному Духа; сущность истинной Церкви - пневматическая: «Ведь и сама Церковь, в собственном и преимущественном смысле, есть не что иное, как Дух... Он собирает воедино ту Церковь, которой Господь уже дозволяет
151
стоять при трех эпохах» (De pud. 21). Это монтанистская теология истории, в которой ложное притязание институции упорно противостоит истинному, отсчитываемому от Христа притязанию пневматической личности. Сам Монтан знаменует в этой цепочке историческую веху: он лично является инкарнацией духовного человека. Другой великий антигностик, Ириней, избегает подобного противопоставления, однако и его теология истории, в которой столь настойчиво подчёркивается направленность временного потока от Отца (Ветхий Завет) к Сыну (Новый Завет), тоже не может обойтись без своего рода века Духа, который в данном случае выступает в качестве некой милленаристской эпохи. Допустить тысячелетнее царство после воскресения значит для него принять всерьёз ветхозаветное обетование окончательного и неотменного обретения Земли, обетование, ещё не до конца исполненное странствием христиан по земле (продолжающим кочевую жизнь Авраама и его потомков). Ириней стремится истолковать recirculatio и regressusне в платоническом духе, как если бы речь шла о приближении к надмирной, чисто духовной родине, а на библейский, в его понимании, лад — как обетование некой, также окончательно обретаемой «святой земли», т.е. в смысле основных обетований Ветхого Завета, всегда — и во времена вавилонского и египетского пленения — имевших в виду окончательное обретение святой и одновременно земной родины (причём в наказание народу земля даже не освобождалась от неверных, Суд 1—3). Подобным пафосом питается современный Израиль, и его же, после Иринея, предстояло унаследовать Церкви как Новому Израилю. Поскольку исток человеческого рода - не только в Боге, но и в земном раю, то и исполнение его следует ожидать не только на новом небе, но и на всерьёз принимаемой новой земле: «nihil allegorizari potest(в эсхатологическом плане), sed omnia firma et vera»(ничего не полагаешь аллегорически, но всё-прочно и воистину, С. Haer. 2, 426, Harvey). Своеобразие этого учения о конце света заключается, видимо, в том, что оно определяет, с одной стороны, исполнение горизонтального маршрута истории от Ветхого к Новому Завету, т.е.
152
завершение вочеловечения Бога, который в конечном всемирном Иерусалиме «везде будет видим» (ebd. 424, 428), с другой же — трансцендентное исполнение, т.к. тысячелетнее царство может наступить лишь после воскресения. Здесь налицо мотивы, которые, при отсутствии возможности и желания однозначно выделять какой-либо конкретный исторический момент, делают объектом веры сам качественный ход также и новозаветного времени, и было бы недопустимо без предварительного более глубокого продумывания отвергнуть как земной и конкретный, вплоть до нынешнего времени, мессианизм иудеев — в его библейской, палестинской или секуляризованной, коммунистической форме, — так и космический эволюционизм (представленный в современной Церкви Тейяром де Шарденом).
Оба эти противоположные эсхатологические представления, Тертуллиана и Иринея, стоящие у самого истока теологии истории, поначалу уступают место более аисторичной концепции, принадлежавшей Оригену и Августину, самым великим и влиятельным богословам патристики. И тот и другой находятся под доминирующим влиянием космологической схемы восхождения и нисхождения — и не только отдельной души, но и всей Церкви как небесной Невесты Слова: Церковь как Град Божий ведёт происхождение не «от Авеля», она существует «прежде основания мира» как (по слову Псалмопевца) «от начала собранное собрание». Она есть «великое таинство», ради которого человек покидает отца и мать, Христос — своего небесного Отца и небесный Иерусалим, чтобы жертвой плоти омыть и вернуть в дом свою падшую на землю, грешную Невесту: «Ибо как бы Он мог её любить, если бы её не было?» (Origen, Comm. in Cant. 2; Baehr. 8, 157-158). Здесь иринеевский аспект полностью исчезает, тогда как тертуллиановский — выступает в своей ортодоксальной форме: в истории спасения может быть только два «времени»: время нисхождения Слова, в плане обетования и воплощения, вплоть до смерти на Кресте, и время восхождения, в плане одухотворяющего воскресения и вознесения, когда Христос забирает свою Невесту с собою, ныне - in spe (в чаянии), в будущем - in re (на деле). Здесь in spe ассо-
153
циируется с тертуллиановским понятием disciplina,церковное послушание, и — как институция — стоит во всяком случае не ниже, чем у Оригена или Августина. И тем не менее, сквозь spes должна всё яснее и яснее просвечивать res,а сквозь институцию — истина, рпеита, любовь (которая есть смысловое ядро каждого таинства, каждой церковной формы).
У обоих этих Отцов Церкви «чистая» институциональность и сакраментальность имеют, в известной степени, несобственный характер, вернее, они не находят их в Новом Завете «в чистом виде». Воспринимать их таким образом - заблуждение, свойственное «психикам» или haplousteros (rudis),ибо в Новом Завете, благодаря вочеловечению Бога, всякая littera есть уже spiritus1. Но обстоит ли дело так, что абсолютная прозрачность буквы для постигающего духа (gnosis)достижима уже в этом мире (к чему склонялся Ориген и стремились его последователи, порою заходя слишком далеко в своём антиинституционализме), и таким образом институциональная Церковь, хотя и не до конца преодолённая и «снятая», всё-таки может быть просвечена до самого своего основания и предстать тем, чем она «собственно» является и как она была замыслена её Учредителем, — или же из-за неизбывной тяжести греха даже лучших членов Церкви такая прозрачность навсегда останется в дольнем мире недостижимой (как всё яснее представлялось стареющему епископу Гиппонскому—в отличие от более молодого и более гностически настроенного юного Августина), как бы то ни было, основная схема всё равно остаётся прежней: церковная экзистенция — это ежедневный шаг вперёд (про-гресс) от буквы - к духу, от облачения — к смысловой сущности, от закона - к Евангелию, от Ветхого Завета - к Новому, от «чистой» институции и культа -к «открытому слову» и к «первозданной любви». В том, что христиане именно по этой схеме действуют, понимая, и понимают, действуя, заключена единственно возможная апология христианства, кото-
1 См. мою работу «Mystère chez Origène», Ed. du Gerf 1957.
154
рое лишь тогда достойно веры, если форма всё время проявляет и оправдывает себя в качестве содержания.
В этой перспективе временна́я эволюция Церкви становится чем- то излишним и совершенно неправдоподобным. Почему, спрашивается, более поздним поколениям людей извечно заданный, ежедневно требуемый шаг от земли к Небу, от бренной «плоти» как таковой к воскресшему единству духа и плоти должен удаваться лучше, чем поколениям сегодняшним? Этот шаг от «второго» к «третьему» царству является чисто качественной категорией, тогда как всевозможные исторические вариации всегда остаются в области количественного. Именно поэтому Ориген и Августин отвергали все формы милленаризма, который, как и монтанизм в церковной истории, так и остался за пределами церковной перспективы - до прихода Иоахима и францисканцев.
Если мы хотим понять строй мысли Иоахима, заставлявший его ожидать в церковной перспективе после царства Сына (и церковной институции) третье царство, царство Святого Духа (по ту сторону институции), то мы не должны воспринимать его как продолжателя Тертуллиана и Монтана. В отличие от них он не был настроен враждебно по отношению к иерархии, но хотел с позиции монашества придать процессу внутреннего превосхождения формы (как видели её Ориген и Августин), делу, так сказать, наполнения её содержанием, всемирно-исторический образ и шанс. Исходным пунктом для его толкования истории является не линеарное опережение, а символическое взаимоотражение двух заветов, что с момента возникновения теологии было исключительным способом толкования Священного Писания. Сам он так описывает своё основополагающее видение: «Проснувшись на рассвете дня, я сразу же принялся за Откровение святого Иоанна. Тут духовные мои очи были ослеплены сиянием знания и мне открылось исполнение этой Книги и взаимное согласие Ветхого и Нового Заветов». Произошло это так, словно кто-то открыл книгу и соответствие правой и левой страниц дало толчок явлению духа и смысла как квинтэссенции целого. Триадически-тринитарная схема, которую Иоахим развил, исходя из библейского диптиха, присовоку-
155
пив к нему, во временно́й плоскости, царство Духа как «третье» царство, в основе своей не стыкуется с этой традиционной исходной точкой и тем не менее именно поэтому может быть выведена из неё как следствие, поскольку соответствия между Ветхим и Новым Заветом как таковые понимались и отыскивались в буквальном, то есть во временном смысле: вот этому событию Ветхого Завета отвечает вон то, другое, событие Нового Завета. Тем самым внутрь диптиха вводится понятие соответствия, предполагающее гомогенную структуру времени откровения, единое понятие времени, которое оказывается вынесенным за скобки аналогического соотношения littera-spiritus.Иначе говоря: вторая эпоха, эпоха Сына, невидима в своей субстанциальной духовности, к ней необходимо должна быть добавлена следующая по времени, третья эпоха - Духа. Этот новый пневматологический милленаризм покоится на недооценке власти Духа в институции и потому скрытым, но оттого не менее действенным образом проецирует хронологические предпосылки Ветхого Завета не только во вторую, но и в третью эпоху. Кажущаяся сверхдуховность этой концепции оборачивается при ближайшем рассмотрении недостаточной духовностью.
И всё же Иоахим не намного удаляется от истины, поскольку институциональное и сакраментальное в Новом Завете само по себе требует духовной (а это, согласно новозаветному словоупотреблению, означает «экзистенциальной») интерпретации: не в качестве абстрактного процесса ex opéré operata,но как проживаемая в вере жизнь εν Χριστω,как она вскоре после этого явит себя в «Христовом человеке» Франциске Ассизском с его стигматами и полнотой харизмы. Лишь по роковому стечению обстоятельств это небольшое искажение у Иоахима направило всю интерпретацию феномена Франциска по ложному пути; правильная интерпретация могла бы оказать гораздо более серьёзное влияние на область не только спиритуальной, но и догматической теологии. На «модели» святого Франциска мог бы быть прочитан, а также теологически лучше уяснён смысловой строй всей институциональной и всей сакраментальной сфе-
156
ры. Теологический импульс, который должен был бы оказать внутрицерковное воздействие, перегорел в парацерковных течениях, которые очень быстро секуляризовались и какими-то странными подпочвенными путями привели к ренессансной и современной идее прогресса — сначала в религиозной, а затем в духовно-культурной сфере1.
Третье царство у Иоахима — это эсхатологическое состояние тотального ордена (которое должно последовать за «брачным» состоянием первого и «священническим» состоянием второго царства), и в этом оно представляет собой типичную историческую метафизику категориально «орденского» мышления, линия которого тянется через спиритуалов (фраттичелли) и Кола ди Риенцо, через тайные ордена, маячащие за спиной Иеронима Босха, духовных братьев Ренессанса и далее - к розенкрейцерам, франкмасонам Просвещения и XIX в., к союзам, рисовавшимся Стефану Георге и Генону, к орденским проектам Дерлета и, наконец, к нацистским «орденским замкам». Здесь повсюду веет апокалиптический дух, но — в сторону некоего конечного царства, расположенного по сю сторону истории.
Особняком стоит в этой связи теология истории Бонавентуры, недавно в ясном свете представленная Йозефом Ратцингером2. Бонавентура следует основной концепции Иоахима, когда соотносит эпохи (числом семь) Ветхого Завета с (семью же) эпохами Нового Завета, однако он избегает последовательно триадической интерпретации, полагая ожидаемый, последний век Духа в пределах церковного времени, а не в качестве третьего — по ту сторону Нового Завета. Такое воззрение сближается с милленаризмом Иринея, церковно-теологические взгляды которого также не позволяют ему питать надежду на земное царство, запредельное по отношению к видимой (институциональной) Церкви. Разница же состоит в том, что для Иринея «время Духа» находится по ту сторону воскресения, а для Бонавентуры — по эту сторону воскресения и внутри церков-
1 См. Karl Löwith: Weltgeschichte und Heilsgeschehen (1953).
2 Die Geschichtstheologie des hl. Bonaventura (1959).
157
ного времени. Последний выработал свои воззрения на историю, будучи генералом францисканского ордена, во внутренней борьбе с оттолкнувшейся от Франциска теологией спиритуалов, основополагающая интуиция которых «стала для него историко-теологической аксиомой абсолютной непререкаемости»1. Пророчество Иоахима о том, что завершительный орден будет следовать Нагорной проповеди «sine glossa»,чересчур однозначно соответствует запрещению св. Франциска комментировать Евангелие и Правила. Сравнительно с радикальными требованиями спиритуалов это должно было выглядеть незначительным ограничением, коль скоро Бонавентура видел в существующем ордене лишь зачаток ожидаемого конечного созерцательного ордена, которому предстоит реализовать в Святом Духе (оригеновский) гнозис и всю полноту веропонимания, а не его уже актуальную реальность.
Бонавентура подкрепляет намеченное у Иоахима — скорее лишь предварительным образом — понятие качественного времени откровения философско-теологической спекуляцией, принципиально изымающей время из сферы чисто количественного (и тем самым потенциально-бесконечного, допускающего creatio ab aeterno, предвечное творение) аристотелевско-античного понимания и превращающей его в меру для конечного, исходящего от Бога и снова к Нему возвращающегося творения (non tantum dicit mensuram durationis, sed etiam egressionis2).Тем самым он подходит к Августинову понятию внутренне конечного времени, хотя и не углубляется при этом в проблематику distentio (между тварным и греховным временем). Даже если новообнаруженное библейско-качественное понятие времени само по себе не требовало бы членения и периодизации в духе Иоахима и Бонавентуры, всё же можно сказать, что подход иоахимитской и в особенности францисканской мысли, при всём его чрезмерно рациональном и в наших глазах наивном историческом профетизме, стал поводом к осознанному рассмотрению заложенных в нём категорий качественного теологического време-
1 Ratzinger 1. с. S. 37.
22 Sent d 2 р 1 а 2 q 3с. Ratzinger 143.
158
ни - таких, как тварное время, греховное время, время откровения, церковное время — в их послойном соотношении. То, что четыре вышеперечисленных аспекта этого теологического времени согласуются между собой не жёстко-однозначно, но лишь аналогическим образом, что, например, новозаветное время нельзя просто конструировать по ветхозаветной схеме, всё же ещё не говорит о том, что новозаветное время, сколь бы ни было оно «эсхатологически» просвечено, не допускает подхода к себе как к подлинно тварному времени и даже прямо как ко времени, исполненному в своём временном бытии. Ратцингер прав, когда он заимствует для теологии подход Бонавентуры, и точно так же прав, относя коренную разницу между Бонавентурой и Иоахимом на счёт христоцентризма первого, ибо Христос (как колёсная ступица мировой истории, в которой удалённое греховное время переходит в «возвратное» время спасения) - Господин всех времён, а равно и исторического завершающего времени, которому предстоит явить откровение Его господства самым непреложным образом. Поскольку такого рода откровение мыслится как световое явление знания о Духе, высвобожденное из низменного покрова буквы и плоти, оно может восприниматься в советах как «век» Святого Духа и как эра конца-последования, не превращаясь при этом в третью эру по ту сторону господства Христа — в учреждённой Им же самим зримой Церкви. Если выразить то же самое с психологической точки зрения, — спиритуалы-иоахимиты выдвигали свою реформу исходя из тайной неприязни к иерархической институции (как ранее — Тертуллиан и Монтан), а Бонавентура, напротив, — из детского послушания Церкви, в которой он видел не косную и обособленную институцию, а живое Тело вочеловечившегося Христа, непревосходимого в своём человеческом естестве.
Попытка Бонавентуры не была подхвачена официальной теологией; вопрос о правомерности и границах теологически обоснованного развития церковного времени не был разрешён в строгом порядке, что особенно хорошо видно в связи с (по- прежнему ожидающей нашего внимания) проблемой обращения Израиля. Следовало бы заново взяться за его разрешение, исхо-
159
дя из собственно библейских предпосылок, отрешившись на этот раз от интерпретации библейской истории спасения во всемирно-историческом плане. Более точно: история спасения как историческое откровение Бога сначала должна быть снята в рамках общей истории человечества, с тем чтобы потом, на второй стадии, снова быть ей противопоставленной. Опыт средневековья показывает, что динамика развития библейской истории спасения (которая тогда вообще ещё трактовалась как всемирная история), покинув свою исходную область (т.е. область ветхозаветного развития к Иисусу Христу), распространяется и переносится на всеобщую историю и благодаря этому опосредованию стало возможным рассматривать современное представление о всемирно-историческом развитии начиная с Просвещения действительно как «секуляризацию» исходно библейского понятия. И всё же неустранённым остаётся вопрос: действительно ли подобное перенесение понятия на всемирную историю (уже как «мирскую») является всего лишь секуляризацией - или, быть может, оно инициировано и оправдано благодаря познанию чего-то нового? Если это так, то положение вещей в корне меняется: само понятие развития становится изначально всемирно-историческим и лишь вторично причастным к истории спасения, поскольку развитие внутри истории спасения становится таковым преимущественно за счёт своей связи с историко-культурным развитием и только благодаря этому достигает своей цели - Христа. Подобная возможность может быть изучена лишь при условии, что в наше поле зрения будет явным образом введён секулярный аспект. Но прежде нужно получить ответ на вопрос относительно любого смысла-события, совершающегося на протяжении истории: предполагает ли оно, согласно Св. Писанию, качественное рассмотрение церковного времени или, напротив, запрещает его?
160
4. Неопознаваемый рост
В новозаветных высказываниях на тему развития проводится строгая грань между утвердительным фактом и его отнюдь при этом не обязательной познаваемостью.
Притчи Господа, в которых говорится об органическом, постепенном процессе, «о сеятеле» (Мф 13. 3-9,18-23 и прл.), «о посеве и всходах» (Мк 4. 26-29), «о плевелах» (Мф 13. 24-30, 36-43), «о горчичном зерне» (Мф 13. 31-32 и прл.) и «о закваске» (Мф 13. 33 и прл.) - очевидным образом стоят в предваряющей позиции: они обозначают событие, которое берёт своё начало тайно и неприметно и откроется во всём своём мирообъемлющем величии лишь на Страшном суде. Подобное расположение притч, по крайней мере у Матфея, обязывает к осторожности, когда речь заходит о возможном противопоставлении этих притч мотиву близкого ожидания, вступающему в Евангелии позднее, и о том, чтобы с самого начала привлечь их как образ длительного внутриисторического периода развития Царства Божия. Под этим «ростом» Царства подразумевается в первую очередь не исторический процесс, а внутренняя встреча мира как он есть («поле есть мир») со словом Божиим, их соприкосновение, взаимопроникновение и преображение через некое «заложенное [для роста]» событие. И действительно, отсюда виден мир во всей его универсальности, а не только Израиль и Церковь; это — предмет всеобъемлющего взгляда, исходящего из начала, которому, в качестве цели, сопоставлена мировая жатва, жнецы на которой — ангелы. Событие начала есть самое неприметное, событие конца — наиболее откровенное, из его сферы уже ничего не может ускользнуть. Поэтому путь от самого малого к величайшему может предстать лишь в образе «роста» и как таковой требует времени. Период этого роста очевидно не совпадает с периодом жатвы, и это относится равно к «плевелу» и «всходу». Он есть время ожидания для сеятеля, но и время терпения — для его рабов, которые предпочли бы выполоть плевелы: время свободного развития некоего внутреннего качества «горчичного зерна» и «закваски», могущего пробиться наружу неминуемо и «автоматиче-
161
ски», αυτόματη (во «всходе») и вместе с тем зависящего от качества почвы (в «сеятеле»).
Большего пока не сообщается. Здесь ещё неизвестно, что Слово Бога, которое посеяно в мир, - это и есть сам Иисус Христос, что именно как Умирающий за мир Он является тем зерном, которое, пав в землю, принесёт много плода (Ин 12. 24), что Он сам и есть та лоза, без которой никакая ветвь не принесёт плода (Ин 15. 1 и сл.), и что поэтому время ожидания и свободного роста, время Церкви от вознесения до Страшного суда, есть вместе с тем время роста самого Ожидающего. Обо всём этом будет сказано позднее, у Павла, который одновременно подчёркивает два момента: то, что было раз и навсегда совершено через вочеловечение и крестное искупление, — и внутреннее воздействие этого свершения на всю протяжённость времени. Есть «ожидание» Христа «доколе враги Его будут положены в подножие ног Его» (Евр 10. 13), которое непосредственно ассоциируется с ожиданием в «притчах роста» и которое не может быть ослаблено никакими внутриисторическими соображениями. О том, что это ожидание и есть «царствование» Христа, говорится при цитировании того же места из Псалмов: «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои» (1 Кор 15. 25). И, наконец, в Откровении это ожидание-царствование представлено как эсхатологическая борьба, исход которой, однако, заранее возвещён ангелом, стоящим на солнце (Откр 19. 11- 21). Эта битва, вовлекающая в себя также небесные воинства и являющаяся в конечном итоге войной за само небо (Откр 12. 7), разворачивается прежде всего за достижение всемирно-исторической Христовой победы. Это война против властей, пробуждённых от сна как раз приходом Христа и спустившихся с неба на землю, вышедших из морской бездны и земной глубины, чтобы вступить в бой за своё пошатнувшееся владычество (Откр 12- 13; Еф 6. 12). Для нас это абсолютно серьёзная битва, в которой решается судьба нашего спасения, и всё же она уже заранее выиграна Христом, и верующий может держаться за Его «доспехи», чтобы потом одержать неминуемую победу.
162
Становление победы Христа, а тем самым и дела Христа, и самого Христа в мире изображается Павлом в терминах роста, причём он говорит об этом не столько в масштабе отдельной человеческой жизни, которая ищет для себя завершённости, сколько в масштабе Церкви, которую воскресший и вознёсшийся на небо Господь наделил всем необходимым и детально организовал для такого роста. Или более точно: если каждый отдельный человек может исполнить своё назначение лишь как «вспомогательный сустав» Церкви, «истинствованием в любви» (Еф 4. 15), т.е. проживанием Евангелия в переживаемой любви, то через его личный прогресс воздвигается сама Церковь, а через oikodomê Церкви продвигается к своему исполнению сам мир, сама вселенная, — как великое собственное Тело Христа. То, что Бог Отец основал и сделал возможным своею волей (направленной на то, чтобы «всё небесное и земное соединить под главою Христом», Еф 1. 10); что Христос насадил и чему положил начало своею смертью и воскресением (Еф 2. 13 и сл.); что растёт изнутри Святым Духом вместе с возрастающей Церковью (Еф 2. 20- 22), — всё это обретает в конце космическое измерение. «В этом смысле в мировом целом имеется процесс и прогресс, нескончаемый во времени. Это продвижение вперёд, которое не поддаётся статистическому или психологическому учёту, которое совершается во "внутреннем" и при этом составляет поступь всеобщей истории “вселенной”, оно продолжается, пока история совершает свою поступь. В день искупления" (Еф 4. 30) это скрытое внутри себя “продвижение”, скрытый, но реальный рост вселенной — ко Христу, заканчивается и обретает своё завершение в Церкви, и тогда налицо выступает его результат: вселенная обретает своей главою Христа и отдаёт Ему своё тело»1. Здесь повсюду являет себя кругообразность этого роста, но она его не сковывает: «Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог приготовил заранее, чтобы мы в них ходили» (Еф 2.
1 Heinrich Schlier: Der Brief an die Epheser (1957) 207.
163
10), и, таким образом, если мы подлинно и действительно продвигаемся вперёд, то всё целое становится «продвижением Бога» (αυξησις του Θεου)— от Бога, к Богу и через Бога (Кол 2. 19). «Полный возраст», «полная зрелость» Христова, к которым стремится тело, уже достигнуты во Главе и потому уже заранее заложены в становлении тела (Еф 4. 13). Решающим здесь является то, что закон космического продвижения обнаруживается не в каком ином месте, как в законе продвижения личного, и тем не менее он задан как закон подлинного всемирно-исторического продвижения1. Дело обстоит не так, будто лишь отдельному человеку дано в пределах его смертной экзистенции осуществить квинтэссенцию христианского смысла, т.е. умереть и воскреснуть вместе с Христом (Рим 6. 3 и сл.; Гал 2. 19 и сл.; 3. 26-29 и т.д.), а на долю всеобщей истории, будто бы бессмертной и перекрывающей жизнь отдельного человека, уже не остаётся никаких свершений, относимых к Христу. Нет, на самом деле жизненный закон отдельного члена Тела Христова вообще является таковым лишь внутри Церкви, которая не знает над собой никакого иного закона, кроме закона влекущегося уподобления её Главе, но поскольку Церковь обладает надындивидуальным временным измерением, то её закон может задавать меру для всей мировой истории.
Если теперь с этой точки оглянуться на притчи «о росте», то их всемирно-историческое измерение предстаёт в отчётливом и ясном виде. Эти притчи раскрывают истинный характер длительности исторического роста, начиная от посева семени Сыном Человеческим (Мф 13. 37) — и до мировой жатвы ангелов. В это время «действует самодейственное жизненное зерно, в котором Христова Церковь должна обрести помощь себе и развитие — вплоть до наступления жатвы. Каковы могут быть различные этого развития, перечисленные в притче “о посеве и всходах (Мк 4. 26-29), —
1 Ср. патристическии теологумен о соответствии между всемирной историей и историей отдельной личности (Ratzinger: Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. 1954, 197-218). J. Guitton резко критикует мнение о существовании подобного соответствия (Le Temps et i’Eternité etc., 3. изд. 1959, 370 и сл.).
164
об этом мы не можем ясно судить... Но сама сущность этого образа и его основная мысль говорят о том, что истинный рост, без остановок и возвращений, должен продолжиться даже и при наступлении Царства Божия на земле — до самого дня исполнения»1. Итак, есть факт продвижения, но само оно неопределимо. Поэтому мы не можем без каких-либо рассуждений ассоциировать рост малого горчичного зерна, которое становится «больше всех злаков», с внешним ростом Церкви. Когда же говорится о плевелах, что по прошествии известного времени, «когда взошло семя и показался плод, тогда явились и плевелы» (εφάνη Мф 13. 269, — то здесь беспокойство работников указывает на появление чего-то во всяком случае симптоматического и опознаваемого. Это «что-то» получает удовлетворительное объяснение лишь в некоем тайном деянии дьявола. Такую очевидность нельзя поставить под вопрос, ссылаясь на эпизод закладывания (ενεκρυφεν Мф 13. 33) закваски в тесто: оба образа, скорее, указывают на особый тип очевидности, свойственный Царству Божию, - ведь и «сокровище, скрытое на поле», было «найдено», чтобы затем снова стать «утаённым» (Мф 13.44), и все притчи о Царстве Божием стоят под знаком «откровения тайного» (Мф 13.35), в ситуации выбора между «ведением и неведением» (Мф 13. 11-17). Эго открытость под знаком соблазна, который (знак) никак не может быть нейтральным указателем Царства: «вот, здесь» или «вот, там»: и «не придёт Царствие Божие приметным образом» (πσρατηρησις, ср. W. Bauer WbNT), оно «внутрь вас есть» (Лк 17.21), ибо оно есть верующее приятие самого себя, и потому: «кто не примет Царствия Божия, как дитя (то есть без рефлексии и расчёта), тот не войдёт в него» (Лк 18.17).
Если бы поэтому было возможно пересказать теологическую историю Царства Божия, в которой содержалось бы нечто сверх того, что имеется в разделе мировой истории о видимой Церкви, взятой как институция, с её границами, устремлениями, властью, с её преимуществами и недостатками, то такая история
1 Leop. Fonck: Die ParabeIn des Herrn (19093) 120.
165
в лучшем случае могла бы предназначаться для верующих. Но и они, которые в основе «знают всё», могли бы извлечь из неё лишь то, что уже есть в их собственном опыте, а отнюдь не что-то новое и иное. И тем не менее, они нашли бы там наглядное и ясное для очей веры подтверждение своей веры и более того: поскольку в исторической ситуации заложена ситуация Божьего слова и самого Иисуса Христа, они услышали бы там ещё и новый вызов Слова.
5. Харизматическое и апокалиптическое пророчества
Подобный свет бросает на всемирную историю «притча о смоковнице», ветви которой становятся мягкими и пускают листья. Близость лета — это знамение близкого Царства (Мф 24. 32 и сл., прл.). Хотя эта логия помещена здесь в эсхатологический контекст, нет причин считать, что её смысл существенно отличается от смысла ответа Иисуса вопрошающим о чуде иудеям: «Вечером вы говорите: “будет ведро, потому что небо красно”; и поутру: сегодня ненастье, потому что небо багрово”. Лицемеры! различать лице неба вы умеете; а знамений времен не можете?» (Мф 16. 2- 3). Знамение Ионы, обещанное Иисусом иудеям вместо всех других знамений, должно остаться единственным также в церковно-историческом и в эсхатологическом планах как Его знамение. И подобно тому, как первое из этих апокалиптических знамений имеет в виду не только предстоящий конец света, но и, поскольку подразумевается также близкая гибель Иерусалима, положение Царства Божия под нависшим мечом конца, так и в словах Христа в обоих случаях содержится вызов, связанный с определённой ситуацией. Не в том стёртом смысле, в каком понимает её эллинизированная христианская мораль: словно вызов исходит от индивидуальной совести, требующей решения, что именно должно быть сделано в этот конкретный момент; и не в том, по-прежнему стёртом, как толкует её современная ситуативная этика (которая, впрочем, едва ли не единственная делает предметом рассмотрения отдельного человека в его временно́й конкретности), — в них содержится такой же вызов, как в словах израильских пророков, ко-
166
торые изнутри времени обращались ко времени, отталкиваясь от положения израильского народа в среде других народов — в контексте истории спасения. Народа, к которому в данный момент, в конкретной ситуации обращено слово Бога и который, находясь на пересечении с горизонталью, может и должен знать, что ему надлежит делать. Это специфически иудейское требование к человеку (которое у Марка к тому же возникает вместе с самим актом веры: человек «должен мочь» его совершить, и тогда он «сможет» всё) у Иисуса достигает своей высшей точки, благодаря чему эта точка также включается во всю целостность церковного времени. Христиане из язычников часто заблуждаются на этот счёт, полагая, что этот тип временно́й ситуации является ветхозаветным, поскольку он предполагает становящееся откровение, тогда как откровение уже завершённое, которое в окончательном виде покоится на déposition fidei Ecclesiae (запасе церковной веры) под контролем Церкви, будто бы лишено такой исторической веровой неусыпности. Но как раз такого рода «сон состоятельного» (Лк 12. 19) резко противоречит всё более настойчивому требованию Евангелия - постоянно бодрствовать во времени, чтобы не пропустить последнее пришествие Господа и Жениха, но также — всякое встречное, идущее от конца, внутриисторическое пришествие. Если церковная история представляет собой сплошную «войну упущенных возможностей», которую уже нельзя выиграть путём запоздалых мер по догматизации и канонизации, то происходит это из-за языческо-христианского непризнания этого иудейского теологического элемента в Новом Завете.
Подобный экскурс относительно смысла истории спасения представляется в основном достаточным. Он позволил увидеть качественный смысл исторического времени как нечто большее, чем просто итоговая сумма результатов отдельных экзистенций перед лицом Бога, но он же закрыл возможность всякого другого способа познания этого смысла, кроме обретаемого верой чутья к знамениям времени. Можно именовать это харизматически-экзистенциальным знанием, поскольку для него требуется абсолютно живая, решительная вера и готовность к экзистенци-
167
альной самоотдаче, без которой невозможна временна́я чуткость в Святом Духе. Превращение этого знания в нейтральную осведомлённость невозможно. Более просто и более по-библейски было бы назвать его профетическим, ибо о весе всякого часа оно узнаёт от Бога. В Ветхом Завете знанием о наступлении Божьего часа был наделён кто-то один, остальные должны были ему верить, и через эту веру они приобщались к откровению благоприятного времени. В Новом Завете преобладает другой, церковный вид откровения, который, хотя и реализуется иногда в том или ином призвании, но всё же в основном доступен всем верующим через излияние Духа. «Et erit in novissimus diebus (dicit Dominus): effundam de Spiritu meo super отпет canem: et prophetabunt filii vestriet fdiae vestrae, et juvenes vestri visiones videbunt, et seniores vestri somnia somniabunt» (Деян 2. 17). «Свидетельство Иисусово есть Дух пророчества» (Откр 19.10).
В каком отношении к этому харизматическому пророчеству стоит пророчество апокалиптическое? Не выходит ли второе за пределы первого тем, что, черпая из созерцания Бога, доводит до полноты и претворяет в грандиозные образы качественную смысло-направленность времени, которая открывается нашему чутью через неуловимый рост Церкви и мироздания в полноту Христова образа? Даже предположив, что нам никогда не удастся упорядочить эту цепь образов с помощью какой бы то ни было исторической хронологии или даже с уверенностью сказать, существует ли вообще какое-либо хронологическое соответствие между (полной или частичной) последовательностью небесных видений и исторически-временным рядом земных событий, то и тогда - не окажется ли наше знание о смысле истории спасения чудесным образом обогащённым?
С упомянутыми оговорками можно ответить на этот вопрос утвердительно. Апокалиптическое созерцание сообщает уверенность в том, что история (именно как история, а не как сумма отдельных жизней) абсолютно прозрачна перед лицом Бога и обладает грандиозным и великолепным смыслом. Претворение этого смысла в эстетическое или символическое созерцание —
168
это оптимальный способ, каким человек, по-прежнему продолжающий свою борьбу в истории, может с верою принять участие в этом созерцании: образ или образный ряд обнаруживают преизбыточную смысловую полноту, которая буквально распирает изнутри свою оболочку, исключая при этом всякую возможность извлечь из этого образа понятийный смысл и придать ему отчётливую земную форму. Никакого иного завершения обоих заветов как последнего превосхождения формы ветхо- и новозаветного пророчества (которое по самой своей сути есть нечто совсем иное, чем техника предсказания будущих событий) ожидать не приходится. Если толкование временно́й ситуации, которого Евангелие требует от истинно верующего, в последний раз должно раскрыться и утвердить себя на всём объёме церковного времени и времени творения, то произойдёт это не иначе как «сквозь стекло, гадательно», т.е. в таких образах, которые не несут непосредственную информацию о принятых решениях, но сами, как евангельские притчи, по своей форме являются образами решения, требовательно извлекающими ответы «да» и «нет» из их латентного присутствия.
Попытки христианских мыслителей -особенно после Иоахима — развернуть этот образный ряд по оси мировой истории, разумеется, постоянно возобновлялись, однако, не говоря уже о внутренних противоречиях в описаниях предстоящего конца или отдельных этапов его приближения, они всегда были сопряжены с одной радикальной неприятностью. При установлении места того или иного символа внутри обрисованной исторической ситуации он сразу же выпадает из небесной полноты смыслов и оказывается в земной плоскости, лишаясь присущего ему теологического измерения, тогда как историческая ситуация времени, напротив, выступает в смысловой ауре, которая её гротескно искажает. Что можно сказать о попытке Фере1 «разделить все учения Книги Откровения на две группы: те, что не
1 Н.-М. Féret OP: Die Geheime Offenbarung des hl. Johannes, eine christliche Schau der Geschichte. Patmos 1955.
169
имеют непосредственного отношения к конкретному временному ряду», т.е. общие «элементы теологии истории», и те, что являются «пророчествами в узком смысле», узнаваемыми по тому признаку, что они непосредственно связаны с ситуацией автора внутри истории (борьба с насаждаемым римскими властями культом императора Домициана) и расширяют её до масштабов мировой истории?1 Внутри Книги Откровения, предвосхищающей общие историко-теологические «категории» (в образах семи печатей, четырёх всадников, труб, чаш гнева и т.д.), можно было бы усмотреть эволюцию в сторону конкретных пророчеств, которая достигает завершения в стихах 17.1 — 20.15; однако, если считать, что жена, сидящая на звере (здесь зверь - образ мирской власти) и на «семи горах» (17. 9), действительно («бесспорно»2) олицетворяет Рим того времени и её «падение» крушение языческой власти; если предположить, что мы теперь живём в последующую эпоху «десяти царей», за которой последует третье (тысячелетнее) царство, когда христианские структуры и институции должны, после долгой борьбы, утвердиться в мире3, - то какое это снижение чудовищного образа вавилонской блудницы, расположившейся во всей мировой истории, какое ослабление отдающегося в вечности плача о её падении, который сочетает в себе и превосходит все плачи и стоны Ветхого Завета: о падении царя Тирского, о крушении фараона и др. «Сегодня пророчество о Римской империи, — пишет Фере, — оставляет нас достаточно равнодушными, так как само это событие отстоит от нас весьма далеко. Но мы легко можем представить себе то воздействие, которое... оно оказывало на охваченные тревогой и смутой христианские общины»4. Но всё это совершенно не так! Три исторических победы Христа -над «блудницей»-Римом, над десятью царями (?) и над сатаной, скованным
1 38 и сл.
2 218.
3 230—234.
4 223—224.
170
на тысячу лет, — для нас это не основание, чтобы впадать в «оптимизм» «неограниченного прогресса»1 - даже по поводу проникновения христианской закваски в исторически обусловленные общественные структуры человечества. Ликвидация рабства, на котором зиждилось римское государство, отмена «правильно понятым либерализмом» нового времени крепостного права, которое по-прежнему «компрометировало свободные и гордые средневековые союзы», — всё это представляется автору внушающим оптимизм, хотя он понимает, что решение каждой отдельной личности этим не предопределяется. Позднее, когда речь пойдёт о прогрессе в сфере мирского, мы ещё вернёмся к этому положению, с тем чтобы вычленить его подлинное содержание, причём образы Апокалипсиса ни в коем случае не должны ни обосновывать, ни обременять наши рассуждения.
Все эти образы говорят ровно столько, сколько хотят сказать: они открывают измерение, соединяющее небо, где Вседержитель истории вместе с закланным Агнцем восседает на престоле и претворяет кошмар временно́й драмы в чистую хвалу, — с событиями земной истории, в отношении которой, направляя её и охраняя, налагая и снимая печати, ангелы осуществляют своё посредничество. Это отношение ни в коем случае нельзя ограничительно толковать как чисто философское и сводить его к взаимосвязи между изменяющимся временем и неподвижно пребывающей вечностью. В действительности вечность, а именно триединый Бог вкупе со всей небесной Церковью - своим вечным живым действием сопровождает временно́й ход истории и тем самым, по существу, даже управляет ею. Событийные и поворотные моменты на пути этой правящей сопроводительной поступи разворачиваются в образные ряды, мы же при этом не можем сказать, идёт ли речь скорее о продольных или поперечных сечениях исторического времени, что, с точки зрения вечности, возможно, не имеет большого значения. Фере хорошо улавливал этот процесс внутреннего взаимодействия между небес-
1 234.
171
ным и земным; он также верно замечает, что святой, который повсюду следует за Агнцем на небесах, не становится от этого в меньшей степени жителем земли, а насельник неба, сделавшийся таковым после своей земной смерти, точно так же может влиять на дольние дела. Он даже делает попытку истолковать в этом духе «первое воскресенье», т.е. воскресенье для тысячелетнего царства: «Святые и мученики, в неразрывной связи с Христом, направляют линии прогресса евангельской истины на земле, и окончательная победа этой истины в совокупной жизни человечества есть одновременно начало её невидимого царствия на земле, между всеми народами... Святой Иоанн, впрочем, настоятельно подчёркивает, что святые и мученики “оживут” со Христом и продолжат существование в истории, остальные же умершие... вернутся к жизни лишь на Страшном суде и уже не смогут совершить в истории злых дел, тогда как святые сохранят способность к добрым делам. При этих условиях нет ничего удивительного в том, что добро должно когда-нибудь окончательно победить»1. Как ни убедительно выглядит основная мысль Фере, всё же его количественное толкование малооправдано. Кроме того, после этого сатана в последний раз будет выпущен на волю, чтобы вторично и уже окончательно быть вверженным в геенну огненную. Все высказывания Апокалипсиса относятся к вертикальной связи между небом и землёй и не терпят «горизонтального» перетолкования. Они выражают смысл временно́й, горизонтальной истории в «вертикальных» терминах, поэтому можно утверждать, что даже восхождение к концу, о котором в Иоанновом Откровении говорится в одном ключе с другими новозаветными высказываниями (Мф 24 и прл., 2 Фес, 2 Петр, 1 Ин, Иуд), является выражением безотлагательного и угрожающего характера, свойственного вторжению конца внутрь времени и приближению времени к своему концу, хотя невозможно оспорить факт горизонтальной интенсификации противоречия между Христом и «властями» (чья ярость становится тем сильнее, чем короче отмеренный им срок,
1 230-231.
172
Откр 12. 12), лежащего в самой природе исполненной смысла временно́й протяжённости и её «драматизма».
6. Церковное время и обращение Израиля
Интенсификация чего-то уже актуально присутствующего подразумевается и в высказываниях Павла и Иоанна об антихристе (2 Фес 2. 7; 1 Ин 4. 3). Единственное событие грядущего, которое выходит за рамки этой категории, — это относимое к концу времён обращение Израиля, которое предсказывает Павел (Рим 11. 26) и на которое указывают уже таинственные слова Иисуса (Мф 23. 39). Но как слова Иисуса не определяют точного времени этого обращения (должно ли оно произойти внутри истории и повлиять на последующий ход её развития, или оно знаменует собой конец истории и пролог Страшного суда?1)» так и высказывание Павла поначалу оставляет нас в неведении. Он обозначает это событие как «тайну» (Рим 11. 25) наряду с тайной антихриста (2 Фес 2. 7) и тайной воскресения (2 Кор 15. 51), одна из которых имманентна, другая трансцендентна по отношению к истории. «Внутриисторическое» толкование обращения Израиля может казаться предпочтительным по той причине, что спасение «всего Израиля» является осуществлением ветхозаветного обетования, о чём свидетельствует контекст Рим 9-11. Но является ли само это обетование исторически-имманентным? Ветхозаветное представление о нём и более позднее иудаистическое его толкование ещё не дают достаточно аргументов в пользу этого. Цитата из Исайи в Послании к Римлянам (И. 26-27) об Избавителе из Сиона, который отвратит нечестие от Иакова, как будто подразумевает (если принять во внимание Деян 3. 19-20) трансцендентное возвращение Христа. И всё же контекст, без всякого сомнения, имеет в виду внутривременную церковную историю. Именно для неё значима диалектика по-
1 Сопоставление со стихом Мф 26. 64 («отныне узрите Сына Человеческого... грядущего на облаках небесных») и его репликой Откр 1.7 с самого начала делают трансцендентную версию толкования более правдоподобной.
173
переменного избрания и отвержения Израиля, тогда как непосредственная ссылка на Последний суд Христа, на небо и на ад в явном виде отсутствует и её приходится отклонить. Отношение Израиль- Церковь в паулинистском контексте не имеет ничего общего с разделением на овец и козлищ в притче о суде. Ошибкой Августина, имевшей большие последствия, было то, что он распространил контекст Послания к Римлянам (который в части упоминания Иакова и «отвержения» Исава также является историко-теологическим, Рим 9. 10-13) на вопрос предопределённости отдельной личности к вечному спасению или гибели. То, что было высказано Павлом, есть основополагающий, быть может, даже единственный закон всей христианской теологии истории: внутри- историческое падение Израиля служит возвышению и вовлечению (языческих) народов, коих «полное число» должно «войти», чтобы подготовить почву для нового восстания Израиля. Как можно понимать это иначе, чем внутриисторически?
И всё же теологическая мысль заходит в тупик перед грандиозностью этой тайны. Разве «да и нет» Бога, Его умилостивление и ожесточение (Рим 9. 18) не составляют основной ритм истории спасения от самого её начала? И разве это «да и нет» не обрело свою окончательность в диалектике Креста, где Избранный отвержен, а отверженные избраны? Разве представление этой крестной тайны в мировой истории «обоими народами» — по правую и по левую руку, в свете и в тени — не является абсолютно окончательным? И не следует ли снятие этой тайны, и тем самым — всеобщее признание Христа иудеями и язычниками, приурочить к моменту Его возвращения в славе как Господина (kyrios)всей истории?
Гастон Фессар1, присоединившись к П. Юби (P. Huby), вопреки Маритену, Журне (Journet) и Фере, всеми силами отстаивает эсхатологическое толкование как единственно приемлемое с историко-теологической точки зрения - и к тому же
1 Gaston Fessard: Theologie et Histoire. In: De l’Actualité historique (1959) Bd. 1, 95- 119,215-241, 243-291; Bd. 2, 27-71.
174
единственное традиционное. Новый Завет утверждает себя в разрывающем и распинающем превосхождении Израиля по плоти, и если верно, что Человек на Кресте, «разрушивший стоявшую посреди преграду», упразднил «вражду [между иудеями и язычниками] Плотию Своею... дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека» (Еф 2. 14-15), «то достаточно сопоставить этот текст с Рим 11, чтобы убедиться: противостояние язычников и иудеев может прекратиться лишь тогда, когда новый человек достигнет полноты своего образа (Еф 4. 13) и вполне и окончательно объединит оба народа в своём всеобщем мистическом теле». Если предположить, что Израиль обратится внутри истории, то откуда бы после этого могли взяться неверие и ожесточение? Евангельская, а равно и паулинистская перспектива были бы тогда во всяком случае перекрыты эволюцией человечества, основные библейские высказывания — исторически релятивизированы. Действительно, высказывание Павла было бы тогда менее значимо, чем ветхозаветные пророчества, которые сохраняют эсхатологическую значимость поверх этого исторического события. Но нет, новозаветные историко-теологические максимы носят историко-онтологический характер: вместе с диалектикой, связывающей иудеев и язычников, возводится и падает вся структура Нового Завета, что помимо Фессара было радикальнейшим образом осознано Карлом Бартом1.
Это хорошо видно также по онтологической ситуации (языческой) церкви, которая, будучи привита к стволу Израиля, должна «бояться», ибо стойт и коренится не в себе, но, «вопреки природе» (παρα φύσιν), — в чужом: «не ты корень держишь, но корень держит тебя» (Рим 11. 17-24). Разве факт отсечённости Израиля (воспринимаемый апостолом как «великая... печаль»), лишение его всех прерогатив (Рим 9. 2-5) сам по себе не воздействует глубочайшим образом на Христову Церковь? Может ли эта Церковь, пока ос-
1 Kirchliche Dogmatik II, 2, 294-336 и далее до 563.
175
таётся неисполненным изначальное социальное обетование, быть в собственном смысле плеромой? Действительно ли исполнено таинство усыновления «близких» и «дальних» во плоти Распятого (Еф 2.11 и сл.) и близкие, ради некогда дальних, сами сделались дальними? И не открывается ли здесь историко-теологическое место, где — для Церкви и вместе с Церковью — может исторически совершиться нечто, прежде небывалое? Правда, на это можно возразить, что Израиль в принципе обрёл спасение в «святом остатке», в числе немногих покинувших Израиль и последовавших за Мессией, чтобы составить основание Церкви и впоследствии судить двенадцать колен Израилевых (Мф 19. 28), и что поэтому Христова Церковь уже теперь является Церковью иудеев и язычников и эсхатологическое событие, благодаря притоку иудеев, сделает это лишь ещё более явным. Но это — лишь одна часть истины, оставляющая в тени другую её часть: столь настойчиво подчёркиваемое Павлом «отвержение» и «ожесточение» Израиля, его постоянное «оставление» Мессией, а также апостолами на протяжении всех «Деяний». Чтобы снять это последнее положение, необходим особый акт внутри истории спасения, который не может быть достигнут количественным образом (например, увеличением числа обращённых из иудаизма) и затем предан забвению. Нет также никаких признаков того, что отдельные обращения могли бы дать или, тем более, уже дали Церкви (остающейся по преимуществу языческой) сколько-нибудь значительное пополнение из числа людей, удерживаемых Израилем. Скорее, следует опасаться, что своего рода форсированная иудаизация, входящая сегодня в моду в библейской теологии, кое-где остаётся мимикрией и не может возместить изначального вклада в Церковь, сделанного Израилем. Бросающаяся в глаза языческо-христианская складка, которую с самого начала образовали теология и провозвестие, похоже, уже никогда не будет разглажена. Ведь недостаточно просто «представить себе», что иудеи познают и воспримут те или иные вещи, необходима способность внутреннего исполнения этих вещей. Всё сказанное остаётся в силе, несмотря на то что ветви дикой маслины привиты к святому стволу и изначальная клетка
176
Церкви была иудейской, а Святое Писание целиком является иудейским и воспринимается как таковое. Итак, хотя вселенская Церковь Христа принципиальным образом содержит в себе оба начала, она всё же, столь же принципиально, не может просто стать их последним синтезом, пока не спасён «весь Израиль».
«Ожесточение» Израиля есть неизменное и наглядное доказательство того, что земная Церковь, в её бытийном порядке, постоянно пребывает в странствовании, и пока она сама не претворит себя в вечность и не освободится от своей реальной приуроченности ко времени, до тех пор будет давать себя знать и прочитываться в ней скорее её греко-языческое наследие, чем её христианская душа. С другой стороны, гораздо более деятельный, искушённый, практичный Израиль всем своим посюсторонним, заключённым во времени упованием превосходит и одолевает Церковь, едва ли не навязывая ей унизительную роль лишь претерпевающей и ожидающей. С делом позитивного мироустроительства, которое записано в её программе действий, намного лучше справляются другие, сама же она лишь неохотно присоединяется к программе и воле истинного Господина Церкви, который побуждает к росту скрытый урожай мира более через страдания, гибель, крестное бремя, чем через наивно-благомысленные и наивно сторонящиеся Креста предприятия христиан. Для Церкви быть на Кресте означает не торжественно праздновать его как прошедшее событие или хранить его в себе как подвластный принцип, но — постоянно оставаться в исторически неустранимом противоречии.
Если эту пропасть между Израилем и Церковью нельзя преодолеть с помощью последовательных приближений (что в принципе возможно, скажем, применительно к отношениям между протестантизмом и католичеством), то приходится заключить, что спасительное исцеление от разреза, постулированного самим Евангелием Христа, может быть совершено лишь в трансцендентно-эсхатологическом плане. Этот разрез есть исцеляюще-спасительное событие такого свойства, что он не может расколоть временную церковную историю надвое. Но тогда фундаментальное
177
определение церковного времени состоит в том, что оно есть время «ожесточения» Израиля, время провозвестия о спасении, не приходящем именно там, где оно должно было бы прийти, и всякий его приход к «народам» остаётся, вопреки недвусмысленному Божию обетованию, чем-то предварительным. По Иез 16, Содом и Самария оправданы и отличены перед Иерусалимом, однако они отнюдь не заменяют изначально подразумеваемую неверную в глазах Божьего суда. Подлинная драма церковного времени разворачивается не между «Церковью» и «миром» (ибо мир народов предоставлен Церкви как поле для её миссии и она может постоянно приумножать в нём свои успехи), но между Израилем и Церковью: где Иисус и Его Крест по видимости потерпели поражение, где пророк оказался непризнанным в своём отечестве, — там Его наместнику не хватит сил, чтобы соделать несделанное. «...Слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был, как учитель его» (Мф 10. 24-25). Подобно тому как Крест содержит в себе нечто предварительное - покуда не будут исполнены «непреложные обетования Бога» в отношении изначально Им избранного, так и всё церковное время носит характер предварительности. Знаменательно при этом, что «экуменическое движение» либо почти полностью игнорирует Израиль, либо (что является не меньшим промахом) рассматривает его как одну из сект, подлежащих обращению. Некая принципиальная неподатливость Израиля к обращению, которую Христовы апостолы замечали лишь с неохотой и, оставаясь в которой, Израиль представляет упорствующее перед лицом Бога человечество1, накладывает на всю миссионерскую и экуменическую деятельность в отношении него - внутри истории — отпечаток тщетно-тщеславного креста.
Итак, что касается теологического проникновения в смысл церковной истории как протекания времени, то несмотря на веровое знание о существовании самого этого смысла для нас в этой жизни остаётся невозможным его до конца промерить.
1 Н. Schlier: Das Mysterium Israels. In: Die Zeit der Kirche (1956) 244.
178
В. ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ ВОПРОС
О СМЫСЛЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
Этот новый вопрос допустимо ставить лишь в том случае, если между Логосом и историей спасения будет проведено какое-либо различие, а также установлено взаимное отношение. Подобное различение ради последующего соотнесения может обладать разной степенью отчётливости и интенсивности. Если исходить из предположения о единстве как исторического человека, так и его истории, то к полному разделению нельзя прийти ни теологическим, ни историко-философским путём, ибо история вообще может быть теологически или философски помыслена, лишь исходя из такого единства.
1. Способ вопрошания в Библии
Имеет ли Библия картину мировой истории, которая отличалась бы от истории спасения? Отыскивать в ней такую картину, исходя из современного представления о всемирной истории, было бы анахронизмом. Единственное, чего здесь можно было бы ожидать в культурно-историческом и теологическом аспектах, — это различение между историей спасения как предметом исторического рассмотрения, которая как таковая имеет частный характер, и её всемирно-историческим притязанием.
а) В свете протологии
Первая область, где указанное отношение по необходимости делается отчётливым, - это протология, позднее и тщательно отрефлектированное историко-теологическое построение, выработанное в среде иудейского священства и основанное на восхождении от момента истории, предшествующего призванию Авраама, — к Адаму, с тем чтобы рассмотреть историю в свете приближающегося избрания Израиля. Этот последний по своему состоянию выделяется на фоне остальных народов мира, во-
179
первых, как особое на фоне всеобщего, во-вторых, — как сущее на фоне не-сущего.
Начиная от Адама и Евы, Каина и Авеля, общий момент — это изгнанность из рая и всё углубляющееся и ширящееся забвение Бога. Тем не менее внутри целого продолжает неразличимо жить обетование и предвидение спасения (как первоевангелие), которое обретает контур всякий раз, когда из массы грешников выделяются отдельные световые образы (Енох и другие «святые допотопного времени»1), и даже, как в случае завета с Ноем, едва ли не приводит к конкуренции с Авраамовым заветом. Ибо в лице Ноя (не бывшего ни иудеем, ни язычником, так как этого противопоставления тогда ещё не существовало) был заключён завет со всем человечеством и всей тварью — завет, который относится к Авраамову завету как всеобщее — к частному, и само это частное, вследствие существования Ноева завета, необходимо должно иметь динамический просвет на всеобщее. Все народы были впервые открыто благословлены не в лице Авраама, а в лице Ноя, скрытым же образом они были благословлены уже с Адама, которому было дано обетование спасения. В этом заключён момент, который был впервые введён в библейскую теологию истории иудейским священством в позднюю эпоху (обозначаемую, по Ясперсу, осевым временем мировой истории: 800-200 гг.) и который отчасти релятивизирует и приглушает последующий момент истории спасения — благословение всех народов в Аврааме и обетование, данное ему. Уравнивание этих мотивов не достигнуто и в Новом Завете, ибо если, с одной стороны, Авраамова традиция, несомненно, превалирует у синоптиков и Иоанна (8. 35-58), а также абсолютно — у Павла, то, с другой стороны, произошедшее с Ноем как прототип спасительного избрания упоминается самим Христом (Мф 24. 37-38). Вера Ноя, как вера Авеля и Еноха (Евр 11.7), ставится в один ряд с верой Авраама, и в обоих посланиях Петра (1 Петр 3.20-21; 2 Петр 2. 5) Ной рассматривается в соотнесении со всем космосом как ключевая фигура типологической соте-
1 Daniélou: Les saints païens de l’Ancien Testament (1955).
180
риологии. Таким образом, по Библии, фоном спасения всех народов, пришедшего через Авраама, является спасение целого космоса, удостоверенное через Ноя. Символ его завета - радуга, и в сферу действия этого завета включены даже животные.
В свете сказанного выглядит вполне логичным, когда то, что в Ветхом и Новом Завете с точки зрения Авраама видится как языческое и лежащее вне спасения, — в перспективе Ноя и всей библейской допотопной истории представляется как скрытое, но в отдельных моментах уже проявляющееся спасение. Поэтому так непросто одержать окончательную победу над «мудростью египтян» и соседствующих народов, как бы преданно и ревностно Израиль ни держался своего Бога-спасителя и своего завета спасения. Поэтому редакторам книги Бытия не нужно было чересчур педантично вымарывать из текста все следы взаимного обмена между политеизмом и религией своих праотцев, напротив, они могли с известной свободой воспользоваться общим мифологическим фондом предания, чтобы придать его стилистические черты совокупной истории народов.
И всё же, если отвлечься от сказанного, то, согласно ветхо- и новозаветному представлениям, пространство за пределами Израиля и Церкви помечено категориальным «не»; интерес к историческому логосу, присущему «народам» как таковым, нигде не проявляется1. В перспективе эсхатологического спасения это
1 Распределение народов под власть разных «ангелов народов» протологически не выступает как ведущий мотив, в литературно-исторической перспективе оно сливается с мотивом смешения языков при строительстве Вавилонской башни: разделение человечества на нации здесь пессимистически связывается с грехопадением, понятым как отпадение от первоначального единства. Хотя за каждым народом признаётся собственная судьба, поскольку каждому даётся свой ангел-архонт и свой особый язык, однако их судьбы конкретно не описываются. Подобно тому как Христос (у Павла) разрушает власть архонтов, чтобы стать единственным Господином истории, так и Дух Пятидесятницы принципиально преодолевает множественность языков, так что сквозь сохраняющиеся различия (ибо каждый слышит свой собственный язык) проступает эсхатологический язык-основа, духовный язык. См. обэтомтакже: Е. Peterson: Der Monotheismus als politisches Problem (Theolog. Traktate 1951, 49—147). J. Daniélou: La division des Langues (in: Essai sur le Mystère de l’Histoire 1953, 49—60). Онже: Origène (1948) 222—35: Les Anges des Nationes. M. Buber: An der Wende (1952) 14 и далее.
181
«не» есть нечто временное, и в продолжение Ветхого Завета оно всё отчётливее проявляет себя как таковое. Конец этого «не» просматривается уже ко времени вавилонского пленения, однако никаких приближений или либеральных привнесений чужих логосов со стороны в отчётливую линию логоса Израиля не наблюдается. Лишь притязание Ягве на власть над остальными народами воспринимается всё глубже в духовном отношении: от завоевания как суда через стадию утверждения Божественного правосудия (в псалмах и у пророков) — до очевидного доказательства этого постоянно вершащегося Божьего суда в тех случаях, когда Израиль сохраняет свою верность, и даже до позитивного вовлечения остальных народов и их царей (Кир) в дело промыслительного спасения Израиля. Также и в Новом Завете нельзя даже помыслить понятия «народы» иначе, как в историко-теологическом смысле приближения ранее удалённого, получения части в обетовании и его исполнении в полноте Христа. Усмотреть какой-либо иной логос творения истории в перспективе откровения спасения невозможно, и точно так же вне этой перспективы лежит всякий логос творения природы и человека как природного существа. Хотя Второисайя описывает эсхатологическое поклонение народов мессианскому Иерусалиму и приход их царей с дарами, золотом и ладаном, однако более детального пояснения за этим не следует, и, по существу, они обретают своё значение в рамках истории спасения лишь вследствие своего благоговейного приближения к Иерусалиму, подобно тому как в Откровении венцы на головах двадцати четырёх старцев получают смысл и значение именно благодаря своей поверженности к престолу Бога.
б) В свете эсхатологии
Тем самым мы от библейской протологии уже переходим к библейской эсхатологии в том её виде, как она развивалась по преимуществу в пророческую и апокалиптическую эпохи. Делались попытки вывести всю христианскую теологию истории из
182
апокалиптики Даниила и его царств1, и несомненно, что последняя в значительной степени повлияла на христианскую периодизацию истории: событие современности (гонения при Антиохе Епифане, Дан 11) облачается здесь в профетическую форму, и тем самым современники и потомки подталкиваются к восприятию также и подлинных пророчеств (как, напр., Дан 7—10 и 12 или, позднее, Апокалипсис Иоанна) во всемирно-историческом масштабе. Сюда же примыкает сон Навуходоносора о «большом истукане» (Дан 2), пересказанный и истолкованный Даниилом, и другой сон, о «большом дереве» (Дан 4), рассказанный самим царём, но истолкованный снова Даниилом; оба эти сна, как и предзнаменования на пиру Валтасара (Дан 5), указывают на близкие события, которые действительно сбываются. Таким образом, история царств остальных «народов» подчиняется тому же смыслоуправляющему закону, что и иудейское царство, и отличительной особенностью иудейского профетизма, в сравнении с бессильным пророчествованием язычников (вавилонские мудрецы не могут дать надлежащего толкования, равно как и мудрецы фараона пасуют перед пророческим духом Моисея), является способность толкования, свойственная Даниилу:
Да будет благословенно имя Господа
от века и до века!
ибо у Него мудрость и сила;
Он изменяет времена и лета;
низлагает царей и поставляет царей...
Он открывает глубокое и сокровенное...
и свет обитает с Ним.
(Дан 2. 20-22)
К этому добавляется теология посредников, некоторые из которых, как ангелы народов, управляют их судьбой (так, ангел Израиля Михаил, Дан 10. 13, 21; 12. 1, стоит теперь в одном ряду с ангелами других народов), причём одни дово-
1См., напр., Hans Eibl: Metaphysik und Geschichte (1913).
183
дят до победы решающие битвы истории в высшей, небесной сфере, другие — как Гавриил (Дан 9. 21—27) или неназванный ангел в Видении последних времён (Дан 12. 5-12) — толкуют пророческие видения.
Здесь, несомненно, мировая история в целом превращается в теологическое событие; всё время оказывается как бы «взбудораженным» в виду последних времён, всё пространство, заключённое между небом и землёй, — вовлечённым в решения, устремлённые к концу времён. «Сын Человеческий» видится как событие, которое и принадлежит истории, и знаменует её конец. И приход Христа не разрешает это двойное отношение, но лишь многообразно его подтверждает (ср. параллель Иоанн Креститель — Илия). Апокалипсис тем более оставляет открытыми оба временных пространства: вертикальное и горизонтальное, наполняя их существами и событиями, которые рождают и поддерживают сознание релевантности мировой истории для истории спасения. И точно так же в конце Ветхого Завета всемирно-исторический универсализм, который вписывает историю Израиля, с её неупраздняемой особостью, в совокупное событие спасения, соответствует протологическому универсализму в том виде, как его аналогичным образом засвидетельствовала поздняя теология иудейского священства. Таким образом, когда говорят, что Израиль является адресатом обетования спасения и грядущего исполнения этого спасения и отводят другим народам роль причастников мессианской эпохи, — этим сказано ещё не всё. Сверх этого над всей историей должно явить себя Божественное управление, которое, согласно Библии, ни в коем случае нельзя определить как «естественное провидение» (если только эти слова вообще что-то означают), но которое, скорее, судит и управляет ввиду конечного спасения, имеющего своё средоточие в Израиле, но затрагивающее также весь мир.
184
2. Разворачивание вопроса входе истории теологии
а) Первый подступ
По указанным причинам христианским апологетам второго и последующих веков нельзя ставить в вину, что они, в качестве непосредственного продолжения библейского откровения, начали выстраивать теорию logos spermatikos как первую христианскую философию (или теологию). Как бы много ни вошло в неё стоических элементов, в основе своей она всё же стремится оставаться библейской и, действительно, таковой является. Она остаётся библейской в специфическом колебании и мерцании двух взаимопротиворечащих мотивов. Первый — это логос вне- библейских народов, который таит в себе зачатки целого и позволяет им вызревать навстречу евангельскому вочеловечившемуся Логосу, второй - логос тех же народов, который может быть уяснён лишь с учётом заимствований, присвоений и плагиата, совершённых языческими мудрецами в отношении хронологически более ранних евреев. Оба эти мотива соседствуют не только у более наивных, но и у лучших апологетов, таких, как Климент, Ориген, Августин. Эта кажущаяся неопределённость при более глубоком рассмотрении оказывается теологической добросовестностью, которая не хочет принимать никакого определённого решения о том, как Бог управляет своим откровением вне библейского пространства. Теория заимствования держится ближе к послушанию веры, которое не склонно к либеральной релятивизации Библии. Теория присущего народам собственного логоса признаёт за Богом свободу наделить их таковым в целях всеобщего спасения. И более того: именно такая теория может явиться выражением истинного послушания в вере и именно тогда, когда Божественный Логос, который во Христе сделался плотью и на котором зиждется Вселенная, бывает принят со всей серьёзностью. Если «от Него» — всё (Кол 1. 16), то, разумеется, и история народов — «от Него», и затемнение Логоса в их среде не является в таком случае недостатком Божест-
185
венного света, но его следует отнести за счёт их собственного «неизвинительного» помрачения духа (Рим 1. 18 и далее). Но тогда и духовная spoliatio Aegyptiorum («кража у египтян»), столь защищаемая Оригеном, может стать принятием и христианизацией языческой мирской мудрости - не профанацией мудрости Божественной, но возвращением в родные пределы того, что изначально принадлежало истинному Логосу и, лишь исходя из Него, становится вполне понятным: философия, мифология и поэзия язычников по справедливости принадлежат Христу, а после необходимого всеобщего кризиса (1 Фес 5. 21) - также всему народу Христову.
б) Церковь и мировые религии
Однако этой, ещё отчасти ветхозаветно акцентированной, тенденции возвращения изначально соответствует в христианстве миссионерская тенденция к расширению, и в этом уже содержится плодоносное зерно для будущей теологии мировой истории. Евангельская весть, которую приносит Христов апостол, предстаёт в таком случае как целостность и полнота того, чем народы, хотя в раздробленном и затемнённом виде, уже владеют. Тот факт, что эта полнота света должна явиться как историческое событие, т.е. как смерть и воскресение Христа, составляет трудность и соблазн проповеди. Но тем упорнее провозвестник должен стремиться представить эту фактичность спасительного события не как нечто чуждое и гетерономное, но как изнутри исполняющее согласно высшей необходимости. Именно так, «держась [наличного]», но и не роняя себя как Христова апостола, проповедовал Павел в ареопаге: «неведомый бог», почитаемый афинянами, не был в их сознании тем, что делает из него Павел, — истинного и живого Бога. Такое истолкование их сознания извлекает это сознание из его собственной раздробленности и закрытости — на свет, который впервые показывает им самим, чего им прежде не хватало.
Правда, применение такой «теологии опоры на [наличное]» требует дара различения, которого часто не хватает даже луч-
186
шим, особенно когда миссионерский пыл заставляет их преуменьшать существующие дистанции. Слияние разных мотивов в высоком и позднем средневековье неожиданно позволяет осветить этот вопрос более ярко. 1) Благодаря свету теологии, в который Августин привнёс и которому целиком подчинил свет философский, начал с новой силой пробиваться свет первоначальной философии: учение Августина о Божественной иллюминации позволяло ретроспективно интерпретировать себя в духе Плотина и Платона и, соответственно, толковать конкретное единство Логоса в тринитарном вочеловечившемся Сыне как единство стоико-платонического и даже парменидовского бога. Можно было говорить о втором, при этом держа первое перед мысленным взором. 2) К этому прибавляется свойственное вообще средневековью стремление от буквы к духу, от институции и таинства — к заложенной в них разумной сущности (intellectus)(что мы находим уже у Иоахима и Бонавентуры), а также растущее осознание того, что «народы» лишь тогда смогут перенять «форму» Церкви и её миссии, когда найдут в ней intellectus, который придал бы этой форме, помимо голой фактичности, внутреннюю необходимость в плане истории спасения. 3) В этом же направлении торила себе дорогу совесть христианских миссионеров, которые, несмотря на все военные завоевания, на крещение Саксонии, на крестовые походы, осознавая абсолютно чужеродный, нехристианский характер подобного провозвестия, всё же считали необходимой духовную встречу с другими религиями. Ибо и в тех случаях, когда миссионеры отправлялись проповедовать Христа безоружными - отправка проповедников в Англию Григорием Великим, миссия ирландских монахов, восточная миссия Оттона Бамбергского, им в основном приходилось обращаться к неразвитым народам. Здесь уже необходимо было облечься духовным оружием, как облёкся Фома Аквинский против ислама и философствующих иудеев, и даже требовалось ещё глубже проникнуть в неприятельский лагерь, что пытался сделать Франциск и что в действительности осуществил Раймунд Луллий. Роджер Бэкон требовал построения такой
187
христианской теологии, которая осознаёт себя и развивается в предстоянии — лицом к лицу - другим историческим религиям: нужно познать иудаизм, язычество, ислам, буддизм и брахманизм, уловить центральную мысль всех мировых религий, и только тогда станет возможным представить себе общий образ той религиозной полноты, которая есть христианство и которая тоже должна обрести зримые черты1. Николай Кузанский набросал своё «De Расе Fidei», это весьма рискованное произведение, движимый ещё большей духовной нуждой, и остаётся только удивляться, что оно ни разу не было включено в индекс запрещённых книг. «Пока мы продвигаемся согласно Христову научению, — объясняет он Иоанну Сеговийскому, — мы не плутаем, но в нас говорит Его Дух, Коему не могут противостоять все враги Христа; но едва решимся на вторжение с мечом, то следует опасаться, что, вынув меч, от меча и погибнем»2. Небесный Собор всех религий под председательством Логоса, явленный ему, когда он был «восхищен на некую умопостигаемую высоту», и имеющий своей целью достижение единой истины, предпринимает две попытки: показать, что догматы о Боге и о вочеловечении составляют глубинное содержание самой высокой философии (причём речь не должна идти о дедукции в собственном смысле, как её понимает Николай Кузанский), и затем — под внешней оболочкой позитивных церковных институций (как, например, таинства) увидеть их духовный смысл.
Мы не будем здесь прослеживать все те многочисленные пути, которые ведут от этого идеального Собора через ренессансный платонизм, через Виториа и Лас Казаса к Лейбницу и Бёме, к Шеллингу и Гегелю; сама проторённость этих путей теперь вполне очевидна. И причина этого обнаруживается уже у Кузанца: Христос последней книги «Docta Ignorantia» при всей своей
1Е. Heck: Roger Bacon. Ein mittelalterlicher Versuch einer historischen und systematischen Religionswissenschaft. Abh. z. Philos., Psychol. und Päd. 13, Bonn (Bouvier) 1957.
2 Opp. VII (1959) 97.
188
личностной конкретности и даже историчности представляет собой просто мировой разум. Поэтому Оппонент, который по-настоящему продумал и понял Прокла, имплицитно продумал и понял также Христа, и можно доказать ему, что Бог, который изводит из себя неравенство, необходимо должен быть единством единства, равенства (aequalitas)и тождества (между единством и равенством), что и является схемой троичности. Поэтому требуется лишь просветить язычника относительно того, что он знает, не зная о своём знании; но, чтобы обрести способность к такому просвещению, христианин сам должен просветиться, т.е. в нём должен высветиться пневматик и созерцатель.
И всё же, держась этих теорий о logos spermatikos — даже если они, как у Роджера Бэкона, уже энергично взыскуют исторической эмпирии, — мы продолжаем находиться во внутреннем пространстве теологии. И лишь там, где эта взыскуемая эмпирия принимается всерьёз и логос, присущий разным народам, становится предметом научного исследования, возникает тот диалог между теологией истории и философией истории, на который нацелено настоящее исследование. Вольтер и, ещё до него, Вико заложили, как представляется, основы такого подхода. История, но уже не как история спасения, а как измерение человека самого по себе, история как продукт человека (разумеется, под управлением Божественного провидения) теперь противопоставляется такой истории, смысл которой изначально закладывается во временно́й хаос Богом.
3. Отношение между теологией
и философией истории в наше время
а) Тематика встречи
У современной философии истории имеются три основные предпосылки.
1) Описание народов и их культур, в особенности тех, что уже принадлежат «истории», а потому заключены в известные гра-
189
ницы и могут быть охвачены единым взглядом. Нашему осмыслению поддаётся не только политическая, но и внутренняя, духовная история этих народов, отражённая их самосознанием в произведениях культуры и философии. В подобные описания невольно закрадывалась — округлять развитые культуры до некоторого единства, воспринимая их как бы циклически, т.е. органико-морфологически, тогда как их последование (подобное нанизыванию жемчужин на нить) и возникающий отсюда вопрос «общего развития» отодвигались на второй план.
2) Вместе с тем, западному сознанию прирождена мысль о развитии как свойстве истории спасения, и тем более естественным показалось использовать эту мысль в качестве «нити» культурного последования, когда христианская теология истории уже стала воспринимать заложенный в откровении спасения момент развития как момент всемирно-исторический и когда, отталкиваясь от средневековой теологии, был предпринят ряд шагов, чтобы расширить эту схему развития в эсхатологическом и интеркультурном контексте.
3) Сверх этого, однако, существовал и ещё один, третий мотив, который поначалу не мог выступать как самостоятельный и различимый, но в значительной степени определял первые два момента и в XX в. стал вполне ощутимым. Этот мотив, варьируемый сегодня в различных философиях истории с множеством их терминологических систем и характеризуемый как шаг человечества «от мифа к Логосу» (Э. Кассирер, У. Нестль, Б. Снелл), понятому как «открытие духа» и тем самым как открытие сверхдифференцированной универсальности, можно кратко обозначить, по Ясперсу, как «осевое время».
Первую из этих трёх данностей можно рассматривать как требование эмпирического историоведения, вторую — как некую гипотезу, вышедшую непосредственно из теологии, третью — как факт, допускающий различные оценки. Многообразные сочетания этих элементов задают основные актуальные формы современной философии истории.
190
Можно поставить акцент на изображении культур в модусе их конечности; можно сделать это на биологическом, эстетском или скептико-пессимистическом фоне. Вольтера трудно было поколебать в его оптимизме. Вико усматривал в истории диалектику, более сильную, чем людские намерения, и всякий раз, наперекор их горделивому самомнению, возвращающую их своим «ricorso» к варварскому началу, за которым может вновь последовать начало плодотворное. Гердер, религиозно настроенный и верящий в развитие, тем не менее видел в истории прежде всего отдельную культуру, движущуюся по кругу. Ранке, Данилевский, Буркхард — каждый по своим причинам — сознательно придерживались образа отдельной культуры. Шпенглер, в трагическом духе, замкнул все эти круговые пути на самих себя.
Можно, с другой стороны, особенно в рамках теологии Просвещения, просто рассматривать мессианское воспитание Израиля как часть общего воспитательного процесса всего человеческого рода - подобно Лессингу и Мендельсону, которые включали библейскую историю спасения в более широкую, всеобъемлющую историологическую схему, - и при этом либо делать акцент на христианском элементе, как Гегель, для которого вочеловечение Бога во Христе оставалось кульминацией истории, либо религиозно-философски нивелировать христианский элемент, как это делалось во всех христианско-либеральных, полутеологических и полуфилософских историологических построениях. Комбинирование первого и второго моментов характерно для Тойнби, описывавшего циклические культуры, которые, однако, вместе составляют спиралеобразное движение.
Третий момент, «осевое время», уже везде подспудно действовавший, актуализуется у Конта. Шаг от мифа к логосу рассматривается у него как решительный прогресс человечества и (уже вторичным образом) возводится на уровень каждой отдельной культуры как её движущая поступь. Контовское описание этого шага как трёхчастной схемы (теологическая — метафизическая — научная эпохи) не особенно содержательно, так как речь у него идёт не о трёхшаговой гегелевской схеме, а об однозначном нарастании осве-
191
щённости. Тот факт, что Конт прикладывает к общеизвестному историческому феномену линейную ценностную шкалу, свидетельствует о его глубокой приверженности теологическому началу. Но тот же самый шаг, «от мифа к логосу», допускает и обратную оценку и может восприниматься как утрата священных истоков, питательной почвы для корней (Руссо, «Буря и натиск», философы и поэты романтизма, наконец, Бергсон, Клагес, Теодор Лессинг).
Сегодня встречные волны «за» и «против» как будто утихли, но тем отчётливее становится для нас само наличие этого шага как господствующего в истории. Мы можем приветствовать этот шаг, благодаря которому человек смог в духовном смысле поднять голову над туманом животного состояния и мифологически- дремотной праистории. Мы можем его оплакивать, т.к. отныне человек утратил связь с материнским природным началом, устремившись в область отвлечённого духа, а значит, неизбежно и необратимо, — к природопокорительному, технизированному образу мира и соответствующей эпохе. Мы можем с равным основанием предаваться надежде и страху. Факт остаётся фактом, и уже невозможно отступить от той ситуации, в которой человек в прежде неведомом ему одиночестве берёт на себя ответственность за этот единственный мир. Всё это произошло в глубокой связи с «прорывом к логосу» и имело столь колоссальные последствия, что для нас, ныне живущих, два первые мотива отходят на задний план. Попытки аргументировать учение о цикличности культур в его чистом виде сегодня уже не нашли бы отклика. Праздновать однозначный «прогресс» (атеистически- марксистского или религиозно-христианского толка) по поводу этого сделанного миром шага — весьма наивно. Нужно во всяком случае иметь в виду ценностную амбивалентность этого факта — вслед за Ницше, Эдуардом фон Гартманом и (испытавшем его влияние) Шелером1, Эрвином Райснером2, Якобом
1 Die Stellung des Menschen im Kosmos (Darmstadt 1928); Mensch und Geschichte (Neue Schweiz. Rundschau 1929).
2 Die Geschichte als Sündenfall und Weg zum Geric ht (Oldenbourg 1929).
192
Клатцкином1, Теодором Лессингом2, — даже и не впадая при этом в противоположную крайность, в убеждение, что всякий дух есть болезнь жизни (Томас Манн), грехопадение и одновременно тупик бытия, который с развитием инструментально ориентированной техники становится всё безысходнее.
Две эти крайние оценки показывают, насколько легко, следуя указанному лейтмотиву, исказить картину движения человеческой истории: или на эволюционистский лад, когда природному и духовно-историческому становлению навязываются недоказанные тезисы и теории3; или высокомерной недооценкой духовности как примитивных и ранних, так и высоких культур, без различия лежащих в их основе предпосылок; или, наконец, из некоего утопического рационализма игнорируя обусловленность человека и всей культуры в том, что касается его тела, образных структур и фантазии, бы возобладало серьёзное отношение к принципиальной образной обусловленности человеческой духовной природы, то человек обрёл бы свой собственный, как бы «взвешенный» оптимум в непрекращающемся процессе обмена между телом и душой, образом и понятием, искусством и философией; тогда «шаг от мифа к логосу» обнаружил бы свою «односторонность» с её глубинной опасностью для человека и тем самым нам было бы указано на необходимость осознания нашего исторического местонахождения, — если только для этого у нас ещё остаётся время. Но укоренённость духа в образных основаниях природы означает укоренённость в неосознанном и неподручном, которое принципиально неподвластно техническому духу: техническое самоформирование так понятого человека стало бы тогда внутренне противоречивым понятием.
Все эти соображения, однако, не снимают того факта, что указанный шаг со столь далёкими последствиями уже совершён. По-
1 Der Erkenntnistrieb als Lebens- und Todesprinzip (Rascher 1935).
2Europa und Asien. Der Untergang der Erde am Geiste (2. Ausl. 1923).
3 Cp. постоянные предупреждения Адольфа Портманна и его отношение к Тейяру де Шардену.
193
этому необходимо зарегистрировать его здесь во всей его голой фактичности и поставить, заодно с двумя другими мотивами, на очную ставку с теологией истории — после того, как эта последняя будет освобождена от своего секулярно-исторического балласта.
В действительности здесь и происходит их подлинная очная ставка. Причём отнюдь не так, как полагали теоретики развития: будто перед лицом «факта» универсальной эволюции1 христианское начало со своим абсолютным притязанием само собою релятивизируется и самоуничтожается. Но и не по упрощённой версии, зачастую выдвигаемой из христианского лагеря, согласно которой теория развития есть не что иное, как секуляризованная теология, что лишает диалог с нею всякого смысла. Неудовлетворительным было бы также, ссылаясь на неизменно греховную человеческую природу, всегда в равной степени нуждающуюся в спасении (что для христианина неоспоримо), a priori сбрасывать со счетов этот совершённый человечеством исторический шаг. Лишь после того, как эти упрощения, производимые обеими сторонами, будут отведены, станет возможным очертить истинные задачи. Их, собственно, две: одна касается преимущественно Ветхого Завета, на конечную фазу которого приходится «осевое время», вторая — Нового Завета, точнее, церковного времени в его отношении к формирующемуся самосознанию человечества.
Предварительно можно поставить вопрос о том, к какой науке относятся высказывания, которые мы пытаемся сформулировать. Являются ли они теологическими или философскими положениями? Пока определяющие позиции библейского откровения противопоставляются аналогичным позициям общей исто-
1 Здесь эволюцию можно понимать также в более общем смысле — как пространственно-временное развёртывание единого мирового логоса внутри различных культур, как качественную диверсификацию (как её представляет Гердер в своих «Идеях»), которая не обязательно подразумевает повышающее развитие во времени и потому включает эволюционизм в узком смысле в широкий духовно-исторический контекст.
194
рии, выводимым не из Библии, а из эмпирического историоведения, и пока Библия и история не используются для лучшего познания Библии как она есть, но, напротив, логическим субъектом высказывания остаётся мировая история, — до тех пор мы не можем говорить о теологических высказываниях в собственном смысле. Речь идёт не о вещах, выводимых из откровения как такового, хотя можно задаться вопросом: не станет ли результатом такого противопоставления более адекватное понимание ситуации самого откровения — понимание, которое в таком случае можно было бы определить как собственно теологическое. Можно, однако, отнести эти высказывания, на которые нам предстоит решиться, к сфере фундаментальной теологии (поскольку их можно понять как высказывания о действии откровения во всеобщей истории, — и это касается в первую очередь второй группы высказываний), или иначе, к сфере общего христианского историоведения, которое утверждается в качестве третьего в том самом месте, где встречаются обе точки зрения и где свет «надприродного» проникает в «природное».
б) Ветхий Завет и осевое время
«Осевое время» не в последнюю очередь введено как полемическое противопоставление «полноте времени», что, однако, свидетельствует об абсолютном непонимании этой последней категории. «Полноту времени» нельзя определить с помощью философии истории. Обращение усыновлённого через Христову кровь к Отцу не есть эмпирический факт. Доказательством этому служит определяемый верой факт «со-временности» Спасителю всех грешников. И без ущерба для этого факта Иисус Христос, как истинный Человек, с Его не только Божественным, но и земным поручением, принадлежит своему времени и своему миру и через координатную сеть исторических пространств и времён, находясь в конкретном месте, подчинён «гороскопическому» определению. «Полнота», которую Он привносит по вертикали (Кол 2. 9), должна стоять в определённом отношении к этой горизонтальной человеческо-ис-
195
торической сети отношений, даже если мы, глядя снизу, не в состоянии усмотреть эту «полноту времени» с помощью средств научной истории. Горизонтальная сеть неукоснительно охватывает прежде всего историю спасения в узком смысле, историю Израиля, достигшую своей внутренней полноты, что означает не только вертикальное сошествие Мессии, посланного Богом, но и достаточно сложное стечение Его человеческих обстоятельств, затрагивающих Его Мать Марию, родственников Захарию и Елизавету и их сына Иоанна, всю народную и политическую среду, из которой Он выбирал своих апостолов и друзей, чтобы воспитать в них определённое человеческое понимание Его миссии, — ибо благодать, получаемая через веру, однозначно не заменяет природу. История Израиля, если читать её в перспективе уже достигнутой полноты времени, сама упорядочивает и освещает себя, от одного её этапа к другому связи и взаимообусловленности становятся всё яснее. Это не только «прогрессивные шаги», но ещё - и главным образом — череда наказаний, катастроф, очистительных бурь, лишений и потерь, неизбежно долгое отсутствие пророков после изгнания — весь диалектический путь, на котором рядом с «да» всегда вырастает «нет», рядом с возможным пониманием — опасность непонимания (например, восприятие древних обетований как некой «статической» «мудрости»). Христианское созерцание может по праву удивляться гармонии библейского откровения во всех его измерениях, отмечать сквозную «необходимость» этого наисвободнейшего основоположения, подобно тому как в эстетической области мы усматриваем такую соразмерность (convenientia) в не поддающемся расчёту художественном произведении, когда изменение единственного цветового пятна на картине или только одного звука в симфонической мелодии может расстроить или погубить целое.
Теперь, однако, сам библейский Израиль снова оказался вовлечённым в игру всемирно-исторических сил. Географически он расположен между Египтом и Двуречьем, к югу от Сирии и Малой Азии. Если взглянуть шире, он занимает срединное положение между Азией и Европой. Но и во временном отношении Израиль также стоит на поворотной точке мировой истории: ещё целиком
196
погружённый своими корнями в мифологический век, он прокладывает себе дорогу — на свой собственный лад, без прямой поддержки культур, пробивающихся к логосу, и лишь эпизодически их захватывая, - к своему собственному Логосу: к живому Сыну Отца. И всё же общий прорыв высоких культур от образного мышления к понятийному, от политически-религиозного мифа к индивидуальной, персоналистической (мистической) религии и философии и тем самым — к секуляризации и снятию чар с природы и государства безусловно является естественной предпосылкой кафолически-универсального провозвестия наднациональной и несинкретической религии. Конечно, нечто аналогичное справедливо и в отношении всех великих религий, возникших в осевом времени, и в особенности подходит к буддизму с его экспансией на Восток и позднее — к смешанной культуре эллинизма. Всё это пока не свидетельствует ни в пользу, ни против притязания христианства, которому предстоит находить своё оправдание в себе самом, а лишь создаёт естественноисторическое основание для его распространения, откуда ясно, что осевое время как praeparatio evangelica должно предшествовать Благой Вести, но не как произвольное приготовление, одно из многих возможных, а как единственное безусловно необходимое (отвлекаясь от внутреннего и более глубокого приготовления Израиля). Теологический Логос, т.е. лично Иисус Христос, встречается с философским логосом, который вместе с Ним делает возможным внутреннее усвоение этого первого Логоса всем совокупным человечеством и мировой культурой. И ещё раз: нужно полностью отрешиться от ценностных суждений по поводу этого процесса. В любом случае он представляет собой раз-витие, поскольку нечто свёрнутое развёртывается и нечто по-детски и мечтательно полуосознанное пробивает себе дорогу в светлую область разума, одобряем мы это или оплакиваем.
Более важным является вопрос, в какой мере верно то, что этот процесс прорыва захватывает в своё русло и увлекает за собой само ветхозаветное событие. Достаточно дифференцированный ответ на него потребовал бы многих предварительных рассмотрений. Ясно, однако, что здесь не может господствовать
197
безотносительность. Откровение «развивается», как бы «оседлав» общее движение культур, хотя использует его в иных, своих собственных целях. Есть такой аспект истории спасения, в котором откровение выглядит как бы стоящим неподвижно и ожидающим, пока прогрессирующая рефлексия более адекватно постигнет глубины и следствия того, что всегда уже существует в установленном виде. Но есть и другой аспект, возможно, более важный, - в котором являет себя всё глубже понимаемое присутствие самого живого Бога.
Оба процесса, философский и теологический, неповторимы. Осевое время не возвращается вспять. Религия Израиля погружена в ход истории и потому привязана к своему времени (даже в своём надприродном аспекте). Израиль, каким он стал после Христа, не только теологически, но и с точки зрения философии истории находится в противоречии с самим собою. Чтобы сохранить себя, ему приходится каким-то образом дистанцироваться от времени, сосредоточившись на «букве» закона или на «духе» мудрости либо просвещённого гнозиса. Его институции, культ храма, священство, жертвы — всё это связано с конкретным временем и никогда (даже и в сегодняшнем Израиле) не может повториться, поэтому он может лишь заменить их соответствующими секуляризованными институциями. Внутренне неизбежный конец обозначился уже в Кумране. И всё же Израиль продолжает существование, лишённый возможности внутреннего развития, в двойственном положении, так как, с одной стороны, он является «отломленной ветвью» рядом с живой Церковью, ас другой — «святым корнем» (Рим 11. 16), на котором привита Церковь. В этой двойственности он как бы застыл и, по видимости, разделяет с Церковью её отстранённость от всякого развития. Однако временна́я форма его иная: она определена ветхозаветным мессианско-историческим развитием, но вместе с тем — невстречей с христианским мессионизмом. Поэтому Израиль во всём мировом времени постоянно (и, быть может, всё более действенно) будет выполнять роль носителя разного рода внутриисторических (а потому — антихристианских) мессиониз-
198
мов, превратившись в принцип динамически-утопических инициатив, вдохновляемых трансцендирующей абсолютной верой во внутреннюю исполнимость человека и мира — верой, вечно бросающей христианству упрёк в том, что оно предало человека и мир потустороннему. Встречный упрёк — в предательстве библейской веры. Через него исполняется теологическое таинство взаимной «ревности» иудеев и язычников, чью ответственность взял на себя сам Бог (Рим 10. 19). Ибо их последняя полнота, их возвращение на родину с чужбины, не может быть достигнуто даже Церковью, пока не «спасётся весь Израиль».
в) Новый Завет и всемирная история
Второе высказывание касается отношения христианства и всемирной истории. Весть Христа, в противоположность иудейской, внутренне не обусловлена временем, ибо явленная полнота Божественного Логоса по сути своей всевременна и в своём излиянии в Церковь (в полноту Его полноты, Еф 1.23) обладает непревзойдённостью. Если Ветхий Завет был также и в теологическом отношении воспитанием иудейского рода, выводящим из лона мифологических религий к жизни в пространстве живого святого Бога, то с появлением Церкви Христа эта цель теологически в принципе достигнута: Церковь как таковая не может развиваться. Что является возможным и в чём состоит теологический смысл церковного времени - это действие церковного присутствия Христа во всемирной истории. Такое действие лишь в несобственном смысле может быть обозначено как развитие: оно не является таковым ни для Церкви, ни для мира. Чисто географическое распространение Церкви по всему земному шару само по себе нельзя признать теологическим событием или критерием, хотя Августину оно иногда казалось достаточно убедительным аргументом против ересей. Количественный перевес для «малого стада» не является доказательством. Поручение, данное апостолам (Мф 28. 18-20), нацелено на универсальность в другом, более глубоком смысле, оно подразумевает выправление мира и его истории вдоль магнитных линий,
199
идущих из центра - Сына Божия. Такое выправление может, должно и будет всякий раз заново — как решение, как «да» и «нет», т.е. как растущее «да» и растущее «нет», причём важным здесь является не перевес «да» над «нет», но, скорее, сама неизбежность и неминуемость.
Мифы исчезают; если их искусственно подновлять, они или гибнут, или превращаются в открыто антихристианские, демонические поделки. Идеологии же, сознательно или неосознанно, по желанию или вопреки ему, выправляют себя соответственно «программе» Христа. Переходная зона между внутрицерковной жизнью, включающей Евангелие и его провозвестие, и жизнью внецерковного исторического мира целиком занята процессом обмена, допускающим двойное толкование, который именно благодаря этой своей двойственности образует фундаментальный закон. С одной стороны, то, что Христов «Дух» переходит в мирские структуры и «инкарнируется» в них, вполне соответствует направленности и перспективе христианской керигмы (приведём для примера дух братской любви, царящий на каком- нибудь предприятии между руководством и персоналом, а также между рядовыми работниками). Это излучение света из Христа через Церковь — в мир и составляет «световое» поручение, которое Христос передаёт апостолам. Но излучение означает определённую спиритуализацию и интериоризацию, т.е. проживание того, о чём идёт речь, в Духе - действие, а не пустое говорение (ср. притчу о двух братьях, Мф 21). Подобную реализацию предмета обсуждения имел в виду Николай Кузанский в своём сочинении о примирении религий. Однако эта реализация в мирской области совершается вне области церковной и —сознательно или неосознанно, bona или mala fide— происходит «абстрагирован но» от своего источника, т.е. Христа. Так оправдывается высказывание Честертона о том, что мир полон обезумевших христианских идей. Мир обрывает Евангелие и Церковь как фруктовое дерево, но плоды, отделённые от дерева, гниют и уже не могут дать жизнь новым плодам. «Идеи» Христа неотделимы от Него самого, и потому они не идут на пользу миру, если их не
200
отстаивают христиане, верующие во Христа, или люди, которые, сами того не осознавая, внутренне для Него открыты и Ему подчинены. Излучение возможно лишь тогда, когда его источник остаётся живым и активным, остаточного сияния давно погасших звёзд в данном случае не бывает.
Разделение между христианскими идеями, непосредственно связанными с Христом, и идеями, которые отделены от Него, не может быть проведено изнутри мира, эмпирически, оно составляет прерогативу Христа (Мф 7. 15-23; 1 Кор 3. 10-15). Но то, что этот процесс разлома уже идёт, что в указанном отношении притчи о закваске и о пшенице, растущей рядом с плевелами, исполняются на наших глазах, — эмпирически доказуемо. Умение доказать это подразумевает способность толковать символы времени и вместе с тем составляет утешение для ожидающей Церкви. Это — определённого вида прогресс, но человек не горит желанием его увидеть. Он отчасти напоминает прогресс плевел, по которому опосредованно можно догадаться о росте пшеницы. Это - прогресс двусмысленности и подверженности соблазну, из которого можно заключить о «Божьем прогрессе» (Кол 2.19).
Вопрос о том, куда может привести и куда приведёт естественное развитие человечества, можно поставить, но нельзя разрешить. Если бы даже оно — исторически — привело к таким ситуациям, при которых определение своей позиции по отношению к христианству стало бы гораздо настоятельнее, чем этопредставляется современному человечеству, то всё же оно не привело бы к постепенному уменьшению расстояния между верующим человеком и содержанием веры, к прогрессирующей внутренней ассимиляции и усвоению Христовой вести, Его вызова и Его деяния. Разве проект Тейяра де Шардена недостаточно ясно это показал? Ведь не существует духовного и морального Креста, мыслимого отдельно от реального распятия и Голгофы.
Однако Крест всегда означал и означает бессилие, кончающееся смертью во мраке. Христово всесилие будет действовать до конца мира неотделимо от бессилия и никогда не сможет его превзойти. Павел и Иоанн знали это, и Церковь всех времён
201
тоже должна это знать. Она не отделена от Синагоги, как изображают это две скульптурные фигуры на Страсбургском соборе. Правда, Церковь обладает принципиально более глубоким ви́дением Креста (которое исходит от благодати воскресения), но разве это не означает более глубокого познания мрака, безысходности и богооставленности Креста? Да, Церковь в принципе является местом отпущения грехов, но разве это не означает тем самым и обязательство несения ею более тяжкого мирового греха, без различия, где мой грех, а где твой? Пусть Церковь более ясно различает близящийся конец, но не означает ли это более высокую меру внутреннего пребывания со Христом в ожидании грозного часа, «которого никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец» (Мк 13. 32)?
202
Г. ИСТОРИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ
Помимо этого зияющего вопроса можно высказать лишь очень немногое; всё, в чём содержится какое-то теологическое притязание (т.е. стремление толковать откровение), может быть произнесено лишь sotto voce (тихим голосом). Оставаться с Иисусом в ожидании грозного часа - значит во всяком случае отказаться от какого бы то ни было однозначного совокупного видения мировой истории и истории спасения. Во всём становлении мировой истории нет ничего, что могло бы быть понято как открытый и недвусмысленный для нейтрального разума знак того, что мы находимся в определимом месте истории спасения. Ничто не позволяет нам (воспользовавшись понятиями Пауля Шютца, которые он выдвинул в полемике с Тейяром де Шарденом1) превратить «пророчество» в «прогноз» или считать их двумя сторонами «единого и полного акта познания»2. Если «пророчество» и «прогноз» — это два глаза, с помощью которых человек может видеть завершение истории и получить пластически-объёмный образ приближения к концу, то отсюда неизбежно следует, что оба эти глаза (глаз знания и глаз веры) своим ви́дением составляют подспорье друг для друга, и значит, может быть предпринято построение некой всеобщей философско-теологической науки о смысле истории. О самомнении, которое здесь замешано, уже было сказано в другом месте; христианское же понимание истории не позволяет пускаться в подобное предприятие (наследующее масштабным, в духе монизма, идеалистическим или биологическим теориям XIX в.). Осуществлённый Тейяром подкупающий синтез обоих указанных моментов
1 Paul Schütz: Parusia. Hoffnung und Prophetie (L. Schneider, Heidelberg 1960) 445— 464. Шютц цитирует также Адольфа Портманна (Adolf Portmann): «Самым резким образом я отмежёвываюсь от Тейяра де Шардена там, где он в профетическом созерцании представляет грядущее как чистый вывод знания».
2 Teihard de Schardin: Der Mensch im Kosmos (Beck, München 1959) 280 f.
203
основан на мысли о необратимости мировой истории, которая интерпретируется как путь от бессознательной природы к человеческому сознанию и от плюралистического человеческого сознания к его интегрированному единству и сводится к углублению саморефлексии и самопостижения. Поскольку же откровение в качестве субъекта тотальной космологической и исторической являет Богочеловека, под знаком Которого движется вся история и в Которого она врастает как общее мистическое тело, то синтез философии истории и теологии истории перестаёт казаться далёким и дерзким постулатом и становится уже свершившимся и неизбежным фактом. Идея необратимости неизбежно приводит к тотальной рефлексии «ноосферы» в качестве высшего совокупного субъекта, который, если смотреть снизу, доступен лишь для эскизного предчувствия, открытым же делается лишь для теологического взгляда сверху.
Подозрительно гладко всё здесь сходится одно к одному. Так гладко, что глубокие рвы оказываются засыпанными и можно легко переступать с одного уровня на другой и даже непонятно, — коль скоро совокупный Божественный субъект уже явлен в откровении, — почему он не обнаружился гораздо раньше с помощью философии истории. Тотальная рефлексия ноосферы: может ли она (в случае её осуществления) быть чем-то иным, как не достижением Божественного субъекта? И не проходим ли мы тем самым, на современном уровне, возвратный путь от Маркса и Фейербаха —к Гегелю и от Гегеля — к пониманию Библии?
Даже если нам придётся отвести эту созданную современностью иллюзорную христософию (ибо человек здесь слишком уж явно подчинил себе Бога, а «образ и притча» динамически отождествились с недостижимым прообразом), то и тогда вопросы, возникающие в связи с конвергенцией философии истории и теологии истории, остаются неразрешимыми. Но конвергенция, которая не в состоянии достичь идентичности, не заслуживает ли, скорее, наименования «конкуренции»? Протекает ли история под знаком имманентного образа единства, который ставит себя рядом с христианско-профетическим образом един-
204
ства, перекрывает его и затмевает своим блеском и властью? Ведь духовное усмотрение с неизбежностью означает также повышение власти. Таким образом, единый вопрос распадается на два других: о единстве духа как мирового разума и о единстве духа как мировой власти.
Однако в обоих этих вопросах содержится общий связующий элемент: свобода. Чем в большей мере дух принадлежит самому себе, тем он свободнее внутренне и по отношению к миру. Но кто он, этот дух? Является ли он духом каждой отдельной личности, сказываясь во взаимном откровении и в обоюдооткрытом обмене между личностями? Несомненно, он и таков, ибо никакая интеграция совокупного человеческого духа не может и не вправе на марксистский или гегелевский лад подавлять свободу личности, требуя, чтобы личность пожертвовала своей свободой ради совокупного субъекта, за который она не несёт ответственности. Является ли он духом теологического «общего субъекта», который, однако, остаётся духом частного — Спасителя и Судьи всего? Но тогда свобода этого Богочеловеческого субъекта ещё в гораздо меньшей степени может быть доступна отдельным личностям, которые Он должен интегрировать. Вся свобода, а значит, и вся власть Христа остаётся в Его руке, и никогда растущее единство всемирно-исторического духа человечества и единство всемирно-исторической власти человечества не смогут — отсюда, снизу — даже приблизиться к суверенитету Духа-власти Христа.
Ниже мы рассмотрим оба аспекта: дух человечества и христианский дух, власть человечества и христианскую власть, сначала по отдельности, а потом, в связи с вопросом о свободе, — в их взаимном преломлении.
1. Тема духа
а) Открытость и исключительность разума
Если в рамках темы духа свобода личности не должна подчиняться анонимному мирскому суду, то интеграцию можно
205
мыслить и искать лишь на пути «открытого разума» и «коммуникации», как называл это Ясперс1. Можно, однако, предположить, что растущее сближение культур, а значит, и мировоззрений, философий, религий, на почве всё большего технического преодоления пространственно-временных расстояний всё неукоснительнее ставит каждую свободную личность перед фактом существования общечеловеческого духа и, тем самым,— выдвигает всё более настоятельное требование интегрирующей коммуникации. Эта последняя преодолевала бы личностную и, так сказать, федералистскую структуру мирового разума не ради тоталитарной системы духа, она всё сильнее противостояла бы абсолютизации всякой частной системы, которая принципиально открытому разуму хотела бы противопоставить разум принципиально закрытый и тем самым отклонить всеобщую коммуникацию в общечеловеческом разуме.
Итак, этот «открытый разум», который «ограничен» лишь своим формальным объектом - «бытием самим по себе» (хотя бы его «адекватный» объект был отмирным, чувственно явленным сущим как таковым), есть разум философский, и его открытость навстречу уже не воспринимаемым адекватно бытийным основаниям, которые сказываются лишь таинственным образом, в виде шифров, и противятся всякому рациональному одолению, составляет основу открытости всех всерьёз (между собой и встречно) философствующих. В этом пространстве «откровение» могло бы означать лишь затронутость философствующего разума тем или иным шифром, и не существовало бы никакого препятствия к тому, чтобы в порядке коммуникации философствующих возник и бесконечно продолжался диалог между субъектами подобного рода затронутости. Предметом этого диалога были бы тогда непросто все философские системы, между которыми (на фоне общности между вопросом и объектом в состоянии спрошенности) в каждый момент времени уже произошёл
1 Karl Jaspers: Der Philisophische Glaube (1948). Der Philisophische Glaube angesichts der Offenbarung (1962).
206
или должен произойти акт бесконечного плодотворного обмена, но также и все религии, поскольку их ядро можно свести к религиозно «пытливому» разуму человека как природного и исторического существа. Всё это оставалось бы верным и для тех случаев, когда модальность передачи откровения можно определить как «надприродную», тогда как содержание откровения, напротив, не выходит по своей сути за рамки доступного разуму, что, по-видимому, свойственно исламу, если отвлечься от библейских заимствований в нём. Если бы все религии были устроены таким образом, то откровение, как описывает его Лессинг, было бы содействием Бога в приближении к вещам, которые человечество могло и должно было бы найти и самостоятельно, чтобы по мере своего исторического продвижения «легче и быстрее» эти вещи постигать. Всё Просвещение и вся либеральная теология представляют дело именно таким образом; помещая откровение внутрь религиозной философии и отождествляя себя с открытым разумом, они легко справляются со всеми затруднениями. Диалог между различными мировоззрениями и религиями остаётся в таком случае диалогом между людьми о Боге.
Совершенно иная картина складывается1, когда теология библейского откровения принципиально и недвусмысленно переступает эти границы и заявляет о своей способности слышать и толковать Божье Слово. Слово, которое по определению принадлежит субъекту, совершенно иному всем людям, и которое, исходя от этого абсолютного субъекта, высказывающего в нём самого себя (ибо о чём ещё может он говорить людям?), обязательно сообщает в своей сердцевине такие вещи, которые человек самостоятельно познать не может. Эти вещи касаются в первую очередь не человека, а Бога, но они подходят и к человеку, — потому что к нему подходит Бог. Однако подобное слово, исходящее от ОДНОГО Бога, не может, радикально не обрушив весь порядок творения, прозвучать одновременно в милли-
1 О конфликте между двумя типами универсализма см. прежде всего Wilhelm Kamlah: Christentum und Geschichtlichkeit (Kohlkammer 1951).
207
ардах отдельных человеческих субъектов таким образом, чтобы все они — благодаря некоей предустановленной гармонии одних лишь «частных откровений» — были a priori извещены о нём (посредством диалога и коммуникации), как прежде были извещены о человеческом разуме. Это слово как слово ОДНОГО может осмысленно прозвучать лишь в ОДНОМ пространствено- временном месте, а именно — в совершенном инобытии человека, который как таковой возвещает, являет и адекватно представляет для всех остальных совершенное инобытие Бога. От сферы открытого философского разума это чётко отделено собственно теологическим фактом, который ограничивает открытость разума, устанавливает его перспективу и потому представляется ему абсолютным соблазном. Если Христос есть то, чем считает Его (Католическая) Церковь, и если (католическое) учительное служение есть действительно то, за что оно себя выдаёт, то никакая дискуссия с ними невозможна: они находятся в другой плоскости, чем «открытый разум».
Ничто не побуждает к тому, чтобы в человеческом диалоге «на некоторое время» заключить в скобки вопрос о библейском притязании на абсолют, ведь пока скобки стоят, дискуссия не может завершиться определённым решением. Поэтому христианин1 видит себя стоящим перед единственной альтернативой: либо, заключив при других свою веру в скобки, оставаться дружелюбным и любящим человеком среди таких же людей, либо, открыв свою веру, по-апостольски её распространять. В первом случае он может надеяться осуществить, благодаря своей человечности, непрямую пропаганду веры, поскольку дерево узнаётся по его плодам; во втором — он должен принять на себя обязательство: в любой по-настоящему серьёзный момент суметь ограничить «открытый разум» и призвать его к повиновению слову
1 В дальнейшем мы говорим о христианине как о представителе библейской религии откровения, это же относится и к ортодоксальному иудею. Проблематика, которая возникает при встрече иудейской религии и «открытого разума», рассмотрена в моей работе о Мартине Бубере: Einsame Zwiesprache (Hegner 1958).
208
Христа. Вопрос о том, верна ли указанная альтернатива, обладает для христианина, как и для всякого, кто имеет с ним дело, фундаментальной практически-экзистенциальной значимостью. Поэтому нам предстоит со всей серьёзностью её обдумать.
Коммуникация открытого разума подразумевает, что другой, с кем я вступаю в отношения вопросно-ответного обмена, находит со мной понимание на почве одинаково структурированного разума, но также и то, что он - другой. Можно истолковать это таким образом, что я и другой суть два «экземпляра» одного и того же разума, подобные двум оттискам одной печати, причём все нюансы ино-бытия растворяются во взаимном понимании как нечто абсолютно несущественное. Для духовного диалога во всеобщем разуме необходимой и достаточной (requiritur et sufficit) была бы, так сказать, лишь пустая, абстрактная категория инобытия. В чём конкретно всякий раз состоит иное иного, здесь неважно: посредством обмена сообщениями и результатами взаимного познания инаковость асимптотически сводится к нулю. Нюансы действительно потеряли бы всякое значение, если бы разум был родовым понятием, под которое иной-всему подпадал бы как индивидуум (ratione materiae).Если же иной воспринимается как вечная, незаменимая в своём инобытии духовная личность, в соответствии с уникальной идеей единичного Бога, то диалог между двумя личностями как таковыми может вестись уже не в медиуме родового разума, а (только ещё) в сверхнатуральной (т.е. не в «надприродной», а в надкатегориальной1) сфере самого бытия, где уже невозможна никакая «абстракция». То, что в духовной личности может быть абстрагировано и подведено под общее понятие, как раз и выводит за скобки самое существенное, т.е. уникальное; если же мы попытались бы распространить понятие «уникальности» на всё вообще, это привело бы к самообману и к потере самого предмета мышления. Встречаясь с личностной уникальностью, философская мысль наталкивается на собственную границу. Уникальность не
1 См. об этом выше, гл. II.
209
удаётся снять ни приурочиванием уникального в познании к сфере чувственного (тогда как понятие в качестве духовного элемента в суждении оставалось бы «общим» и «формальным»), ибо уникальное является отнюдь не чувственным, но ядром личности, — ни номиналистским оспариванием онтологической значимости общего понятия, ибо речь идёт в первую очередь не о проблеме теории познания, но о проблеме самого бытия. Когда Фома Аквинский наделяет чистых духов, т.е. «ангелов» (но не людей) подобной качественной уникальностью и затем логически допускает их взаимное познание не иначе как через посредство врождённых идей относительно друг друга (т.е. через причастность к творческой первоидее, которую Бог очертил для каждой уникальной духовной личности и которую имеет в себе), то эту теорию познания трудно перенести на отношения между людьми, — если только и они тоже могут считаться уникальными духовными личностями.
Где же искать решение этого самого жгучего из всех вопросов философии? Если не приступить к нему вполне осознанно и не разрешить его, то мы практически останемся на уровне антично- схоластического представления о «Individuum ratione materiae»и тем самым, логически, — на уровне кантовского гносеологического формализма, и значит — гегелевского Духа, процесс развития которого просто абсорбирует индивидов вместе с их качественными различиями, и наконец — марксистской или биолого-эволюционистской системы, в которой всё, что не вписывается во всеобщий анонимный закон, не должно существовать, а если оно всё-таки подаёт признаки жизни, то подлежит истреблению. Но как избежать всех этих последствий, если человеческий разум так уж устроен, что он может мыслить лишь отвлечённо (причём именно от самого существенного!)? Abstrahe et impera - найди в единичном случае то, что позволяет подвести его под известный закон, и тогда он окажется в твоей духовной власти: мысль по самой своей сути есть власть.
Не содержится ли в этом шокирующем выводе некоего указания? Чтобы воспользоваться им, попробуем взглянуть на духовную личность в другом аспекте: она есть не только «разум», но и
210
«свобода». И как в разуме есть абстрактный нейтралитет общего понятия, так же и в свободе есть абстрактный нейтралитет пустой индифференции по отношению ко всему: если я свободен, то могу выбирать любую вещь, ценную или никчёмную, хорошую или дурную. Но действительно ли это — свобода, а не её ущербный модус, в лучшем случае, встроенная часть её всеохватного механизма? Предположим, что действительно та или иная духовная личность качественно бесконечна и другая духовная личность выбирает её объектом поклонения и преданности — как это иногда случается в христианском браке, — разве этот выбор не заполняет пустоту индифферентной свободы? И нужно ли, ради достижения всё более широкой тотальности, постоянно подниматься над этим выбором или просто релятивизировать его? Почему только Беатриче? Разве нет бесчисленного множества других женщин? Но если всё же и впрямь — только она одна, то следует ли отсюда, что Данте не обладает «открытым разумом»? Является ли любовь предрассудком, которому философ истории лишь улыбается свысока? Или, быть может, тот, кто по ту сторону избирающей любви толкует об «открытом разуме», «коммуникации», «кафоличности разума», всего лишь доказывает, что он остановился на кантовском формализме?
В избирающей любви заложена очевидная возможность: подняться выше индифференции свободы и абстрагирующего разума. Предоставим теоретикам познания как-то объяснить возможность существования — благодаря любви — интуиции, улавливающей уникальность любимого. Способность, которой в высокой степени обладал первоначальный человек, насельник рая, но которая уже не свойственна человеку, падшему — ради обретения власти - в индифференцию между добром и злом, в сферу абстрагирующего вынесения за скобки. Адаму достаточно одной Евы, но ему оказалась недостаточна вся полнота им познанных, названных и ему подвластных зверей. Единица — качественно-бесконечна, тогда как множество со всей его количественной бесконечностью не достигает требуемого качества. Удивительно то, что люди, уже совершившие выбор в любви (например, женатые люди), пребывают в
211
состоянии более честной, глубокой и потому менее суесловной коммуникации, чем те, которые, находясь в незаполненно открытом пространстве нейтральной свободы и нейтрального разума, эту открытость обсуждают. Удивительно и то, что избирающая свобода более либеральна, щедра и самоотверженна, чем свобода, отказывающаяся от выбора, которая заботится о самосохранении, либерально мыслит и свысока поглядывает на «связанных». Кьеркегор высказал обо всём этом окончательное суждение в своём «Или-или», проводящем черту между эстетической экзистенцией Дон Жуана и этической возможностью брака, а за этой последней и благодаря ей - религиозной возможностью и возможностью христианской. Главное состоит в том, что у Кьеркегора брак является опосредующим звеном между эстетическим и религиозным. Он выбирает Регину Ольсен, чтобы склонить свою блуждающую свободу под ярмо всерьёз выбирающей любви, — но он расторгает помолвку с Региной, чтобы вступить в ещё более глубокие, ещё более нерасторжимые отношения избранности с Христом.
б) Исключительность и открытость завета
Это опосредование преодолевает установленную ранее дилемму между «открытым разумом» и христианством. Открытый разум, в том смысле, как он по большей части рассматривается, — это уже падший, наследственно-греховный разум. Во всяком случае, разум незрелый, студенческий, холостяцкий. Разум женатого или ему подобный, принёсший в высшем акте любовного выбора клятву верности самому Богу (во Иисусе Христе), с благоговением относится к любовному выбору другого, его, по собственному опыту, совершенным и поэтому не требуя от другого, чтобы тот любил «мою» «бессмертную возлюбленную» как свою собственную. Само по себе это не так уж очевидно, если рассуждать не на уровне биологии, т.е. индивидов (где браки исключают друг друга лишь по практическим соображениям), но на уровне духовной личности. Здесь речь идёт о выборе качественной единичности возлюбленного «Ты», о выборе, который, будучи объ-
212
единением выбравшего и выбранного, сам является качественно единичным и абсолютно не поддаётся релятивизации.
Но в историческом плане подобный абсолютный выбор единственной духовной личности может быть осуществлён лишь в пространстве, осиянном светом библейского откровения. Ибо в этом пространстве сам Бог предстаёт как бесконечная и свободная духовная личность, которая одна может свободно создавать уникальные идеи тварных духовных личностей, они же именно в своей уникальности и свободе являются образами столь же уникального, сколь свободного Бога. Вне указанного пространства область разума повсюду подчиняет себе область любви. «Исключительная» любовь между личностями может оправдаться перед универсальным разумом лишь исходя из свободной уникальности самого Бога: не как промежуточное, но как окончательное и последнее решение.
Прообраз такого окончательного и свободного выбора Бог сам должен поместить в мир, причём непременно так, чтобы Он — в некоем нераздельном акте - открывал себя в свободе и свободно являл себя в откровении. Если Бог открывает себя не как свободного и личного Бога, значит, Он не в полной мере себя открывает (но скрывается под шифром мировых первооснов), и тогда не может открыться также и никакой вечный смысл тварных человеческих личностей. Если же Бог открывает себя как свободный и личный, то происходит это скандальным - в глазах всё нивелирующего мирового разума — путём свободного выбора. В средоточии Божественного самораскрытия стоит завет Ягве с Израилем: человек абстрагирующий приучается здесь к всеисполняющей исключительности отношения с Богом. Эта исключительность (всё время выступающая в образе брака между Богом и народом) не будет снята и в Новом Завете, хотя здесь в договор будет включена вся полнота «народов». Этот договор, также и в качестве Нового, вечного Завета, является воплощением конкретности и поэтому, с включением всех «народов», неизбежно остаётся «исключительным». Кафоличность Божьего завета по своему характеру не имеет ничего общего с либераль-
213
ным разумом, который через абстракцию осуществляет вынесение за скобки («ис-ключает») и уже с этой позиции дискутирует конкретные моменты. Эта кафоличность лишь потому может принять обманчивый вид и подпасть под охватывающее (абстрактное) понятие «либерального разума», что Бог пребывает и остаётся изначально и самовластно Выбирающим в любви и сохраняет в тайне своей любви способ, каким Он включает все «народы» (а вместе с ними — все философии и религии) в свой исключительный завет: «...если Я хочу, чтобы он (т.е. Иоанн, который олицетворяет избирающую любовь) пребыл, пока приду, что тебе (т.е. Петру, олицетворяющему и представляющему исключительным образом избранную общину) до того? Ты иди за Мною» (Ин 21. 22). Включение остаётся для Петра (а также и для всех, принадлежащих к видимой Церкви и христианству) негарантированным.
Однако для христиан является несомненным, что отношение Бога к человечеству имеет и сохраняет совершенно конкретный, сакраментальный образ завета, воплощённый в личностном отношении между Христом и Церковью как Невестой, «не имеющей пятна, или порока» (Еф 5. 27), — отношении, которое свою личностную конкретность имеет (и должно иметь) в непорочно зачавшей Матери-Невесте Марии. В отличие от горизонтально ориентированных, всякий-раз-уникальных межчеловеческих отношений (например, Данте и Беатриче) любовь абсолютно-уникального Бога к человечеству как Невесте осуществляется таким образом, что само это любовное отношение по своей сути только и может быть уникальным и принципиально противостоит всякому абстрагирующему ранжированию. Тем самым все уникальные случаи любви (между людьми или между человеком и Богом) отныне должны считаться притчей и образом абсолютной уникальности любви Бога, во Христе, к человечеству и более того — непосредственно, в запечатлённом виде, перенимать у Божественной любви характер абсолютной уникальности (нерасторжимость брака и т.п.). Сокровенная тайна христианского, недоступная для «открытого разума», — это тайна ин-
214
теграции всей количественно бесконечной любви в единичности Божьей, во Христе, любви к миру.
Эта тайна может быть раскрыта, исходя из христианского образа Бога: Христос для Бога Отца есть от вечности «единственный возлюбленный», будучи «единородным» в единстве Святого Духа. Абсолютная любовь в самом Боге является триедино-«исключительной», и этим своим «выбором» Бог выбирает — создать и любить мир. Эта уникальность рассеивается в бесконечных пространствах качественно-уникальной любви в мире, чтобы тем не менее вечно оставаться единой в тринитарном выборе и вновь быть собранной воедино. Тайна раскрывается по тому, как Церковь может оставаться открытой для всех и в то же время — «запертым садом» и «запечатанным источником», как сокровенная тайна её любви может по самой своей сути быть общедоступной и, по той же самой сути, — тайной (ибо её видят и понимают только любящие). Коммуникации «открытого разума» соответствует здесь совершенно иначе устроенная «коммуникация любящих» (communion sanctorum, общение святых), которые — в Церкви, внутри пространства конкретной Божией любви к миру и ко всем людям, — как сообщающиеся сосуды, соединяют между собой все уникальности.
Всё это даёт нам право сказать (пользуясь языком Гегеля): в пространстве Церкви не существует «объективного духа», не являющегося одновременно субъективным духом. Субъективный дух — это Святой Дух личного Бога как присутствие живого Бога в Его завете, иначе: актуальность всегда исполняемого завета как присутствие живого Бога. Поскольку этот конкретнейший процесс исполнения любви является для каждой личной любви в пространстве Церкви и мира нормативным прообразом и побуждающей реальностью, то этот субъективный дух есть одновременно дух объективный. Однако он является таковым лишь в указанном смысле, но не так, как всеобщий, пусть даже совершенно открытый, разум. Святой Дух есть изначально, в самом Боге исходящая от Отца и Сына Божественная Личность, и в силу этого двойного исхождения Он обладает
215
двойным свойством: Он «выдохнут», а не «рождён», как Сын. Если Сын есть сфера Логоса, то Дух — это сфера любви «по ту сторону» Логоса. И Он является таковым как единение и единство тех двух Божественных Личностей, которые в своём личностном бытии суть абсолютное взаимное инобытие: поскольку три лица Бога взаимоидентичны не абстрактным, а конкретным образом, то — как лица — все Они являются иными по отношению к остальным; но «иное» Духа — есть любовное единение «Иного» с «Иным».
Это - таинственный фон, без которого невозможно понять христианскую экзистенцию в мире. Ибо эта экзистенция не может быть открыта всем в той же плоскости, в которой хочет оставаться либеральный разум — просветительский ли, кантианский, гегелевский или ясперсовский. Подобный тип открытости есть выражение неабсолютного характера всякого человеческого, и в частности философского, духа, выражение относительности, изменчивости, неполноты всякой мирской точки зрения (veritas intellects nostri mutabilis est, Thomas la q 16 a 8). Такой разум становится даже ещё более сомнительным, поскольку он наследственно-греховно стремится поставить свою абстрактную и пустую открытость (с помощью которой он властолюбиво пытается подчинить себе конкретное) на место истинной, основанной на само-сообщении Бога, открытости любви: eritis sicut dii (будьте как боги). Открытость разума есть тварная субструктура, необходимая для требуемого — в благодатном завете с Богом — высшего акта разума, точно так же как индифференция свободы есть тварная субструктура, необходимая для свободного ответа человека непостижимо выбравшему его Богу.
Таким образом, христианская экзистенция может быть открытой на уровне Святого Духа, т.е. собственно любви, которая не возвышается над уже понятыми полюсами и не поглядывает на них сверху вниз с терпеливым видом, но вершится как связь между друг-другу-иным, и при этом совершается воистину больше, чем возможно понять. Вершение Святого Духа в искупленном творении — это Его непостижимая способность вхождения в
216
каждую отдельную, ограниченную, глухую субъективность, быть может, ещё даже не воздыхавшую о духовных далях. Это Его самопогружение в глубины замурованных сердец, в их узкий, до ужаса ограниченный мир, — чтобы извлечь их, с «неизреченными воздыханиями», к свету и теплу любви. Такова в действии благодать (charis)Бога. Харизма христиан есть получение части в этой милости Божественной любви совершенно-иным, не поддающимся систематизации способом и тем самым -посредничество между уникальностью каждой духовной личности и уникальностью мировой Божественной любви.
в) Неизбежность апокалиптического
Однако именно это опосредование тем труднее, чем мощнее реализует себя мирская открытость разума и чем отчётливее она противопоставляет себя — через «саморефлексию ноосферы», т.е. в непременной попытке интеграции всех частичных точек зрения в общечеловеческом совместном мышлении — единству Божьего завета, релятивизирующему разум в целом. Здесь выходит на свет историко-теологический смысл вопроса, и здесь следует обосновать теологическое утверждение, что существование христианина в самообъединяющемся мире становится всё труднее1. Это происходит не потому, что христиане испытывают внутренние трудности при участии наравне с нехристианами в культурной работе или в открытом и настроенном на взаимопонимание диалоге в плоскости диалогического разума. Причина, скорее, в том, что замыкающийся на самого себя мировой разум может действовать не иначе, как толерантно-релятивизирующим образом и — со своей колокольни — предъявляет христианству унижающее требование: христианство тоже должно понять себя релятивистски, как оно только и понимается другими, т.е. нехристианами. На этой границе, однако, христианское свидетельство
1 Н. Schlier: Jesus Christus und die Geschichte nach der Offenbarung Johannes’. In: Einsichten. Festschrift Gehr. Krüger (1962) 316—333.
217
истины становится свидетельством жизни и свидетельством крови (martyrion).
Этот историко-теологический закон подкрепляется апокалиптическими высказываниями Библии. Можно сколько угодно «демифологизировать» эти высказывания, можно выворачивать наизнанку их образный язык, преломляя их через призму конкретного времени или общей природы человека, — ядро этих высказываний не становится менее твёрдым: мировая история всё больше превращается в борьбу двух духов, и чем большую силу будет набирать мировой дух, тем в более трудном положении внутри мировой истории будет находиться Дух Божий. Любовь многих охладеет. Всё многочисленнее будут становиться эрзац- формы истинного христианства. Третий зверь, вышедший из земли, уподобится Агнцу, но говорить будет, как дракон, и настолько обольстит всех живущих на земле, что всякий не поклонившийся образу зверя будет убиваем. «...Всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их, или на чело их, и... никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание» (Откр 13. 15-16). Замкнувшийся на себя мировой дух станет мировой властью, делающей невозможным существование в этом мире для того, кто противится этому самозамыканию. Универсальный мировой дух, «открытый разум» исключает из общения всякого, кто понимает общение иначе, чем он. В этом и состоит его триумф как разума, ибо тот, кто исключён им из общения, на самом деле исключил себя сам, проявив тем собственное неразумие.
Если Бог, непостижимо избирающий, нисходит в человечество и избрания Его всегда бывают «без раскаяния», то невозможно, чтобы мировая история развивалась без чудовищного и притом постоянно растущего драматизма. Именно те, кто принимает идею развития духа (как, например, Владимир Соловьёв, который следовал в этом Шеллингу и Гегелю), которое не может быть ничем иным, кроме возрастающей интеграции, — если они продолжают свою мысль в христианском направлении, неизбеж-
218
но приходят к надвигающейся апокалиптической альтернативе, как она образно описана в «Повести об антихристе». Сам факт христианства в истории, в силу своего здесь-бытия, приводит к тому, что «самозамыкающаяся ноосфера» явным образом перемещается под знак «анти-». Становится понятным пафос слов Христа, которые, на основании Божьего избрания, оставляют призванного человека в состоянии «или-или». Откровение извлекло его не только из укрывающего материнского лона объемлющей природы (человек осевого времени уже и так его покинул), но также - из укрывающей анонимности первоосновных мировых шифров. Человек уже не мог более оставаться под их знаком, не говоря тем самым «нет» Божественному знаку Христа. И, раз сказав такое «нет», он волей-неволей оказывается в состоянии уязвимой открытости, к которой призывает его избрание Божьего завета, - но без укрывающей любви этого завета. В такой уязвимой открытости он остаётся один, и поэтому «замыкание ноосферы» становится не триумфальным вступлением в собственные права, но — жестом самозащиты и мирового страха, выпускающим на волю все демонические силы самоё себя не понимающей свободы. Все глубины этого состояния уязвимой открытости по-настоящему вскрываются, если мы рассмотрим ещё один аспект интеграции: тему власти.
2. Тема власти
а) Власть в порядке природы, благодати, спасения
Всё сущее, в силу своего бытия и своей сущности, имеет власть и утверждает себя вопреки Ничто и вопреки Иному. Будучи тем, что оно есть, всякое сущее действует в своей среде и в мире. Чем глубже внутри находится его образ, тем сильнее его действие вовне. Там, где жизнь становится духом и достигает свободы, сущее с новой мощью преодолевает собственные возможности, чтобы, отказавшись от оставленного внизу мира, лицом к лицу встретиться с Безусловным. Свободная встреча людей
219
друг с другом заставляет звучать все регистры власти. Уже чистое самораскрытие в медиуме языка составляет могущество, это же можно сказать о всех других, подчас радикально противопоставленных друг другу, видах сообщений в их неисчислимых вариациях1. Между тем, любая реализация власти между людьми или любыми тварными существами требует медиума, способного воспринимать её импульс; претерпевание может совпадать с волей этого медиума (и тогда оно само обретает качество властности), или не совпадать с ней (и тем самым — проявить себя бессильным, лишённым защитной власти), или, наконец, быть добровольным претерпеванием, приемлющим свой удел. Чем выше поднимается жизнь к духу и свободе, тем больше возможностей таит в себе состояние чисто физической побеждённости (ср. преобладание самых сильных животных в стаде или состояние гипноза) для преображения своей подчинённости и бессилия в свободное духовное приятие — там, где до этого была лишь безмолвная резиньяция перед лицом всеобъемлющих предписаний природы и судьбы.
Согласие на бессилие, которое может быть дано духом, вызывает вопрос: в каком отношении, применительно к категории власти, находятся друг к другу жизнь и дух, биос и логос, «инстинкт» и «разум»? В этой связи возможны три систематических подхода. [Первый:] дух есть качественно более высокая ступень живого и, таким образом, 'знаменует собою повышение могущества сравнительно с этим последним: дух и живое тело взаимно сопряжены друг с другом как две властные сферы, из которых одна, высшая и сильнейшая, правит второй. Другой взгляд приписывает всю власть духу и рассматривает тело и инстинкт как сферу пассивно- послушного выполнения приказов. И наконец, согласно последнему подходу, дух и жизнь настолько противостоят друг другу, что власть приписывается телу, а духу — лишь функция надзора при
1 Richard Hauser: Die Macht nach katholischer Ethik. In: Von der Macht (Hannover 1962) 187-204. Онже: Macht. In: Handbuch theologischer Grundbegriffe II (1963), c библиографией.
220
полном (биологическом) бессилии, и таким образом дух, чтобы достичь своей цели, должен привести в действие не принадлежащие ему жизненные силы. Эта система (разработанная поздним Шелером1) резко противопоставляет себя системе второго (платонического) типа, первый же тип уравнивает обе сферы, однако под тем условием, что обе они должны быть признаны лишь в их относительном могуществе и взаимной тварной приуроченности друг к другу. Дух может осуществить максимальную власть по отношению к жизни, но то же может и жизнь в отношении духа. В обеих сферах царит бессилие, так как цельное духовно-телесное создание распоряжается не изначальной властью, но лишь полученной от единого всевластного Бога и потому само по себе, в сравнении со своим Творцом, абсолютно бессильно, хотя и облечено Им в высшие формы со-властия2.
В этом месте возникает теологический, а с ним и историко-теологический вопрос. Несомненно, кульминация рассказа о сотворении мира приходится на акт облечения наделённого духом человека царственной властью над всей мировой природой (Быт 1. 26-29), правда, при ощутимой зависимости этого свободного управителя от единственного и абсолютного Носителя власти (Быт 2. 9, 16-17); и таким образом человек как чистое творение добивается максимального раскрытия своей власти, причастником которой в позитивно-активном модусе его сделал Бог. С другой же стороны, человек как
1 Однако её предваряет уже эсхиловский «Прометей», в котором «древние» боги и титаны, представители власти, оказываются порабощены новыми олимпийскими богами во главе с Зевсом — представителями духа. При этом титан Прометей, сражавшийся на стороне Зевса (т.к. духу требуется власть, чтобы прийти к власти), позже был прикован к скале слугами Зевса Кратосом и Бией (силой и принуждением). Бунт власти против духа, изображённый в первой, единственно сохранившейся части трилогии, должен разрешиться примирением двух царств в последующих частях. Однако Эсхил показывает, какие бездны скрывает за собой проблема взаимоотношения власти и духа.
2 Erich Przywara: Entis, 2. Auflage (1962) 127-141, по мере восхождения от негативной к позитивной и, наконец, активной потенциальности в творении, но и — к основоположению целого в отношении взаимного инобытия с Богом.
221
«партнёр» Бога по их общему завету, как призванный Божьей милостью к интимной близости с Ним (что первыми испытали Адам и Ева), — становится уже в другое отношение к власти. Находясь в сфере благодати завета, человек изначально и прежде всего есть то существо, перед которым, для которого и в отношении которого проявила себя и развернулась всевластная любовь. И, допуская и признавая откровение этой всевластной любви, человек — именно тем, что он с любовью допускает и признаёт её свершение, — облекается непостижимым со-властием с благодатной властью Бога. Если в порядке творения человек по преимуществу мужествен (как властелин мира), то в порядке благодати он по преимуществу женственен (как приемлющее лоно для чуда Божьей власти).
Но как происходит, что грех нарушает эти отношения власти? Грех — это самонадеянное присвоение Божьей власти; в природном порядке он проявляет себя как титанизм в отношении к миру, в порядке благодати — как безлюбовный отказ проявить приемлющую любовь к любви всевластной. Как можно устранить это двойное искажение искупительной Божьей любви, не затронув при этом подлинной человеческой свободы, без насилия над его свободной любовью? Всё библейское откровение является ответом на этот вопрос - ответом чрезвычайно дифференцированным, учитывающим все аспекты власти в истории спасения. Чтобы полностью раскрыть данную проблему, следовало бы поговорить о власти Бога, которая определяет, ограничивает и раскрывает власть человека; о власти и полномочиях Божьих «представителей», судей, царей, пророков; о власти и бессилии Израиля; о начальстве (exousiai) Сына Божия; о могуществе Его учения, чудесах, смерти и воскресении; о власти апостолов, Церкви в целом, священников, мирян. Но непременно следовало бы ещё сказать о власти человека в раю, затем — в состоянии первородного греха, в благодати и славе, а также — о власти змея, сатаны, антихриста, о власти «начал мира» (exousiae).Здесь мы сможем выделить лишь несколько основных мыслей, которые понадобятся нам для различения между собственно теолого-исторической проблемой власти и чисто философско-историческими (соответственно, психолого-социологическими) вопросами, которыми мы не будем здесь заниматься. Для того
222
чтобы чётко провести это различие, имеющее принципиальную важность, необходим некоторый экскурс.
Библия располагает дифференцированной терминологией для всех аспектов власти. Имеются имена существительные δύναμις (способность к самостоятельному действию), κράτος и ισχύς (актуальная возможность действия и достижения, физическая и духовная сила), εξουσία (могущество в смысле уполномоченности, правоспособности, легитимного владычества, превосходства); все эти термины допускают адъективацию. Из имеющихся глаголов следует назвать δύναμαι, δυνατέω, ενδυναμόω, εξουσιάζω; транзитивные: ενισχύω, στηρίζω,пассивные: (εν)δυναμουμαι, κραταιουμαι. Должны быть также упомянуты слова, выражающие злоупотребление властью, насильственное её применение: κατακυριεύω, κατεξουσιάζω.
О таких случаях напоминают слова Иисуса (Мк 10. 42): Scitis quia hi qui videntur principari gentibus (δοκουντες αρχειν) dominantur eis (κατακυριεύουσιν αυτών), et principes eorum potestatem habent ipsorum (κατεξουσιάζουσιν αυτών),которые находят горькое подтверждение в другом месте (Лк 22. 25-26): именно эти люди «благодетелями называются. А вы не так...» Момент насилия в применении мирской власти нет необходимости искоренять: Павел (Рим 13. 1-7) советует христианам подчиняться мирскому начальству (exousia), поскольку все начальства (exousiai)происходят от Бога и даже упорядочены (τεταγμέναι) самим Богом и являются Его слугами (διάκονος).Они нужны для того, чтобы внушать страх злым (Рим 13. 3, 4), так как закон установлен не для праведных, но для неправедных (1 Тим 1. 9), — «ибо он [начальник] не напрасно носит меч». Подчинение настолько необходимо (αναγκη),что «надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести» (Рим 13. 5). Наставление Петра слугам: «со всяким страхом повинуйтесь господам (δεσπότης),не только добрым и кротким, но и суровым» (1 Петр 2. 18), эхом повторяет слова Иисуса и слова Павла. И Пётр, и Павел теологически подкрепляют и обосновывают своё требование указанием на поведение Христа, который несправедливо пострадал (1 Петр 2. 21 и далее), к которому обращено всякое повиновение (Еф 5. 6-
223
7; Кол 3. 24) и в котором трансцендируются все мирские «звания» — настолько, что всякое имманентное сомнение относительно градаций власти становится излишним (1 Кор 7. 20—24).
Структура этих текстов позволяет выявить основополагающее различие, согласно которому и будут упорядочены наши дальнейшие размышления.
1) Библейское откровение свершилось не для того, чтобы принципиально устранить или поставить под вопрос властные отношения в порядке творения. Gratia supponit naturam (благодать поддерживает природу). Библия предполагает созданную Богом тварную власть, как индивидуальную (физическую и духовную), так и социальную (в семье и государстве). Эта существующая власть в силу причастности к первородному греху и из-за актуального человеческого греха подвержена злоупотреблению, но от этого она не перестаёт быть благим Божиим творением. Приведённое утверждение может быть понято в субъективном преломлении: fides supponit rationem (вера поддерживает разум), иначе: revelatio (theologia) supponit philosophiam (откровение поддерживает фиософию). Теология власти предполагает философию власти; благоговение Бога перед Его творением в том, что Он не подменяет и не предваряет того, чего оно может достичь и открыть своими силами (как отец, который выполнял бы за сына домашнее задание), но открывает человеку в глубине своего сердца то, что тот в принципе не способен увидеть и понять самостоятельно. И сказанному отнюдь не противоречит, что этот выбивающийся из Божественной глубины свет тем не менее предстаёт творению и его разуму как неслыханный дар и помощь во всех областях природы (Vatic. I sess. III с. 2).
2) Формальным объектом библейского откровения остаётся единоличная Божественная власть благодати (в отличие от той власти, которая уступлена твари Богом в порядке творения) как она окончательно явлена во Иисусе Христе, который, будучи Человеком, но не просто, а Бого-Человеком, в качестве — вообще — Сына Человеческого, в качестве Брата
224
всех людей и Главы всех «членов» позволяет Божественной власти имманентно войти в человечество. Всякое понимание христианской теологии власти неразрывно связано с осознанием этой открывающей себя (во Христе, в Церкви, в космосе) Божественной власти как исключительной и реальной власти благодати (ср. противопоставление χάρις и νόμος, Ин 1. 12), власти единоличного Бога, который, однако, заходит столь далеко, что уступает людям власть над этой властью (εδωκεν αυτοις εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι,Ин 1. 12).
В конкретном человеке, однако, и в его конкретной истории власть творения и власть благодати необходимо сталкиваются между собой (причём вторая, в соответствии с формулой, non destruit, sed supponit, elevat, perficit - «не разрушает, но поддерживает, воздвигает, совершенствует»), и из этого столкновения вырастает труднейший вопрос человеческой этики. Этот вопрос тем сложнее, что власть творения включает в себя сущность космических начальств вместе с их тёмными для человека, нейтральными, добрыми, опасными и дурными знаками. И таким образом человек, как своего рода точка приложения противоборствующих сил, оказывается вовлечённым в великую борьбу между Божиим все-властием (παντοκράτωρ)— и начальствами и мироправителями этого космоса (άρχοντες τον κοσμου τουτου), борьбу на стороне Бога adversus principes et potestates, adversus mundi redores tenebrarum (κοσμοκράτορας τον σκότον),для которой потребен весь военный арсенал Бога (παν—οπλια τον Θεόν), но-Ъога благодати, и никакое другое оружие здесь не пригодно (Еф 6. 12 и далее).
Так, в конце библейского откровения, представляет дело Павел. Однако если на основании этих текстов можно сделать вывод об отнюдь не «пацифистском» характере Библии, то другие, ветхозаветные тексты столь же мало позволяют увидеть в ней какое-либо одобрение войны (будь то гражданской или священной). Здесь также откровение не уничтожает и не ставит под сомнение сложившийся порядок творения, даже и там, где первородный грех привёл к искажению изначально устроенной власти. Тот факт, что к её осуществлению примешивается насилие (между людьми и го-
225
сударствами), с самого начала прямо устанавливается и заранее предполагается. И лишь способ, каким новая власть Божественной благодати увязывает себя с этим искажённым порядком власти творения, как она использует эту последнюю, как приспосабливается к ней, её терпит и изнутри преодолевает, — всё это меняется в зависимости от стадии приближения к окончательному Слову Бога, Христу. Хотя прогресс откровения может совершаться так, что последующие стадии содержат имманентную критику предыдущих, однако это не означает, что они заменяют их по принципу противоречия (как истина противоречит извращению). Ветхозаветное откровение знает преходящие идеологии, которым приходилось преодолевать себя, вырабатывая всё более глубокий и точный образ грядущего Христа. Поначалу Яхве вступает в борьбу национальных богов, чтобы явить себя (зачастую посредством войн, завоеваний, истребления народов) более сильным, истинным и, наконец, единым Богом. Более ранние библейские образы Бога подвергаются критике не как ложные, но как несовершенные. Вознесение Илии на Божью гору Моисеева завета научило его, что Бог являет себя не в огне и буре, но в «веянии тихого ветра». Культура и религиозное сознание Израиля проходят все социологически нормальные стадии, а равно и литературные формы, в которые они себя облекают: песнопения героического века имеют свои законы превознесения и прославления власти, более поздние эпохи, бросая взгляд в прошлое, с упрёком, но и с робостью вопрошают Бога, не изменил ли Он древним идеалам, коль скоро не являет более своей власти и своих чудес (Пс 89). Но как бы ни менялись культурные и социальные этапы, а вместе с ними, согласно их феноменальному образу, — воплощённая в каждом из них Божественная власть, всё же эта цепь образов остаётся, всё более явно с ним сближаясь, откровением единственной, верной себе энтелехии, — настолько, что неизменный смысл ранних стадий может быть познан и прочитан в Библии именно исходя из позднейшей рефлексии самопонимания Израиля и последних редакций его священных книг. Библия не только читается от более поздних частей к ранним: от пророков — через царей и судей — к началу;
226
она и составлена (согласно её последнему всеосмысляющему образу) точно так же: от конца к началу- и охватывает последними, самыми крайними скобками все пока ещё не развёрнутые теологические схемы, с тем чтобы завершающее целое включило их в себя - как необходимые исторические стадии процесса, который получает своё толкование только с исторической точки зрения.
Поэтому в отношении Ветхого Завета чрезвычайно важно всегда иметь в виду превышение Божьего слова над всеми фазами, в которых оно воплотилось и к которым обращено своей сущностной стороной. Возьмём один из весомых примеров: когда пророки от имени Бога бичуют социальную несправедливость в Израиле, — праведные ограблены и подвергнуты насилию, неправедно разбогатевшие захватили власть и торжествуют, - то эта фаза откровения, воплотившегося в сфере социальной справедливости, хотя и является недосягаемо высокой внутри данной сферы, всё же не содержит в себе последнего слова откровения о проблеме власти. Подвергнутый насилию «бедняк» Божий будет властью Бога оправдан и возвышен таким образом, который выходит за рамки поля зрения и предчувствия пророков. И ради этой Божьей власти, как она окончательно явлена во Христе, совершается каждое библейское откровение, на каждой исторической стадии приближения, которые необходимы для вочеловечения Бога, а значит — для понимания Бога человеком. Ибо что могло бы означать для человека откровение внутренней любовной власти Бога, если бы человек, веруя, не обретал внутреннего понимания?
Подобное понимание, однако, глубоко укоренено в творении и неотделимом от человеческого духа способе познания - как principium et finis mundi.Впоследствии всё благодатное откровение Божьей власти будет основываться на этом первичном понимании, постоянно предполагая наличие пропорциональности между Богом и человеком, углубляя её, расширяя, превышая, пробуя на разрыв, — но никогда не разрушая. Всё это будет показано в следующем разделе. В дальнейшем нам особо предстоит выяснить, как возможно, что вся явленная и засви-
227
детельствованная в откровении власть есть не что иное, как любовная власть триединого Бога.
б) Пропорциональность власти
Для Священного Писания все-властие (παντοκράτωρ, отnipotens)Бога является Его очевидным свойством: начиная с Ветхого Завета оно сияет ярчайшим светом вместе с Его святостью и благом. Не случайно всевластие часто именуется рядом со «славой» (т.е. явно различимой Божественностью Бога в её явленности) как δόχα της ισχύος αυτόν (Ис 2. 10, 19, 21), и эта связь удерживается и в Новом Завете (Мк 13. 26; 2 Фес 1. 9; Кол 1. 11). Павел говорит о вечной δύναμις και θειότης, чтобы обозначить то, что изначально доступно человеческому познанию в тварном мире (Рим 1. 20). Однако приведённое место из Кол 1. 11 свидетельствует также, что откровение вечной Божественной власти — это не подобие спектакля, который Бог представляет своему творению для простого созерцания или для подавления и угнетения малой тварной власти Божественным всевластием. Напротив, речь идёт о некоем со-общении, т.е. о при-общении к Божественному все-властию: εν πάση δυνάμει δυναμούμενοι κατα το κράτος της δόξης αυτου,о все-сильном усилении человека, которое как таковое соответствует (κατα = «согласно») особой силе Божьего господства. Не только перед лицом человека, но и в нём самом должна раскрыться, открыто проявить себя и тем самым стать откровенной Божественная сила. Исполненная силы ответная человека на силу Бога включает в себя содействие этой Божественной силы. Это ответ, который в действительности даёт человек как сотворённое естество, но даёт силой Божественной любви и благодати. Эта пропорциональность должна быть проиллюстрирована на нескольких примерах.
1. Иисус говорит с народом притчами, смысл подобного (наряду с другими) способа обращения состоит в приспособлении к вос-
228
приятию слушающих: καθώς ηδυναντο αχόυειν, prout poterant audire(в смысле понимания): Мк 4. 33. Это такое же приспособление, о котором столь поразительно сказано в притче о талантах: каждый получает по своей силе, εκάσιω κατα την ιδίαν δύναμιν (Μφ 25. 15). В горнице Тайной Вечери, где приходит последний час Слова Божия (Ин 13. 1), Иисус говорит открыто и не прибегает к притчам (Ин 16. 29), но и здесь Он сдерживается, чтобы не превысить понимания учеников: «Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить» (Ин 16.12). Ту же самую oikonomia видим у Павла: «Я питал вас молоком, а не твёрдою пищею, ибо вы ещё не могли» (1 Кор 3. 2). И другое, ещё более сильное место (потому что оно не содержит упрёка): «Бог... не попустит вам быть искушаемыми сверх сил (id quod potestis), но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли (possitis) перенести» (l Кор 10.13). Это соотношение между тем, что человек «может», и дарованной ему благодатью (предстающей как слово, сила, но и как искушение) способно — с человеческой точки зрения — доходить до пределов Божественного максимума и человеческого минимума, так что требования благодатной власти кажутся чрезмерными для человеческой натуры: Павел был отягчён «чрезмерно и сверх силы» (καθ υπερβολήν υρερ δύναμιν),и эта тяжесть лишает его всякой радости жизни, как будто теряющей от этого свою важность и смысл (2 Кор 1. 8). Однако именно такой диапазон тут же истолковывается им как приучение к «вере-надежде» не на себя, но на Бога, воскрешающего мёртвых (2 Кор 1. 9), благодаря чему Павел становится примером для всей общины. Всё это — наследие того, кто под грузом сверхтребования на Елеонской горе «был укреплен» (ενισχύω) — но не с тем, Он облёкся собственными силами для преодоления отпущенных Ему страданий, но чтобы Он в человеческом обморочном бессилии выстоял под тяжестью сверхтребовательного Божественного всевластия.
2. То, что Божественная власть входит в соотношение пропорциональности с человеческой властью, видно уже по тому, что слово Иисуса представляется Его слушателям, и в частности
229
врагам, как имеющее человечески-духовную власть, которая вызывает соответствующую реакцию. Когда иудеи «...не могли отвечать Ему на это» (ουκ ισχυσαν αντ-αποκιθηναι προς τανταЛк 14. б), то эта их подчёркиваемая неспособность к ответу имеет причиной не внешнее подавление, но честное внутреннее размежевание разных духовных сил. Иудеи вступили в борьбу, они пытались, но «не могли (ουκ ισχυον)уловить Его в слове перед народом... и замолчали» (Лк 20. 26). То же происходит со Стефаном: иудеи «не могли (ουκ ισχυον)противостоять мудрости и Духу, которым он говорил» (Деян 6.10).
3. Центральный акт веры, акт признания явного превосходства Бога в знании и силе, должен быть человеческим, духовно ответственным актом, аналогично тому, как и между людьми в тварном (неповреждённом) мире властные отношения предполагают, что воспринимающий позволяет событию свободно совершаться и что он жертвенно открыт ему навстречу. Так же обстоит дело в сфере отношения полов: зачинающая «власть» мужчины - ничто без жертвенной отдачи женщины, которая позволяет мужчине «властвовать» в ней. Точно так же (согласно Песталоцци) педагогическая власть учителя тем больше, чем охотнее и глубже принимает и воспринимает её душа ребёнка. И даже политический руководитель, чтобы продлить свою власть, должен быть любим своим народом. Все естественные религии, в которых есть внутренняя истина и жизнь, основаны на схожем отношении человеческой открытости, жертвенности, готовности, прозрачности для Божественной власти; там же, где спонтанное Божественное откровение не познано как всегда наличное и действенное, приходится развивать эту прозрачность собственными силами с помощью религиозной «техники», что почти в классическом виде имеет место в дзен-буддизме. Первое, с чего начинает Христос (новый «великий пророк», который «восстал между нами», Лк 7. 16), — и иначе просто не может быть, — это то, что Он являет сердцам доверчивую прозрачность по отношению к Богу и приучает их к такому состоянию. При этом Он поначалу играет
230
ту же роль помощника, посредника, подателя сил, что и йог по отношению к своим ученикам. Слова отчаявшегося отца: «если что можешь» (ει τι δυνη,Мк 9. 22) — выражают сначала желание полностью положиться на предполагаемую власть Иисуса, однако Иисус подхватывает эти слова, превращая их в вопрос: «Ει τι δυνη?», — ты думаешь, что Я один могу всё, а ты — ничего? «...Всё возможно верующему» (πάντα δυνατα τω πιστευοντι). Но кто же этот верующий? Это не может быть ни человек без Христа, ни Христос без человека, но только, уже здесь — в духе вероучения Павла, — человек, положившийся на Христа, смогший в благодати веры Христа (πίστις Ἰησου,не различая genitivus subjectivusи genitivus objectivus! Рим 3. 22, 26; Гал 2. 16, 20; 3. 22; Еф 3. 12; Флп 3. 9) совершить акт своей человеческой веры1. Именно в этом смысле Христос говорит своим ученикам не то, что они ничего не могут, но — что они ничего не могут без Него: sine те nihilpotestes facere (Ин 15. 5), и впоследствии это найдёт своё отражение в торжествующем возгласе Павла: «Всё могу (πάντα ισχύω)в Укрепляющем меня» (εν τω ενδυναμουντί με,Флп 4. 13). Это похоже, если вновь воспользоваться мирским примером, на то, как жена может сказать своему мужу: «Без меня ты не можешь ничего, со мною - всё. И я всё могу через тебя, который меня укрепляет». Сколь неизмеримо высоко власть Бога в своей суверенной, никому не обязанной самостоятельности поднимается над всякой тварной властью, столь же сильно Он хочет, действием своей благодати, охранить тайну завета между двумя противоположностями, подобно тому, как Он уже вложил её в своё творение и явил в откровении как свою внутреннюю тринитарную тайну.
4. Возглас Павла: «Всё могу...» - следует поэтому воспринимать не как благочестивое преувеличение, но как выражение причастности к вере в Божественное всевластие — поскольку это последнее, согласно Божьей воле и Божьей мудрости, позволяет
1См. моюстатью «Fides Christi» в: Sponsa Verbi (1961) 45—79.
231
творению приобщиться к себе в порядке икономии спасения.
Эта икономия предполагает вживание человека в духовный настрой Иисуса Христа, т.е. в Его послушание, которому, однако, открыта и дана в распоряжение вся спасительная воля Отца. Отсюда: «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю» (Ин 14. 13) и «...если вы будете иметь веру с горчичное зерно... ничего не будет невозможного для вас» (Мф 17. 20). Эта вера как совершенная детская преданность — в противоположность шизофреническому «раздвоению души» (διψυχία)из Послания Иакова (выражение, подхваченное Ермой в его «Пастыре» и, в средневековье, Вольфрамом фон Эшенбахом в «Парцифале») — как простота взгляда, устремлённого прямо на Бога (Мф 6. 22), есть предпосылка и результат единения с Богом, когда Божественная власть предаёт себя преданной Богу твари.
Подобная обоюдность (которая не даёт воле творения утонуть в воле Бога, как это происходит в мистических учениях разных народов, но, напротив, сохраняет её) являет собой столь глубокую тайну, что для её обоснования не обойтись без таинства тринитарности. Лишь тот факт, что Сын (который во всём подвластен Отцу и всё же имеет над Его сердцем полную власть) даёт нам часть в своей любовной власти, позволяет истолковать следующее место из Пролога Иоаннова Евангелия (1. 12): «dedit eis potestatem (εχουσιαν) filios Dei fie ri».Ибо из этих слов ясно, что чадами Божиими нелегко распорядиться, но что власть быть таковыми принадлежит им самим, правда, как власть уступленная, однако данная им во владение столь интимно, что они вправе заявить Отцу свои сыновние права. Причём права не только юридического, но бытийного порядка, ибо они, чада, «от Бога родились» (Ин 1. 13).
в) Власть любви и самоограничение свободы
Теперь, когда мы увидели, каким образом благодатная власть Бога являет себя в естественном могуществе творения, нужно
232
разобраться в сущности самой Божественной власти как она выступает в библейском откровении. Она является исключительно властью Божественной любви, которая искупительно действует в мире на человека и через человека, оправдывая его и исцеляя.
1. Прежде чем представить её внутреннюю сущность, следует убедиться в её необходимости для человека, удалённого от Бога. Первородный грех как утрата взаимного характера любовных отношений между Богом и человеком, имевших место в раю, означает для человека потерю упомянутой выше «власти быть чадом Божиим», хотя от самого желания быть таковым человек отказаться не хочет и не может. Ибо в силу своего призвания и определения к (надприродному) причастию Божественной любви человек не может отказаться от принадлежащей ему de jure привилегии, которую он, однако, потерял de facto, когда попытался единолично присвоить себе власть над Богом, которой он мог бы владеть лишь через Бога и в Боге. Таким образом однажды совершённый грех необходимо получает своё продолжение, поскольку человек стремится собственными силами отвоевать потерянную привилегию, в чём как раз и состоит первородный грех. Здесь в отношениях с Богом действует тот же закон, что и между любящими людьми: обидчик не может силой вынудить обиженного к прощению, и чем настойчивее он всё же пытается это сделать, тем сильнее нарушает закон взаимной любви. Грешнику явно указано на свободно проявляемую Божественную инициативу любви (gratia praeveniens), чтобы он мог вновь обрести — не только Бога, но и себя самого в Боге, вернуть себе в Нём последнюю внутреннюю свободу, без которой он не может подняться до того внутреннего единства, до той поляризации всех своих психических, физиологических и физических способностей, что только и могут обеспечить полное воплощение его духа в мире (посредством любви). Если учесть также, что в человечестве нет обособленных, замкнутых индивидов, что между людьми как центрами сознания существует взаимосвязь, и не только
233
ratione materiae (communis), но также и ratione spiritus (поскольку истинный образ Бога заключён в самой взаимности отношений мужчины и женщины, Быт 1. 27), то станет ясно, что разрушение изначального любовного отношения к Богу и выросшая из этого разрушения диалектика бессилия и насилия неизбежно переходят (как это показано прежде всего Августином) в подобное же диалектическое отношение внутри мира: в индивиде (как и во взаимоотношении полов) — между «духом» и «плотью», в политико-хозяйственной области — как многообразные нарушения равновесия с последующими попытками его принудительного восстановления. Линии наблюдения за этой неотменяемой, в тисках первородного греха, диалектикой религии и этики тянутся от Августинова «Града Божия» (с его теориями о первородном грехе как нарушении отношений душа—Бог и душа—тело, о насильственном характере земных властных отношений — по схеме Ассирия— Вавилон—Рим), через Лютера, Янсения, Паскаля к Карлу Барту («Послание к Римлянам»). Физическая и духовная власть действительно дана человеку, который не может освободиться, в частности, и от религиозного искушения, непрестанно пытаясь выработать всемирный гармонический порядок, в котором нашлось бы определённое место и для Бога, но всё это - своей собственной властью, не желающей признать своё полное бессилие вне свободного устремления Божьей благодати к восстановлению утраченного Богоотношения.
На Оранжском Соборе Церковь поддержала эту неотчуждаемую часть истины, выразив её в ав1устиновском духе и с помощью его терминологии: в результате первородного греха свобода и естество человека настолько ослабли (infîrmatur: сап 8, Dz 181, сап 13, Dz 186, inclinatum et attenuatum: Dz 199, laesum: сап 1, Dz 174, perditum: сап 21, Dz 1940), что без Божьей благодати у него остаётся лишь «сила порока»: fortitudinem gentilium mundana cupiditas, fortitudinem autem christianorum Dei caritas facit, quae diffusa est in cordibus nostris, non per voluntatis arbitrium, quod est a nobis, sed per Spiritum Sanctum qui datus est nobis («сила язычников - от мирского хо-
234
тения, сила же христиан - от любви к Богу, разлитой в нашем сердце не по собственному нашему произволению, но действием данного нам Духа Святого», сап 17, Dz 190). Ансельм Кентерберийский в своём учении о свободе («De libertate arbitrii», «De casu diaboli», «De concordia... gratiae Dei cum libero arbitrio») указал пути, на которых можно примирить ядро августиновского учения с (отстаиваемыми Фомой Аквинским и Тридентским Собором, вопреки протестантам) правами природы, даже падшей, которая сохраняет и свою свободу, и свой разум, но лишь не может совершить последнего акта свободы, который необходим для достижения единственной надприродной цели человека и тем самым — для его окончательного освобождения и самоовладения. Всё это соответствует смыслу седьмого правила Оранжского Собора: Si quis per naturae vigorem bonum aliquid, quod ad salutem pertinent vitae aeternae, cogitare ut expedit aut eligere... posse confirmât absque illuminatione et inspiratione Spiritus Sancti, ... haeretico fallitur spiritu (Тот, кто заявляет о своей способности помыслить или избрать некое благо, ведущее к спасению вечной жизни, с целью его (блага) усовершения, бывает обманут еретическим духом, если не просвещён и не одухотворён Духом Святым, Dz 180). Вслед за Августином и Проспером Аквитанским (вдохновителем этого правила) Церковь специально подчеркнула универсальность действия искупления и доступность Христовой благодати для всех людей доброй воли даже и вне Церкви и вне христианства. Если, однако, человеческой власти всё же удавалось иногда освободиться от разрухи и междоусобиц и свободно возвыситься до себя самой, если человек обретал власть над самим собой и таким образом свободно организовывал своё отношение к Богу и миру, то происходило это не иначе, как через благодатное самораскрытие внутреннего пространства Бога.
2. Это самораскрытие внутреннего пространства Бога и есть искупительная любовь. И как бы ни проявлялась Божественная власть в его самораскрытии, это всегда власть и слава Его любви. В том и состоит для Павла Благая Весть, что «равновесие» между страхом греха и уповающим доверием, между устрашаю-
235
щим судом и обетующим искуплением, сохранявшееся после смерти Христа, всё же разрешилось теперь в пользу побеждающей Божьей благодати (Рим 5. 15—21; 8.28—39). «Ибо Сын Божий, Иисус Христос, проповеданный у вас нами... не был “да” и “нет”; но в Нем было “да”» (2 Кор 1. 19). Однако это «да» является деянием и решением Бога, и поэтому включиться в его исполнение, сделать его своим нельзя теоретически-созерцательно, но опять-таки — лишь через деяние и решение. К этому подталкивает и профетически-экзистенциальный язык Библии, который явно противится «систематическому» истолкованию эсхатологии. Лишь так становится понятным, что именно в Новом Завете, где прозвучало миру всеохватное «да» как решение Бога, впервые раздалось также послание ада (вечной утраты подающего благодать Бога), который (как и чистилище) ещё не мог войти в религиозную картину мира Ветхого Завета. Божье деяние любви во Христе, совершённое Им на Кресте (в нисхождении в Богооставленность и смертный мрак), столь драгоценно и столь уязвимо, что оно и не может быть представлено иначе, как на фоне грешного и бесчувственного человека.
Если вся явленная во Христе власть Бога есть власть любви, то невозможно, чтобы во всём космосе благодати, а значит, в Церкви, явилась какая-либо иная форма власти. Также и уступленные Церкви властные полно-мочия (εξουσία)могут быть лишь чистыми приближениями (ре-презентациями) Божественной любви. Поэтому, хотя в Церкви имеется сфера «права» (так как норма лежит выше каждого отдельного человека, точнее, в нормативном отношении любви Бога и человека внутри личности самого Христа и, через Него, - в отношении между Ним как Женихом и не имеющей пятна Невестой Церковью (Марией)), тем не менее это «право» может лишь аналогически согласовываться с правом (падшей) природы, поскольку принадлежность к Церкви принципиально основана на свободном проявлении воли и поэтому исключает всякое принуждение и применение власти. Властные полномочия Церкви лишь постольку распространяются на отдельного человека, поскольку тот
236
исповедует веруй потому признаёт над собой власть Церкви и её представителей вести его, даже вопреки его собственной злой воле, но в согласии с его же, но доброй, волей.
Способ, каким Павел использует свои институциональные властные полномочия, совершенно ясно показывает, что он понимает их не иначе, как выражение и источение Божьей любви во Христе, что их голое предъявление остаётся пограничным понятием, расстояние до которого бывает тем меньше, чем больше удаляются верующие от живого средоточия веровой реальности и приближаются к границе неверующей экзистенции (вопреки Богу и Церкви) (см. прежде всего 2 Кор 13). Сам Христос, как было показано, апеллировал к готовности людей верить, т.е. к их любовной инициативе («...веруете ли, что Я могу это сделать?» - обращается Он к слепым, Мф 9. 28; «и не мог совершить там (где нет веры) никакого чуда», Мк 6. 5; но неверие — это греховная немощь, неспособная воспринять слово Христа: «Почему вы не понимаете речи Моей? Οτι ου δύνασθε ακούειν τον λόγον τον εμόν», Ин 8. 43). Все властные полномочия Церкви — на провозвестие, на совершение таинств, на пастырство — суть власть любви по отношению к согласным и готовым к вере. Эта готовность предполагается уже при крещении как первом вхождении в Церковь (у младенцев она выражается через крёстного отца).
3. Исходное решение Бога: явить в откровении свою власть как любовь, означает некое ограничение Его абсолютной власти (potentia absoluta). Словно бы Божественное правосудие своим спасительным крестным постановлением связало себе руки в отношении грешников. Это самоограничение Бога является в образе послушания Сына воле Отца, утверждённой в виде закона: ου δύναται о υιός ποιειν αφ εαυτου ουδέν (Ин 5. 19); ου δύναμαι εγω υιός ποιειν αφ εμαυτου ουδέν καθώς ακούω κρίνω (Ин 5, 30). Это «не могу» — причина того, что Он не защищается от насильственной мирской власти иудеев и язычников, и ученики Его также отказываются от борьбы, ибо Его Царство не от мира сего (Ин 18. 36).
237
С другой стороны, именно в этом самоограничении Божественной власти любовью заложена абсолютная отмена отграничений и, значит, откровение Божественного всевластия миру: το υπερβοάλον μέγεθος της δγνόμεως αυτου εις ημάς ... κατα την ενεργειαν του κράτους της ισχιος αυτου (Еф 1. 19). Скопление стольких синонимов слова «власть» в этом отрывке, где речь идёт о воскресении Человека Иисуса (умершего и потому бессильного), которое было совершено Богом ради нашего воскресения, показывает, что здесь имеет место экстремальное проявление Божьего могущества. Поэтому самоограничение абсолютной Божественной власти (potentia absoluta) любовью само есть всевластие, ибо оно не вынуждено ничем внебожественным (как, например, Его карающее правосудие вызвано грехом, т.е. требованием восстановления нарушенного мирового порядка), но является, скорее, чистым внутренним самоопределением и поэтому, в соответствии с внутрибожественной сущностью, оказывается абсолютной жертвенной свободой, смирением и любовной самоотверженностью.
Поэтому тайна Божьей слабости, явленной в жизни и страстях Иисуса (и соответственно - в мистическом Теле Христа — Церкви), есть в собственном смысле тайна Его явленного всевластия. Эта тайна, которая не является диалектическим «парадоксом», может быть доверена верующему пониманию в трёх последовательных приближениях, не будучи при этом лишена своей таинственной сущности. Ибо каждая попытка рационального вывода со стороны человеческого разума изначально терпит неудачу, как только являет себя бездна абсолютной Божественной свободы, которая — именно как таковая — составляет одно с вечным Логосом. Мы можем, однако, в благоговейном стремлении к intellectus fidei, сказать следующее:
а) (Любовная) власть Бога предстаёт как более абсолютная, когда она не связана ни с какой тварной властью (т.е. ни с каким мировым законом), но являет себя в своей слабости. Быть жизнью также и в модусе смерти — это принадлежит к высшей компетенции того, кто есть вечная жизнь. Он, так
238
сказать, может себе позволить умереть в обморочном бессилии и «вкусить... за всех» (Евр 2. 9) вечную тьму Богооставленности. «Potestatem habeo ponendi animam meam» — и это ponere потому является столь полным и окончательным, что Он имеет (равную!) власть «iterum sumendiеат» (Ин 10. 18). Такое совершенство власти - по ту сторону полярных тварных антитез (жизни и смерти, потерянности и само-обладания) находит выражение в центральном высказывании Павла: «Placuit Deo (т.е. Его высшей, свободной распорядительной власти) per stultitiam praedicationis salvos face re credentes... Quod infirmum est Dei, fortius est hominibus... Infirma mundi elegit Deus, ut confiindat fortia» (l Кор 1. 21—28). С человеческой точки зрения, этот любовный выбор Богом пути слабости свидетельствует о проявлении major dissimilitudo divina, несмотря на сколь угодно близкое сходство между мирской и Божественной властью: благодаря этой трансценденции какое бы то ни было смешение их исключается. Поэтому христианская вера как устремление поверх собственных - действительных и мнимых — сил в тайну Христовой слабости, в коей «сокрыты» (Кол 2. 3) все Божественные силы, становится благоговейной готовностью к тому, чтобы эта тайна Божьей слабости совершилась также и в человеке, ибо лишь в этой тайне власть Бога наружу: «...довольно для тебя благодати Моей, ибо власть (δύναμις)Моя совершенно прорывается в немощи (ασθενεία)» (2 Кор 12. 9). Но этот акт пребывания в благоговейной готовности и бессилии и есть следование крестным путём Христа, который именно на Кресте полностью явил любовное послушание Отцу. У Павла это сформулировано так: «Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор 12. 10).
б) В этом уже заложено и следующее следствие: слабый оказывает любовной Божьей власти меньшее сопротивление. Не находя более силы ни в мире, ни в себе самом, он как бы по принуждению обращается к Богу и становится
239
особым имением Божиим. Этот специфический аспект тайны искупления привнесён в неё Ветхим Заветом и принадлежит особой традиции anawim Yahwe,проходящей через тексты Амоса, Иеремии и Псалмов1. В более широком смысле, это общеазиатская традиция, состоящая в возвышении над межтварной властью и устремлении в область беззащитности духа, передаваемого Богу. Πραειζ, πτωχοί, ταπεινοί Ветхого Завета - это те, кто в первой заповеди блаженства Нагорной проповеди названы блаженными, потому что они освободили пространство для Святого Духа, как Мария, пустующая для Бога, которая величит в своём гимне «смиренных» («hu mi le s») и которую Бог захотел возвысить, тогда как «сильных» низложил с престолов. Этой же линии ветхозаветной преемственности, находящей полное выражение в Иисусе и Марии, принадлежат «евангельские советы»: невинность как отказ от власти пола (это касается не только женщин, но и мужчин и совершается — ради споспешествуемой Богом плодоносности — теми, кто беден самовластием); нищета как тотальное телесно-духовное состояние отказа от каких бы то ни было собственных властных средств и отдания себя, во имя Бога, в Его распоряжение; послушание как нежелание заранее предугадывать истину и выбор, как чистая прозрачность для Божественной истины и выбора в пространстве Христа и Церкви. В этот же ряд нужно включить также «непротивление», выдвигаемое Нагорной проповедью (Мф 5. 39 и далее), которое по-христиански превосходит индийское непротивление, а также «неозабоченность» (завтрашним днём, Мф 6. 25—34) и добровольную исключительную обращённость к хранящей и одаривающей любовной власти Бога2.
1 Albert Gelin: Les pauvres de Yahwé, Cerf 1953. Нанемецкомязыке: Die Armen — Sein Volk, Grünewald 1957.
2 Cp. могущую служить образцом деятельность Коттоленго в Турине.
240
в) В слабости нищеты Креста (во всех его формах) в итоге обнаруживается Дух (духовность) Бога, как в образе обнаруживается прообраз. Это Дух абсолютной любви, которая в своём свободнейшем самоограничении оказывается по ту сторону силы и слабости, господства и покорности. На этой почве разворачиваются теологии, которые видят в крестной слабости Сына Божия не только (утилитаристский) момент удовлетворения, но и самопредставление глубочайшей сердечной тайны троичности. Так, для Франциска Ассизского и для Таулера нищета Христова есть проявление одного из тончайших свойств Бога, которое можно обозначить как «Божественную нищету». Для Екатерины Сиенской в Крови Христа вполне обнаруживает себя состояние Божьего Сердца, иным образом невыразимое. Отсюда можно вывести шокирующее для такого платоника, как, скажем, Ориген, положение о том, что Отец («наивысший Бог») тоже, возможно, не чужд πάθος; и уже у самого Павла кенозис Сына Божия (результат того, что Он не цепляется за свою Божественность) предстаёт адекватным выражением Его Божественного любовного настроя, а значит, и самого Божественного бытия. И, соответственно, стенающий Святой Дух как στεναμοιγ αλαλήθοις запечатлён во внутренней глубине стенающей твари — как ослабленный заодно со слабыми духами, ограниченный — заодно с конечными, заключёнными в собственной глухой субъективности, запуганными духами, бьющимися в корчах, как дуновение ветра — заодно с общим током мирового процесса, прокладывающего себе путь к явлению Богосыновства. Но христианин — это не что иное, как точка схождения стенаний двух духов, тварного и Божественного: «...но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем (και αυτοί εν εαυτοις), ожидая усыновления» (Рим 8. 19—27). И первый, и второй аспекты достигают здесь преизбыточной полноты, ибо творение не является больше пустой рамкой для присутствия Божественной власти или простым поводом для эпифании суверенного Божественного величия, но — будучи заключено в
241
бессильную форму самоотдачи, непосредственно сливается с абсолютной формой самоотдачи триединой абсолютной праосновы.
г) Историко-теологическая диалектика
Игра любви и власти в ещё не падшем творении уже недоступна нашему разумению, разве лишь в образе игры-тайны, в которой предоставление своего внутреннего пространства для власти возлюбленного оказывает облаготворяюще-усиливающее воздействие на него — с его же помощью: аналогия с половой сферой и здесь оказывается наиболее плодотворной. Однако уже первая, невинная пара была помещена в дисгармонизированный — по крайней мере, на фоне более широкого пространства — мир, в естественную среду властной борьбы за жизнь, пищу, самку или стадо — борьбы жесточайшей, беспощадной и смертельной. Человек, заявивший о своей солидарности с этим дисгармоничным миром, вынужден из чувства самосохранения выработать в себе жёсткость, необходимую, чтобы пробиться вперёд. Он борется за место под солнцем, за женщину, за своих товарищей, борется с судьбой, как Иаков с ангелом у Иавока, борется с Богом, которого он может — в молитве - воспринимать как противника. Жизнь человека — сплошной надрыв, военное ремесло, как называет её Иов. Она ожесточает его, делает то мятежным, то вечно покорствующим.
Когда он, как старый Фауст, отвоёвывает у моря прибрежную полосу или, объединившись с равными себе, отбивает у судьбы какой-нибудь участок экзистенции и обживает его, — тогда он ликует, ещё выше громоздит циклопическую стену, упивается прогрессом своей материальной культуры, грезит об эволюции. Невозможно лишить его этой титанической мечты, как нельзя помешать муравьям всякий раз заново восстанавливать своё разрушенное строение. В голове у него засела неистребимая мысль, будто его закусившая удила воля к движению ввысь есть самое лучшее, богоподобное и, быть может, даже самое Божественное из всего, чем он располагает. Он настолько любит эту волю в себе, что ему ничего не стоит
242
пожертвовать ради неё своей ограниченной индивидуальностью, чуть только здание, в постройке которого он тоже участвует, приближается к завершению. С той же безмятежностью, с какой он наблюдал за окончанием, крушением и гибелью миллионов других жизней, принимает он мысль и о своей собственной гибели.
Как мировая техника интегрирует усилия отдельного человека, направляя их на достижение общей властной цели всего человечества, так и глубокая удовлетворённость победой над другим превращается в общее чувство: нам удалось этого добиться. Мир растёт благодаря нам. Мы вырвались из темницы природы к свободе, подобающей человеку. Мы поставили себе на службу даже разрушительные силы природы: яды должны служить нашему выздоровлению, и кто знает, быть может, со временем мы победим самоё смерть. И если правда, что Бог когда-то умер за нас на Кресте, то разве Его смерть не послужила укреплению жизни и мы не вправе истолковать её действие именно таким образом, с тем чтобы укрепить нашу жизненную власть и черпать из Его смерти новые свободные силы, с верой в свою способность к новым, ещё неведомым воскресениям? Разве Он явился не для того, чтобы изнутри споспешествовать нашему прорыву в царство свободы, и не станем ли мы ещё более усердно воздавать Ему хвалу, если теперь же примем на себя власть этой свободы, — и не в титаническом богоборчестве, как ранее, но окрепнув до совершеннолетия сынов Божиих, уже здесь, на земле, выполняя миропреобразующую работу, которую Создатель Отец доверил своим детям? Gratia perficit naturam! Христу нужны «христиане, открытые миру». Почему сыны тьмы должны всегда быть догадливее сынов света? Мы побьём их на их же собственном поле, и мы ещё благоговейнее посвятим мировые силы Богу, не отказываясь от них, но используя во благо, заставив плодоносить ради Царства Божия, ускоряя прорыв Божьей воли не на небе только, но и на земле.
Эта программа христианского прогрессизма любопытным образом сближается с оппонирующей ей установкой христианского интегризма. Если последний стремится занять позиции зем-
243
ной власти, чтобы возвещать оттуда учение Нагорной проповеди и Креста, то первый использует позиции Нагорной проповеди как внутренние динамические достижения земной власти и прогресса. В результате оба эти учения сводят проблему властных отношений между Богом и миром, между благодатью и природой к некой монистически-обозримой форме, податливой для человека. Между тем, в начале этого раздела мы уже отвергли подобные формулы единства, которые — вслед за Толстым или Ганди — переносят евангельское безвластие в земную, политическую плоскость. Аналогичные формулы единства допускают — в разных вариациях, ср. Константина, Юстиниана, Карла Великого — использование средств мирской власти для достижения Божьего Царства. К подобным решениям, чреватым коротким замыканием, мы, современные люди, стали относиться весьма болезненно, но тем безболезненнее мы воспринимаем современные его варианты, предполагающие столь же непосредственное христологическое истолкование и использование технических средств власти и появившейся благодаря технике мнимой «рефлексии ноосферы». Является ли Крест энергетическим фактором для мирового развития? Христов Крест свидетельствует волю к абсолютному безвластию, к страху, испытанному на Елеонской горе, к позору и горечи, к предательству, отречениию, покинутости, к смерти и крушению, к отказу от всей прежде изведанной крепящей надежды, испытанной веры, всеисполняющей любви. К испытанию этой воли как к своей цели устремлена вся жизнь Спасителя. Каждый, кто хочет следовать этой жизни, должен во всяком случае с безмятежностью ожидать, пока им распорядятся, направив по подобному же пути. И уж конечно, ему запрещено даже надеяться на то, чтобы использовать смертные муки Учителя для своих земных нужд.
Однако подобная покорность высшим распоряжениям в предначертанных Богом страданиях всё сильнее противоречит собственным предначертаниям технизированного культурного прогресса. Этот последний стремится к преодолению страданий любой ценой. Всем видам страдания, как телесного, так и душев-
244
ного, объявлена война. Больные, умирающие и даже роженицы должны прекратить страдать - даже если человек теряет при этом величие и глубину, чистоту и сияние, которые приобретаются болью. При этом, правда, человечество, как никогда прежде, держит наготове средства для продолжения страданий — на случай, если кто-то не захочет подчиниться доктрине всевозрастающей безболезненности. Власть, которая концентрируется по мере увеличения единства мира, не может оставаться нейтральной по отношению к Евангелию Христа. Не может уже потому, что ей не дано войти с Евангелием в какие бы то ни было отношения. Христово Царство «не от мира сего». По отношению к миру оно столь же безвластно, сколь и всевластно. Если бы вся концентрированная мировая власть предложила ему себя в помощь, это предложение пропало бы втуне, ибо «не придет Царство Божие приметным образом» (Лк 17. 20). Если же она захотела бы восстать на Царство Божие, то никого из христиан тем не удивила бы и не обеспокоила, так как это представляет собой изначально предусмотренную, нормальную ситуацию. Христианам обещана мощная и неприметная поддержка Бога. Чем больше мирская власть осознаёт себя и овладевает собою, тем вернее ускользает от её хватки Божие Царство, поскольку оно само целиком подчинено власти Бога. Человек, который «христофицирует» («christifiziert»)материю,-это уже не технический человек, так как Евхаристия остаётся наисвободнейшей самоактуализацией растерзанного и воскресшего Богочеловека.
Применительно к духу, мы видели, что в мирской области (в качестве «открытого разума») он всякий раз начинает пятиться и замыкаться в себе как раз там, где Дух Бога упорно настаивает на разрешении завета-союза как любовного выбора, подлинная же встреча может состояться лишь в апокалиптической сфере; и точно так же дело обстоит с властью, которая в земном круге неизбежно устремляется вперёд — мимо обморочного безвластия Креста — или пытается поглотить Крест и употребить его с пользой для себя, между тем как в Божественной перспективе она может достигнуть престола
245
всевластия лишь через безвластие смерти и преисподней. Но то, каким образом исходящие из благого творения позитивные ценности тварной власти оказываются вовлечёнными в расчёты мироискупительной власти Бога и бывают использованы ею, — остаётся для мирской власти, ей в соблазн, абсолютно скрытым и непрозрачным. Согласно Павлу, властные мироправители, архонты, были «обезоружены» (καταργειν),но каким образом они были взяты на службу, не говорится. Поскольку все они являются мирскими властями, восставшими против Бога, то, по свидетельству Откровения, они должны быть брошены в огненное озеро на самопожрание. Но не прежде, чем они окружат своей силой и подвергнут (будто бы нерушимой) осаде «стан святых и город возлюбленный» (Откр 20. 8) и антихрист, «которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением», войдёт в доверие к тем, кто «не принял любви истины» и кто «будет верить лжи» (2 Фес 2, 9 и далее).
246
IV. СОБИРАНИЕ В СЛОВЕ
А. СЛОВО И ИСТОРИЯ
1. Прорыв вовне
Человек имеет своё сущностное слово (глава II), история - своё (глава III). То обстоятельство, что человек и история встречаются и взаимно проникают друг в друга внутри некоего другого, объемлющего их слова (глава IV), подводит нас к теме первой главы на более высоком уровне. О том, что человек и история приурочены друг к другу, что человек несёт образ истории, а история - образ человека, сказано уже неоднократно. Человек существует в трансцендирующем прорыве из самого себя — не только на уровне непосредственно окружающего его мира, но и на уровне мира и бытия в целом. Поскольку ему — пусть совсем неясно — брезжит бытие в целом, постольку он является человеком и постольку он брезжится самому себе как дух. И постольку он вступает в область свободы, которая и достигает реальности, и при этом дистанцируется от всего единичнореального. Но это парадоксальное единство единения и отстояния составляет чудо языка1, в котором власть живого человека сделалась
1 Историко-теологическое описание слова в принятом здесь смысле составляет в настоящее время лишь едва намеченную дисциплину. Контуры её отчётливо обозначены у Гамаиа и Франца фон Баадера (напр., в письме Юнгу Штиллингу от 5.9.1815), у Эбнера (Das Wort und die geistigen Realitäten), Теодора Хэкера (Theodor Haecker: Essays 1958), Лео Вайсмантеля (Leo Weismantel: Der Geist als Sprache 1927), Макса Пикарда (Max Picard: Der Mensch und das Wort 1955), Густава Сиверта (Gustav Siewerth: Philosophie der Sprache 1962, в особенности раздел «Wahrheit und Sprache»), Пауля Щютца (Paul Schütz: «Die Kategorie der Sprache», in: Parusia 1960, 529—591). Непременный фон для этой науки составляет языковая философия Вильгельма фон Гумбольдта («Schriften zur Sprachphilisophie» hrg. von A. Flitner und Kl. Giel, Bd. 3 нового академического издания 1963) и Мартина Хайдеггера («Unterwegs zur Sprache» 1959). Применительно к ранней теологии см.: H. Paissac: Théologie du Verbe. S. Augustin et S. Thomas (P 1951). Протестантскуюточкузрениясм.: Friso Melzer: Unsere Sprache im Lichte der Christusoffenbarung(1952). Edmond Ortigues: Le Temps de la Parole (Cah. théol. 34, 1954).
247
духом, так как в языке человек вступает в обладание сущностями в их истоке, в их бытии и тем получает квази-Божественную власть: предоставить им бытие. И это относится также к моментам, в которых он непосредственно не пребывает, т.е. к прошлому и к будущему, а также к тому времени, когда он прекратил своё бытие как конечное существо.
Сказательная сила слова есть то, что даёт человеку власть над природой и царственно возвышает его над всеми «зверями» (Быт 1. 26,29), ибо он может наречь им такие имена, которые соответствуют их действительным названиям (Быт 2. 19-20). Для самих себя все они остаются неназванными, так как не могут подняться к свету самопостижения, но слово человека узнаёт и называет их с высоты своего света, и, таким образом, он управляет ими в самом их сокровенном с более высокого уровня, чем они сами управляют собой. И всё же: человек может оставаться открытым по отношению к бытию лишь благодаря безусловному и заведомому отказу от «удержания» чего-либо особенного. Достичь этого он может лишь принципиальным «отпусканием», лишь такой властью предоставления бытию права - быть, что д ля него самого, говорящего, она порой доходит до полного бессилия, до смерти и самоустранения. Величайшая духовная власть в этом мире всегда покупается ценой такой покорности по отношению к превосходящей власти бытия. С особо возвышенной и трагической ясностью это становится видно, когда мир выступает в своей всеобъемлющей временности, т.е. в качестве истории. Ибо, с одной стороны, властное слово человека прорывает уровень его личного, смертного здесь-бытия и вторгается в историю, организуя её и созидая, с другой же — подобное самопревосхождение может осуществиться лишь при покорном признании всевластия смерти и судьбы. Царь формирует свою эпоху, этот отрезок истории, всегда продолжающий влиять на будущее, своим царственным словом. Истолкователь времени читает современность во взаимной соотнесённости с будущим, он включает своё время в некий объемлющий его порядок. Поэты (главным образом) и учители мудрости свидетельствовали в слове, выходя за пределы своей жизни на уровень истории. Однако они покоряют будущее только
248
одним — отвагой самоотдания: их свидетельство, их завещание, их традиция могут сложиться, но могут и пропасть втуне, и тогда открывается бессильная сторона их слова, которое бывает сметено потоком новых поколений.
Этот исторический прорыв-вовне человеческой формообразующей силы, заключённой в слове, занимал мысль библейских учителей мудрости в столь значимую эпоху ощутимого между архаическим пониманием человека и истории, свойственным древним народам, и ещё неведомыми представлениями народа нового, сплотившегося вокруг Божия Слова, ставшего плотью. Иисус Сирах обращается не только к Израилю, но ко всем вообще народам1, он говорит не о простом физическом свидетельстве (которое как таковое ещё не является словом) и не о физическом осуществлении власти, но о феномене «славы», коим Бог прославил человека, каким тот сказался в своём человеческом слове перед лицом истории.
Много славного Господь являл чрез них,
величие Свое от века;
это были господствующие в царствах своих
и мужи именитые силою; они давали
разумные советы,
возвещали в пророчествах;
они были руководителями народа
при совещаниях и в книжном обучении.
Мудрые слова были в учении их;
они изобрели музыкальные строи,
и гимны предали писанию;
люди богатые, одаренные силою,
они мирно обитали в жилищах своих.
Все они были уважаемы между племенами своими,
и во дни свои были славою.
1Применительно к грекамсм.: Gerhard Steinkopf: Untersuchungen zur Geschichte des Ruhmes bei den Griechen (Halle 1937). Walter F. Otto: Tyrtaios und die Unsterblichkeit des Ruhmes. In: Die Gestalt und das Sein (19592), 365-398. О «возрождении» в эпоху Ренессансасм.: Jakob Burckhardt: Die Kultur der Renaissance in Italien, второйраздел.
249
Есть между ними такие, которые оставили по себе имя,
для возвещения хвалы их, —
и есть такие, о которых не осталось памяти,
которые исчезли, как будто не существовали,
и сделались как бы небывшими,
и дети их после них. (Сир 44.2—9)
По прошествии времени сын Сирахов славит тех, кто не забыт, чьё потомство и «доброе наследство» «пребывает верным их завету», так что «память их останется вовеки и слава не истребится».
Но эти славные мужи преступают именно закон обычного исторического существования: их слово таинственным образом вбирается во всеобъемлющее, свыше произнесённое вечное слово- власть, которое - благодаря им - вступает в историю и вскоре принимает на себя всю смертность человеческой жизни, чтобы в преходящем и уходящем проявить свою непреходящесть: «Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Мф 24. 35). Здесь, на иначе не достижимой высоте, раскроется парадокс традиции: абсолютной открытостью навстречу анонимной гибели и смерти достигается широчайшее раскрытие пространства истории для царственно-пророческого сквозного формирующего воздействия силою собственного слова.
Сло́ва, которое является отнюдь не только Божественным, но и человеческим. Которое не только Божественно-всесильно и при этом человечески-бессильно, но в совмещении самоотдания и господства открывает также всю парадоксальность человеческой свободы - свободы Христа, принявшего человеческое естество. В противном случае Божие слово не сделалось бы Человеком и обнаруженный закон трансцендентности человеческого слова оказался бы непричастным пространству истории. Слово Христа вступает в состязание с другими человеческими словами за власть в истории1. Его прорывающаяся вовне власть имеет своим источником не некую внутренне чуждую Ему, свыше и извне привно-
1 См. выше главу: «Пропорциональность власти».
250
симую власть Святого Духа, который после смерти Иисуса будто бы взял на себя заботу об организации и пропаганде слова, замысленного и окрылённого Иисусом. Напротив, Дух-глубина изначально внутренне присущ слову этого Человека, Дух дан Ему «не мерою» (Ин 3. 34), и говорит Он «как власть имеющий» (Мк 1.22), но это означает, что Он черпает чеканящую силу своего слова (задуманного и предназначенного надольше, чем небо и земля) из сознания этой власти. И это потому, что Его земное бытие как ничьё другое есть бытие к смерти, Его слово как никакое иное - слово к смерти, к гибели всерьёз, слово, от которого изначально потребовалась последняя капля крови и последняя капля Духа, чтобы — лишь благодаря этому — оно смогло заглянуть в последнюю глубину распахнутого бытия и его истории. Лишь в силу этой своей кенотически-евхаристической смертной посвящённости в земную гибель слово Христа обретает непостижимое, но очевидное превосходство над всякой бывшей и будущей смертью, подобно тому как и поэтическое слово лишь тогда поднимается над временем, когда оно не только видит трагическое перед собой, но и несёт его в себе, заранее его принимая и прославляя во всей его непостижимости. Если слово избегает своей судьбы или противится ей, то никакая искусственная изощрённость не спасёт его от потери действенности. Сияние славы, придающей слову действенную длительность, оно приобретает уже в конце, открыто или целомудренно-сокровенно, благодаря беззащитности сердца, которая есть нечто куда более глубокое, чем стоическая бесстрастность: это неуязвимость в самом страдании, которую можно истолковать лишь одним способом — как верность (Антигона!).
2. Смыкание противоположного
Слово человека продолжает нести в себе человеческий образ даже в самом прорыве за смертную черту. Подобный прорыв становится потенциально-историчным при признании временно́й границы, предела, присущего конечной длительности, и — ещё радикальнее — благодаря страху перед неподвластностью смертного мига, или, как сказал Христос, «часа». Ветви слова
251
лишь тогда с силой рвутся наружу, когда вертикальный ствол глубоко укоренён в почве времени. Человек и его язык, конечно, способны к «абстрагированию», но лишь подобно дереву, которое высасывает свои соки из земли и потом гонит их ввысь. Всякое расширение кроны происходит за счёт большего распространения корней вглубь, иначе вершина ломается как «чрезмерная» и приходится черпать снизу материал для нового роста.
Вертикальное измерение человека плавно нисходит от духа к душе, затем к живому телу и, наконец, к веществу. И «душа» и «тело» суть ступени, способы, какими дух в материи, материя же расцветает в духе. Налицо, в своей непревзойдённой окончательности, обоюдное движение жизни: воплощение духа и одухотворение плоти, причём ни одно невозможно без другого. Если бы тело в одностороннем порядке стремилось к одухотворению, не позволяя духу погрузиться в себя для воплощения, это означало бы стремление человека прочь от самого себя - в некое химерическое самоотчуждение. Но в этом обоюдном движении человек остаётся во взвешенном, срединном положении, ибо ни дионисийский порыв к изначальному веществу, ни прометеевский порыв к чистому духу не объясняют ему его самого и оба эти стремления несводимы воедино. Как порождение матери-земли и отца-неба человек должен обращать лицо к ним обоим, но видеть их одновременно ему не дано. Найти опору и покой он не может ни в том, ни в другом, ни в обоих вместе, - но только в том, кто создал небо и землю, дух и материю, день и ночь.
Язык как наделённый бытием мир и как «высказывание» человека обретает жизнь лишь в этом двойном колебательном движении. Ему не позволено застывать в «образе» или «символе», кристаллизировавшемся на полпути между небом и землёй, между духом и инстинктом — и тем самым хитростью снискивать себе статус фальшивой божественности (к чему более всего склонна поэзия). Он должен, в живом и неуловимом нисхождении понятия — в единичный пример, бледной обобщённости — в полнокровную особость и в восхождении от душной единично-
252
ста на широкий простор универсального, всё время держаться рядом с истоками. В этом своём движении он будет постоянно пересекать точку образа и символа, но всякий раз при этом заново её порождая, оплодотворяя и утверждая. Средина сама приобретает качества драматизма и динамизма, ведь через её посредство конкретно-актуальное выносится к направляющему свету духовного логоса, и наоборот, нерешённо-общее призывается к решению на почве «здесь и теперь»1. Это перекрёстное движение внутри образа может — лишь намёком, не доходя до предельной радикализации — происходить там, где и материя, и логос хотя и видятся в их противопоставленности, но в конечном итоге сохраняют соотнесённость с языковой образной срединой, как в мифах и притчах древних народов. Эти мифы и притчи, неотлучные от взвешенной средины, не достигают голой почвы экзистенции, но и не воспаряют до небесной высоты идеи. Миф и его язык в этом смысле остаются «эстетическими». Даже в философии, при прояснении мифа, язык остаётся сосредоточенным вокруг «средины» (т.е. равноудалённой точки, аристотелевского μέσον), которая есть не только мудрость, но и наученный горьким опытом страх: чересчур близко подойти к основаниям, недоступным для человека2. Лишь там, где духовное основание вспыхивает в своей трансцендентной персональности, — там слово с высочайшей высоты низвергается сквозь образную средину (в которой господствует «типическое») — прямо в материально-
1 Erich Przywara: Bild, Gleichnis, Symbol, Mythos, Mysterium, Logos. In: Analogia Entis II (31996), 335—371.
2 Клодель с одобрением передаёт в этой связи рассуждения Честертона из «Ортодоксии»: «Христианская истина отличается от всех других учений тем, что она видит мудрость не в каком-то умеренном нейтралитете, а в противоречивых на первый взгляд состояниях, которые всякий раз представляются доведёнными до крайней напряжённости: радость и покаяние, гордость и смирение, любовь и отречение. Человек переживает это крайнее напряжение и раздирающую во всех направлениях силу как крестное распятие... Это стало великим лозунгом христианского искусства и культуры и превратило Европу в нечто совсем иное, чем тупое «царство середины» (Corresp. avec J. Rivière: 28. April 1909).
253
индивидуальное, с тем чтобы, избрав, извлечь его на свет и возвысить уже как нечто достойное встать на высоту персональной уникальности. Оба начала, истинно вечное и истинно временное, вопреки усреднённой безвременности усиливаются совместно: каждое с помощью другого и для этого другого.
Таким образом, во всём своём объёме язык впервые по-настоящему промеряется через Христа, т.к. «Слово сделалось плотью» и в мире и в человеке начинает звучать окончательно-значимое слово. И происходит это отнюдь не благодаря «демифологизации», при которой образное растворяется в «логическом» (рациональном или этико-экзистенциальном), но так, что глухой ритм движения, связывающего материю и дух, в мифологическом языке обретает максимальный размах, охватывая небо и бездну. Слово Писания в целом и слово Иисуса в частности всё время пробиваются сквозь средину «образа» и «символа», чтобы донести высший «дух» до окончательно достигнутого, в своей неприкрытой реальности повседневно-земного. Библейская притча повествует не о некоем нейтрально-типичном среднечеловеческом «случае» — она, всякий раз неповторимо, как молния с неба, врывается прямо во всегдашнее «теперь». И это придаёт слову такую мощь (kabôd),что оно покидает область поэтического, превосходя его в его собственных внутренних измерениях. И мощь этого вертикального падения - с неба на землю (значит, и с земли на небо), из души в тело (и тем самым от тела к душе) — обеспечивает саму возможность распространения точно такой же, точнее, той же самой мощи по горизонтали, т.е. во времени. Предваряя дальнейшее, мы можем сказать: поскольку это слово не только изнутри символа эстетически-прославляюще обращается к смерти, но и — всей своей мощью — проницает её и одновременно взрывает изнутри, - то оно может, восстав из смерти, неволею возвести её ввысь, к вечной жизни и тем реально её «прославить». И именно поэтому слово может, вместо того чтобы исцеляюще-вневременно заговаривать действительно имеющее место распадение времени, вобрать историческую временность человека и всего мира в свой (словесный) образ, приоб-
254
щить к своей (словесной) власти и тем реально спасти их изнутри от распада и отчуждения.
Если историческая потенциальность слова в конечном счёте основывается на свободном вертикальном колебании и взвешенности духовно-телесного конечного единства, то уже отсюда ясно, что человеческая история в целом имеет абсолютно окончательный человеческий облик, мера измерения которого ни в малейшей степени не изменяется вследствие исторической эволюции и не сдвигается в сторону абстрактно-логического, в ущерб душевно-телесно-образному. Все подобные сдвиги колеблются в диапазоне воплощённого духа и перекрываются словом-плотью. Вертикальный модус присутствия этого последнего остаётся поэтому мерой для всякого другого возможного исторического присутствия. Если бы человек попытался преобразовать присущую ему вертикальную ось в горизонтальную, т.е. отнести своё «происхождение» из «материи» к прошлому и поставить «дух» целью своих устремлений «в будущем», это означало бы для него бегство от подлинного исторического присутствия. Он предал бы тогда самое ценное в себе и, в частности, пришёл бы к отрицанию Христа, т.к. сделал бы невозможным Его вочеловечение (поскольку таковое вообще зависит от человека).
В той мере, в какой человек, не покидая своей взвешенной средины, остаётся чутко открытым навстречу своим собственным основам, его язык не перестаёт питаться от неба и земли. Его двунаправленному взгляду открывается тайна его зиждительного основания во всём непостижимом для человека различии между бытием и бытийствующим, между всевластностью и подвластностью. В открытости этой тайны язык обретает свою глубину, свой бесконечный смысл, свой поэтический, пророческий и законополагательный блеск. Лишь только тайна основы закрывается, как сказательная сила слова слабеет и затухает. Вся великая поэзия, всякое пророчески-философское толкование земного бытия, историко-формирующее законополагание безусловно и неукоснительно коренятся в религиозном начале, в
255
благоговейном взгляде на указанное изначально-непостижимое различие. Это касается всего - и отдельного высказывания поэта, и чеканного афоризма мудрости, и любого действенного закона. Язык народа вызревает до полнозначного высказывания не в философской, а в религиозной плоскости, в которой открытость навстречу основам и подвижное человеческое равновесие в плодоносном взаимовоздействии творят «высокий миг» истории. Подобные kaimi становятся потом как бы моментами приучения мира к всеисполняющему воплощению.
И несомненно, можно утверждать (практически предположить априори), что рядом с этой оптимальной срединой постоянно совершается прогрессирующее смещение равновесия: от материально-связанной до-духовности в сторону рационалистической «сверхдуховности», вслед за чем — как возмездие — происходит внезапное падение не в меру занёсшегося духа в бездну до-духовности. Но это падение (как видел его Вико) представляет собой, с более глубокой точки зрения, не что иное, как естественную компенсацию и — тем самым — даёт новый шанс для достижения оптимума. При этом нельзя упускать из виду, что сама эта средина является подвижной и может ритмически смещаться в ту или иную сторону. Вместе с тем отношение дух z: образ материя образует вертикальную срединную линию, вдоль которой — сверху вниз — проходит ось становления человека, и эта срединная линия задаёт масштаб для всего того, что в горизонтальной протяжённости истории принято рассматривать как изменение, развитие и «прогресс». Слово, направленное от Бога к человеку, которое направляет смертного человека к Богу, есть то самое слово, которое направляет историю. Причём направляет её к той конечной точке, где её уже ожидает всё то же — вочеловеченное - Слово, которое изначально является её направляющей срединой.
3. Взвешенность и основание
Подобно тому как всё бытийствующее получает значащую силу благодаря соотнесённости с самим бытием, т.е. с безуслов-
256
ным, в котором оно имеет своё основание, с полнотой иного, со- бытийствующего, в котором оно существует и в котором оно со- определено как возможное, - точно так же и язык обретает свою значащую силу благодаря осознанной отнесённости всех вещей к некой несказуемой основе. По этой причине язык возникает только из молчания, в котором он прочно коренится. Настоящий язык отсылает к молчанию, истолковывает его, возвращает к нему — и не потому, что слова незначимы и пусты, но потому, что полнота их смысла постоянно их превосходит и лишь тем делает возможными сами слова. Как полнота бытийствующего не есть отпадение от полноты бытия, так и полнота языка не есть отпадение от полноты молчания. Этим различием между бытием и бытийствующим «предзадана» (Макс Пикард1) духу, познающему бытие в целом, способность к означающей речи, т.е. сам язык (который не мог бы быть выучен человеком, не будучи задан ему изначально), видение онтологического различия, на котором зиждется отношение молчания к языку, — к высказанному, но также ещё и нечто третье: таинственная основа (по ту сторону бытия и духа, природы и свободы), которая и молчание и язык обосновывает в одном и в которой поэтому молчание присутствует как «сверх-слово». Когда Бог высказывает себя в бытии мира, а человек этот бытийный язык понимает, то человек не только получает своим познанием часть в вечном разуме, но
1См.: Max Picard: Der Mensch in der Sprache, 1955, гл. «Предзаданность в языке». Обобщающий труд Пикарда близок ко всему здесь высказанному. Пикард, как и мы, рассматривает историческую экзистенцию под знаком изначального напряжения между положительным (творческим) и отрицательным (обусловленным «бегством от Бога») ферментными началами — как «Разрушенный и неразрушимый мир». Также прочитывает он и «Человеческое лицо», поскольку знает о «Границах физиогномики», которые пролегают в свободе и её сокрытости. Историко-теологический момент в его работе состоит в никогда не нарушаемом профетически установленном отношении распавшегося земного бытия к «сегодняшнему дню» («Гитлер в нас»). Однако существует и спасительное: не только милость Бога, но и верность человека, которая милостиво позволена человеку и посредством которой он может во фрагментарном проживать целое («Незыблемый брак»).
257
как познающий является уже затронутым речью изначально Говорящего, а также, поскольку он имеет слово, отвечающим.
Таким образом, человек по своей сущности является словесным и отвечающим. Он не только способен расслышать сущностные слова вещей, отделяющиеся от всеобъемлющего молчания бытия, воспринять их своим разумом и наделить их в его световом и свободном пространстве надлежащими именами — он также может услышать эти сущностные слова вещей как элементы «суждённого» ему языка (ihm zugesprochenen Sprache), чьим элементом он является вместе со своим разумом. Человек «прежде был высказан (gesprochen) бытием и Богом в свет истины бытийствующего, а уже потом высказался сам. Лишь благодаря тому, что он безмолвно живёт в присутствии бытийствующего, вышедшем из светящейся глубины бытия, - он и способен сам зачать слово и произнести его как нечто “внешнее”» (Г. Сиверт1).
Но это третье, самое таинственное, которое состоит в том, что светящаяся глубина - это не только молчание бытия (так что всё действенное в речи должно корениться в открытом зачинающем созерцании, чтобы быть истинным), но и (по ту сторону этого молчания) слово из последней глубины самого бытия, т.е. слово «человек», произносимое Богом (так что человек сам для себя становится вопросом, поскольку он - спрошен), - это третье и последнее различимо и постижимо лишь в пространстве Библии, которая не замыкает пространство созерцания, но углубляет его внутрь пространства слышания и послушания и превращает открытое видение сокрытого бытия в любовь к открывающему себя Богу, а «открытый разум» - в ответный выбор любви, заключающей меня внутрь единственно Возлюбленного. Эта тайна открывается человеку лишь потому, что во Иисусе Христе непостижимым образом оказывается действительным, а потому возможным совпадение между этим молчащим сверхсловом, к
1 G. Siewerth: Philosophie der Sprache (Johannes-Verlag 1962) 80. Cp. также философию и теологию языка у Клоделя («Пять больших од» и «Ars poetica»).
258
которому причастны все бытийствующие вещи (и постольку они являются выражением бытия), и словом человека, затронутым речью — и сказующим, спрошенным - и отвечающим, благодаря чему человек и входит в обладание собственной сущностью и языком. Сверхслово, которое являет себя как вечное слово Отца, не лишает человека его собственного слова (что имело бы место, если бы последнее исчезало ввиду изначально завершённой силы и точности вседержительного и всевластного слова, Евр 1.3), ибо язык совершается лишь в свете свободы и наисвободнейшее слово Бога высвобождает слово человека в его свободу. И, однако: человек может ответить этому вечному слову лишь в том случае, если он, отвечая в полной свободе и ответственности, с лихвой отдаёт себя. Свобода, возникшая из слушания, превращается в свободу-послушание. Эта свобода суверенным образом объединяет в себе преизбыточность в выборе нужного выражения и точность соответствия. Преизбыточность означает, что вечное слово есть «Дух», а не буква; ответ на Дух может быть снова только духом, «а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор 3. 17), и это относится также и к творческому характеру и настрою ответа. Точность же соответствия проистекает из того, что мы «открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ» (2 Кор 3. 18), - т.е. не примерно в такой же, но в точно со-ответствующий образ1.
Здесь завершается тайна, которая была продумана нами выше, в связи с темой «открытого разума»: открытое остаётся неопределённым лишь до тех пор, пока акт познания и любви ещё не исполнен и находится «на полпути». Но едва полнота достигнута, акт этот становится определённым, не переставая быть открытым; он обретает окончательно-значимый образ, который интегрирует в себе все эскизы и фрагменты. На эскизов вечное
1 «Язык отчётлив благодаря отчётливости Логоса и таинствен благодаря таинственности Логоса. “Язык есть одновременно откровение и тайна" (Гаман). Язык есть тайна даже в своём откровении, и человек представляет ещё большую тайну, когда он говорит, чем когда молчит» (Picard l.c. 71).
259
слово пребывает в модусе всеобъемлющего молчания, на ступени исполнения оно целиком вбирает священное молчание в своё сверхслово. Так, Библия есть внутренне-превосходящее исполнение всякой мистики, основанной на бессловной тишине. Всякое свежее, чреватое будущим слово, которым человек встречает Бога любовного откровения, исходит и получает свою форму от бесконечного и тихого небосвода бытия (который — голубее всего бытийствующего), но одновременно — и от борющейся, страдающей, воскресающей царственности Божьего Слова в человеческом образе.
Однако тот факт, что вечное слово может стать плотью и человеческим словом, имеющим над собою безмолвную тишину как свой собственный исток, цель своего возвращения и свою несущую основу, - этот факт открывает ещё более высокую тайну вечного слова. Слово может и в вечном быть лишь взвешенносредним, произведением и собственностью говорящего, который — как таковой — не является сказанным словом. И который — именно потому, что он существует «до» слова — разумеет и высказывает этим словом нечто такое, что с помощью слова выходит за словесные пределы. Платоники и следующие их образу мыслей ариане, поместив Отца - как «неизреченно безмолвное Единое» — по ту сторону начавшегося умножения слова, тем самым проявили чрезмерную поспешность в применении философского схематизма к теологии. Чтобы увидеть дело в собственно христианском свете, нужно прислушаться к слову Христа, к тому, как Он ссылается на Отца, который «больше» Христа и который высказывает себя в ниспосланном Слове. Прислушаться к тому, как Иисус, Слово, покоится в Отце: по-детски даже при своей полнейшей уязвимости в решающей борьбе, даже в ночи покинутости. Как человек Он не пребывает в своей Божественности, но — как целостный, неделимый Богочеловек - взвешен в лоне Отца. Взвешенное парение прихода неизбежно переходит в такое же парение возвращения, поскольку Иисус как Слово Отца, к Нему отсылающее, теперь, «возносясь», осуществляет это движение уже в качестве человека, реальным те-
260
лесным действием. И всё же в слове любого говорящего содержится также и «подразумеваемое», которое _ в тех случаях, когда говорящий полностью «высказывает» и тем самым «изливает» себя, может быть лишь любовью, т.е. «Святым Духом». Дух свободно покидает образное слово, утрачивая свою образность. И подобно тому, как всякое слово подразумевает Дух и может быть истолковано лишь исходя из Духа и через Дух, так же и Дух может быть действительным и действенным лишь как вышедший из слова, как истолковывающий его бесконечный смысл. И аналогично: как всякое слово есть выражение рождающе-говорящего и этот последний не пытается скрыть за словом того, что он является его источником, но, напротив, его рождающая речь вполне выявляет его именно в качестве источника, так и Отец не хочет и не может быть откровенным нигде, кроме как в Сыне. Сын как Слово есть средоточие откровения, поскольку Он превосходит себя «в обоих направлениях» и при этом Его превосхождение совершается как единое, так как Он в своём обращении к Отцу выдыхает Духа, которого Отец, рождая Сына, уже заодно с Ним подразумевал и выдохнул.
Поэтому на Божественный Логос указывают не только человеческие состояния уверенного знания, но также — с равной сказательной силой и достоинством _ состояния доверительного покоя и свободного допущения бытия в обоих направлениях: по отношению к несущей основе «снизу» и к самодеятельному, исполняющему Духу «сверху». Образец, который в этой связи являет Иисус, - это не только «икономический» образец для тварного человека, но и акт участия в Божествено-экзистенциальном. Эго походит на то, как тварное существо, Мария, духовно-телесно зачала Слово Бога и согласилась в слове (не поняв и не осознав его) со всем тем, что Дух потом свободно сформировал и извлёк из слова, чем Она, во всеобъемлющем смысле, явила «последование Христу», единственному Богочеловеку. Податливость к формирующему воздействию Духа (через женское taif), т.е. по существу готовность, самоотвержение и отказ от предваряющего самоформирования, есть, с христианской точки зрения, единственно оправданный и единственно плодотвор-
261
ный путь, каким человек (при своей жизни и после неё) может, по Божиему замыслу, «делать историю». Податливость к формирующему воздействию — это не пустая пассивность, поскольку словесный и духовный, будучи погружён внутрь, тем самым уже побуждает и наделяет силой для участия в совместном формировании и в общей ответственности.
4. Слово сдержанное и нарушенное
Тео-логия (т.е. речь Бога и в этой речи — также речь человека в Боге и о Боге) всегда нисходит с высочайшей высоты. Поэтому теология слова о Слове может обдумывать сущность языка, лишь исходя из самой последней предпосылки (находящейся по ту сторону горизонта философии). Если, согласно нашему предыдущему рассуждению в его кульминации, человек в последнем счёте потому наделён языком, что он сам есть слово Бога, высказываемое Им как (всякий раз) уникальное изобретение, и как таковое также затронут речью и призван к ответу, если человек как квинтэссенция мира свою открытость навстречу всему и навстречу Богу обретает на последней ступени, т.е. в избранности и в своём ответном выборе, то как сказуемое и сказующее слово он достигает цельности лишь на этой последней высоте.
Богом содержащийся в бытии, он есть сдержанное Богом слово. Предложение «Бог держит слово» неопровержимо постольку, поскольку Бог действительно является его субъектом (так как Его слово вечно и неизменно), но оно становится ещё более ясным и очевидным, когда раскрывает себя Божественное триединое отношение. Слово, которое держит Бог — если слово есть человек, - может быть нарушено только человеком. Это нарушение, однако, бывает столь радикальным, что искушает Бога нарушить нарушенное слово. В Ветхом Завете моменты такого нарушения обозначены явно: когда из-за нечестия человека «раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем» (Быт 6. б), когда Он «раскаялся, что воцарил Саула над Израилем» (l Цар 15. 11, 35) или когда намеревается отменить «то добро, которым хотел облагодетельствовать его
262
[Израиля]» (Иер 18. 10). И, однако, Бог вновь раскаивается в своём раскаянии, заключая вечный завет с Ноем, и ставит в небе радугу в напоминание об этом вечном завете, чтобы впредь преодолевать всякое искушение и не раскаиваться в своём завете (Быт 9. 15). И подобным же образом Он раскаивается в своём раскаянии ради вечного завета с Израилем (Иер 26. 3), ибо «дары и призвание Божие не знают раскаяния» (Рим И. 29).
Человек так близок к сердцу Бога, что нарушенное Божие слово разрушает Его сердце, и всё же Он - поскольку Он держит своё слово, даже когда оно само себя разрушает, — держит его при себе как нечто цельное даже в его разрушенности. Невозможно не увидеть здесь выделенного пространства, предназначенного для Иисуса Христа как воплощённого Божьего (и человеческого) Слова: ещё до какого бы то ни было нарушения завета или беседы Он уже есть завет и ненарушаемая беседа, в самый ход которой Бог вносит всё, подверженное разрушению. Сотворённое Богом целое, которое Он с самого начала нашёл «очень хорошим», могло быть разбито на фрагменты только внутри этой сохраняющейся целостности. Поэзия и религия, созданные человеком, способны предчувствовать на своём уровне нечто от этой вечной спасительной цельности нецельного, но — лишь как бы сквозь прозрачное стекло, ибо, для того, чтобы знать, как Бог спасительно исцеляет нецельное, нужно узнать от Него самого, что человек есть Его тварное слово, сущее в Его вечном Слове, и что Бог — чтобы не дать нарушить свой завет и свою беседу с человеком, когда сам человек разрушен, — предпочтёт разрушить на Кресте сердце своего вечного Слова. Здесь целое - во фрагменте, лишь потому, что оно выступает как фрагмент.
Чтобы быть цельным, человек должен превратить себя (а заодно и весь космос, который целен в нём) в отвечающее слово. Чтобы утвердить самого себя, чтобы пробиться к полному осознанию самого себя, он должен высказать себя Богу как Богом в любви изобретённый, подразумеваемый и затронутый Его речью. Но он сможет это сделать, лишь если он живёт по ту сторону своих воз-
263
можностей, от которых отрешился, в кладовой Божиих запасов и черпает из них, чтобы стать самим собой. В доме, где хранятся эти запасы, он навечно укрыт и накормлен, там он (временный, поскольку материальный) находит не преодолимое никаким будущим, не исчезающее ни в каком прошлом, но открытое во всех направлениях всеобещающее настоящее. Он не подавлен и не околдован этим настоящим, так как язык требует дистанции, достоинства и свободного решения: быть верным. Лишь в этой свободе обоюдная истина выступает как несокрытость друг перед другом. Пока эта истина длится, человек избегает всякого маскирующего сокрытия и избавлен от всякого бегства в будущее из ненастоящего настоящего, ибо то, чем по сути является «теперь» такого настоящего, д ля него уже сделалось. Маскирующее сокрытие исполняющего настоящего есть не что иное, как непосредственное раскрытие пустой и тщетной временности и, значит, смерти. Подобно тому как за исполняющим решением маячит (возникающая в результате дезинтеграции) свобода как пустая индифференция, так же за полным, «вечным» временем маячит время пустое, несущее в себе смерть.
Маскирующему сокрытию истины искусителем, которое придаёт силу абстрактным гипотетическим уговорам, обращённым к непослушному, соблазняет его на безумное раскрытие и открывает ему глаза на добро и зло, — этому сокрытию соответствует, уже после падения, прятание грешников при приближении шагов Бога и Его зовущего голоса. И их уклончивый, снимающий с себя вину ответ тоже служит такому сокрытию, тогда как наказующая речь Бога открыто указывает в раскрытую бездну боли, нужды и смерти. Прикрывающие фиговые листы превращаются в одежды из звериной шкуры, которые скрывают уже всего человека. Адам был по Божией милости изгнан из рая, теперь несущего ему лишь разлад, чтобы возделывать глинистую почву за его пределами, — почву, из которой он был взят перед помещением в сад и в которую ему предстоит возвратиться. Даже соединение мужчины и женщины отныне будет происходить в маскирующей сокрытости, впервые делающей другого действительно
264
другим: «К мужу твоему влечение твое, — сказано женщине, — и он будет господствовать над тобою». Естественная форма любви выступает под знаком личной нелюбви (как влечение и власть) частью общей картины, в которой — и душевная скорбь о потомстве, и земное бытие под бременем проклятья, и невозвратимость истока, охраняемого пламенными мечами.
Мы знаем слово по большей части лишь в его обессиленном, депотенцированном виде, лишённое своей власти над Богом, дарованной ему силою Божьего слова как ответ на это слово. Этой высшей полномочностью слова, обретённой по милости Бога, определялась власть слова также и в отношении космоса: акт именования животных делал их открытыми и подвластными для самого Адама; вещь и слово были безусловно едины: «как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт 2. 19). До этого познающего именования все они были не завершены; будучи возвышены в свет Адамова миро- и Богопознания, они впервые приобретают часть в Духе, который вместе с именем наделяет их последней духо-осмысленной формой и вырывает из душной замкнутости. После падения власть слова уже не простирается до этой сферы. В лучшем случае она достигает открытости бытия в целом, из которого слово-высказывание черпает свою означающую силу, универсальность и всю полноту связей, вспыхивающих при свободном созерцании различных возможностей и теневых соотношений. Однако при столкновении с непостижимым в бытии (которое никогда не может быть постигнуто) слово осекается, не достигает цели. Здесь оно уже не является в тринитарном смысле переходным, а становится эфемерным в своей мимолётности. И как раз в моменты уникальных достижений и высшего воспарения (например, в «бессмертных» стихах) слово бывает овеяно печалью скоротечности и умирания. Всякий очерк судьбы, выхваченный словом и выставленный на поклонение, производит столь потрясающее впечатление благодаря своей хрупкости, благодаря невероятности самого своего пребывания, отвоёванного у бренности. В лирике поэт всегда воспевает высший миг всемирной цельности лишь заодно с его
265
смертной зыбкостью; в драме он может сопроводить героя, овеянного святостью, просветлённого, примирившегося с судьбой, лишь к смерти; эпически может быть возвещена только судьба. И если в комедии смех не обязан непременно искажать и смешивать (нарочито отгораживаясь от угрозы, идущей от самих основ), то даётся это поэту опять-таки силой спасительной благодати, которая (исполняя чужую роль ради веселья зрителей) помнит о смерти и тьме1.
Человеческое слово, действительно, может воспеть смерть, принять её как неизбежное, утвердить в ней космический закон искупления, преклонение перед которым для всего смертного свято. Слово здесь прославляет смерть, но — лишь наружно, отнюдь не проникая в её глубь. И если оно — с помыслом о вечной верности — утверждает, будто смогло подняться выше смерти и взглянуть на неё свысока, значит, оно высказывает больше, чем само может вместить, и значит, сердечная отвага не находит подтверждения в реальности вещей. Высказанное рушится и отступается от зарвавшегося, бессильного слова. В результате этого крушения все слова теряют свою упругую полноту, в них образуется некая пустотность. Усталость охватывает весь язык в целом, словам уже незачем дотягиваться до вещей: они не могут спасти их от распада, и на просторах языка начинает веять холодным ветром: бессмысленностью смерти. Усталые слова вянут и засыхают; оторвавшись от ствола и держащих ветвей, они кругами падают вниз, ветер сбивает их в кучи и снова разбрасывает в разные стороны. Они больше ничего не означают, никто уже не соотносит их со святым и цельным, они превращаются в отвлечённые понятия, сосуды, которые можно по желанию опорожнять и вновь наполнять любым содержимым. В конце концов они, возможно, сделались бы «логическими» знаками конечных, чётко очерченных содержаний... если только подобная конечность вообще может обладать каким-либо конечным содержанием.
1 Ulrich Mann: Vorspiel des Heils, Uroffenbarung in Hellas. Klett 1962.
266
Правда, может найтись сильное, верующее сердце, которое даже в эпоху крайней деградации слова готово пойти против течения и, поскольку это от него зависит, попытаться придать слову новую глубину и полноту. Совсем не обязательно это обречено на неудачу, хотя в подобные времена быть поэтом или философским созерцателем сущности бывает очень непросто. Впрочем, именно в такое время более, чем когда-либо, становится очевидным, что для человеческого слова залогом окончательного спасения может явиться лишь слово Богочеловеческое. Постоянное и неизбежное стремление человеческого слова прочь от раздробленности, привнесённой временем и смертью, к состоянию целостности удовлетворяется, лишь если с Божественной высоты нисходит и внедряется внутрь времени и смерти некая сила, которая может вовлечь в образ слова даже враждебные ей силы. Нужно заставить саму смерть, чтобы она не препятствовала слову вечной любви вырваться из мрачной бездны Богооставленности: mors eructavi verbum bonum (смерть извергла благое слово).
267
Б. ЦЕЛОЕ ВО ФРАГМЕНТЕ
1. Человек как язык Бога
Иисус Христос есть Слово. Слово и язык как таковые. Слово и язык Бога в слове и языке человека. Смертный человек как язык бессмертного Бога. Образ Божьего слова содержит основания для веры в себе самом — в этом слово Божие превосходит сходное с ним слово великого поэта, которое также говорит и свидетельствует само за себя, не прибегая ни к чему иному. Слово великого поэта неуязвимо для филологической критики: оно есть то, что оно есть, и воздействует, как это ему свойственно, не заботясь о хвале или хуле филологов. Хвала и хула прейдут, но слово Гёте не прейдёт никогда. И точно так же, только выше, поднимается над всякой экзегезой, аналитической или систематической, содействующей или препятствующей, слово Бога. Слово допускает подобные труды, но впоследствии они прейдут, тогда как слово останется.
Христос придал своему слову большую правдоподобность и убедительность, чем своим (чудесным) деяниям, которые являются чем-то вроде замены слова для тех, кто не имеет ушей (Ин 10. 38), и в конечном итоге служат подтверждением слова и обретают доказательную силу лишь заодно с ним. Они представляют деятельную сторону слова, как и сам Христос является Словом лишь как действительно-действующий Сын. Слово, властное деяние и страдание, несущее человеческие грехи, в Нём идентичны, о чём говорит Матфей: «Он изгнал духов словом, и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: “Он взял на Себя наши немощи и понес болезни”» (Мф 8. 16-17). Таким образом, преодоление смерти Словом и воскресение Сына — Божия и человеческого — также идентичны между собой. Высказывания «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин И. 25) и «Небо и земля прейдут, а слова Мои не прейдут» (Мф
268
24. 35) суть одно и то же. Он преобразил безмолвную смерть в слово, которое одно является Его, т.е. Божиим, словом.
Здесь исполняется Божия власть, которая отныне как непостижимая и победительная сверхсила (Еф 1. 19—20) не только договаривает до конца собственное слово творения, но, кроме того, подхватывает человеческое «нет» и превращает его в своё собственное и человеческое «да». Диалогическое слово между Богом и творением, Ягве и Сионом при воплощении слова собирается воедино, в одно Слово, которое объединяет в себе всё: манифестирует внутрибожественную беседу, представляет мировое и человеческое «да» Богу и не только символически, но и реально (т.е. реально замещая грешников на Кресте) сбрасывает в бездну этого «да» всякое противоречащее «нет». Так в одном Слове звучат два «свидетельства» (Ин 8. 17), Бога и Человека, Отца и Сына, и для понимания этого единственного Слова нужно, чтобы оно было услышано, увидено и воспринято стереоскопически: «И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели. И не имеете слова Его пребывающего в вас» (Ин 5. 37-38). И когда оба свидетеля «кончат свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их, и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет», - на корм филологам. «Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них... И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их» (Откр 11.7-12).
Слово Бога, которое есть одновременно последнее Слово человека и мира, умирает и воскресает. Ему противоречат, Оно гибнет и восстаёт из мёртвых, чтобы на глазах своих врагов вознестись к Богу на всезатеняющем облаке славы. Такого филологического метода, который мог бы соответствовать этой Богочеловеческой перспективе, не существует. Подобно тому как можно на уровне чувства сопроводить и описать речевой ритм великого поэта, так же следует посредством веры (другого спо-
269
соба нет) услышать Богочеловеческое дыхание этого Слова. Евангелия — это не кропотливо составленный сборник «изречений» (логий), но прав Макс Пикард: «В Библии слово всегда движется от говорящего к объекту и обратно к субъекту, затем снова к объекту; вследствие этой вертикальной структуры между отдельными словами как бы возникают барьеры, и, чтобы перейти к следующему слову, приходится всё время перебираться через барьер»1. Слова не текут вдоль преходящего времени, каждое истекает непосредственно из сердца Богочеловека. Чтобы быть понятыми, слова указывают не в горизонтальном направлении, друг на друга, но вертикально - в глубину постоянно пребывающего Логоса. Таким образом, и притчи не составляют в совокупности никакой системы истины, поскольку вечная истина не может быть разбита на части. Все они, как лучи, исходят из сокровенной глубины Божественного сердца.
Ещё раз — главное состоит в том, чтобы увидеть: человек как духовно-телесное творение уже есть язык Бога, обращение, которое может воспринимать само себя в этом качестве и тем самым наделено способностью к ответу. Эта тварная составляющая имеет решающий голос в слове и бытии Христа. Но сверх её речи Бог сохранил в своём сердце последнее Слово, как бы последний козырь, который теперь, когда человек, по всем признакам, проиграл всю игру, всё же позволяет выиграть Ему - выиграть за человека и изнутри человека. В отношении Богочеловеческого Слова человек всегда будет вынужден признать, что произнёс его не он, а Бог, тогда как он сам, при всех своих предваряющих мифологических догадках, никогда бы не мог додуматься до мысли о воскресении из мёртвых. И при этом, однако, человек смиренно и гордо будет понимать: всё это не просто имеет ко мне отношение, но один из нас, людей, совершил это деяние, и лишь в человеке Бог только и мог его совершить. Отцы Церкви постоянно с благоговением говорили об этом.
1 Max Picard: Der Mensch und das Wort 87.
270
Так окончательно раскрывается крестный образ Слова-плоти: с высочайшей высоты Слово спускается вертикально вниз, глубже, чем могло бы проникнуть обычное человеческое слово, в последнюю тщету пустого времени и безнадёжность смерти. Это Слово прославляет смерть не тем, что поэтически её обыгрывает; оно прободает её до основания, до хаотической бесформенности смертного крика (Мф 27. 50) и до бессловной мёртвой тишины Великой субботы. Так оно осваивает смерть, присваивает её, заключает в скобки, отнимает у неё жало. Так оно осваивает утекающее время: не поэтически-законодательным превосхождением времени, но через овладение его внутренней структурой. Ибо благодаря наличию временного будущего уже и человек Ветхого Завета оказывается шире своих конечных пределов и включается в общеисторическую судьбу. В неисчислимых звёздах неба Авраам увидел своё будущее потомство (Быт 15. 5), ему самому в отдалённом будущем предстояло получить во владение землю, на которой он странствовал (Быт 17. 8), и он «рад был увидеть день Мой; и увидел и возрадовался» (Ин 8. 56). Человек же Нового Завета оставил позади себя смерть греха во Христе (Рим 6. 4; Кол 2. 12), и истинная жизнь приближается к нему в образе будущего, чтобы, творя суд, отодвинуть греховное прошлое в область невозвратимого и создать пространство для длящегося настоящего. Эдмон Ортиг1 показал глубокое понимание этого: действенное Слово Бога, драма оправдания грешника, эволюция его обращения имеют время своим внутренним измерением, однако так, что теперь пустота времени служит событию-полноте. И поэтому: что бы от начала творения ни являлось содержанием исторического времени в прошлом и будущем, это содержание навсегда будет охвачено и измерено формой Христова времени спасения, и тем самым — формой Его субстанциального, Богочеловеческого, умирающего и воскресающего Слова.
1 Edmond Ortigue: Le Temps de la Parole (1954) 8 cp. 13: «Структура оправдания идентична структуре истории спасения».
271
Но вертикальное нисхождение Слова в преисподние глубины плоти — это и есть пронизанность плоти вечным Божиим словом: растущее воскресение плоти в силе Божьего Слова. Как распростёртая «плоть» умерший Сын был пробуждён силою Божественного слова (Еф 1. 19), которая, однако, есть не что иное, как Он сам (Рим 1.4) — Он сам как Бог и, в своей человеческой ипостаси, как прилепившийся к Богу; таким образом, это вертикальное распрямление плоти совершенно не может быть объяснено действием человеческой силы, имеющей космическую природу. И, будучи таким образом прилепленным к Богу, Он создаёт для временного потока с его тщетой выход в «вечную жизнь». Его слово, сказанное или прожитое во времени, есть всегда «глагол вечной жизни» (Ин 6. 68), слово Бога, которое наряду с временными и исчезающими звуками и таким же содержанием (т.е. наряду с человеческой стороной) выражает вечное. Этот язык нам ещё предстоит исследовать в дальнейшем. В его составе — не только фрагментарные слова, выражающие пространственные или временные аспекты (επίνοιαι)целого, которые не могут разом выразить совокупное целое, более богатое, чем любая его часть. Он состоит даже из слов заблудших, падших в область тщеты, regio dissimilitudinis', но из которых тем не менее можно сплавить целое. И сплавляющим началом является верность, с которой выполняется поручение Отца, неизменная во всех тёмных превратностях человеческой судьбы. Этой верности достаточно для всего. Это она прямо пишет по кривым строкам. Можно назвать её также верой, надеждой и любовью. Она уберегает временное от всякого греховного распада. Она превращает чужбину в родину, действуя сразу в двух направлениях: переносит небо на землю и землю — на небо2.
1 Е. Gilson*. Regio dissimilitudinis. ln: La Theologie de S. Bernard, 1947,48-77.
2 В связи споследнейглавойсм.: «Gott redet als Mensch» in: Verbum Caro, Theologische Skizzen I (31990).
272
2. Движение сквозь время
Слово Бога прошло сквозь время, и в этом его шествии всё есть слово и откровение Отца, но также — откровение и истина человеческого земного бытия. В этой череде превращений Бог хотел явить себя, но явить себя как вечное Слово в человеке, и не побочно, но по необходимости и как ответ на вопрос: чем является человек перед лицом Бога и в Боге?
Жизнь человека есть развитие во времени: он зародыш и младенец, дитя и подросток, зрелый муж и старик. Он не может одновременно находиться на двух стадиях. Его природа, претерпевающая превращения возраста, подчиняется таинственному закону: на каждой стадии он является законченным (в творческом замысле Бога — совершенным) человеком. Ребёнок или юноша, несмотря на свою «незрелость», не является несовершенным человеком, некоей половинчатой реализацией человека, как принято считать вне христианства. В процессе своего развития человек не становится человеком: он им всегда является. И если различные возрасты имеют свои отличительные особенности, взаимно исключающие друг друга, то «зрелый» человек, даже старец, всегда тоскует по тому, чем он обладал ребёнком и юношей и теперь навсегда утратил. И тем не менее различные возрасты не выстраиваются в некий вневременно-абсолютный ряд, как законченные картины в музее; они взаимно связаны в общем потоке времени, само течение которого имеет смысл именно как движение вперёд (прогресс). Потери на этом пути компенсируются обретениями, которые приносит бегущее вперёд время, — даже и тогда, когда эти обретения оборачиваются старческим бессилием, беспомощной мудростью, а то и потускнением разума. Если какому-нибудь художнику от жизни и удаётся осуществить что-то вроде интеграции временных приливов и отливов, то лишь в первом приближении: как продление детства в юности, юности — в зрелом возрасте. Чаще всего можно говорить о втором или третьем старшем поколении, которое пытается освежить уходящую жизнь, облагораживая боль прощания трогательным самоотречением ради молодёжи. Лишь в сверх-
273
временном плане можно надеяться на полную интеграцию внутривременной жизни — интеграцию, которая наряду с вечным смыслом каждого мгновения вобрала бы в себя также смысло- направленность временного течения: подобная надежда, правда, отвечает чаяниям всего человечества (мифы всех народов мира обыгрывают увековечение временного, свободное от ограничений, накладываемых возрастом и смертью), — но кому придёт в голову сегодня, когда мифологические фризы в памяти человечества, как на храмовых стенах, уже стёрлись до неузнаваемости, признавать за этими мифами — что касается их осуществления — хотя бы тень правдоподобия и доказательной силы?
Иное дело, когда Слово Бога становится Человеком. Всякое мгновение Его жизни, уже внутри временного потока, приобретает характер откровения вечности. Когда вечное Слово становится Младенцем, то Младенец в рамках предвиденного пророками откровения делается достоверным выражением вечной истины и вечной жизни. И речь идёт не только об обнаружении или возвышении «вечных ценностей», скрытых в человеческом детстве или нами детству примысленных, но о некотором новом способе, полностью превышающем всё человеческое. Правда, вечное Слово не могло бы сделать себя понятным для смертных посредством артикулирования их экзистенции, если бы эта временна́я экзистенция не содержала в себе как бы некое предчувствие вечного, т.е. своего происхождения от Бога и следования к Нему, а также тварной смысловой полноты и тварной красоты, на которой лежит отблеск вечности. Мадонна с Младенцем являют собой для всех христиан уникальную и ни с чем не сравнимую пару, которая всякое конкретное отношение между матерью и младенцем освещает светом вечной благодати. Человеку внешнему, который не имеет представления об уникальности или сознательно ею пренебрегает, этот образ всё же не представляется от этого совершенно немым: он слышит как бы некий невнятный лепет, ибо звук и жест предшествуют ясному слову, как алфавит предшествует составленным из него словам и предложениям. Так обращается к нему Распятый, которого он прини-
274
мает просто за человека, но зато в этом последнем ему явлен человек как таковой. К нему обращается с увещеванием тот, кто воскрес и был восхищен на незримые небеса. Для верующего же сказательная сила имеет свою опору не только в туманной аналогии между жизнью вообще и жизнью слова, явленного в откровении Богом, но и в гораздо более действенной аналогии, которая всякое конкретное творение соизмеряет с этой уникальной и преизбыточной кульминацией и отныне всякого ребёнка избирает в товарищи детских игр Младенцу Христу, всякого взрослого -в братья Сыну Божиему.
Если Христос на каждом отрезке своей земной жизни является полновесным Словом, исходящим от Бога (причём не только там, где Он обращается к народу, но и там, где Он беседует наедине с теми или иными людьми; не только когда Его слово фиксируется, но — куда чаще — когда оно исчезает незаписанным; не только когда Он говорит, но и когда Он молчит или молится), значит, человеческое земное бытие во всём, «кроме греха» (Евр 4. 15), оказывается приспособленным, чтобы служить Богу Его языком. Тогда всякий возраст человеческой жизни, каждое состояние воплощённого Слова является - в гораздо более высоком смысле, чем чисто человеческий, - окончательным самопредставлением Божественной полноты и в каждом из них правит эта полнота. И тем не менее всем этим не снимается факт взаимного дополнения различных земных состояний: полнота перетекает в полноту; полнота, не разделяясь, разворачивает своё богатство в потоке времени. То, что Его бренная жизнь в каждый момент является представлением вечной жизни, ставит Сына Человеческого на земле в самое таинственное отношение ко времени и к экзистенции: воистину, а не по видимости подчинённый смыслонаправленности времени, Он не уносится его течением прочь, как мы, хотя и Он тоже, будучи человеком, ощущает пустоту времени. Однако Он покоряется не этой пустоте, а сдаётся в руки Отца. Его усталость, порой горечь, даже помимо Его знания и чувства бывают наполнены од-
275
ной любовной верностью, в которую мы скорее поверим, если она открывается в слабости, а не в силе.
И именно поэтому, поскольку в Его земной жизни и во всех Его превращениях уже содержится и открывает себя вечная жизнь, мы верим, что, воскреснув и будучи вознесён на небо, Он мог укрыть и сохранить внутри вечного все формы человеческого бытия. То, что находит выражение в мифах как некое томление, необеспеченное и нереализованное, здесь удаётся сразу и для всех: окончательно укрыть временное в вечном, поскольку вечное во временном уже окончательно укрыто. В вечном укрыт и отдельный образ, и смыслонаправленность времени, причём так, что Сын Божий получает суверенную свободу и власть над всеми своими временными формами, а также возможность, черпая из вечной жизни, наделять своей полнотой эти увековеченные формы — по своему усмотрению и всё же без насилия над своей человеческой природой. Одних Он встречает как Дитя, других - как Муж и в обоих случаях встречает в подлинном смысле, без снисходительного приспосабливания к восприятию погружённого во временность человека. Однако решающее приспособление происходит не теперь, оно произошло тогда, когда Сын был человеком, даже когда Он ещё только решил стать человеком, когда Существо усвоило себе существо временное и в самом себе осуществило перевод Божественного в тварное: деяние, впоследствии не превзойдённое ничем, даже Его вознесением. Чередой сменяющиеся образы, которые на всём протяжении церковной истории представали в видениях различным мистикам: Дитя, Сын Человеческий в Назарете, в храме, на Кресте или воскресший в славе - каждый в отдельности и все вместе — заключают в себе не только «явленную», но и сущностную истину. Разумеется, теперь Сын, сидящий одесную Отца, не является уже в плотском, преходящем смысле тем Младенцем, которого в земной жизни держала на руках Мать. Но Он является вечным Младенцем, в котором снимаются и обретают спасение все формы и стадии земного детства, поскольку Его земное детство уже было откровенным словом Его небесного детства. И, разумеется, Сын не висит более на Кресте, истекая кровью, но поскольку три часа агонии между небом и землёй
276
уже были прорывом времени — в вечное и вечности — во временное (эти часы несоизмеримы ни с хронологическим временем, ни с психологическим ощущением времени; «Иисус в агонии простирается до пределов Мира», Паскаль), то страдание Богочеловека становятся драгоценнейшей реликвией, которую Воскресший, и тем самым уже чуждый страданиям, захватил с собою из своего земного странствия в эмпиреи славы. Слёзы, омочившие платки при явлениях Марии, были видимыми, и когда священник в Лимпьясе взошёл на алтарь, чтобы прикоснуться к Распятию, на котором все окружающие видели кровь (сам же он её не видел), его руки оказались измазанными в крови. Кто-то скажет, что это видение, это прикосновение к крови, эта слёзы Богородицы суть «чудесные знамения», данные Богом в «напоминание» о прошлых страданиях Сына, тогда как сами явления не стоят в каком-либо отношении к сегодняшнему состоянию Богородицы и Христа. Однако подобные высказывания несостоятельны. Трудносоединимое следует мыслить в единстве: эта явления и их чувственные (т.е. явно знаменованные) манифестации предстают нам как ясный (поскольку он принадлежит времени) обратный перевод пройденных на земле состояний, которые, со своей стороны, пребывают уже не в «плотском» и преходящем, но в «духовном» и вечном образе вместе со Христом вознесены на небо и в адекватной форме открываются теперь только христологическому сознанию. Верно, что Христос на небе более не страдает, но верно также и то, что Его страдания в их явленности суть реальное, а не фиктивное выражение Его небесного бытия. Это последнее не есть количественное увеличение уже познанной на земле радости и забвение перенесённых здесь страданий, оно не стоит в столь частичном и антитетическом отношении к земной жизни, сообразно принятым здесь пропорциям между радостью и страданием; скорее, это отношение заключается в тотальном и сквозном увековечении и прославлении. В отношении нас, грешников, несомненно, что после суда и очищения мы должны будем расстаться с дурной составляющей нашего существа и нашей жизни; что же касается Христа, а также, Его милостью, и Его Матери, ставшей прообразом не имеющей пятна Церкви, то
277
всё пережитое Ими принадлежит вечности, поскольку изначально содержит вечность в себе.
Что может означать «вечная жизнь» для творения, принадлежащего времени, как не укрытие беззащитного, угрожаемого, всегда теряемого земного бытия в Божией вечности, в которой оно получает часть благодаря приглашающей, открывающей, допускающей милости Бога? Эта перспектива причащения вечности остаётся неизменной даже и тогда, когда никакая космология уже не в состоянии придать ей достаточную (кажущуюся) наглядность. Да, лишь теперь, когда это укрытие в Боге выведено из сферы человеческого победительного «представления», оно впервые может быть беспрепятственно помыслено и во всей своей необходимой радикальности переведено в разряд духовного видения.
Способы, какими Слово делает себя понятным для нас, бесконечно многообразны. Его человеческая природа — это тот инструмент, которому подвластна любая мелодия; даже молчание и пауза могут стать выразительным средством сообщения. И столь же многообразными, как способы передачи, являются дарованные Словом способы Его восприятия. То многообразие, которое сказывается в опыте мистиков, может служить лишь собранием символов и руководством для такого же или даже большего многообразия, охватывающего различные акты встречи, осуществляемые в вере и молитве. Нет необходимости видеть Божие Слово как Младенца Иисуса мистиков, чтобы в вере встретиться с Ним как с Младенцем. Содержание того, что уделено Словом миру, может быть одним и тем же как внутри, так и вне мистики и даже воспринимается с одинаковой глубиной, если только верующий открывает и отдаёт себя со смирением и безмятежностью.
3. Слово как Младенец
Вечное Слово Бога когда-то было Младенцем — и потому осталось Им навсегда: Оно сделалось человеческим Младенцем, потому что никогда не было и не будет никем другим, как вечным Чадом Отца; и поскольку оно однажды было Младенцем,
278
оно может всегда являть откровение своего вечного младенчества в человеческой, т.е. доступной для человека, форме. Мы можем и должны вглядеться в мир детства и, не покидая его, увидеть этот мир как прозрачный, а сквозь него —явление Бога.
Человек начинает свою жизнь в безмолвном отшельничестве материнского лона, поначалу абсолютно незаметно для всех, и лишь позднее беременная мать узнаёт о его существовании по некоторым косвенным признакам, а затем - по непосредственным ощущениям. Ещё через некоторое время он как живая реальность становится заметен и другим — и опять косвенно, по изменению тела матери. Впервые он отчётливо даёт о себе знать задолго до своего первого крика. Младенец, которого мать производит на свет не одна, так как семя изливается в неё извне, естественной любовью, которая её раскрывает и побуждает к самоотдаче, — этот младенец вначале питается соками материнской жизни, и без тепла и влаги её лона, без возникающей вокруг него питательной системы он сразу бы умер. Чужое семя соединяется с материнской яйцеклеткой, как приходящее извне слово - с уже пребывающей в Марии надприродной благодатью, чтобы отныне образовать единство, которое становится непосредственным прообразом всякого единства в мире: духовный индивид, по самому своему названию и по существу, обладает неделимостью. То, что в нём угадываются как отцовские, так и материнские черты, не меняет дела. Это - отблеск в творении Святого Духа любви, который исходит от Отца и Сына и в своей суверенной свободе знаменует вечный триумф Божественной плодоносности. Но кто захочет разбираться в том, что в Божием слове, покоящемся и растущем в душе, является благодатью внутренней, а что — благодатью внешней, что - слово, а что - согласный ответ, который даруется словом и всякий раз становится пищей для разворачивающегося слова? Ибо слово в своём послушании ищет вступить в детско-материнское отношение (Мф 12. 50; Мк 3. 35; Лк 8. 21), которое не подвергает сомнению также братско-сестринские
279
отношения: ведь и брат и сестра, будучи одной крови, послушествуют одному вечному небесному Отцу. Человек как плодоносная, зачинающая и вынашивающая почва для слова (Мф 13. 23; Мк 4. 20; Лк 8. 15) вовлекается в сферу законов сущностной плодоносности, независимой от отдельного осознанного акта, охватывающей его со всех сторон и являющей собою не что иное, как плодоносность растущего в нём слова: «...и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собою производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе» (Мк 4. 27-28). Вот тайна надприродной плодоносности души: пробуждённая «семенем Бога» (1 Ин 3. 9), она всё же не может обойтись без согласного действия духовных сил природы, и более того — коль скоро слово запало в неё, она, волящая и со-трудничающая, становится незаменимым условием для его роста1.
Отсюда тесная преплетённость мотивов материнства и детства в изображении верующей души, наиболее ярко отражённая в немецкой мистике со времён Экхарта, но прослеживаемая уже у Оригена. Тот, кто принимает слово Бога в свою душу, становится ему матерью и может, по благодати, участвовать в его рождении, — но только благодаря тому, что он одновременно вовлечён в вечное рождение Сына Отцом и, по благодати, становится братом и сестрой слова2. «Восхотев, — говорится об Отце, — родил Он нас словом истины» (Иак 1. 18), т.е. родил свободным уделением благодати, а не по природе, как Он рождает Сына, т.е. Слово, и всё же родил нас словом, которое Он на нас направляет и вкладывает в нас, родил не творением, а именно «рождением», т.е. через наше участие в рождении на свет вечного Сына, поскольку Иаков далее продолжает: «чтобы нам быть как бы
1В связи смотивомплодоносностисм.: J. Bommer: Die Idee der Fruchtbarkeit in den Evangelien. Diss. Rom, Angelicum 1950. — Franz Böckle: Die Idee der Fruchtbarkeit in den Paulusbriefen. Diss. Rom, Angelicum 1953.
2 Hugo Rahner: Die Gottgeburt. ZfkTh 29 (1935) 335—418.
280
начатками Его созданий», отмеченными среди всех мыслимых созданий особым отличием.
Но если Бог Отец послал Деве во Святом Духе своё Слово в виде плотского семени, которое выросло в Ней, стало ощутимым и заняло Её целиком и в отношении которого Она посмела и даже должна была ощутить себя Матерью (именно потому, что Её Сын привёл Её в сходное с Его собственным состояние детскости по отношению к Отцу), — почему тогда нельзя, чтобы и нам было послано Слово в качестве Младенца? Слово-Младенец, которое в своём молчаливом безвластии столь легко, тысячью способов может быть отторгнуто и вытравлено, так что набожный человек едва ли об этом и узнает (ведь человеческое общество воздвигнуто на фундаменте тысяч замолчанных убийств нерождённых детей, словно бы на это даже не стоит тратить слов), которое приникает к нам изнутри и ищет в слабой человеческой плоти укрытия и защиты. «Не как победитель приходит Он, но как умоляющий о защите. Как беглец живёт во мне, под моим кровом, и я отвечаю за Него перед Отцом» (Бернанос). В Его царстве принят такой язык.
Тайны беременности ни с чем не сравнимы по своей затаённой сладости и изматывающей муке. Новая жизнь, о которой человек сначала знает лишь то, что она есть, и начало которой как самостоятельно-личное состояние никто не может познать на опыте, поскольку её исток в Боге столь же таинствен, как воскресение Господа, — эта новая жизнь отделяется от материнской жизни столь неприметно, что поневоле вспоминается цветок на ветке дерева, который сначала раскрывается, потом набухает плодом и наконец созревает и опадает. Но то, что столь осторожно питается там, внутри, несёт в себе свой собственный закон, который всё более властно покоряет себе закон человека, всё настоятельнее принуждает его служить себе - именно тем, что облекает своё Божественное превосходство улыбающейся детской беспомощностью. Призывая на помощь всю неотразимость детского взгляда и наивное очарование детского поведения, всевластие просит того, что может быть дано лишь свободной волей. Есть прежде всего по-
281
вседневность. Прелестные маленькие тираны держат взрослых людей в непрерывном напряжении; мать должна заниматься ими целый день. Даже когда они спят, нужно соблюдать тишину, а когда они играют, то для этого им часто требуется вся квартира, и тогда ни одна вещь в ней не находится в безопасности. Сон и игра — это два занятия, свойственные Слову, столь пленившие Терезу из Лизье, которая, как настоящая мать, всё время находилась под властью Его детского очарования и общалась с Младенцем вполне практически и трезво. «Ребёнок спит» означает: теперь к нему нельзя, не следует его беспокоить, нужно оставить его в покое, а все вопросы и требования отложить на потом и даже для нежностей теперь не время. Когда ученики разбудили Господа, задремавшего в лодке, они извратили порядок вещей, хотя они выжили в бурю и разбуженный Иисус «воспретил» ветру. Дети также спят дольше взрослых, сон - одно из их нормальных состояний. Именно этой своей временами возникающей недоступностью дети и приковывают к себе внимание взрослых; если же ребёнок является словом Бога, то его, в отличие от обыкновенного ребёнка, нельзя оставить даже на короткое время, чтобы успеть второпях сделать что-нибудь ещё, он не даёт матери отвлечься от него. Когда ребёнок спит - мать бодрствует, когда шалит — она внимательна и напряжена, когда он по видимости замыкается в себе, она ещё старательней добивается общения с ним. Если же ей самой приходится заснуть, то она спит, повернувшись к нему лицом, чтобы проснуться при малейшем его беспокойстве. «Я сплю, а сердце мое бодрствует», - говорит невеста в Песни Песней. Эту способность — с готовностью прислушиваться — привил матери ребёнок; ей нужно лишь следовать своей материнской природе, которая ею руководит. Её готовность — эхо его собственной беззащитности и зависимости. Этим ещё раз подтверждается, что Божественный Младенец, став Человеком, приобщает нас к своему детству — тем, что Он делает матерью каждого из нас. Став взрослым, Сын оглянется на своё детство, которое никогда Его не покидало, и, одного ребёнка, обнимет вечное детство и тем самым, опережая весь мир, проявит свою беззащитную открытость воле Отца, прибли-
282
жающемуся Царству Божию: «...таковых есть Царство Божие. Истинно говорю вам: кто не примет Царства Божия, как дитя, тот не войдет в него» (Мк 10. 14-15; Мф 19.14-15; Лк 18.16-17).
Рядом со сном - игра. В игре ребёнок свободно творит свой мир. И эта творческая мудрость Бога сама свидетельствует, что сделалась ребёнком: когда Отец был занят творческим трудом, она «играла перед лицем Его во все время, играла на земном кругу Его» «и была Его радостью всякий день» (Притч 8.27-311). Но ни игра Бога как Спасителя, ни Его игра как Творца не являются играми с заранее известными правилами; скорее, они принадлежат к тем сказочным мирам, которые дети, вместе или в одиночку, сооружают наперёд и как бы с расчётом на бесконечность и в которых они одновременно являются кукловодами и зачарованными зрителями, увлечёнными своей затеей и захваченными саморазвитием ими же изобретённого. (Взрослые переживают это единство почти всегда только во сне, когда строгий разум спит и сила воображения ведёт свой хоровод.) Маленькая Тереза при этом хорошо знает, что такое - преданно разделять причуды (caprices)играющего Младенца Иисуса. Горе тому из играющих, кто своими строгими правилами и сварливыми упрёками противоречит непостижимым приговорам и решениям ребёнка! Если он действительно хочет играть, т.е. вступить в наперёд воздвигаемый и изменчивый мир ребёнка, то его выручит только одно - изначальное согласие с самыми неимоверными требованиями: сейчас ты дерево, через минуту - птица или красный воздушный шарик, потом вдруг - верховая лошадь, карлик, великан или тот самый мячик, который бросают, ловят, обнимают, закидывают на целый день в угол и в конце концов продырявливают, чтобы узнать, что у него внутри. Играющие дети часто бывают жестоки, но не из зла, а от напряжённости происходящего. Всё, что вовлечено в игру, будь то вещь или намерение на ближайшее будущее, менее всего может рассчитывать на сохранность. Игра знает лишь один закон: себя самоё; кто этого не признаёт, тот сам себя из игры
1См.: Hugo Rahner: «Der spielende Gott» in: Der spielende Mensch (Johannes Verlag EinsiedeIn 101990, 15 ff.).
283
исключает, он слишком стар и блуждает в сухой и безжизненной пустыне разума, слишком далеко от бурлящего источника жизни...
Но ребёнок является также мастером созерцания. Он лежит в колыбели или - как на картине Рунге «Утро» - на лужайке и смотрит. Смотрит часами, то пробуждаясь, то засыпая. Нельзя сказать с уверенностью, что именно он видит и воспринимает ли он в качестве предмета ту вещь, на которой покоится его взгляд. Он, таким образом, погружён в созерцание. Созерцание, ещё почти не выделенное из той тождественности, которую созерцающий и созерцаемое вместе образуют в своём истоке, в Боге. Никогда в жизни человек больше не обретёт такого взгляда, разве, может быть, в конце, когда глаза умирающего расширяются с ужасающим, тихим вниманием, чтобы вновь увидеть то, от чего отвернулось шагнувшее в мир создание. Умирающий должен пройти через обращение, которое до конца смирит его свободу и «взрослость» и о котором говорил Господь, поставив ребёнка посреди своих учеников: «...истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф 18.3-4).
Слово в состоянии умалённости становится — как ребёнок — словом созерцания. Бессилие, младенческая неспособность к действию, даже к высказыванию, эта крайняя нищета есть начало и условие истинного созерцания. И в этом объединяются все наставники созерцания, многие Отцы Церкви, имеющие любовь к детству: Иероним, молитвенник у Вифлеемских яслей; Иоанн Златоуст с его детской душой; Франциск, которому рождественская нищета Младенца прояснила образ Бога; Бонавентура; Антоний Падуанский с младенцем на руках, Бернард Клервоский, Таулер и автор «Книги о духовной нищете»1, для которого нищета была непременным созерцания; но также «французская школа» с её суровым, почти мрачным образом Младенца и Его четырёхкратного «умаления»: малости тела, зависимости от других, несвободе, бесполезности
1 Hrg. von H.S. Denifle 1877.
284
(Кондрэн), с представлением о «крайне жалком детском состоянии, при котором Иисус сокрыт и пленён в нас, Адам же — живёт и царствует, Святой Дух молчит, а грех явствует» (Берюль), а также видящие Его детство в более светлых тонах - «как инструмент в руках Младенца Иисуса для исполнения всего, что Ему заблагорассудится, в великой невинности, чистоте и простоте, без всяких раздумий и расчётов...» (Рента); основатели почитания Иисусова детства в новое время: кармелитка Маргарита Бонская1, от которой исходит сияние молитвы, обращённой к увенчанному короной Младенцу Царю во славе, чей образ разбился, выскользнув из задрожавших от ужаса рук Гертруды де Ле Фор и героини Бернаноса Бланш де Ла Форс. О Жане Тара его биограф сообщает, что он «созерцал Иисуса как “Младенца в Духе”, — не только в Его детские годы, но в течение всей Его жизни и даже после Его смерти, воскресения и вознесения»2; Жанна Перро3 вслед за позднеготической мистикой будет рассматривать Младенца вместе с орудиями пыток, тайну детства - в связи с тайной страстей, она видит даже Мужа скорбей с зияющей раной в боку, который совершает праздничный обряд своего святого детства, откуда уже открывается прямой путь к Терезе Младенца Иисуса и святого Лика, но также и к Бернаносу, глубочайшей интуицией которого была неразличимость рождения (из Бога) — и смерти (в Бога), страха смерти — и страха рождения, в чём заключена для него истина всей экзистенции от альфы до омеги4. Тем самым он подхватывает тему, быть может, самого великого провозвестника детства вообще и Иисусова детства в частности, который, будучи до глубины души - ещё сильнее, чем его более тёмный последователь - потрясён Божественной близо-
1См. Bremond, Histoire du Sentiment Religieux, т. 3, 532 сл.
2 Ebd. 554.
3 Ebd. 571—582.
4 См., кр. того, статьи: «Enfance de Jésus» и «Enfance spirituelle» в: Dict. de Spiritualité (1959), тамжеприведенабиблиография; см. также: Zimmermann, Aszetik, 2. Aufl. 303. Karl Rahner: Gedanken zu einer Theologie der Kindheit. Geist und Leben 36 (1963) 104—114.
285
стью Младенца, слил нескончаемый гимн Ему с потоком хвалы самой ночи: сон после всех страстей, дозволение спать даже после повзросления Бога Сына, после всей горечи проведённых на земле дней - заснуть снова на руках Матери, в прохладном саване ночи, в неощутимых руках Отца... То, что Шарль Пеги1 возродил в своих мистериях, есть истинное христианское преодоление шопенгауэровской и тристановской ночи, всякой затерянности в безграничных физических и психологических мировых безднах современной науки, которым подчас даже христиане в отчаянии дают себя поглотить («Зима в Вене» Р. Шнайдера!) и над которыми Христос царит не только как Вседержитель, но и как беззащитное Дитя, уносимое волнами дремоты. И пространства, открываемые здесь Шарлем Пеги для христианской молитвы, вообще для христианского миро- и жизнеощущения, обладают такой полнотой и плодоносностью, которых прежде достичь не удавалось. Ключ, который здесь пробился, вытекает из вечной тайны Божьего детства и - через вечную тайну детства Христова - питает дарованную человеку вечную детскость: вечную надежду. В молитвенном языке Пеги есть какой-то звук, подслушанный у вечного Слова, потому что в самом течении этого языка угадывается жизнь вечности, ежемгновенно наделяющая бесконечным счастьем, но и говорит этот язык бесконечно больше, чем можно высказать, и отсюда - бесконечная же потребность всё новых и новых слов. Внутреннее излияние внутреннего источника превращается у него в наружный поток, но так, что этот поток вновь и вновь возвращается к себе: «струится и стоит». Вера-любовь изливается как надежда, надежда расцветает как вера- любовь, и все трое образуют круг вечной жизни, блаженно запечатлённой в безгреховности, беспорочности и бессознательности Младенца. У Пеги Бог Отец — это древний Патриарх, которого Бог Сын снова и снова склоняет к милосердной любви с её слезами,
1 Péguy, Das Tor zum Geheimnis der Hoffnung (übersetzt von H. U. von Balthasar, Stocker, Luzern 1943) [Посл. изд. Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg 31993]— Das Geheimnis der unschuldigen Kinder (übersetzt von Oswald von Nostitz, Herold 1954, а также см. «Herrlichkeit» II (31984), глава о Пеги, с. 767—880.
286
расплавляющими суровую справедливость, и который бесконечную правоту Младенца и уступает триумфальной Божественности Младенца, обладающего этой правотой в силу своей юности. Этого волнующе-трогательного образа поэт никогда не оставляет, вполне уподобляясь в этом Малой Терезе. В дальнейшем мысль о вере глубоко усвоит этот образ и лишь в той мере будет от него удаляться, в какой ей удастся узнать в детскости Сына отблеск вечно нового бытия всей триединой жизни, вечно юной творческой полноты Отца и «юнейшего» в Боге - Духа.
Кажется, нигде, собирающее дело воплощённого Слова не проявилось яснее. Ибо везде вне христианства ребёнок изначально приносится в жертву: время течёт всегда однонаправленно и необратимо, всё более удаляясь от детства, и мысль силой обратить временно́й поток к его истокам представляется абсурдной1. Ветхий Завет знает лишь прямолинейное время, текущее по направлению к будущему, поэтому в нём нет места для ребёнка. «...Как может человек родиться, будучи стар?» - спрашивает фарисей с недоуменным покачиванием головы, - «неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» (Ин 3. 4). Не иначе обстоит дело и у язычников с их вертикально-циклическим временем. Ибо телесное рождение исходит снизу, из natura naturans, а возвращение к духовному истоку требует во всяком случае дистанцирования от всего, что охвачено колесом рождения и смерти. Ребёнок ещё связан с этим всеми фибрами, и лишь зрелость впервые достигает отрешающей высоты.
Мысль о том, что вечное Слово есть вечное Дитя Отца, отбрасывает свет вечности и на человеческое дитя, изобличает ложь всякого рода опьянения взрослостью и в корне преобразует всю философию истории. Теперь взгляд, бросаемый назад, в детство (как у
1 Античный топос «puer senex», подхваченный также Августином (in Ps 112, 2), — это нечто совсем иное. См. Письмо Эпикура к Менекею (Диоген Лаэртский X. 122). E.R. Curtius: Europäische Literaturgeschichte, 2. Aufl. 108—115.
287
христианских поэтов1), — это уже не романтическая мечта, это томление по утраченной невинности и интимной близости к Богу, которые никогда не были утрачены Иисусом и Марией и всегда доступны нам через глубинную благодать крещения и вечно возобновляющееся отпущение грехов. Лишь христианское созерцание тайны Младенца может сегодня создать противовес мерзостям прогрессистского опьянения, под каким бы видом оно ни выступало: антихристианским, нейтральным или даже христианским. Каждый ребёнок начинает с одного и того же: с абсолютной новизны бытия, с абсолютного удивления, которое является основным актом философии, каждый включается в одну и ту же игру, вполне превосходящую все вещи мира, но при этом остающуюся внутри них, чуждую холодной дистантной резиньяции. Каждый ребёнок знает или должен знать чувство абсолютной укрытости в лоне матери, отца, семьи, и все его будущие деяния и страсти, сопряжённые со взрослением, должны питаться неистребимым запасом этой укрытости. И каждый понимает (или должен понимать) говорение ребёнка как ответ на пробуждающее слово любви, как благодарность столь очевидную, что она даже не нуждается в особых словах.
Так спасительное бытие высшей благодати ниспадает в этот забытый спасительный круг тварного земного бытия, затенённого безблагодатностью наследственного греха. Так временное (и чересчур преходящее) ещё до прихода всякой тщеты бывает укрыто в вечной детскости.
4. Слово как Юноша
Следовало бы проследить незаметные перемены, происходящие со словом в его повседневном существовании - от появления разума до открытия мира с его любовью и ненавистью. По-
1 Это было основной темой богатого творчества Альбера Бегэна. См. прежде всего его введения к сочинениям Бернаноса и Пеги, а также Albert Béguin: L’Ame romantique et le Rêve (Corti 1939), Poésie de la Présence (Cah. du Rhône 1957), Essais et Témoinages (sur) A. Béguin (ebd. 1957).
288
дойти — сквозь все полутона человеческого созревания — к открытию своего Я (и того, кто этим Я является!), к постепенному осознанию своего призвания, к юношески-робкому кружению в молитве вокруг тайны этого призвания. Банальная христология подталкивает нас к тому, чтобы в Мальчике Иисусе увидеть одного из тех вундеркиндов, которые, «опережая свой возраст», знают и умеют такие вещи, какими обыкновенный человек овладевает гораздо позднее, и потому, лишённые юности, производят подчас мрачное и старческое впечатление. Нас подталкивают к этому тем сильнее, что евангельский эпизод с двенадцатилетним Христом, казалось бы, лишь подтверждает этот образ и никаких других наглядных свидетельств душевного состояния созревающего Юноши Христа мы не имеем1. Возможно, тайны этого развития имеют столь тонкую субстанцию, что Отец Небесный не хочет предавать их превратному человеческому разумению; даже и в возмужалом и сильном Слове, отданном людям на поедение и растерзание, она едва ли не слишком тонка для них. Нельзя также просто приписать Богочеловеку экзистенциальный опыт насквозь греховного человека, предварительно очищенный от самого грубого и жалкого. Представляются возможными два пути: [1] отталкиваясь от того, что мы на опыте своей собственной созревающей жизни познали как самое интимное, ценное, не подлежащее выявлению, залегающее глубже всех слоёв омрачающего греха, ощупью продвигаться к тому, что Бог сам захотел опытно познать, сделавшись Человеком, и [2] затем, двигаясь как бы сверху вниз, от полноты Божьего Слова, нащупать образ поведения (уже доступного нашему созерцанию в человеческой жизни Христа), который соответствует вечной юности. Оба пути нераздельны и могут быть пройдены только вместе: где один оказывается непроходимым, дальше ведёт другой. Наш опыт (христианский в частности) должен быть познан, сверх самого себя, в отношении к Христу, тогда как Его опыт, опытно не по-
1 Ср. размышления на эту тему Петера Липперта (Peter Lippert) в его книге «Der Menschensohn, Bilder aus dem Seelenleben Jesu» (19262).
289
знаваемый, должен — по христологической благодати — сделаться познаваемым для нас в нашем собственном опыте.
Но всё равно: пятнадцати-двадцатилетний Христос постижим труднее, чем Младенец, изображённый на бесчисленных картинах играющим со своим другом Иоанном на руках у Матери. Кто в друзьях у этого Юноши? Кому раскрывает он своё робкое горящее сердце? В этом возрасте никакая пылающая дружба не разрушит одиночества, едва ли преодолимого, и Юноша Христос остаётся, быть может, самым одиноким из людей. У Него есть Отец на небе и возможность беседовать с Ним, и чем яснее обрисовывается Его грядущая миссия, тем менее может Он доверяться даже своим ближним. Высшие часы юности — это не часы общения, а те, гораздо более тяжкие, когда человек обнаруживает, что самое лучшее, важное и насущное в нём едва ли передаваемо. Насколько всё это глубже, чем то, «о чём подумал день»! Младенец плыл над этой бездной в дремоте и неведении. Теперь промеряется её глубина — и оказывается неизмеримой! Главное здесь — не переживание своей заброшенности в слишком широком мире, хотя отчасти возникает и это, а устрашительно-воодушевляющее открытие самого бытия как такового: своей и вместе чужой природы, окружающей человека со всех сторон. Земное бытие, само по себе непостижимое, соткано из материи чуда, но не так, будто ребёнок живёт в своём сказочном мире, закрывающем от него печальную взрослую реальность, нет: чудесна сама действительность, пугающая, манящая, тягостная, приводящая на грань отчаяния, и она же - окрыляющая для тайно справляемого непрестанного праздника. Скорлупа вещей вскрывается, и одновременно с ней - скорлупа сердца: тайна любви выходит на свет из всех форм и слоёв. И конечно, для того, кто стянут путами наследственного греха, это становится опасностью и роком: низшие, дикие формы заглушают все остальные; нахлынувшая свобода оборачивается новыми путами, тоска и глухое чувство греха мрачат душу: то, что должно было стать высоким пламенем, превращается в медленное чадящее тление. И всё же огонь снова пробивает себе дорогу: одухотворение рассеивает туман.
290
Одухотворение, отданность Духу, энтузиазм, иначе — состояние наполненности Богом, то, что более бледно называют также идеализмом: существование в виду идеи и для идеи; такое существование может выйти из границ помрачённой личности и дотянуться до опыта юного Христа и так предаться неисследимым гипостатическим превращениям, из которых оно возвращается обожествлённым, но по-прежнему узнаваемым. Быть христианином не означает быть только ребёнком, но — в некоем надвременном и всё же вполне человеческом смысле - быть юным. Ведь христианин стоит на пороге жизни, где всё раскрывается, всё исполнено обещания, всё купается в глубокой, а отнюдь не мелкой, в истинной, а не иллюзорной купели преображения. В земной жизни завеса тумана для большинства людей никогда полностью не поднимается, солнце про сквозь неё, но весь горизонт проясняется лишь изредка, и ещё реже удаётся сохранять его открытым при «вступлении в жизнь», т.е. в «филистерство». Кто на это способен, тот остаётся поэтом и после периода юношеского созревания, когда сочиняют все. Остальные, если они ещё сохранили тоску по когда-то виденному, прилепляются к поэтам, чтобы их духовным вином вновь приобщиться к прежнему состоянию открытости. От чтения стихов затвердевшая душа может снова размягчиться, вспоминая о том, какой она когда-то была или могла стать. Но какими бы ни были средства подобного обновления: поэзия, музыка, приобщение к природе, дальние путешествия, смена обстановки, упражнения для поддержания телесной гибкости, памяти, умственных способностей, - время всё равно берёт своё и даже большинство поэтов бывают вынуждены вскрывать и проедать неприкосновенные запасы, накопленные в юности.
В этом-то месте слово Божие и раскрывает свою вечную юношескую силу. Оно юно по самому своему существу, оно не просто возвращает к прежней одухотворённости, оно субстанциально сообщает всеобновляющий Дух. Но это и есть Дух Иисуса, бывшего навеки юным. Однако юношеское свойство, которое Он сообщил своей Церкви и своим последователям, не имеет ниче-
291
го общего с теми тягостно закосневшими людьми, что высшей точкой своего существования считают бесконечно муссируемые переживания и проблемы юности: дряхлыми бойскаутами, «умилёнными» юностью, чья жизнь как бы застыла в этом давно испарившемся умилении. Истинную юность слова скорее можно распознать в опыте святых, которые живут, питаясь Божиим словом. Вряд ли существует что-либо иное, что столь роднило бы их всех между собой и в то же время столь отличало бы от других великих людей, как это таинственное юношество. Уже здесь мы не можем не заметить того странно-таинственного обстоятельства, что Иисус был взят от нас в полноте своих сил, в том срединном возрасте, который римляне называли juventus, между двадцатью и сорока годами, и что Он, таким образом, не знал старости. Есть старение человеческое и достойное почитания, но нет собственно христианского старения. Старение означает переход некой высшей точки, склонение к физическому концу. Это нисхождение может и должно быть наполнено нравственной силой отказа, который как бы на шаг опережает мощный процесс лишения и - пока духовные силы ещё свободны - придаёт акту ухода характер высшей готовности. Однако человеческая старость немыслима без резиньяции, которая не принадлежит к числу христианских добродетелей. Ни сам Христос, ни кто-либо из Его (подлинных) святых не проявлял резиньяции перед лицом смерти, хотя бы и в старости. Томас Мор, которому пришлось взойти на эшафот, а равно и древние мученики были ей чужды. Резиньяции свойственно представление о невозместимости времени, чуждое христианскому времяощущению. Юношество Христа, если бы даже Он дожил до глубокой старости, исключает самую возможность того, что детскость в Нём стала бы в преклонном возрасте «впадением в детство».
Он всегда юн благодаря юности слова Божия. Эго то пламя, которое ярко горит в Евангелии и не даёт слову Христа сделаться окончательно привычным в расколдованном мире взрослых людей. Разве Нагорная проповедь с её утопическим, почти упрямым идеализмом не выделяется своей «неотмирностью» среди осталь-
292
ных этических систем человечества? И не следует ли моралистам постоянно чуть-чуть корректировать и толковать её ad usum delphini(здесь: «упрощённо»), с тем чтобы сделать её приемлемой для простых смертных? Кое-что в ней следует понимать в духовном, переносном смысле, что-то другое — отнести на счёт восточной страсти к преувеличениям! И как далеки от жизни (если под жизнью понимать культуру, политику, управление, предпринимательство) все эти деяния апостолов, неловкие обороты вечного юноши Иоанна, наконец, эти пламенные речи Павла!
В тогдашнем мире, не испытывавшем недостатка в силе, зрелости и мужественности, христианство проложило себе дорогу и утвердилось благодаря своей юности, просто потому, что в жизни христиане всё время были на поколение моложе всего того, что их окружало, что оказывало им сопротивление, воздвигало гонения. Они шли на смерть, как мальчики, которые расточительно, без меры и счёта, свою жизнь на различные приключения, в которых находят своё счастье. Для юности привычны победы; блеск её лица, мягкая сила её крепких членов вызывают у старости невольное восхищение и склоняют к уступчивости. Перед очарованием этой фаланги, помазанной Духом, запечатлённой Его печатью, имеющей в сердце Его залог (2 Кор 1. 21 и сл.), перед этим «доводом Духа и силы» человеческая мудрость и политика отступают, как отступило и побежало филистимлянское воинство перед юным Давидом, вооружённым пращой. Прюмм (Priimm) в своей книге «Christentum als Neuheitserlebnis» (1939) описал эту почти оптическую победу на всех фронтах, потребовавшую усилия всех — в том числе воинствующих - христиан. Христиане хорошо сознавали, что новизна имеет в своей основе не протекание времени, а единственно сущность Христа, всегда новую вечность, врывающуюся во время. Выразителем этой мысли, как это часто бывало, стал Ириней. В ответ на возражение гностиков: что нового мог принести Господь, если в пророчествах Ветхого Завета Его приход был предвосхищён до мельчайших подробностей, — он возражает: «Знайте, что Он принёс всё новое тем, что Он возвещённый принёс Себя самого» (Haer. 4, 34, 1). Ипполит в пасхальной проповеди говорит о
293
том же: «Дева родила, Источник жизни лежал у материнской груди, Свет осветился, Владыка был искушаем, Судия — судим, Нестрадательный страдал во плоти, Бессмертный умер, Горний был погребён и восстал из мёртвых. И это не новое?.. Чего никогда прежде не было в течении мира, то и новое... Если же подобное впервые случилось при Христе, то через это сделалось новой тайной: новой из-за Нового Завета, из-за новой Церкви, из-за нового Спасения, из-за нового Царства, из-за тебя, который будет спасён на новых путях. Ибо ново твоё спасение, нов твой путь, на коем ты будешь искуплен Крестом и Гвоздями Божиими» (Achelis 259 и сл.)1. Дело здесь не в том, чтобы перечислить отдельные истины, которые сильнейшим образом повлияли на подобное осознание новизны: искупленность мира, состарившегося во грехе; явление Бога как Младенца; крещение как начало новой жизни в сияющей чистоте Новорождённого (Quasi modo geniti infantes, 1 Петр 2,2); переоценка боли, болезни, смерти, тяжёлого и подневольного труда и восприятие их как освобождающих доступов к новой жизни, как вступления на прежде не чаянные пути, духовная плодоносность которых наглядно явлена Христом и Марией и которые суть девственность, послушание, бедность, таинственное преображение брака, таинства обновления молодостью: исповедь и Евхаристия, цельное эсхатологическое чувство времени, которому принадлежит будущее. Скорее, дело заключается в том, чтобы из этого немыслимо радикального переворота всех представлений о мире и земном бытии вынести ощущение внутреннего настроя, который должен быть свойствен христианину- человеку, стоящему на пороге жизни: перед ним открывается необозримое царство, и оно реально должно принадлежать именно ему. «...Ибо все ваше... или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, — все ваше» (1 Кор 3.21—22).
Это главное чувство, которое с необычайной силой развилось впервые века и имело отчётливые политические и всемирно-ис-
1См. также: О. Casel: Die «Neuheit» Weinachtsorationen. Liturg. Zft. 4, 1931—32, 83—87.
294
торические последствия, в неизменном виде сохранилось и на исходе античности, когда христиане застонали под грузом вконец одряхлевшего мира (Августин, Папа Григорий Великий): оно лишь до некоторой степени ушло внутрь, не утратив при этом широты охвата. Во всяком случае, это касается тех, кто отдал христианству всё пространство своей души и, вслед за первыми христианами, дал его новизне целиком себя затопить.
Имея перед собой пример святых, можно понять, почему Бернанос отказывался считать средоточием и нормой жизни «зрелого человека», «это мифологическое животное, выдуманное моралистом, чтобы легче было демонстрировать на нём свои построения. Такого зрелого человека вовсе не существует, как не существует промежуточного положения между юностью и старостью. Кто не может отдавать больше, чем получает сам, тот сразу становится добычей тления. Даже ограниченный наблюдатель заметит, что двадцатилетний скупец — уже старик». Для Бернаноса христианин по своей сути — тот, кто в этом мире притягивает и ведёт за собой юность, как Жанна д’Арк, которая не сдалась «старым лисам», «народустариков» - политикам и казуистам, отправившим её на костёр, и в самой смерти одержала над ними победу. «Евангелие вечно юно, просто вы стары, — обращается он к христианам, - ваши старцы даже ещё более дряхлы, чем другие старики». Герои самого писателя, которые у него всегда — святые, своим главным качеством имеют юность. Они похожи на пятнадцатилетних, даже когда их, как Сельского священника, гнетёт груз физической и моральной смерти. Все их мысли имеют своим источником юную душу.
Было бы захватывающе интересно проследить историю юношества святых на протяжении столетий. И не только в отношении таких великих утопистов, как Франциск Ассизский, отважных личностей, как Мэри Уорд и Франсуа Ксавье, и отнюдь не только умерших в молодости, как Станислав и Алоизий, но непременно также и сильных, мужественно-зрелых богословов. Главная формула, выражающая представление о Боге, как, например, у Ансельма: id quo majus cogîtare non potest (то, больше чего постигнуть невозможно), есть несомненно интуиция юного сердца, которое
295
побивает любого возможного врага своей догадкой — не о «величайшем» даже, а о «всепревосходящем». Здесь в точности тот же пафос, что, например, у Григория Нисского с его «anelpiston kallos» применительно к Богу: Он столь величествен, что всякая надежда постичь Его мыслью или описать словами бессильно сникает. Сюда же относится творческое озарение и Николая Кузанского, нашедшего в математике подходящий алфавит для любви и бесконечности, и Херувимского Странника, чьё сердце всякую минуту готово было выпрыгнуть из груди от парадоксов Божьих изобретений, и Иоанна Креста, который в век географических открытий посетил — словно далёкие восточные острова - земли внутреннего мистического опыта и передал его в таинственных стихах, и даже дряхлеющего Ньюмена, который до последнего сопротивлялся духу старения и всё отважнее бросал вызов миру и мирскому духу. Все они (и бесчисленное множество ещё не названных, стоящих за ними) лицом к лицу встретились с юным Божиим Словом, которое приобщило их к своей вечной юности. Их юность — это лишь отблеск и свидетельство юности Слова, их одушевлявшего.
Кажется, никто с такой отвагой не отстаивал юность юного Слова, как воинственный иезуит Жан-Жозеф Сюрэн. Ядро его учения стало складываться в тот момент, когда он с ужасом заметил, что многие его товарищи по новициату в годы учения и позднее, в своей апостольской деятельности, отходят от прежнего своего отношения к Слову под предлогом повзросления и достигнутой зрелости. Они создали себе теорию, согласно которой все чувства при прямом соприкосновении со Святым Духом, все моменты утешения и преодоления, которые им было дано испытать в юности, пристали лишь их тогдашнему возрасту и неопытности на путях Божиих, тогда как закалённость взрослого человека означает отказ от всякого рода нежностей ради «твёрдой добродетели». «Но они жестоко заблуждаются, — говорит Сюрэн. - Именно те, подлинные свидетельства благодати ведут к святости. Этот опыт полноты имеет в виду Павел, когда говорит: ut itnpleamini inотпеп plenitudinem Dei (дабы вам исполниться всею полнотою Божиею, Еф 3. 19). В известном отношении эти люди имеют спокойную совесть, но они
296
опираются на свою учёность и разум и потому уже не вкушают Бога и не имеют части в Его посещениях. Это те люди, которые высоко ставят свои собственные взгляды и пребывают в убеждении, что для приближения к Богу нужно лишь уметь рассуждать, как философы. В отношении к истинным молитвенникам они всегда сохраняют за собой последнее слово и придерживаются мнения, что открытые сердца и нежность к Богу этих последних делают их легковерными и подверженными различным иллюзиям. Их скрытая мысль состоит в том, что душа становится тем сильнее, чем меньше мягкости в её отношении к Богу. Поскольку же при молитве они ощущают в себе сухость, то и приписывают это своей силе. Мы чужды дамских сантиментов, говорят они, у Бога мы уже не новички. Когда мы были молоды, у нас тоже случались эти приступы нежности, теперь же для нас вполне достаточно разумного размышления, чтобы справляться с собой»1. Однако это — не путь святых. «Разве все святые не следовали, по соответствующем испытании, внутренним движениям благодати и касаниям Духа? Всего этого слишком часто не замечают те, кто следует путём внешних ощущений и чистого разума. Этот закон говорит неумолчно (cette loi est perpétuellment parlante), но, поскольку он очень мягок и очень глубок, то к нему мало прислушиваются. И лишь тот, кто сосредоточен на внутреннем, отрешён и мёртв для мира, кто привык во всём искать Бога, тот вслушивается в это говорение, знает ему цену и руководствуется им - без ущерба для своего послушания»2. В слезах святых (Сюрэн всё время, и не без основания, ссылается на Игнатия) нет ничего постыдного; горящие души этих людей, их одухотворённость никогда не дали бы слезам литься попусту, между тем как мрачная взрослость, коей так гордятся её адепты, в действительности есть не что иное, как начавшийся или уже прогрессирующий склероз сердца. Иногда утешения новичков бывают не чужды некой (внушающей опасения) чувственности, но она впоследствии очищается и направляет-
1 Les Fondements de la vie spirituelle (1682) 273, 134 исл.
2 Traité inédit de l’Amour de Dieu (Ed. Bouix, Paris o. J.) 190.
297
ся вглубь; порою Слово проводит молящегося через новые и новые ночи самоотречения, чтобы привести его к чистому, самозабвенному слушанию. Но старение в отношении к Слову, постепенное приращение компетентности и довольствование ясно осознаваемым, некое техническое овладение Словом (аналогичное ремесленным методам взрослого человека) — и это вместо вечно нового преодоления, чутко-податливого слушания, постоянно воспламеняющейся и истаивающей нежно-беспомощной любви, восхищённо поднятого взгляда на обожествляемого учителя и наставника - всё это совершенно чуждо христианству. И это касается в равной степени как созерцательного состояния, так и отвечающе-активной молитвы, как апостольской деятельности, так и подражающего Господу страдания. Христианин имеет привилегию: во всём, что он делает, до конца оставаться «поэтом» и в глазах детей мира сего - мечтателем, не в смысле, который придают этому внекатолические секты, отказывающиеся от церковной дисциплины и вырождающиеся в пародию на детство, а в смысле юношеской воспламенённости неким избранным образцом, возведённым в кумиры сердца, который хотя бы на мгновенье кажется совершенным и чьи дела, слова и личностные позиции во всех мелочах вызывают восхищение и становятся примером для подражания. Ему тайно, никого в это не посвящая, клянутся в верности и неотступности. Это идеал, который, если он является человеком, вскоре обнаруживает свою иллюзорность, если же олицетворяется Богом в человеческом обличье, то до глубокой староста поддерживает и воспламеняет ликование в человеческом сердце.
5. Слово как Мужчина
Когда Фома Аквинский говорит, что полного развития мужчина достигает в тридцать лет, то с ним можно согласиться, но с той оговоркой, что должна быть учтена также внутренняя ценность предыдущей и последующей жизни. Христос явил себя как раз в этой жизненной средине мира: полнота человека становится сосудом для полноты Бога. Эта человеческая полнота такова, что в ней находит своё цельное спасение лучший цвет детства и юности,
298
но при этом она остаётся незавершённой, поскольку является полнотой лишь мужчины, но не женщины. Она, эта полнота, изливается при кенотическом нисхождении Сына Божия, и, наконец, она осенена близкой смертью, ибо — как если бы она не могла больше возрастать на земле - ей предстоит быть убранной с поля, едва развившись в полную силу. Отныне старения больше не будет.
Иисус явился миру в возрасти тридцати лет. Он явился в той полноте мужской зрелости, выше которой человеку вряд ли бывает дано существенно подняться. Человеческая полнота в Нём адекватна Божественному слову. Но это означает прежде всего то, что Он несёт груз этого слова вместе со всей его нераздельной экзистенцией. Он берёт его на себя с той ответственностью, которую способен выработать взрослый человек для выполнения своей миссии. Долгий подготовительный период дал этому плоду развиться до полного созревания. Сам Он молился, созерцал, безмолвствовал, постился и работал — и при этом больше всего любил свою миссию и на всех этапах своей жизни подчинял и приспосабливал себя к ней. Он начал своё провозвестие со спокойной уверенностью, обеспеченной неимоверно большим запасом: соответствием между призванием и призванным. Своей жизнью Он осуществил Слово, коим Он сам является, и если теперь Он обращается с этим словом к людям и они воспринимают его в первую очередь как требование, то силу, чтобы нести ответственность за это требование, Он черпает в том, что сам исполнил и сдержал своё слово. Он знает, что, не сдержав его, Он не смог бы доказать людям его истинность. Чрезмерность требования была бы в таком случае столь разительной, что это дало бы им право отвергнуть Благую Весть ввиду сомнительности её Божественного происхождения. В глазах людей она заслуживает веры, лишь если Он сам на их глазах её проживает, и не только в этот конкретный момент, но изначально, с тех пор как Он появился на свет. Основу Его провозвестия составляет Его же существование: это и есть мужская серьёзность Слова. И всё же это только фундамент для ещё более серьёзного, ибо куда более рискованного, шага: Он прикладывает к своим ученикам тот же масштаб, что и к самому себе. Он
299
делает это постоянно, потому что любит их, потому что они должны войти в истину Его существования, но Он может совершить это, лишь поручившись, ответив и заплатив за них своей жизнью. Он устраняет разрыв, который до конца веков будет существовать между теорией и практикой христиан. Каждое своё слово Он оплачивает собственной жизнью.
И Он раз и навсегда зримо явил это всем своими страстями. Но страсти, на которые Он пошёл, «утвердив лице Свое» (Лк 9. 51), и которые должны были наступить с такой определённостью, что Он мог жить ими, как если бы они уже начались, — эти страсти отбросили свою головню назад, в прежний период Его жизни. В самом своём вочеловечении Он подчинил себя их закону: за каждое исполнение слова, за каждое явление славы Божией Он должен платить выкуп. Воскрешение Лазаря оплачено Его скорбью и слезами у гроба (Ин 11. 33, 35, 38). О совершённом Им чуде Он узнаёт по вышедшей из Него силе (Мк 5. 30). Потому-то Евангелист и отваживается на подобную связь мыслей: «Он изгнал духов словом и исцелил всех больных, да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: “Он взял на Себя все немощи и понес болезни» (Мф 8. 16—17 = Ис 53. 4). Это до такой степени закон Его жизни с самого её начала, что итогом всех Его деяний мог стать только Крест. Но это не исключает того, что сам Его путь во всём был вполне человеческим: в Нём жила полная, чистая надежда на то, что народ Божий внемлет Божиему слову, что Иерусалим обратится. И однажды, в момент высшего напряжения борьбы между Словом и народом, вдруг пришло чисто человеческое понимание: Израиль никогда не обратится. Божие Слово на своём человеческом опыте поняло, что Оно не обращает людей, но только ожесточает их. Это произошло в тот час, когда Иисус плакал над участью Божия града. В ужасный час, когда Он познал тщету последнего человеческого усилия. Отныне Он будет оплачивать свою Истину не только жизнью своей, но и своими столь страшными для нас слезами. Из них родится Церковь, чьё хрупкое установление станет как бы кристаллизацией этой текучей боли.
300
Но при всё множащихся унижениях Слово остаётся непобеждённым и множит откровения своей славы. Божественное откровение переводит себя в высшую человеческую открытость: человеческий страх и слабости — негодные средства для распространения в людях надлежащего настроя, и нет такой дипломатии, чтобы обходными путями достичь того, что недостижимо на прямых путях. В своей человеческой прямоте Иисус заходит столь далеко, что проявляет, пользуясь словами Павла, «безумие Божие» (1 Кор 1. 25), которое ставит на карту всё и требует от всех, кто не хочет напрямую принять непостижимое, сразу же «отойти» (Ин 6. 67). Он может своим словом бросить вызов неверующим и не боится спровоцировать их на крайность. У Него нет двух учений: одного для друзей, эзотерического, более высокого и сложного, и другого, более простого, для народа. Одни и те же слова о Кресте и последовании учеников, об оставлении всего и дружбе с миром, согласно одному из Евангелистов, были обращены к избранным (Мф 10. 37 и сл.), другой же передаёт, что они были сказаны при «множестве народа» (Лк 14. 25 и сл.). Всё это Он говорит, сознавая, что является пока единственным на земле представителем возвещённой Им истины. Вся истина Отца сосредоточена в Нём, «все сокровища премудрости и ведения» (Кол 2. 3) отданы в распоряжение Ему одному. Уверенность в этом звучит в Его слове, замкнутом, как монолитная стена.
Церковь навсегда сохранит в себе звучание этого слова, а так как это слово даровано ей для дальнейшей передачи, то ей не его искажать: «Вашим милостям хорошо известно: Писание ничего от нас не утаивает, Бог ни в чём нам не угождает. Насколько свободно мы обращаемся к вам с этой кафедры, вы сами можете видеть. Не будь даже я сам с вами совершенно свободен или те, кто говорили с вами отсюда, не были бы совершенно свободны, то всё равно одно несомненно: Божие Слово никого не страшится. Это как если бы наш страх или наша свобода (а мы необходимо должны возвещать Того, Кто никого не боится) не брались в расчёт, ибо не люди, но Бог даёт вам даже и за говорящими высокопарно
301
(tumidos)расслышать Свободного» (Augustin En. in Ps 103, S. 1,19; PL 37, 1357). Неспособность христиан, в частности официальных церковных провозвестников, не может служить поводом (как это бывает в сектах) для ослабления безусловности слова в Церкви. Острота меча (Евр 4. 12; Откр 1. 16; 2. 16) никогда в ней не притупляется. И она никогда не сможет говорить о святости, девственности, нищете и послушании иначе, чем говорил о них Христос. И в ней снова и снова будут появляться люди, чья миссия состоит в том, чтобы отчётливо дать почувствовать человеческую целостность слова, люди, восстающие, подобно Иринею, против гностиков, подобно Афанасию и Иларию — против ариан, подобно Августину - против донатистов, подобно Игнатию - против Ренессанса и Реформации, подобно Ньюмену - против ослабления критериев в XIX в.
И кроме того, Мужчина — молодой человек — это последний образ Слова Божия на земле. Мы всегда невольно стремимся увидеть лик Христа старее, чем он был на самом деле, поскольку весомость и окончательность слова наводят на мысль о пятидесятилетием возрасте. Но этого возраста Он не достиг. Быть может, Ориген был прав и своим стремительным появлением и исчезновением Бог пощадил мир. Какие разрушения произвёл бы Он своим огнём, продлись Его пребывание здесь на несколько десятилетий? И всё же Он ушёл не сам, Его убили силой. В Его смерти нет ничего от природы, она ей противоположна. И люди должны вечно стоять перед этой чудовищно прерванной жизнью и помнить: это мы сами убили Бога, заставили замолчать Божественное Слово. Ведь Он не похож на древнегреческих героев, умерщвлённых в молодости завистливыми богами. Отец хотел бы дать Его людям на более долгий срок. Его смерть напоминает нам только об одном: о нашей собственной вине. Но Он не был и жертвой, принесённой, подобно Ифигении, для умиротворения божественного гнева: убившие Его и не думали об искуплении. Иоанн приводит слова Каиафы о смерти одного, замещающей смерть целого народа, лишь для того, чтобы яснее противопоставить волю злоумыслителей и таинственный смысл спасения. В ми-
302
фах разных народов взыскующий дух пытается извлечь из смерти молодого героя трагически просветляющий смысл. В смерти Христа нет никакого «трагизма», но лишь чистое откровение греха. «Трагизм», как и «вина», овеян неким возвышенным пафосом. «Грех» лишён всякого величия, он грязен и отвратителен. Плач по умирающему герою здесь выглядел бы бестактно («Плачьте о себе и о детях ваших!»). Нет также никакой возможности ввести случившееся на третий день воскресение в композицию этой «драмы». Ифигения была убита, чтобы умиротворить богов; её смерть имеет имманентный религиозный смысл. В смерти же Иисуса Его убийцы видели лишь тот смысл, что можно выразить единственно словами: «Прочь! Прочь!» Издевательское «Он помог другим» явно аннулирует сам смысл замещения. То, что такой ужасный конец превращается благодатью в начало всех начал, совершенно не зависит от каких бы то ни было человеческих умыслов. Лишь обращённая вспять сила этой трансцендентной благодати обеспечивает непрерывность, которую Слово - предсказанием своих страстей - создаёт между смертной бездной и воскресением, непрерывность настолько явную, что оно уже заранее требует от своих друзей нечто вроде согласия на свою смерть.
Главное здесь - насильственность этой сметающей смерти, бывшая со стороны людей вопиющим грехом, Богом же превращённая в безграничное, страстное раскаяние в том, что едва прозвучавшее Божие Слово было изгнано из мира. Это раскаяние снова и снова находит воплощение в безутешной фигуре рыдающей у гроба Марии Магдалины, склонённой к пустой пещере. Однако — несмотря на всю горечь слёз, пролитых Петром, - нам дано пафос того, что Слово умерло молодым и вернулось к Отцу. Что Он был избавлен от пригибающего к земле старения. Что в христианстве нет старческой мудрости. Что Христос не старел вместе со старцами, но сопровождал их старение своим вечным детством и мужественной зрелостью. В конце концов, само пресечение Его жизни в её вершинной точке тоже является Божиим словом: словом Его власти над временем. Он свободно подчинил себя времени, свободно и собственной своей властью отдал свою жизнь. Но
303
Он никогда — ни в жизни, ни в смерти, ни душой, ни плотью — не видел тления (Деян 2. 31). Лик мужа восходит ввысь и снова сливается с ликом Бога.
6. Страсти Слова
Когда речь заходит о страстях, воскресении и вознесении Слова, то все эти категории образуют новый ряд, который лишь внешне, нумерически представляется продолжением прежнего. Ряд природных состояний подходит к своему концу вместе со страдающим Человеком; новый ряд лежит уже в сфере Божественного действия, которое расширяет природу и использует её сверх её возможностей.
Теперь человеческие состояния становятся ещё более прозрачными относительно состояний Слова, взятого в Его Божественности, т.е. в претерпевании страстей (в которых кенозис вочеловечения лишь достигает крайней остроты и очевидности), причём прозрачными — в двояком аспекте, ибо в страдании человеческой природы проявляются не только победа и власть Бога, но и воля Сына как Божественного Лица (а в Нём и воля всей Троицы): воля подвергнуть Себя действию этих страданий. Субъект страданий есть Лицо, которое есть Слово (а Слово - это Сын именно как Божественное Лицо, а не как Божественная природа, каковую Он разделяет с Отцом и Духом), пусть даже, чтобы страдать, Ему необходима человеческая природа.
В своей книге «О победе Божьего Слова» Руперт фон Дойтц, говоря о страстях, разрабатывает исключительно первый аспект. В одеянии безвластия он прозревает власть: «Созерцайте не только трость, вручённую вместо жезла, но созерцайте вещь истинную, коей признаки суть: высшее господство над небом и землёй, ибо вместе с этой тростью и ради неё дана была Ему в тот же день “всякая власть на небе и на земле (Мф 28. 18). Созерцайте не только эту ручной работы багряницу, надетую в посмеяние, но прозрите в этой багрянице багряную Церковь, омытую в Его кро-
304
ви и готовую пролить за Него свою кровь...»1 Подобное прозрение абсолютно правомерно. Однако оно нуждается в дополнении другим прозрением — Оригена, который в страстях, претерпеваемых плотью Слова, прозревал страсти Слова как такового. Здесь накладываются друг на друга три слоя мысли, образуя в итоге единый нерасторжимый образ.
Вначале — взаимопринадлежность и взаимное проникновение Слова и таинства, уже в Евхаристии: кровь и вода, излившиеся из раны и наполнившие чашу, суть излившаяся субстанция Логоса, который жертвует собою в этом самоизлиянии — также и в качестве Слова, которое мы в Церкви воспринимаем в таинстве, проповеди, Писании. «Хлеб, о котором Слово Божие исповедует, что он есть Его тело, — это Слово, питающее души, Слово, исходящее от Бога Слова, и хлеб, происходящий из хлеба небесного. И питие, о коем Бог Слово исповедует, что оно есть Его кровь, — это Слово, Которое со славою пьёт душа пьющих и упивается Им. Это есть кровь той виноградной грозди, что, будучи брошена в давило страданий, произвела из себя тот напиток, подобно как и Слово Христово — это хлеб, приготовленный из зерна, коему нужно было упасть в землю, чтобы принести много плода»2. Поэтому мы воспринимаем Слово как таинство, исходящее из раны в груди Господа3. Уже Климент отождествлял «учение» и «кровь» слова4; по Оригену, в текстах Писания циркулирует духовная кровь Слова5. Таково же понимание Августина: «Удары бича, испытанные Христом, множатся и повторяются, ибо их принимает Его Слово, они учащали свои бичевания, сами о том не зная (Пс 34. 15). Тогда хлестали Его бичи
1 Rupert von Deutz: De Victoria Verbi Dei XII, 20; PL 169, 1479 AB.
2 Séries 85, Klostermann XII96.
3 См. Texte 716 исл. в: «Origenes, Geist und Feuer», Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg 3199l, 311 исл.
4 Staeh. III. 211, 214.
5 См. Fragm. in Cant. PL 17, 269-272, cp. 141 D; Exod hom 11, 2 Baehr. VI, 254.
305
иудеев, теперь — богохульство ложных христиан: они умножают удары по Господу своему и сами о том не знают»1.
На эту мысль накладывается другая. Существует аспект страстей, наглядно принадлежащий бытию Сына в качестве Слова. Это - раздрание, поношение, умерщвление Его посланничества от Отца, Его истины, Его единства. «И потому на них “придет вся кровь праведная, которую они пролили”, желая исказить истину Писания, ибо Писание недаром зовётся кровью и жизнью»2. Убийцы представлены здесь прежде всего раскольниками и еретиками: «Они распинают Слово истины в Писании своими ложными толкованиями и убивают Его своею ложью. Они хотели бы убить Его и как бы разбить на куски, ибо они не могут постичь всего Его величия, их сосуды для этого чересчур малы. Их много, бичующих Его и бьющих прутьями, Он же молчит и не говорит ни слова. И сегодня Иисус не отвращает лика Своего от кощунственных плевков»3.
Значит, это — длящиеся во времени страсти Слова, в том самом мистическом смысле, в каком Паскаль видел агонию Христа продолжающейся до скончания мира. Но здесь Ориген отваживается на последний, третий шаг, когда внешним, плотским страстям предпосылает в качестве причины страсти внутренние, духовные. Он отказывается мириться с тем, что лишь внешние страсти считаются таковыми в собственном смысле, а внутренние именуются так лишь метафорически. «Он сошёл на землю из сострадания к человеческому роду; собственно, Он пережил наши страдания ещё до того, как Крест, и ещё прежде, чем благоволил принять нашу плоть, ибо если бы Он не страдал, то и не вошёл бы в круговорот человеческой жизни. Прежде Он пострадал, а потом сошёл на землю и сделался видимым. Что же это были за страдания, которыми Он страдал ради нас? Это были страдания (страсти, pathos) любви. И разве не очевидно, что Сам Отец, Бог Вседержитель,
1 In Joh tr 10, 4; PL 35, 1469.
2 Origenes: Sériés 27, Klost. XI, 48.
3 Geist und Feuer, Texte 407 исл., там же 205.
306
Который “долготерпелив и весьма сострадателен” (Пс 102. 8), также страдает? Или ты не знаешь, что, снисходя до провиденции в судьбах человеческих (quando Humana dispensât), Он уже разделяет человеческие страдания? “Их носил по беззакониям твоим Господь, Бог твой, как человек носит сына своего” (ср. Втор 1. 31). Итак, Бог переносит наши беззакония, подобно тому как Сын Божий принимает на Себя нашу боль. Сам Отец не лишён сочувствия (не является impassibilis).Если кто взывает к Нему, к тому Он чувствует жалость и сострадание; Он претерпевает нечто исходящее от любви и [её посредством] вселяется в тех, в коих Он, по величию Своей природы, находиться не может»’. Было бы ошибкой на этом основании причислять Оригена к патрипассианам; он лишь логически продолжает мысль Псалмопевца: «...Образовавший глаз не увидит ли?», но при этом отрицает плотское толкование pathos’a Бога2. Для него всё сводится к тому, что страдания Христа, как и всё, принадлежащее Его человеческой жизни, суть истинное Слово Бога: манифестация и выражение живой струящейся любви, которая - совершенно независимо от «повода», т.е. человеческого греха, ею на себя принимаемого, - не может во всём творении найти лучшего языка для передачи самоё себя, чем страсти. Греческое понятие «pathos»(тщательно отстраняемое философами от Бога) как нельзя лучше подходит для осуществления связи между содержанием и выражением.
Не вырождением, но достойным развитием взглядов великих александрийцев было бы прослеживание этих взглядов применительно ко всем страстям, во всех трёх указанных слоях, и доведение их до созерцательной наглядности, должен ощутить, насколько последовательно Слово Божие, которое, будучи плотью и кровью, отдало себя на заклание и было предано казни на Кресте, продолжает оставаться жертвой и в качестве собственно слова; насколько близки между собой ручьи и по-
1 Ezech. h. 6,6 Baehr. VIII, 384-385. Ср. аналогичные мысли у Григория Назианзина в стихотворении о человеческой природе 121 и сл. (PG 37, 765).
2 Peri Archon II, 4, 4 Preuschen V. 131, с. 25 исл.
307
токи прощальных речей — и кровь, истекающая до последней капли; насколько сильно колкие враждебные речи фарисеев (как в Его время, так и в наше) напоминают последний укол копьём; сколь многое в мысли христиан, в особенности — плотски настроенных теологов, напоминает, как Слово было заковано и взято под стражу, как Его влекли силой на суд человеческого разума, как дали предательский поцелуй, как променяли Его на Варраву. И при этом, чтобы больнее ранить Слово, было использовано опять-таки слово, знание было натравлено на Божественную мудрость, очевидная нагота и слабость любви противопоставлены Божиему самозакланию, один аспект истины - другому, вообще всей истине. Как часто именно слово Ветхого Завета в том или ином обличье бывало использовано в качестве оружия против слова Христа, словно бы этот «меч» не принадлежит к мечам Христовым. Именно в страстях это чудовищное умерщвление Слова — словом достигает своего апогея. Всё, что Христос сказал о себе, о своём царстве, о разрушении и восстановлении храма, со всей остротой и отточенностью обернулось против Него. Вся бездонность крестной истины о том, что врач, исцеляющий других, не может помочь самому себе, зазвучала насмешкой против Него самого. Слово Богооставленности (по всей очевидности, намеренно) оказывается неверно услышанным и превращается в дурную шутку. Кажется, что здесь, где потрясаются все стихии и померк всякий свет, перемешался сам буквенный состав вечного Слова, так что никакого цельного слова из него уже нельзя сложить.
Никто ещё не отважился продумать «логику» страстей. Взглянуть в глаза тому факту, что Логос, в котором всё небесное и земное в совокупности имеет свою истину, сам оказался во тьме, страхе, бесчувствии и беспамятстве, в безысходности, на грани исчезновения, утратил всякую связь с Отцом (в которой заключена вся истина), а значит, оказался в сокрытости, т.е. в состоянии, противоположном истинностной несокрытости бытия. Пришлось бы тогда понять молчание страждущего Христа как онемение, безгласность и безответность Божьего Слова, увидеть как бы «ис-
308
тончённую прозрачность» Слова на Кресте, скудное струение, последние капли и, наконец, иссякание там, где всегда был великий поток, — но увидеть также, как несказанно драгоценны эти до крайности концентрированные капли: каждое из семи слов, произнесённых на Кресте, по-своему воплощает всю целостность Евангелия, и каждое содержит в себе, подобно таинствам, весь мир и всё Евангелие1. Можно почти почувствовать, как слово меняет свои агрегатные состояния; текущая кровь густеет и свёртывается, и вот уже неостановимый поток охвачен ужасающим оцепенением, свидетельствующим об опустении сосуда.. Stetque oleum(4 Цар 4. б). Кувшин слова пуст, потому что иссяк небесный источник, говорящие уста, Отец. Отец отвернулся от мира. И слова оставленности, выкрикнутые в темноту, — как стоячая вода, обречённая на испарение, или как корчи отсечённого члена. Вопрос Иова и Иеремии обретает всю свою последнюю значимость, но он впервые раздаётся именно тогда, когда никакой ответ уже по существу не может быть услышан. Индикатив утрачен, в качестве формы высказывания остаётся только интеррогатив.
Исход вопроса — великий вопль, который есть слово, переставшее быть словом и потому не могущее более быть понятым и истолкованным в качестве слова. Это то неладное, что остаётся после того, как отзвучало всё мерное, ладное, приноровленное к человеческому слуху. На самом деле всё то, что в этом вопле теперь оголённо выходит наружу, должно улавливаться нами во всяком «облачённом» слове. Это - воистину несказуемое, приходящее из гораздо более отдалённых пределов, чем то, что составляет закруглённую диалогическую ситуацию, и нацеленное неизмеримо дальше всего того, что можно выразить и на что можно ответить с помощью оформленных слов в этом тварном мире. Уже не раз в жизни Господа нарастал этот вопль, в оболочке слов, что чаще остальных описывает Иоанн. Есть эпизод, когда Христос пишет на песке, не обращая внимания на стоя-
1См.: Adrienne von Speyr: «Die sieben Worte am Kreuz und die sieben Sakramente» (Johannesverlag 1956).
309
щих рядом, они же не слышат, что Он говорит, но видят лишь, как шевелятся губы Логоса. «Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. И опять, наклонившись низко, писал на земле» (Ин 8. 7-8). Из непонятного контекста невидимой надписи выплывает на одно мгновенье различимое слово, отрывочное, отвечающее едва ли не между прочим, — чтобы затем снова замолкнуть. «Вопль» слышится также и в словах и посланиях, обращённых к толпе: им выражено сыновнее знание об Отце, недоступное слушающим Его (Ин 7. 28-29), и обещание рек, которые должны излиться из Его чрева и напоить всех жаждущих (Ин 7. 37), и уверение в том, что верующий в Него верует не в Него, но в Пославшего, и даже видит не Его, но Пославшего (Ин 12. 44-45): все эти «вопли» указывают на трансцендентные связи и трансцендентное происхождение слова. Есть vox magna,с помощью которой мёртвый Лазарь вызволяется из тления и в которой звучит вопль, властный и одновременно исполненный ужаса, проникающий в царство мёртвых. Есть диалог с громом, со слышимым, но непонятным для народа голосом Отца (Ин 12.28- 29), диалог равного с равным, показывающий, что Сын тоже содержит и сдерживает великий гром в своём голосе. «...Голос Его — как шум вод многих» (Откр 1. 15). Поэтому нельзя не согласиться с версией Николая Кузанского, который понимает жизнь Сына как непрерывное нарастание сверхсловесной силы:
«Мы имеем Спасителя как всеобщего Посредника, наполняющего Собою всё в мире, первенца всякой твари. Сей Иисус от начала мира... заговорил одним голосом, что постепенно возрастал, пока не достиг величайшей силы, когда Он испустил дух. И этот единственный голос возглашает, что нет жизни, кроме как в Слове, и что самый мир, быв изречён Словом, сохранён в бытии и возвращён к своему началу... После многовекового звучания, непрерывно возраставшего вплоть до Иоанна, что был гласом вопиющего в пустыне, глас сей великий принял облик человека, а затем, пройдя через ряд речений, наставлений, чудес, призванных показать нам, что из всех ужасных вещей самая
310
ужасная - смерть — должна быть избрана ради любви к истине, издав великий крик, Он испустил дух»1.
Выход слова за пределы всего сказуемого, проявившийся в оголённом смертном вопле (но в затаённом виде присутствовавший изначально), есть оправдание христианской мистики. Николай Кузанский в своих рассуждениях отталкивается от Дионисия и предваряет Иоанна Креста. Вместе с тем он понимал (хотя бы смутно), что выход из границ слова находит выражение не в вопле исполина, но в предсмертном вопле того, кто грубой силой был приведён к концу жизни и к концу речи. Это - предсмертный хрип, которому Святой Дух даёт столь непостижимую силу, это — недо-слово, звук безвластия, который небесной властью, в нём себя раскрывающей, избран в носители вечного сверх-слова. Поэтому всякая христианская мистика «сияющей тьмы», мистика отказа от слова перед лицом Божественной сверхмощи, мистика онемения и молчания по ту сторону всего, что сказуемо в церковном провозвестии, мистика «бездны» должна раскрыться как истинная мистика Креста, мистика со-униженности Слову, - если только она воистину хочет принадлежать Церкви. Неартикулированный крестный вопль Иисуса не есть отрицание артикулированного провозвестия ученикам и народу, каковое продолжает жить в «артикулах» веры Церкви, но он всё же знаменует конец всяческой артикуляции, предполагающей и утверждающей этот вопль (сопsutnmatum est),окропление кровью, которая эту артикуляцию освящает и которая говорит громче всего там, где уже невозможно никакое артикулированное высказывание. Сотник, стоявший напротив Него, по этому воплю признал Слово как истинного Сына Божия (Мк 15. 39). Однако в том же самом смысле, в каком вопль является концом артикулированного Логоса на земле, он также — как вопль искупления — есть новое начало всякой истинной речи на земле: будучи омегой, этот вопль является альфой.
1 Excitationes 1 3, opéra Basel 1565, 411—12. (Цитата приведена в переводе В. Зелинского, с небольшими изменениями: Анри де Любак, Католичество. Социальные аспекты догмата, — Милан: 1992, с. 373.)
311
Это вопль рождения, с которым новый человек пробивается к свету мира. Потому Баадер мог сказать: «После того как человек вследствие своего падения потерял способность обращаться к своему Творцу и Зиждителю как к Отцу и глас его, обращённый к Богу, затих, — нужно было, чтобы этот глас, или утраченное слово, вновь был ему возвращён через Спасителя как Сына Человеческого, подобно тому как тот душераздирающий вопль на Голгофе словно бы снял с уст человека последнюю печать, отчего земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и завеса в храме раздралась надвое»1.
Но после этого вопля была безглагольная суббота, великий и безмятежный sabbat, когда Слово отдыхало от трудов, следуя в точности по стопам Отца. Тело Слова, обвитое пеленами и умащённое благовониями, покоилось в каменной пещере, запечатлённое печатью, преграждавшей доступ к Нему, тогда как душа Слова скиталась по царству мёртвых, ибо это единственный «рай», могший существовать прежде воскресения Слова. И здесь снова мистики, углубившись в созерцание, попытались усвоить себе «субботничество» Творца, выступающего в образе Спасителя, — усвоить как одно из состояний взысканной благодатью души на её пути от Креста к воскресению, между разрешающим отказом от земного мира и разрешённостью входа в мир небесный. Максим Исповедник в своих «Гностических центуриях» совместил оба мотива и развил их в смелой игре мысли: «гроб Логоса» тогда — это прекращение, помимо прочего, всех дискурсивных духовных движений (см. мою работу «Gekreuzigtwerden der Welt und der Welt für mich» — «Распятость мира и мира-для-меня»), «ибо когда вся естественная сила рассудка и все его движения замерли, то в одиночестве и в бытии-для-себя восстаёт Логос, как бы воскресая из смерти, охватывая всё и овладевая всем, что было сотворено ради Него»2. Иначе : «Гроб
1 Drittes Sendschreiben an Prof. Hoffmann, Sämtl. Werke I. Abt., Bd. 4 (1853) 406.
2 Centurie I, 67; См.: Balthasar: Die Gnostischen Centurien, in: Kosmische Liturgie, das Weltbild Maksimus des Bekenners, 2. Aufl. 1961, S. 629.
312
Господень — это, возможно, мир сей и сердце верующего, льняные пелены — виды и идеи чувственных вещей, плат для лица — общий гнозис как духовных вещей, так и Богопознания, помогающий легче познать Логос, иначе абсолютно непостижимый»1. И опять-таки это — пресветлая ночь Дионисия: не только чувственный, но и духовный, ноуменальный человек должен пойти в могилу. Даже Логос, принявший подобающую Ему форму, должен лишиться своего облика. Воскресение происходит в безвидной Божественной ночи. «Седмеричный отдых, предпринятый Богом ради нас», есть единственный путь к «восьмеричному обожению»2 и может быть почти полностью уподоблен чистому созерцанию. Григорий Великий проводит такое уподобление: «Божественное созерцание есть погребение Духа, в коем погребается душа. Святые никогда не оставляют умерщвлять себя мечом священного слова и внутренне укрываются от лица Божия в лоне духовной почвы»3. Максим Исповедник говорит о «двояком гробе»: активной и созерцательной жизни. Однако ни это мистическое созерцание, ни окружённое воинственным шумом богослужение средних веков не доходят до священного гроба, до глубинного слоя, который должен быть достигнут и, возможно, вскрывается лишь в ужасающем крике ницшевского Безумца4: «Бог мёртв!» Божие Слово в этом мире онемело; в окружающей ночи Оно даже не спрашивает о Боге, потому что лежит в земле. Ночь, что над Ним нависла, — это беззвёздная ночь глухого смятения и самоотчуждения в смерти. Это не такое молчание, что бывает чревато тысячью тайн любви, сочащейся каплями из ощущаемого присутствия Возлюбленного, это — молчание отсутствия, удаления, пустой оставленности, которая наступает вслед за последним расставанием-разры-
1 Ebd. 1,61, S. 626.
2 Ebd. 1,60, S. 625.
3 In Job 1 5, с 6; PL 75 684.
4См. всестороннийанализэтойтемыв: Eugen Biser: «Gott ist tot», Nietzsches Destruktion des christlichen Bewußtseins. Kösel 1962.
313
вом, истома, неспособная даже к напряжению боли. И дальше — глухая косность чисто человеческих речей и мыслей о Боге, превратившаяся в праздную трескотню формальной логики, пустых силлогизмов, ибо здесь уже нет одушевляющего веяния веры, надежды и любви. Посюсторонние речи, в которых уже нет ощущения того, что Бог их слышит, лишённые соприкосновения с говорящим Богом. Подобный логико-математический каркас есть наглядное выражение того, что воплотившийся Логос мёртв и погребён, тогда как логика, способная выразить реальность, приостановлена на эти три дня.
7. Воскресение Слова
Страсти Логоса вплоть до Его смерти в этом мире, пусть даже в них свершились агония и смерть логики, всё же ещё находят какое-то выражение с помощью земных слов. Но какими словами можно описать логику воскресения, самая сущность которой — в том, чтобы вскрыть гробы наших понятий, перешагнуть рамки наших временных и пространственных представлений, выйти из них наружу, властно распахнув двери, причём всё это - с такой духовной силой, чтобы упразднить материальные законы, но и с такой чувственной силой, чтобы Сын Божий не только явился и стал говорить, но и дал бы осязать себя, стал есть и пить вместе со своими близкими. Слово сделалось абсолютно Божественным, оставаясь вполне человеческим, и эта Его человеческая природа (которая изначально была выражением Его Божественности, теперь же возвращена в небесную сферу) столь естественно и по-земному достоверна, что от посюсторонности её не отделяет никакая дистанция и весь Его прошлый земной путь как бы собран воедино в этих земных ранах и включён в вечную истину. Следы от ран — это нечто большее, чем простой внешний знак, почётная награда за перенесённые страдания; они задают (поверх доходящей до глубин ада пропасти между смертью и воскресением) идентичность субъекта в рамках идентичности сознания. Он остаётся именно тем, кто пережил эту жизнь, этот Крест и эту смерть. «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам» (Лк 24. 39).
314
Эту христологическую логику, которая имеет своим основанием принцип вочеловечения, но решительнее всего развёртывается в пространстве смерти и воскресения, наиболее последовательно продумал Бонавентура. Христос «становится для логика образцовым силлогизмом, так как Он из своего Божественного бытия как первой посылки и своей крестной смерти как второй посылки выводит заключение, которое может вывести только Он один, но к которой редуцируется вся сила логики... Для теолога, который рассматривает возвращение (reductio)всех вещей к Богу и всеобщее примирение (universalis ebnciliatio)мира с Богом, Христос благодаря Своему вечному блаженству «становится вечно посредующей срединой, ибо “Агнцем, сидящим посредине престола, опосредуется всякое блаженство”»1. Таким образом, Христос — это «logica nostra»2. Неизвестный автор (Килуордби?) объявляет Богочеловека именно medium enuntiabile,поскольку Он, «опосредуя, совмещает бесконечно удалённые крайности в простоте единой Личности, в чём теология превосходит любую науку, ибо никакая из них не может найти опосредующий принцип подобной силы. Она же согласует то, что самой природе согласить не под силу, соединяет то, что по отдельности было разведено донельзя: Деву и Мать - в одной Женщине, Бога и человека, Творца и тварь, простое и сложное — в простоте единой Личности»3.
В рамках этой логики воскресения существует особая логика сорока дней, чьи законы, как раз вследствие осязаемой доступности Воскресшего, ускользают от всяких формулировок. Эта логика была захвачена на небеса событием вознесения и вновь дарована Церкви как образ её опыта. Она была создана свидетелями, и верующие в меру наделённости благодатью могут своим участием исполнять её требования. Непосредственно от ося-
1 «Herrlichkeit» Bd. II (31984) 331—2; Bonaventura in Hexaemeron 1, 12—13 (Ed. Quaracci V 331—335).
2 Ebd. 1,30 (V 334).
3 Archives d’hist. litt, et doctr. du MA, XIII (1942) 307 исл.
315
зания и молитвенного поклонения получившего уверение Фомы тянется (исключающее-включающий) путь непосредственно к тем, кто не видит и всё же верует. И аналогично: от момента, когда было отказано Марии Магдалине, хотевшей дотронуться до Христа (на пике пасхальной конкретности!), исключающе-включающий путь тянется ко всем, кому заодно с ней предстояло не «удержать», но «дать вознестись». Если тем самым тайна вознесения уже оказалась включённой в пасхальное таинство (подобно тому, как таинство Пятидесятницы, вдохновения Святого Духа в Церковь, актуально присутствует уже на Пасху, Ин 20. 22), то отсюда следует, что состояние Логоса на Пасху также входит в состояния вознесения и Пятидесятницы, т.е. полная конкретность видения, слышания, осязания, совместной трапезы и совместного пути (Лк 24. 13 и сл.) входит в более поздний образ исчезновения. Но не входит ли тогда в него и всё то, чем Логос был на земле, во всём многообразии Его опыта среди нас: образ младенца, юноши, зрелого мужа?
Логос воскресения, который вышел из чуда явления Отцовской власти и интегрирует в себе всё то, чем Он был на земле, — с тем чтобы всё это захватить с собою в сферу этого чуда, перевести тварное в Божественное и возвысить его над ним самим, который, таким образом, поддерживает свою неразрывность с царством истории лишь тем, что Он, исходя из этого нового начала, заново учреждает и создаёт историю, - этот Логос, взятый в своей новизне, может восприниматься как невозможный, если исходить из категорий старой структуры. «Земной человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием; и не может разуметь, потому что об этом надобно судить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может» (1 Кор 2. 14—15). Здесь Павлово учение захватывает тему со-погребения, со-воскресения и даже со-вознесения применительно к верующему человеку, чтобы дать ему возможность, помимо «формальной» артикуляции христологии, в какой-то мере понять само содержание этой логической системы. Чем меньше мы, производя эту артикуляцию, опираемся на всё, что
316
известно из другого источника, пусть даже только в аналогическом смысле, и, напротив, чем больше будем возлагать надежд на единственный неуверенный образ действий вочеловечившейся личности Слова, — тем глубже мы постигнем истину.
Несомненно, Отец ввёл притчи, рисующие уникальное событие, которое превосходит всю природу, внутрь самой природы; это образы, которые использует Иисус (в притчах о посеве и всходах, об умирающем и приносящем плод пшеничном зерне) и которые подхватывает и разрабатывает Павел (1 Кор 15. 35 и сл.). Однако эти притчи вполне раскрывают свой смысл только во Христе, который, будучи уникальным, собирает в себе всё. Поэтому сам Он и все апостолы требуют подлинного, а не только мысленного или символического, со-умирания, со-погребения, со-воскресения и со-вознесения с Христом, чтобы в качестве «тела Христова» получить часть в судьбе Христа и в Его истине. Принявшие Христа «утверждены в Нем» (Кол 2. 7), имеют «полноту в Нем» (Кол 2. 10), «быв погребены с Ним в крещении, в Нем... и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых» (Кол 2. 12), ибо Он «пригвоздил ко кресту» «наши грехи» и «рукописание, которое было против нас» (Кол 2. 14), и тем самым «если один умер... то все умерли» (Кол 5. 14). Или, что то же: «правдою одного всем человекам оправдание к жизни» (Рим 5. 18). Поэтому слова: «вы со Христом умерли для стихий мира» (Кол 2. 20) — означают уже: «вы воскресли со Христом» и ищете «горнего, где Христос сидит одесную Бога» (Кол 3. 1-2). Это — экзистенция перехода, который был совершён Христом и лишь благодаря этому и был создан и уготован для остальных, чтобы и они совершали его «совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового» (Кол 3. 9). Новый человек, однако, — это не ушедший от мира гностик или созерцатель; он рождается как активный соработник Христова дела и со-участник в Его ситуации: «Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно... как Христос простил вас, так и вы. Более же все-
317
го облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства» (Кол 3. 12—14). Здесь этика берёт своё начало в логике смерти и воскресения, так как логика сообщает средства, чтобы сделать эту этику достойной веры и руководствоваться ею. «Новая тварь» (Гал 6. 15), «новый человек» (Еф 2. 15; 4. 24) на «пути новом и живом» (Евр 10. 20) обретают не только новый дух, но и новые органы чувств, необходимые, чтобы — в молитве, слове, таинстве и в жизни - уловить духовно-телесную реальность Воскресшего: молодое вино в новых мехах (Мф 9. 17). Лишь новый человек обладает достаточно широким внутренним пространством, чтобы постигнуть слово воскресения. Он должен воспринимать это слово во всей его чувственной конкретности, избегая спиритуализации и не «удерживая» его, но допуская для него все формы вознесения и духовного бытия. Но и сам он в этом процессе должен снова и снова открывать себя для конкретно-чувственного и одухотворяющего воздействия.
Однако, не будучи ещё воскрешённым телесно, он может принять участие в воскресении лишь ежедневным разрушением «внешнего человека» (2 Кор 4. 16). Необходимое пространство он обретёт, только если будет изо дня в день позволять благодати приспосабливать себя к восприятию Слова. Земные люди зачастую не могут познать воскресшего Господа, они блуждают наугад в разговоре с Ним, не ощущая Личности, которая с ними говорит. Глаза, способные узреть воскресение, обретаются не как естественный орган, но лишь в действии, в событии разрушения ветхого гроба и воссияния новой истины. Магдалина не просто разговаривает с ангелами, глядя сквозь пелену слёз, она — в первый раз — даже «обратилась назад» и всё равно не узнала ни голоса, ни облика Господа, которого приняла за садовника (Ин 20. 14). И лишь после того, как она обернулась во второй раз (Ин 20. 16) на непосредственное обращение Воскресшего, с её глаз спала пелена Страстной субботы. Хотя у учеников в Эммаусе «горело... сердце», когда они беседовали со Словом, толкующим Писание, всё же глаза их по-прежнему были «удержаны», и, лишь «исчезнув», Слово заодно сняло и унесло повязку
318
с их глаз и ушей. Ученики у моря, ловившие рыбу, пошли ещё дальше, когда не только ответили Слову, стоявшему на берегу, но и явно повиновались Его приказам, и всё это при «удержанности» понимания (снятой, пусть частично, лишь чудом), ибо «никто не посмел спросить Его: “кто Ты?”, зная, что это Господь» (Ин 21. 12), - при той «удержанности», что колеблется внутренним согласием и боязливым отчуждением. В душах тех, кто ловил рыбу в лодке Петра, послушание, заповеданное и дарованное Воскресшим, укоренилось покойно и твёрдо, но в их сознание оно проникает не столь неукоснительно; чувства и мысли людей внешних, обращённых к миру, участвуют в мире воскресения лишь отдельными озарениями. Так, ученики подвергли сомнению весть, принесённую жёнами-мироносицами, Фома усомнился в свидетельстве остальных апостолов; и даже ещё на горе в Галилее, куда повелел им идти Господь и куда Он, утвердив и вознаградив их послушание, явился сам, иные из одиннадцати «усомнились» (Мф 28. 17). Здесь налицо «бессилие в вере» в сердцевине самой веры, от испуга и смущения (Лк 24. 37), как во время бури, или же от чрезмерной очевидности дарованного им ви́дения и осязания («Когда же они от радости еще не верили и дивились...», Лк 24. 41).
Неприспособленность Церкви к слову воскресения вызывает упрёки Господа. В изображении Марка замешательство столь велико (женщины из чистого страха не выполняют возложенной на них миссии: рассказать о Воскресшем, Мк 16. 8; «рыдающие и плачущие» апостолы не верят ни Марии Магдалине, Мк 16. 10—11, ни ученикам, возвратившимся из Эммауса, Мк 16. 13), что Господь, явившийся апостолам во время вечери, «упрекал их за неверие и жестокосердие, что видевшим Его воскресшего не поверили» (Мк 16.14). Шедшим в Эммаус Он повторил почти те же судные слова, какие уже раньше обратил к плотски настроенным людям: «...о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» (Лк 24. 25). Пасхальная радость и близость Пасхи одновременно требуют (как раз для укрепления этих людей) судного слова, которое в конце концов и является в посла-
319
нии Апокалипсиса: сидя по правую руку от Бога, Слово-Жених острым мечом вершит суд над своей Невестой-Церковью по всей вселенной1. Само делящее дело судного суждения — как приятия и отвержения — совершается целиком внутри любовного отношения, в очистительном пламени, что предполагает наличие «ключей ада» в руке у Имеющего меч (Откр 1. 18). Так Церковь снова и снова, во всех своих исторических различиях оказывается соразмеренной со Словом и приравненной к Нему. Здесь становится очевидным, что несёт в себе церковная благодать также и в онтически-сакраментальном плане, т.е. в плане решения о приверженности Слову, проистекающей из решимости Слова в отношении Церкви.
Свободное превосходство, с которым Воскресший открывается своим, ещё раз подтверждает двоякий момент аккомодативного учения Оригена: 1) свободу произвольной явленности взгляду вопреки (свойственной материальным вещам этого чувственного мира) несвободе обязательной явленности и 2) свободу образа, в котором выступает Являющий себя. «Телесные и чувственные вещи ничего не делают для того, чтобы быть увиденными. Высшие и Божественные сущности, напротив, никогда не бывают замечены без их собственной воли, даже при их присутствии. Быть или не быть увиденными — целиком зависит от их воли». Плоть Христа, Его тело мог увидеть всякий. «Но то, что делало Его Христом, они в Нём не замечали. Видели Христа лишь те, кого Он считал достойным этого»2. «Быть может, Слово Божие является всем в разной славе, смотря по возможности созерцающей души...»3. Явление и субъект, внутрь которого направлено Его являющее сияние, находятся между собой в сущностных отношениях4. Выражение, которым воспользовался Марк при описании путешествующих в Эммаус, подтверждает эту точку зрения: «После сего явился в ином образе двум из них на дороге, когда они шли в селение» (Мк 16.12), что, с учётом
1См. Theologie der Geschichte 5. Aufl. 1959, 106—112.
2 Нот 3 in Luc (Rauer IX, 20 исл.).
3 Sériés 35 (XI, 65).
4 Komm, zu Mat. XII, 37—38 (X 152—154).
320
сказанного Лукой, можно перевести непосредственно: «в незнакомом образе». Приспособляемой для видения стороной является, однако, реальный Человек, воскресший в Боге, и сам выбор образа также зависит от степени интеграции в Божественную славу Его реально пережитого земного бытия.
8. Вознесение Слова
Хотя воскресение есть не что иное, как переход на небо, к Отцу, и уже поэтому содержит в себе вознесение, всё же последнее явлено Словом как совершенно особое событие. Это событие заново определяет не столько отношение Слова к небу, сколько Его отношение к миру. Сорокадневный период времени со свойственной ему особой «осязательностью» всего, связанного с воскресением, замыкается вознесением и, вместе со всем остальным земным бытием Господа, переносится на небо. Считать это «одухотворением» было бы неточно, во всяком случае, имея в виду человеческий, а не Святой, дух. Это — замыкающее «обожение» исполненной миссии, трансцендирующее превознесение (Hinüber) её в вечность Отца, возведение (Hinauf) всего цикла деяний и страстей в план потенции Бога при кажущемся дистанцировании от всего происходящего на земле, на самом же деле — без отказа от мира, без отчуждения от него, но достаточно высоко, чтобы встать в одинаковое отношение — уже не к какому-то конкретно времени или месту, а ко всем временам и ко всем местам. Не будь вознесения, неизбежно казалось бы, что слово Бога, прозвучавшее между первым и тридцать третьим годами нового летосчисления, подчинено законам исторического воздействия: как если бы, например, земля, по которой ступал Христос, на самом деле была «святой землёй» и люди, живущие на ней, имели, с христианской точки зрения, какое-то преимущество перед остальными христианами, как будто важно, кому политически принадлежат «святые места». Словно те, кому довелось жить в одно время с Христом или по времени ближе к первохристианству, имеют предпочтение перед остальными на том основании, что историческое воздействие вся-
321
кой идеи подобно кругам на воде — расходящимся, но постепенно исчезающим.
Однако вознесение - это не смутный отзвук миссии Иисуса Христа, замирающий где-то в бесконечности, но исторически чётко фиксируемое событие, произошедшее во время совместного пути из города к Елеонской горе, по произнесении определённых речей, по отдании поручения и пребывать до скончания века, в конце же явиться им в видимом образе. Оно обладает поразительно ощутимой пластичностью благодаря также облаку, принявшему Иисуса, и явившимся на смену Слову ангелам, которые подхватили чувственно затихшее Слово и облекли Его в новую форму слова церковного. Это завершение по тональности не имеет ничего общего с прощанием: печаль, как старая закваска, была выброшена на Пасху, неверующий Фома анахроничен, вознесение оставило в душах учеников «великую радость» (Лк 24. 52). Печаль по ушедшем Господе хронологически принадлежит к дострастному времени, когда ученики предавались ей наравне с женщинами (ибо это был час женщин) и Господь утешал их тем, что Его уход — благо для них (Ин 16. 6-7). «...Так и вы теперь имеете печаль; но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас» (Ин 16. 22). Это — пасхальная встреча и пасхальная радость, которая не может быть омрачена вознесением. Ибо она обещает излияние Святого Духа, которое может произойти, лишь если Слово, вновь вернувшись к Отцу, посредством человеческой природы Христа, вошедшей в духновенный принцип Отца и Сына, распространит внутрибожественное Духо-излияние в план мировой истории спасения.
Так Дух становится полноправным наместником Слова: «Ещё многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин 16. 12—14). Поразительность этой смены, этого перетекания Слова в нечто ещё большее и окончательное, потрясение оттого, что
322
объявленное завершение превратилось в новое начало, в призвание новой Божественной Личности, — всё это заливает своим светом всё сколько-нибудь напоминающее «тональность конца». В Боге нет конца — лишь внезапность окончательно-конечного по видимости, которое в момент этого «конца» всякий раз вновь оказывается бесконечным, истолковывает себя не ретроспективно, но перспективно, пророчески. Призванием Духа начинается период профетического толкования слова. Поскольку истолкователем является Дух, вечно внове исходящий от Отца и Сына, то исключается опасность, что эпоха истолкования превратится в эпигонскую. Над церковной историей не тяготеет резиньяция. Сколько ни есть «полноты» в Сыновнем слове, а также «широты и долготы, и глубины и высоты», — обо всём том, когда захочет в веянии своём, пророчествует Дух, который «проницает... глубины Божии», где Он пребывает в своей стихии. Он может распространять то, что лежит сокрытым в тесном пространстве буквы, как дерево в плодовом зерне, — сокрытым даже для Церкви, которой вручён на хранение драгоценный запас веры, семенная коробочка ждущей рассеивания истины. Как если бы Христова истина, а также истина Его земной жизни, Его страстей и смерти, вполне могла бы расцвести лишь после пересадки Его человеческой природы на почву небесной жизни. Осуществляемое в Церкви Святым Духом — это не искусственный перенос, не морализаторская вытяжка из прошедшей истории или из надвременных непререкаемых истин. В небесном присутствии воплощённого Слова, в развёртывании — под знаком вечности — его земной экзистенции Дух может прочесть то, что Он должен сообщить земной Церкви («от Моего возьмет») без опасения до скончания века дважды быть вынужденным повторить одно и то же.
Пятидесятница приурочена к вознесению как к совершенно определённому событию. «Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо, во время восхождения Его, вдруг предстали пред ними два мужа в белой одежде и сказали: мужи Галилейские! что вы стоите и
323
смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, каким вы видели Его восходящим на небо» (Деян 1. 9-11). Данное событие — это чувственное выявление границы, наглядное обнаружение вертикального трансцендирования времени и его содержания в вечность. Земное воспаряет, сначала его движение ещё можно проследить взглядом, затем нечто обволакивающее скрывает его от глаз. Взгляд застывает, прикованный к высоте этим восходящим движением, и, уже не видя, продолжает его траекторию внутрь облака и дальше, сквозь него — к конечной цели. Но небесное, воплотившись в ангелов, уже стоит на земле «перед» смотрящими и отвлекает их от приковывающего созерцания — ради их земной задачи. Облако же (как на Фаворе, как в Скинии собрания и в Первом храме Господнем) знаменует собою двоякое: и явление славы Божией, и уносящее её обволакивание. Явление — через обволакивающее сокрытие, познание — через не-познание, достоверное присутствие — через явное отсутствие. Чувственное вживание в нечувственную трансценденцию, но также — вживание трансценденции в претворённое чувственное.
Лука в своём Евангелии добавляет три взаимообусловленных и взаимосвязанных момента. Это благословение, данное Господом при расставании с учениками; молитвенное поклонение учеников (засвидетельствованное не во всех рукописях) во время Его отдаления и великая радость, охватившая их при возвращении в Иерусалим. Божие Слово исчезает, благословляя, и это исчезновение — последнее в ряду пасхальных исчезновений, в которых Слово, уходя - даровало себя, «растворяясь» - позволяло себя настичь, и таким образом благословение и уход для глядящих Ему вослед сливались в единый жест. И этот остановившийся поднятый взгляд, после того как видимое исчезает, сам превращается в молитву, и более того, всякая вообще молитва и всякое созерцание имеют свою почву и свою колыбель в этом восходящем следовании Слову, чей земной образ своей подвижной траекторией указывает путь к Богу и, ускользая, фиксирует направление, в котором верующие должны устремить свой
324
взгляд, чтобы созерцать небесное продолжение, Божественное превращение этой линии.
Каждое слово Бога должно быть рассмотрено именно таким образом: в его ускользании из полноты земного воплощения в полноту Бога, ut dum visibiliter Deum cognoscimus, per hunc in invisibilium amorem rapiamur (познав Бога видимым образом, бываем восхищены в любовь невидимую). Ни одна из этих трёх составляющих не должна быть упущена из виду: ни отрезок пути, попадающий в поле зрения, ни облако славы (kabôd),ни невидимый участок, предуказанный первым, но за облаком. Соответственно, вера выполняет тройственную созерцательную функцию: созерцание, внезапное прекращение созерцания и продление созерцания в отсутствии созерцания, в коленопреклонённой молитве, под знаком Божественного образа Слова. Подобное созерцание выливается в радость по поводу полученного земного поручения, в чём бы оно ни состояло: в действии («идите по всему миру») или в общей литургической молитве («и пребывали всегда в храме», Лк 24. 53), но всегда — в созерцании («все они единодушно пребывали в молитве», Деян 1.14).
Лучших созерцателей вознесения Слова следует искать среди греков с их эросом прославляющего восхождения к божественному и безграничному. Мотив «садовника» и «Noliте tangere» (Ин 20. 17), противостоящий желанию задержать Слово на земле и воспрепятствовать Его вознесению на небо, они варьируют с большим изяществом и воодушевлением1. Августин, совершая в своём сердце общее с Господом вознесение, т.е. питая тоску по родине, где пребывает Христос, пишет о том же2:
«Господь словно бы говорит апостолам: “Вы не хотите отпускать Меня, как и всякий человек удерживает своего друга, говоря ему: Побудь с нами ещё немного, наша душа услаждается
1См.: Die Gnostischen Centurienin in: Kosmische Liturgie (31988) 482.
2 См.: Augustinus: Das Antlitz der Kirche. Ausgewählte Texte (1942) 161—167. Посл.изд. Das Antlitz der Kirche. Auswahl und Einleitung von Hans Urs von Balthasar, Johannes Verlag Einsiedeln, Freiburg 1991, 160—167.
325
твоим видом; но лучше для вас не видеть более этой плоти, а вместо того памятовать более о Божестве. Внешне Я восхожу прочь от вас, но исполняю вас Собою изнутри”. Ибо входит ли что в сердце плотски, вместе с плотью Христа? По Божеству Он владеет сердцем, по плоти же говорит сердцу Своим видом. Наставляет наружно, живёт же внутри, дабы мы обратились внутрь, и были бы Им оживлены, и образовались бы из Него, нетварного Прообраза всех образов»1.
Переносчиком греческого пафоса вознесения на западную почву был Иоанн Скотт Эриугена, который сосредоточился на заворожённом взгляде апостолов и наблюдал процесс восхождения человеческой природы Слова в пространство Божественной природы. «Я же не колеблясь следую по стопам тех, кто без всякого дерзновения утверждает, что человеческая природа Господа нашего Иисуса Христа столь слилась с Его Божественной природой, что - при сохранении сущности обеих природ — составляет с ней единое целое... и как Божественная Его природа превосходит всякий разум, так же и человеческая, которая была возвышена над всею совокупностью видимых и духовных творений, над всяким временем и местом, над всяческими описаниями и дефинициями,... стала сверхсущностной и для всей твари непостижимой и неисследимой»2. Как это часто бывало, мысль шотландского богослова оказалась глубоко созвучна одному лишь подхватившему её Николаю Кузанскому, согласно которому возвышение Божьего Слова поставило Его на одинаково далёкое — и одинаково близкое расстояние от всякой твари, всякого времени и места, и, более того, именно в силу этого возвышения Оно сделалось первенцем и основанием всякого вообще воскресения и вознесения в этом мире. «Он вознёсся выше всякого движения тленной природы и любого влияния небес: ведь хотя по Своей божественности Он вездесущ, однако Его местом в более собственном смысле можно называть то,
1 Sermo 264, 4; PL 38, 1216.
2 De Divisione Naturae V, 26; PL 122, 921.
326
где нет никакого изменения, страдания, болезни, печали и остальных случайностей временной жизни, а это место вечной радости и мира мы называем над небесным, хотя через пространственное положение ни постичь, ни описать, ни определить его нельзя. Христос -центр и окружность интеллектуальной природы, и, поскольку её духовностью охвачено всё, Он выше всего. В этом смысле мы и понимаем, что Христос вознёсся над пространством и временем как сама истина и восседает скорее в центре [космоса], чем на окружности, как жизнь всех разумных душ и тем самым их центр»1.
После Николая Кузанского возведённая ввысь природа Христа может уже всерьёз рассматриваться как канон всего тварного бытия. Тем самым получают оправдание, в частности, визионерские миры (как, скажем, Гильдегарды), поскольку в них весь космос, ужасающе реальный и грубо-конкретный, созерцается в его небесной потенциальности. Барочная духовность и духовность модерна также обретают своё основание, поскольку им свойственно стремление интегрировать отдельные тайны земной жизни Слова в её вневременной данности: сюда относится и поклонение прободённому и пылающему Сердцу, и поклонение непреходящим страстям (от «Мемориала» Паскаля до мистериальной теологии Казеля), и свойственное Берюлю поклонение всем вообще состояниям Воплотившегося. Вознесение, которое переносит в вечность всё пространственно-временное в Иисусе и представляет созерцающему взгляду вневременную «одновременность», является предпосылкой для всего этого. Оно открывает измерение, которое Павел называет духовным. Но именно потому, что вся телесная жизнь Христа возведена вознесением на уровень потенциального небесного человека, тайна этого праздника не может быть односторонне созерцательной. Возможно ли одним созерцанием приобщиться к Его земному бытию, которое было столь исчерпывающе жизне-
1 Docta Ignorantia (Petzolt I, 1949) 107. (Отрывок, с незначительными пропусками, приведён в переводе В. В. Бибихина. Николай Кузаиский. Сочинения, т. I, с. 167-168.)
327
деятельным? Отнятие Его у земли есть предпосылка для нового, окончательного призвания христиан во Святом Духе вплоть до крайних пределов мира. И Возвышенный, поднявшись над временем и пространством, чтобы из этого «центра» править во всём, влил новый смысл (уже в порядке второго Адама) в поручение, данное первому Адаму: быть владыкой и устроителем всего мира. Ученики должны устремлять свой взор не на конец мира и грядущее Царство: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян 1.8).
9. Слово в церковном годе
В итоге этих превращений Слова, смены состояний, в человеческом и священно-историческом плане, нас может охватить головокружение или даже страх перед бездонностью этой глубины и полноты, не подчинённой никакому умопостигаемому закону. Слово предстаёт поочерёдно словом яслей, словом Креста, затем словом воскресения, и при этом всегда вне прямой связи с естественной данностью Его земного бытия, не давая права толковать Слово как слово страстей в тех случаях, когда Он печален, или как праздничное рождественское или пасхальное слово, когда Он радуется. В действительности же, скорее, Слово само, своим суверенным выбором, наперекор всем состояниям слушающего, определяет тот язык и то настроение, которые Ему по нраву. Так не становится ли отдельный человек жертвой произвола сверхполноты, угрожающего разрушить сам масштаб человеческой личности?
Чтобы прогнать подобные страхи, Святой Дух наделил всей полнотой Христа внутренний порядок Церкви и её «года», заключив её в надличностные социальные рамки, обязательные для всех членов тела Христова внутри Церкви, достаточно тесные, чтобы предотвращать всяческие шатания, и достаточно широкие и свободные, чтобы позволить Духу веять «где хочет». Церковный год — это повторяющееся низведение Слова, вознёсшегося на небо, в среду людей, — но низведение силой Духа, со-
328
гласно Его планам и строительным законам. Он представляет собой актуализацию единого Слова в его единой нераздельной Бого-человеческой, духовно-телесной природе и потому, как повторяющееся низведение, неотделим от церковных форм регулярной актуализации Христа, т.е. от тела Писания и от тела таинств, сосредоточенного вокруг таинства святой мессы. Подобно тому как таинства (наиболее наглядно — Евхаристия) полностью погружены в качественное время церковного года, так же и Святое Писание (принадлежащее Церкви и только ей одной): проповедь и молитвенное слово круглогодичной церковной литургии каждый раз заново снимают печать с этой книги, пробуждают её от буквы к Духу и жизни. Молитва может существовать внутри конкретного евхаристического мгновения - но лишь в связи со святой мессой, всегда принадлежащей целокупному церковному году. Существует также частное созерцание слова Писания - но лишь в связи с проповедью и провозвестием, окрашенными теми или иными красками церковного года. Христианин, если он хочет быть участником Христовой любви, не может выделять себя из общего ритма жизни и любви под тем предлогом, что его личный ритм не соответствует — в этом году или только сегодня — ритму Церкви. И никакой христианин не отважится утверждать, что круглогодичное повторение, постоянное смыкание конца с началом, зрелости — с детством, умиротворённости — с новым смятением и муками страстей не согласуется с его нынешним состоянием. И что просветляющее развитие привело его к такому духовному уровню, откуда он может найти доступ лишь к известным аспектам христианской истины.
Церковный год1 — это точно выверенная и взвешенная средина между безущербной земной человеческой судьбой и безущербной небесной полнотой триединого Бога. И посредником между ними выступает Иисус Христос, который как никто дру-
1 Для последующего см. маленький шедевр Э. Пживары «Kirchenjahr. Die christliche Spannungseinheit» Herder 1923, переизданов: Frühe Religiöse Schriften (Johannes- Verlag 1962) 277—321.
329
гой исчерпал своей жизнью все измерения человеческой судьбы, расширив её тем самым и превратив в сосуд безущербной Божественной полноты. Посредником является также Святой Дух, который обеспечивает обращение этой двойной, человеческой и Божественной, полноты между небом и землёй. Суть в том, чтобы ни один частичный аспект всеобщей полноты не был забыт или ущерблён, иначе говоря, чтобы человек не уклонялся от предлагаемого ему, но, отдаваясь постоянному обращению, всеми своими сторонами поочерёдно поворачивался к Божиему свету. И происходит это таким образом, что уникально-однократное (hapax)Христа многократно погружается в hapax человека, благодаря чему уникальное-в-мире постепенно вживается в Богочеловечески- и даже Божественно-уникальное.
Поскольку же уникальное в Христе — Его детскость, юность, взрослость, Его смерть, воскресение и вознесение - изначально обладает Божественным, т.е. сверхвременно-вечным содержанием, то никто из людей не может вырасти из всего этого, но должен снова и снова возвращаться от конца к началу, чтобы в омеге снова усматривать альфу1, в альфе уже прозревать омегу и все прочие промежуточные ступени. Человек должен научиться видеть в Младенце будущего страстотерпца, но также и прославленного, вечного Младенца, и, вместе с Младенцем снова и снова к младенчеству, постепенно врастать в вечное детство. Таково же должно быть отношение к состояниям взрослого Мужа, страстотерпца, Вознёсшегося. Но если церковный год каким-то образом воспроизводит смену фаз естественной жизни (которая всё более походит на смену фаз истории спасения), то не для того, чтобы заключить её в замкнутый временно́й цикл или в круг возвращения вечного. Скорее, каждый праздник, каждая последующая годовая стадия является непосредственным
1 Евангельские чтения последнего воскресения церковного года и первого адвента примечательным образом провозглашают одно и то же: парусию. «Adventus» первоначально — это латинский эквивалент греческого слова «epiphaneia» — «явление во славе», будь то в «первый» или во «второй» раз.
330
просветом в вечность. Ежемгновенно может и должен лететь в бесконечность камень с раскрученной пращи1. Для того чтобы с помощью отдельных праздников с их конкретностью глубже запечатлеть вдвижение и вселение Божественного в церковный год, Церковь в промежутках между «историческими праздниками» распределила праздники надысторические, точки обзора, с которых наглядно видно вечное содержание того или иного периода, как, например, праздник Богоявления, побуждающий нас в рождественском Младенце увидеть Господа славы, Царя царей, Чудотворца (в Кане Галилейской), явившегося Мессию (в явлении Троицы при крещении в Иордане). В такие праздники, как праздник Святой Крови Христовой, Обретение Креста, Воздвижение Креста, осенний праздник Семи Скорбей Богородицы — в самое время Преображения, или покоя, — как бы в небесной перспективе (свойственной Посланию к Евреям) обновляется тайна страстей; ряд исторических праздников замыкается праздником св. Троицы, который укрывает всё в надвременном и всевременном. Но не так, что земля уплывает и здешняя миссия теряет своё значение, а скорее, таким образом, что праздник Тела Христова вновь смыкает всё в переходной точке, средине между тайным и откровенным Христом, Его главой и телом, вечностью и временем - как Он изображён на фреске Рафаэля «Disputa». Таким образом, заканчивающийся церковный год вновь являет Христа вне времени, как «Царя». Временные праздники приравнивают нас к Сыну Человеческому, надвременные — отучают от слишком земного представления о Христе и не дают ограничиться чувственным восприятием яслей, Креста, образа Воскресшего: «Не препятствуй Мне вознестись к Отцу!»
Если бы Христос не был истинным Богом и истинным Человеком, т.е. срединой, то невозможно было бы поверить в то, что мы можем, ещё целиком принадлежа времени, уже теперь начать
1 Adrienne von Speyr: Die Pforten des ewigen Lebens (Johann-esverlag 1953).
331
приобщаться к законам и порядкам вечности. Но вечное склоняется к нашей жизни столь мягким, очеловеченным образом, что мы, с нашей человеческой точки зрения, не можем роптать, если оно неумолимо потребует нашего приобщения к его ритмам. Слово, которое звучит, обращаясь к нам из церковного года, двояко в едином: как высшее прославление всех тайн человеческого существования, самых нежных и самых жестоких, вплоть до предательства, покинутости и смерти в невыносимой скорби, — и как неукоснительное требование жить лишь для Бога, умереть для мира, и если вновь вернуться к нему, то только от Бога. Это слово не является ни формулой, ни дефиницией, в подобном образе оно может говорить лишь диалектически, являя две не подлежащие совмещению стороны. Но оно есть полнота, источающая из себя все формулы и могущая раскрыться не иначе как через истечение во времени, через отбрасывающее тени вращение вокруг своей неподвижной оси — оси самотождественной Божественной любви, представляющей себя в человеческой жизни. Круговорот года, часто перечёркивающий наши личные предпочтения и требующий от нас таких состояний, которые мы не можем принять неискажёнными (к примеру, мы чувствуем себя уже достаточно просветлёнными и зрелыми, а от нас ждут инфантильного поведения у яслей, мы хотели бы быть сдержанными, а Церковь требует от нас выражения пасхальной радости, мы хотели бы провести время после Троицы в тишине и покое, а нас с шумом снова влекут к началу, к Адвенту), вырабатывает и поддерживает в нас податливую покорность вере, и более того — позволяет нам оставаться живыми. Ибо только так можно соответствовать растущей жизни.
«Настроения и стремления, которые преобладают теперь, — разве они уже не существовали в детстве? И разве игра ребёнка — это не то же, что работа взрослого человека, только в зачатке? Так что верно: мы, действительно, уже не живём во времена Адвента, в Рождественскую ночь, не содрогаемся от событий Гефсимании и Голгофы, не ликуем по поводу пасхальной вести или нисхождения огня в Пятидесятницу, - но мы являемся членами
332
тела Христа, сидящего одесную Отца, и сами, по упованию, находимся рядом с Ним, так что покой вечной Субботы уже вошёл дыханием в нашу жизнь. Но эта зрелость послетроичного времени извлекает свою жизнь из Адвента, Рождественской ночи, поста и Пасхи, подобно тому как растения и деревья растут силою своих корней. И ежегодное повторение этих моментов — не что иное, как восхождение соков жизни от корней — кверху»1.
Мысль греческих отцов слишком односторонне прослеживала лишь переход от плоти к духу. Для них постоянный процесс возвращения в плоть, исход в мир и связанное с этим обращение к деятельности ещё не предстали с той же очевидностью, как для нас. Повторение и вживание как составляющие церковного года отражаются и в сознании самой Церкви: с течением столетий всё более расширяется по всем направлениям её понимание таинства Христа, чья «широта и долгота, и глубина и высота» всё яснее открываются ей в лице «всех святых» — чтобы ей «исполниться всею полнотою Божиею» (Еф 3. 18-19). Ибо только в порядке церковного года необозримые ряды святых могут обрести подобие упорядоченности. И не только в том смысле, что кому-то из них были посвящены церковные праздники, а некоторые даже вошли в ежедневную литургию, но, что важнее, потому, что они изнутри получают определённое место в кругу праздничных таинств, при этом не впадая в узость, не прекращая вместе со всеми остальными совершать полный годовой оборот. На их примере становится также ясно, что каждый человек как бы имеет своё место в космосе таинств, это «место» может быть, в частности, «созвездием праздников», определённым путём, неким просветом. Это место тем вернее приурочивается к человеку, чем в меньшей степени он при его выборе ориентируется на свои естественные воззрения и склонности и чем больше повинуется Слову, даже и вопреки этим естественным склонностям. Это не означает, что подобное «место» должно оставаться неиз-
1 Przywara, Kirchenjahr 278—279.
333
менным на протяжении всей жизни, напротив, каждый, кто в полноте Христа обрёл своё место, получает доступ ко всем остальным местам: к любой звезде в сонме святых.
10. Слово как мужчина и женщина
В качестве ребёнка, юноши и мужчины, в качестве смертного, умирающего и воскресающего человека вечное Слово вошло в ограничительные рамки, при этом по-прежнему оставаясь целым, т.е. целокупностью любви к Отцу и к людям, поскольку такая любовь не знает никаких ограничений и изнутри переосмысливает любую границу как выражение безграничности. Человеку свойственны, однако, три определения, которые, как кажется, накладывают принципиальный запрет на подобное переосмысление, ибо в данном случае человеческое совершенство заключается как раз в том, чтобы быть кем-то одним из двух, видеть в другом, неустранимо пред-стоящем, условие самой возможности своего совершенства. Человек может быть либо мужчиной, либо женщиной; он может — по той же межчеловеческой соотнесённости — быть либо господином, либо рабом; и наконец, по своей отнесённости к Мессии-Спасителю, он может быть либо иудеем, либо язычником. Гастон Фессар увидел в динамике этих трёх оппозиций ядро диалектики истории и тщательно, вместе со смежными вопросами, её продумал1. Но он показал также, что при преодолевающем движении ввысь эти три пары подлежат истолкованию и уяснению в рамках теологии истории, опираясь на то, что
1См. сборник De l’Actualité Historique, 2 Bde. (Desclée de Brouwer 1959). В Германии эта тройная диалектика нашла наиболее вдумчивого исследователя в лице Карла Барта как автора «Церковной догматики»: проблематика «иудея и язычника» представлена главным образом в учении о благодатном Божественном избрании (II/2 § 34—35), отношение между «рабом и свободным» — в учении о примирении (IV/1 § 59-61: Jesus Christ, der Herr als Knecht, IV/2 § 64—66: Jesus Christ, der Knecht als Herr), отношение «мужчина — женщина» — в учении о творении (III/2 § 45: Der Mensch in seiner Bestimmung zu Gottes Bundesgenossen, III/4 § 54: Freiheit in der Gemeinschaft).
334
Павел в своём единственном высказывании на эту тему объединил их как преодолённые противоречия: «...все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже ни иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал 3. 27-28).
Мужчина и женщина суть элементы природной диалектики, а эта последняя наделяет уже жизнь животных чем-то вроде исторического драматизма, который проявляется в возвышающем и преображающем эротическом опьянении с его героическими и игровыми формами, переходящими то в смертельно опасную борьбу, то в почти бесцельную игру и песнопения, с его жертвенностью в отношении к потомству. Насколько полно подобная природная диалектика определяет человеческую историю, в особенности историю примитивных народов и ранних стадий высоких культур, достаточно говорят мифологическое предание и поэзия. На более поздних стадиях вперёд выдвигается диалектика второго рода - раба и господина, во всех её игровых формах семейного, племенного, народного, государственного бытия, во всех превращённых формах грубого подавления, естественного превосходства, добровольного подчинения (как из низменных, так и из высоких побуждений). Гегель описал эту диалектику в своей «Феноменологии»; Маркс, основав на ней свои построения, сделал её центральным пунктом своего экономического учения о человеке. Третья диалектика имеет смысл только в рамках христианско-теологической картины мира, зато является в ней абсолютно необходимой, ибо Церковь (как ядро всемирной истории после Христа) состоит из иудеев и язычников. Тот факт, что иудеи и язычники даже после смерти Христа остаются вне Церкви, свидетельствует, что событие перехода от Ветхого Завета к Новому для самой Церкви остаётся непреодолённым, что она сама в сущности и является этим событием.
Как природное существо человек есть вместе «мужчина и женщина», и Книга Бытие сразу же недвусмысленно указывает, что эта их слиянность противоречит глубочайшим праосновам: об этом говорится вскоре после уподобления человека образу Бога (Быт 1.
335
27) как о предмете особой заботы Творца, вследствие чего Ева (совершенно не так, как это происходит при сотворении животных) выходит из Адама (Быт 2. 18—24). Здесь — что касается их обоих — превалирует непосредственное отношение к Божественному первоистоку; в отличие от животных с их безусловной парностью Адам сначала пребывает в одиночестве и лишь непосредственно от Бога (но также — и из самого себя) получает — никаким другим способом не обретаемую — помощницу, предназначенную отвечать ему и его дополнять. Адам несёт это богатство в самом себе, однако лишь Бог может высвободить из него это богатство — в момент его глубокого сонного обморока. Без Евы оно остаётся нищетой и — согласно естественному порядку вещей — оборачивается неудовлетворённым блужданием. Однако именно Ева становится причиной его падения, ради неё он оставляет не только отца и мать (Быт 2. 24), но и всё богатство первоистока,— чтобы отправиться в скитания по скудным и тернистым земным путям.
Отцы Церкви не оставляли попыток истолковать эту первую сцену в проекции на Церковь и Христа. Для нас здесь существенным является то, что вочеловечившееся Слово, основание и причина всего, принимает на себя явно выраженное ограничение полового порядка. Оно становится человеческим существом только одного определённого пола, и это вхождение целого во фрагмент впервые открывает подлинную бездну в подобном ограничении рамками одного пола. Ибо, в отличие от всех других сфер человеческой мысли — философской, религиозной, мистической, — где это ограничение лежит как бы ниже и позади мыслителя, избегающего всяких ограничений и поднимающегося до духовно-универсального уровня, здесь оно уже заключает в себе цель движения, исходящего от Бога, и желает, чтобы его воспринимали как сущностную артикуляцию Божественного языка, производимую человеческими звуками. Прежде всего следует осознать: тот факт, что Слово Божие стало не женщиной, а мужчиной, в метафизическом смысле означает большее ограничение, чем отказ от реализации половой функции, т.е. христианскую девственность, у истока которой стоит Христос и затем
336
Мария. Слово усвоило себе отличительный признак человека, царя творения, в раю томившегося по полноте, в грехопадении же глубоко униженного, чтобы в этом «образе» («Charakter») играть порученную Ему роль на подмостках мира. Мужчина, «глава жены», повелевает, и в этом состоит его естественная роль, но насколько же глубже его зависимость от жены, погружённой в предусмотрение и заботу. Он символизирует свободу, но как же плотно он обвит цепким плющом, который так и грозит его задушить: жена и дети, дом и работа - целый клубок забот. В этом тоже состоит кенозис Слова: в выборе для себя лишь одного пола, господствующего над другим началом, но и зависимого от него, ибо Оно плодоносит не само по себе, но в другом, и собственный свой плод получает от другого. Странное и нерасчленимое сплетенье прообраза и образа: Слово, не зависящее ни от чего в мире, всё же вынуждено обратиться к человеку за ответом и лишь с грузом этого плодоносного ответа может вернуться к Отцу. Виноградная лоза, которой возможно всё и без которой ветви не могут «делать» ничего, всё же зависит от них в деле плодоношения. Слово-семя нуждается в мире-пашне. И Христу необходимо лоно девственной Церкви.
Поэтому, хотя естественные отношения между полами откладываются (suspendiert),так как речь идёт уже не о следовании полу, но об урожае, подлежащем сбору и возвращению — по вертикали — на небо, всё же мало сказать, что девственность получает предпочтение перед браком (Conc. Trid. ss24 сап 10) и что всё достоинство брака возводится к «великой тайне» между Христом и Церковью (Еф 5. 32), - но сама эта тайна спускается теперь на уровень телесно-земной плодоносности: Дева, которая услышала Божие слово, становится Матерью. И это не уступка, сделанная высшим христианским порядком более низкому полоразличительному порядку. Это часть икономического кенозиса, который составляет сущность воплощения Слова. И именно поэтому единичный прецедент — Дева и Мать в одном лице — становится образцом для всех последующих дев и матерей. Мария является не аллегорией, а реальным символом со-образной Слову плот-
337
ско-духовной Церкви. Также и слово Христа о том, что все послушные в вере суть Его братья, сёстры и мать, является не аллегорией, но словесным выражением глубочайшей истины.
В той же самой плоскости, в которой Мария-Церковь предстаёт одновременно духовной и телесной, Христос-Слово является евхаристичным. Таинство Евхаристии покоится именно на примате девственного отказа: с этим отказом оно нисходит на уровень телесной плодоносности и там жертвою плоти и крови даёт сторицею созреть плоду, уже ни с чем не соизмеримому. Нам не следует останавливаться перед универсализирующим утверждением о том, что это расширение ограниченной природной плодоносящей функции человека в евхаристическом Господе переносится на всю совокупную человеческую телесность. Плоть, принесённая в жертву на Кресте, есть семя жизни, пронизывающей все века существования женственной Церкви и — через неё - все эпохи исторического космоса в целом. И в этом Тейяр де Шарден прав. Поскольку же Невеста, которая вновь и вновь принимает в себя эти евхаристические семена, всегда являет собою также и видимую Церковь, девственную во всех своих видимых членах (наделе или по меньшей мере в духе), то нечто от этой производящей силы нового Адама, заключённой в новой Еве, входит также в церковную и во всемирную историю. Вечно новое жизнесвидетельство христиан, собственно девственников, пребывающих таковыми ради брака со Христом, - это свидетельство как истинно творческая сила не может быть помыслено отдельно от истории человечества. Во всяком случае, та ненависть, которую, по предусмотрению Господа, всегда будет пробуждать это свидетельство, в дальнейшем станет указанием на Его присутствие и плодоносность.
Глава на небе, тело на земле, и оба суть единый Христос. Жених на небе, Невеста скитается по земле «купно» и как «вдова» (Augustin, in Ps 131 η. 24), и —в равной мере, но более скрыто -как «жена Христова» (in Ps 127 n. Il), и как «беременная» (in Ps 57 η. 5), и как «мучающаяся родами» (in Ps 52 n. l), «роженица» (in Ps 126 n. 8). Для неё, пребывающей на земле, восприятие небесного
338
семени несёт с собою боль, отказ от ровной безмятежности, крест и не освобождает от родовых мук. «Она имела во чреве, и кричала от болей и мук рождения» (Откр 12. 2). Это вертикальное отношение между небом и землёй нельзя заменить никаким горизонтальным движением. Быть может, в той мере, в какой родовые муки земных дочерей Евы бывают технически облегчены — до полного их устранения, муки второй Евы лишь усугубляются: чем больше люди избегают участия в искупляющих страданиях, тем больше их выпадает на долю Марии-Церкви, Mater Dolorosa.
«Скорби», суждённые Еве (Быт 3. 16), которые не сводятся только к рождению детей, но очевидно заключены и в её отношениях с мужчиной, содержат в себе нераздельно: унижающее наказание и облагораживающее искупление. В этом двойном свете представляется вся сфера пола. Тот, кто склонен затушевать в ней муку, тем самым лишает её всего возвышенного, отрицает её связь с возвышенным благородством второй, искупающей четы. Человек есть царь лишь постольку, поскольку он унижен, и никак иначе. И этот закон также нельзя заменить никаким историко-теологическим методом. Семя, которому должно взойти сторицею, есть одновременно и Евхаристия и Слово; но такое Слово, которое раз и навсегда прозвучало в средоточии истории именно таким и никаким иным образом и которое будет царить в истории и, как закваска, властно пронизывать её вплоть до самого её конца. Никакая «эволюция» не может ни на йоту ничего в этом изменить, и всякое изменение в человеке, будь то на пользу или в ущерб ему, может лишь с большей очевидностью проявить этот момент в его царственности. Ибо в конечной точке «эволюцию» ждёт не только Евхаристия, как полагает Тейяр де Шарден, но непременно также и Слово, которое составляет единое целое с жертвенной плотью и которое сконцентрирует на себе небо, землю и Церковь.
Ибо Церковь как целое произошла от Слова, она, как и небо и земля, есть жизнь лишь «в Нём» (Ин 1. 3-4). Она вышла из ребра нового Адама. Она есть Его невеста, лишь поскольку
339
она есть Его тело, - но тело в смысле «невестно» пред-стоящего1. «Пред-стоящее» — это то, в чём Он нуждается и как Человек и как Бог, поскольку Он творчески вошёл в этот мир. «Невестное» здесь имеет смысл иного по отношению к Нему, в которое Он изливает свою полноту. Так, в Еф 1. 23 остаётся непрояснённым, «наполняет» ли (πληρουσθαι как медиальный залог в значении действительного) Христос своё тело, Церковь, которая есть Его полнота, или Он ею «наполнен» (страдательный залог). И то и другое верно описывает отношение между Христом и Церковью, которое отсылает и «вниз», к отношению между Адамом и Евой, и «вверх», к преизбыточному отношению между Лицами Троицы, к их взаимоотнесённости внутри вечной и безущербной полноты.
В этой неуловимой взвешенности между полнотой и пустотой (ибо женщина произошла от мужчины, но при этом она восполняет его ущербность), которая в воплощённом Слове являет собой ещё более неуловимую тайну абсолютной любви, заложена возможная полнота христианского опыта. Христос не нуждался в опыте пола, чтобы познать свою Невесту-Церковь — в том радикальном смысле, который это слово («познать») употребляется в Библии. Ведь Он знает силу, которая от исходит. И Он знает её в равной степени как силу и как бессилие. Поэтому Он знает всё то в своей Невесте (и во всех её членах, т.е. нас самих), что соответствует Его силе, а что своей слабостью (противоречием и нежеланием) эту силу ограничивает. Эту глубочайшую тайну следует иметь в виду всякий раз, когда мы говорим о смысле христианской девственности. Взятая в своей материальности, она оказывается ограничением, отказом от полноты в области адамовой природы. Формально она представляет собой (силою веры-благодати, которую нельзя заранее принять в расчёт) существование в плодоносности слова и плоти Христовых и тем самым - в полноте взаимного познания, которое исполняется в
1См. «Wer isr die Kirche?» в: Sponsa Verbi (21971) 148-202.
340
пустоте Креста. Там, где в силе и полноте веры-благодати совершается отказ от брака, Бог в ответ наделяет отказавшегося знанием полноты, превосходящим всякое фрагментарное бытие-в-мире, — таким знанием, которое и самого отказавшегося освобождает от ощущения сущностной неполноты, и другому не позволяет воспринимать его как неполноценное и нежизнеспособное существо.
Великая Павлова аналогия, как кажется, должна быть продумана ещё глубже. Раз Ева была взята от Адама, то он, сам о том не ведая, уже содержал её в себе. Конечно, Бог создал её и вдунул в неё дыхание жизни, но Бог взял это образо-восприимчивое начало из живой, насквозь проникнутой духом плоти Адама. Это женское начало уже содержалось в нём, и он признал его, когда Бог подвёл к нему женщину. То, что творение образует собой в отношении к Богу, - это и есть женское начало. И Творец удостаивает мужчину иметь своё собственное творческое устремление в отношении к этому тварному лону. Но женщина взята от мужчины, и субстанция, из которой она образована, — мужская. Она знает мужчину в его истоках. В отношении к Богу она, вместе с мужчиной, воплощает женское начало, но она, также вместе с мужчиной, обладает ещё и активной отвечающей силой: она может подарить мужчине образованного ею ребёнка, для которого семя было лишь первоначальным намёком. Как «помощница» она делает всю работу, которую он как бы лишь инициирует и обозначает. Эта глубокая взаимность, которая в данном случае основана на самой природе, распространяется на отношение между Христом и Церковью, но здесь уже природный уровень не является главным. Если Церковь вырастает из Христа и потому во всём, что делает её Церковью, живёт за счёт Его субстанции, то Сын Божий содержит это «женское» в своей глубине не потому, что Он является творением, а потому что Он Сын Отца. Он знает, что значит одновременно быть Богом и рождённым от Отца. В этом двойном отношении Он и является источником Церкви: она изводится из Него силою триединого Бога, но и благодаря Его «первородной» преданности Отцу,
341
дающей пространство для бесчисленных других Божиих детей. То, что Он дарит, в преизбытке принадлежит исключительно Ему, и поэтому Он узнаёт себя в нас, как и Отец узнаёт Его в нас, поскольку мы являемся иным по отношению к Нему (Его «женским дополнением») лишь благодаря Его субстанции, переданной нам1.
В этом аспекте фрагментация природы посредством полового различия теряет всю свою трагичность. Уже и природа разделяет, чтобы объединять; насколько же больше это относится к тайне невестного отношения неба и земли, которая даёт приобщиться к триедино объединённой дифференциации. В то же время подлинное и глубокое единение при сохраняющейся дифференциации происходит на всех уровнях. Поверхностное уравнивание полов препятствует подлинному взаимопроникновению мужского и женского, нивелирует органическое и конструктивное единство, превращая его в единство абстрактное (тождественность человеческой природы) и бездейственное. Здесь ни один пол уже не может, поверх благотворной дифференциации, обнаружить исконно своё в другом поле, ибо каждый благодаря этой нивелировке уже с самого начала знает всё о себе и о другом. То же самое, в углублённой форме, справедливо по отношению к Христу и Церкви. Отношение завязывается только поверх всё глубже осознаваемой дифференциации между Ним и нами, между Единственным, сошедшим с «неба», и всеми нами, земными (Ин 3. 13). По мере своего восхождения к Нему в качестве Невесты, Церковь всё более узнаёт и исповедует себя как служанку.
Если что-то от этой вертикальной тайны должно проявиться в смысловом потоке истории, то не что иное, как всё глубже познаваемое единение во всё глубже и познаваемом различии. Поэтому, когда Павел говорит, что во Христе нет ни мужчины, ни женщины, то он имеет в виду не преодоление различия между
1См. обэтом: Eugen Biser: Erkenne dich in mir. Von der Kirche als dem Leib der Wahrheit (Johannes-Verlag 1955).
342
Богом и тварью (в смысле пантеистического толкования слов «Бог всё во всём», 1 Кор 15. 28), но также и не увековечение земных полов (примерно как в гностическом учении о сизигиях), а скорее, образ окончательной дифференциации в «браке Агнца» (Откр 19. 7), каковой брак есть сам по себе образ явления «абсолютной Троицы». В этом браке закон девственности обретает свой окончательный вид («Ибо в воскресении ни женятся, ни выходят замуж; но пребывают, как Ангелы Божии на небесах», Мф 22. 30), и девственники, «которые не осквернились с женами» и «следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел», уже здесь, на этой земле, устремлены к этому браку. «Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу» (Откр 14.4). Воплощённое Слово остаётся девственным, чтобы различие полов, вместе со всем унижением и славой, которые оно с собой несёт, собрать воедино в вечной жизни.
11. Слово как господин и раб
Если в отношениях между мужчиной и женщиной выражается диалектика человека как существа по преимуществу природного, то диалектика господина и раба затрагивает главным образом человека общественного и исторического. Книга Бытие возводит половое различие непосредственно к творческому акту Бога и подчёркивает существование этого различия уже в раю (хотя и в особой, завуалированной и отложенной, форме), что же касается отношения между рабом и господином, то оно впервые возникает после изгнания человека из Эдема, точнее, оно находит выражение в осуждающей формуле, обращённой Богом к женщине: «...к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». До этого в подчинённом положении находилась лишь природа и её господином был человек. Теперь человек опускается до состояния природы и сам переходит в подчинение такому же, как и он, человеку. Но оба состояния: и раба, и господина — являются свидетельством «падшести». Мы совершенно не знаем о том, каково было человеческое общество в раю, «первичное естественное право» восстановить невозможно. Нам
343
неизвестно даже, каким было первоначальное отношение между полами, так как дети от первого на свете брака родились уже вне рая. Любые ретроспективные спекуляции на тему «раба и господина», стремящиеся проникнуть по ту сторону «грехопадения», повисают в пустоте. Интерпретации этого отношения могут быть лишь перспективными, устремлёнными к Христу как собирающему Логосу.
Поскольку данное различие отмечает собой состояние природного, неискупленного человека, то оно является основополагающим и неустранимым. Не может быть семьи без авторитета и послушания, не бывает рода без более или менее твёрдого верховодства, осуществляемого одним человеком или группой «лучших» (aristoi),независимо от того, каким образом они пришли к власти и насколько охотно выполняются их распоряжения. Никакой народ не может существовать без государя и более или менее выраженного управляющего контингента, и какими бы средствами ни осуществлялся и ни утверждал себя властный порядок, эти средства в значительной степени неизбежно являются принудительными. Что подобное принуждение связано с первоначальным состоянием неупорядоченности и являет собой образ уступки (или, лучше, скрытый образ предваряющего кенозиса) Богом своей власти в космосе, видно по различию, проводимому Книгой Бытие: после акта творения человек становится господином всей природы, но при выделении ему в пищу всего царства растений был наложен неявный запрет на убийство животных, хотя человек по-прежнему остаётся их господином (Быт 1. 26-30). При заключении же завета с Ноем, напротив, человеку явно и отчётливо предоставляется это право (Быт 9. 3), отныне «все звери земные» должны его страшиться и трепетать (Быт 9. 2). Здесь добавляется, однако, двоякая оговорка: сначала, в отличие от разрешённого употребления в пищу плоти, остаётся под запретом вкушение крови: кровь есть местопребывание жизни, над которой владычествует один только Бог. Это до такой степени серьёзно, что пролившему человеческую кровь придётся отвечать перед Богом, который передаёт свою карающую власть другому че-
344
ловеку. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Быт 9. 6). Но затем в новый и окончательный завет с Богом включается уже и человек как неограниченный властитель, и ему тварь, будь она зверь или человек (Быт 9. 8-11). Обоим отводится место под сенью учреждённого Богом мирного порядка.
Это не говорит о том, что Бог равнодушно взирает на земные дела, сосредоточившись исключительно на грядущем миротворном деянии Иисуса Христа. Ведь первый же насильственный акт (Каиново братоубийство), совершённый у врат рая, был Богом тщательно обдуман, а убийца покаран, ибо кровь Авеля вопиет к Богу как к единственно возможному отмстителю. Каин изгнан с плодородной земли, но именно как изгнанный он остаётся под покровительством Бога; Божие знамение на лбу служит ему защитой. Каин принадлежит к проклятому Божиему племени, убийство членов которого семикратно карается кровной местью (Быт 4. 15) и которого чураются люди.
Поэтому, хотя начальствующий, носящий меч во имя Господа, как Божий слуга, «страшен» (Рим 13. 3) в первую очередь для злых, которым непосредственно «угрожает насилие», всё же, поскольку он обладает силой и отождествляется с ней, он страшен также и для добрых, которым «надобно повиноваться» ему (Рим 13. 5) и которые в несправедливом и насильственном порядке прозревают мерцание миропорядка всеобщего. Отсюда: «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым» (1 Петр 2. 18), причём повиновение должно быть искренним, «по совести» (δια την συνειδησιν — по отношению к государственным властям, Рим 13. 5; δια συνειδησιν θεού - к господам дома, 1 Петр 2. 19). Но осуществить всё это можно, лишь имея в виду Христа, подвергшегося несправедливому насилию: здесь завет с Ноем превращается в земную реальность, лишь здесь распускается ужасный диалектический узел, связывающий господина и раба.
Можно, правда, присоединиться к Гегелю и Марксу в их глубоких размышлениях касательно имманентной историко-фило-
345
софской логики этого отношения. Господин, который распоряжается трудом раба и использует его к своей выгоде, попадает в зависимость от своего орудия и сам превращается в раба, тогда как раб, создающий товары в процессе трудового опыта, становится их подлинным господином и в этом качестве рано или поздно заявляет и утверждает себя. В результате этой диалектической игры экономические, и политические отношения обращаются, но отнюдь не раз навсегда (как указывает Маркс), а с непрестанным смещением равновесия: нынешние господа, которые ещё вчера были рабами и теперь поработили своих господ, также имеют основания опасаться возвысившей их диалектики. Можно (следуя Гегелю), сделав шаг по вертикали, подняться над этой неустойчивой сферой и совершить трансценденцию в область более высоких самоосуществлений духа; но закрепить эту сферу как автономную (приняв идею однозначного исторического прогресса) невозможно. Как земной logosи nomos она навсегда останется в инкоативном состоянии, поскольку, по глубокому наблюдению Гоббса, её глубинными предпосылками являются alogia и anomia. Улучшения в отношениях между господином и рабом, между субъектом насилия и его объектом, могут - пока они остаются имманентными игре исторической логики — привести лишь к заключению определённых соглашений, которые не устраняют основного порока (умышленно или невольно оставляемого незамеченным). Иначе обстоит дело в тех случаях (как, например, в средневековом рыцарстве или при христианском понимании жизненных отношений), когда земные отношения толкуются как зеркальное отображение диалектики, снятой в личности Христа: суть здесь в том, что прообразу предоставляют оставаться там, где он находится — по ту сторону чистой этики, политики, экономики, чем исключается смешение различных сфер — как низведением прообраза в земной порядок, так и самонадеянным возведением земного порядка непосредственно в сферу христианского.
О прообразе мы уже говорили в связи с проблемой власти, теперь нужно лишь напомнить о самом существенном. Христос
346
есть Господь, Он знает это и об этом говорит (Лк 22. 27), Он Царь и также знает и говорит об этом (Ин 18. 37; Откр 19. 16). Он подчёркивает дистанцию именно тем, что сам же её упраздняет: «...слуга не выше господина» (Мф 10. 24 = Ин 15. 20). «Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. Если хозяина дома назвали вельзевулом, не тем ли более домашних его?» (Мф 10. 25). «Если меня гнали, будут гнать и вас» (Ин 15.. 20). Почему же? Потому что «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф 20. 28). Поэтому Он омывает ноги ученикам (Ин 13. 1-11), а своею кровью - души (Еф 5. 25-27). Лишь в этом принятии на себя рабского облика, нищеты и послушания (2 Кор 8. 9; Флп 2. 8; Евр 5. 8) и состоит явление господства и славы. За этим явлением уже ничего нельзя скрыть, напротив, вся высота, власть и сила Бога только и могут явиться в облике нищеты и послушания, сделавшись ради нас «грехом» (2 Кор 5. 21) и «проклятьем» (Втор 21. 23 = Гал 3. 13). Его господство состоит в том, что Он, в полной свободе своей любви, встаёт на место раба, берёт на себя унизительный и в конечном итоге смертный труд раба. Нельзя иметь большей любви, но и большей свободы и власти, чем у того, кто кладёт свою жизнь за друзей.
Лишь имея в виду эту непостижимую любовную свободу, позволяющую абсолютному господину встать на место последнего раба, можно понять евангельскую диалектику господина и раба (в её отличии от философской). Христос настолько свободен в своей абсолютной любви, что может (себе) позволить оставаться господином, даже будучи рабом. Именно в этом Он проявляет себя как истинный Бог, в отличие от других богов, которые не могут позволить себе такого, так как в конечном итоге их господство основано на человеческих представлениях. И вместе с тем, откровение господства в рабском состоянии не отвечает никакой внутренней необходимости для этого Бога, - как будто Ему больше нечем превзойти остальных богов. В этом откровении являет себя свобода безмерной любви и одновременно спо-
347
соб мышления истинного Бога. Но если свободная любовь Человека Иисуса, склоняющегося к ногам своих учеников и вообще всех людей, демонстрирует также человеческую победу над всеми порабощающими силами судьбы, то «униженный» Бог в то же время является возвысившимся Человеком, который в суверенной свободе своей любви имеет часть в Божием господстве и даже становится воплощением этого Божьего господства в мире1. Поэтому неверно, что до своей смерти Христос был Божиим рабом, а после воскресения — Господом. И до и после воскресения Он один и тот же: господин как раб и раб как господин. Входя в славу, Он не прерывает крестного рабского труда, ибо как раз на Кресте Он является во всём своём торжестве (Кол 2. 14-15), Господом, который берёт с собою в вечность «знамения» этого торжества как свои неотъемлемые свойства (Лк 24.40; Мф 24. 30; Откр 19. 13).
Поэтому для христиан не существует других знамений господства, кроме Креста. Ибо Крест — это не только преходящее средство и инструмент для достижения цели, самому Кресту чуждой, но неизбывное выражение того, что является единственной целью, т.е. свободы и любви. Поэтому утверждение о том, что Господь стал рабом, чтобы сделать рабов господами, отражает лишь половину правды, ибо свободными нас делает Господня истина, и эта истина хочет быть исполненной. Она есть любовь, свободно идущая на служение и на смерть. Свобода христианина лежит не в ином, а в том же самом месте, где свобода Христа. Всё иное означало бы лишь новую подверженность «игу рабства» (Гал 5. 1; 4. 8-9) в стремлении прекратить «соблазн (scandalum) креста» (Гал 5. 11). Призванность к свободе означает служение друг другу любовью (Гал 5. 13), «чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве» (Рим 7. б).
Тем самым понятия господина и раба, оставаясь по-прежнему в силе, вступают в безостановочное движение, составляют особо-
1 Karl Barth, Dogmatik IV/1, 148 исл.
348
го рода теологическую диалектику. Если историей Иакова и Исава эта диалектика пророчески предрешена («больший будет служить меньшему», Быт 25. 23 = Рим 9. 12), то Христос утвердил её как духовную реальность («кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий - как служащий», Лк 22. 26)., а Павел ввёл как основание общинного порядка («члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. И которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды», 1 Кор 12. 22-24). Таким образом обретает внутреннюю согласованность то двойственное диалектическое место, в котором Павел обращается к коринфской общине, сочетая в своём обращении серьёзность и горькую иронию: «Вы уже пресытились, вы обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать!.. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, а мы в бесчестии» (1 Кор 4. 8, 10). Серьёзное здесь состоит в том, что апостолы ради общины действительно «поставлены на последнее место, как бы приговоренные к смерти... как сор для мира, как прах, всеми попираемый доныне» (1 Кор 4. 9, 13), что поэтому их слабость ради силы общины — вполне в порядке вещей. Ирония же проистекает из того, что община полагает свою силу, мудрость и господство вне закона Креста, в духе интегризма, который прежде всего хочет господствовать, а затем, в случае необходимости, — служить, но уже со своего господствующего места. Эта едкая насмешка над местом с теологической точки зрения тем важнее, что она сопряжена с глубочайшими тайнами крестного христианского бытия. Она затрагивает всех, кто надеется достичь господства, минуя скандал Креста, в какие бы христианские одежды это господство ни рядилось. Лишь тот Господь (kyrios), кто в смирении и самоуничижении склоняет колени перед небом, землёй и адом. Лишь перед Ним одним и перед Его Духом преклонятся небо, земля и ад (Флп 2. 7-11).
349
Диалектика господина и раба отличается от диалектики мужчины и женщины тем, что господин реально может переходить в свою противоположность. Но сходство больше, ибо мужчина (Христос) изводит из себя женщину (Церковь), оставаясь вне себя по-прежнему собою. Так же и господин, становясь рабом, не перестаёт быть господином. Именно потому, что Господь «не почитал нужным судорожно цепляться» за своё господство, но в самоуничижении (κενωσις)отказывается от него (Флп 2. 6-7), Он и являет себя «великим Господом» (grandseigneur),тогда как всякий, кто за своё господство, уже потерял его. Отказываясь от господства, Он крепко держится того единственного, что всё собою определяет: это «подчинённость низшему» (υπ—ηκοος),субъективная покорность при объективной покорённости, тяга к «низкому» (от старинного «снисхождения» до современной «низости», т.е. подлинная catenaаигеа (золотая цепь), на которой космос подвешен к небу. Как раз силою такого послушания рассеянный по миру Логос вновь собирает мир воедино. Он, в своём повиновении никогда не выходивший из воли Отца, собирает вокруг этого своего повиновения раздробленный мир, разорванного Адама. Он умирает «не только за народ, но чтобы и рассеянных чад Божиих собрать воедино» (Ин 11. 52).
Собирающее начало в отношениях между господином и рабом заложено во взаимосвязанности и взаимообращении обоих состояний, зиждущихся на самом Христе и оставляющих далеко позади всякого рода философско-социологические построения. Это взаимообращение настолько совершенно, что, с теологической точки зрения, снятие естественного противоречия между двумя состояниями теряет прямую необходимость. Это совершенное взаимное вселение в кратких выражениях описывает Павел: «Каждый оставайся в том звании, в котором призван. Рабом ли ты призван, не смущайся; но если и можешь сделаться свободным, то лучше извлеки пользу из своего рабского состояния. Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и призванный свободным есть раб Христов» (1 Кор 7. 20-22). Послание к Филимону показывает, как обе эти кате-
350
гории разворачиваются в экзистенциальном плане. И конечно, этот новый этос со временем воздействует на социальные структуры в смысле более «гуманного» отношения между разными общественными группами. Вместе с тем подобное воздействие не является самоцелью; цель лежит выше и, будучи достигнутой, может таковой оставаться даже во времена провалов в жестокую тиранию, при бесчеловечных условиях труда, которые (такова природа человека) не исключаются априори фактом «восходящего развития». Воплотившееся Слово всегда стяжает к Отцу и — и дела, и пройденные испытания — и личные заслуги. И всегда — рабское служение тех, что сделались в Господе господами, ибо Господь хочет господствовать не иначе, как рабствуя всем.
12. Слово как иудей и язычник
Воплотившись, Слово приняло на себя также национальное ограничение, причём самое узкое, какое только возможно, поскольку это ограничение непреодолимо и установлено самим Богом: Слово вошло в иудейскую плоть. Другие национальности можно менять, границы между остальными народами могут быть отчасти или полностью стёрты ради установления некоего туманного всемирного гражданства. И лишь этой нации такое недоступно, несмотря на все попытки иудеев сломать национальные препоны — от эпохи Маккавеев до наших дней.
Иисус тщательно следил за тем, чтобы указанная граница не нарушалась. Она была неотделима и от Его природного человеческого бытия, и от Его надприродной миссии. «Хананеянка» (как называет её Матфей, чтобы оживить в памяти древнейшее противоречие между Израилем и языческим Ханааном) получает от Него суровую отповедь: «Я был послан только к погибшим овцам дома Израилева» (Мф 15. 24). И подобным же образом Он напутствует учеников: «...на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите; а идите наипаче к погибшим овцам дома Израилева» (Мф 5. 5-б). Слово отказа, обращённое Им к женщине, — это всё же слово, а ведь перед этим в ответ на её
351
крик «Он не отвечал ей ни слова». Но и обращённое к ней слово говорит о заблудшем Израиле, о котором неизвестно, будет ли вообще найдена хоть какая-то его часть. Земная миссия здесь все ещё находится под действием законов, скупо отмеряющих время и пространство: если ограниченная сила направляется с поручением к «детям Израилевым», то как же может её хватить на «ханаанских псов»? Но разве Иисус, Слово, уже не переступил границы Израиля (почему?) и не скитается по языческим пределам Тира и Сидона? И хотя Он, «войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал», однако «не мог утаиться» (Мк 7. 24). Удивительный ответ женщины, которая и детей и собак объединяет в общем понятии «дома» и берёт в пример собаку, что питается крохами с господского стола, — этот ответ есть не что иное, как вера, которая неожиданно и в полный рост выступает из темноты — точно так же, как присутствующее, но сокрытое Слово не может более оставаться утаённым. Так Иисус разговаривает с «женщиной», которая в другом месте Евангелия предстаёт как мать, здесь же знаменует собою лишь женское начало как таковое, т.е. готовность, веруй Церковь: «...о, женщина! велика вера твоя; да будет тебе пожеланию твоему» (Мф 15. 28).
На границе этого перехода — в постоянных «отступлениях» от позиций, долее неприемлемых1, — разворачивается вся жизнь Иисуса среди Его народа. Намерение погубить Его возникло рано (Мф 12. 14), поэтому Он предпочитает скрываться, говорить приглушённым голосом («и никто не услышит на улицах голоса Его», Мф 12. 19), с помощью притч, которые люди слышат и не понимают (Мф 13. 13), и не совершает слишком больших чудес «по неверию их» (Мф 13. 58). Народ почитает Бога лишь устами, сердце же его «далеко отстоит», и служение его тщетно в глазах Бога (Мф 15. 8-9), народные вожди слепы (Мф 15. 14), они отравляют толпу (Мф 16. б). Это род, преда-
1 Ср. αναχωρειν у Матфея: 2. 12, 13 и сл.; 2. 22; 4. 12; 12. 14; 14. 13; 15. 21, у Иоанна: 6. 15, а также удаление Иисуса в укрытие 12. 36: «отшельничество» в самой середине Евангелия.
352
тельский по отношению к Богу (Мф 12. 39; 16. 4), искушающий терпение Мессии (Мф 17. 17), который плачет при виде священного города (Лк 19. 41). Он знает, что будет в этом городе распят (Мф 16. 21; 17. 22; 20. 18 и сл.), и говорит об этом в притче о виноградарях (Мф 21. 38), но также предсказывает, что Царство будет отнято у них и отдано другому народу (Мф 21. 43). Убийцы будут истреблены, а их город предан огню (Мф 22. 7). «Горе», призываемое на вождей народа (Мф 23), предсказания гибели (Мф 24. 1—36) - всё это возглашается уже после того, как был разорван союзе Богом.
Всё Евангелие целиком стоит на этом разрыве, и если Бога — на все времена, то и ситуация разрыва, на которой оно стоит и из которой исходит, — тоже, без сомнения, на все времена. А потому и все слова «Ветхого» Завета, ведущие к этому разрыву и исходящие из него, — рассчитаны на все времена. Весь узел откровения и, значит, смысловой узел истории завязан именно здесь. Отсюда высвечивается всё; с другой же стороны, образ Бога омрачён здесь в высочайшей степени. Бог заключил с Израилем вечный союз: «Вовек сохраню ему милость Мою, и завет Мой с ним будет верен... Однажды Я поклялся святостью Моею: солгу ли Давиду?» (Пс 89. 29, 36). И тем, что Бог исполняет завет ниспосланием своего Сына, Он этот завет разрывает. Уже в эпоху Псалмопевца, который вкладывает в уста Ягве эти слова, союз с Ним подвергнут сомнению, а быть может, даже расторгнут: «Но ныне Ты отринул и презрел, прогневался на помазанника Твоего. Пренебрег завет с рабом Твоим» (Пс 89. 39, 40). Уже здесь звучит жалоба на оставленности: «Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость Твоя как огонь? Вспомни, каков мой век: на какую суету сотворил Ты всех сынов человеческих?» (Пс 89. 47- 48). Разве можно было ожидать от человека, что завет с Богом окажется ему по плечу? И достойно ли Бога разрывать по этой причине своё соглашение с человеком? Слово, Им посланное, возвещает об уничтожении завета и в то же время свидетельствует о самой интимной, самой глубокой отцовской верности и
353
любви. Это иудейское Слово, говорящее из глубины Израиля. И именно поэтому Оно должно вместе с гибнущим Израилем принять на себя весь ужас смерти (Мф 36. 38), обращая вопль к исчезнувшему Богу (Мф 27. 46). Оно, как Самсон, гибнет под обломками рухнувшего храма. И этим знаменуется время и власть тьмы (Лк 22. 53).
Конечно, далее последует воскресение, вслед за которым Власть Имеющий (Мф 28. 18) пошлёт апостолов ко всем народам и во все времена, «даже до края земли» (Деян 1. 8). Конечно, апостолы будут прежде всего по-братски обращаться к иудеям и, лишь будучи отвергнуты, - к язычникам. И Павлу удастся силой авторитета удержать «языческую церковь» от всех рецидивов древнего язычества. Но разве этим что-то решается? Та же трещина, что раскалывает Божий завет, проходит по сердцу и у него самого, апостола язычников. Он даже страдает от святости, дарованной ему едва ли не насильно, и тоскует по солидарности — пусть и безблагодатной - со своими братьями: «...великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему: я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти» (Рим 9. 2-3). И в этой печали он должен защитить Бога от обвинений в измене. Для этого ему сначала приходится углубиться в тонкости истории Ветхого Завета, вплоть до обетования Аврааму (которое сначала как будто охватывает всех его потомков «по плоти», но затем сводится к более узкому кругу «детей обетования»), чтобы разъяснить неизменность избрания одних и неизбрания других (Рим 9. 6-13). Затем он должен — временно — возложить на Бога ответственность за судьбу всеобъемлющего замысла спасения, причём даже «ожесточение» (как в случае с фараоном) объясняется волей Бога (Рим 9. 14- 18), которому, однако, человек не может предъявить никакого счёта именно потому, что Он есть Бог. Случай с фараоном, который был ожесточён ради исхода Израиля, плавно переходит (см. незаконченное предложение Рим 9. 22-24) в случай с Израилем, сохраняемым лишь благодаря Божиему долготерпению и наконец превратившимся в откровение Божьего гнева, чтобы
354
освободить место для «сосудов милосердия», для нового и окончательного исхода из среды иудеев и язычников. В это мгновение, когда вся ответственность целиком перегружается на Бога, вина снова камнем падает на иудеев: свою роль в союзе с Богом они поняли как «дело», а не как «веру». Их религиозное рвение было обращено не к Богу, а на то, чтобы оправдаться перед Богом, и потому им суждено преткнуться о положенную Богом на их пути каменную глыбу, чем и определяется всё остальное (Рим 9. 32 — 10. 3). «Слово» уже было «весьма близко» к Израилю, «оно в устах твоих и в сердце твоём» (Втор 30. 14). Тогда Слово Божие можно было постичь с помощью веры; теперь, окончательно став плотью, Оно по-прежнему постижимо с помощью проповеди (Рим 10. 14-17). Так почему же «Израиль этого не понял» (Рим 10. 19)? И снова вины катится от Израиля к Богу: «Но первый Моисей говорит: Я возбужу в вас ревность не-народом, раздражу вас народом несмысленным» (Рим 10. 19; Втор 32. 21). Павел высвечивает эти слова определённым образом, опуская предыдущий стих: «Они возбудили во Мне ревность не-богом, идолами своими огорчили Меня». Бог перенимает ведущую роль в этой игре ревностей. И чтобы эта игра достигла полноты напряжения, Павел добавляет на будущее, что Бог не оставил свой народ, и доказывает это на своём примере (Рим 11. 1). Когда-то Илия тоже сетовал в своей молитве, исполненной ропота на Бога, на то, что народ убил Божиих пророков и теперь ищет убить также Илию, но Бог с твёрдым намерением избрал для себя остаток народа, ибо «дары и призвание Божие непреложны» (Рим 11. 29). Но ради этого остатка «прочие были ожесточены... Бог дал им дух усыпления... Да будет трапеза их сетью, тенетами и преткновением в возмездие им» (Рим 11. 7-9). И всё же их «помраченные» глаза видят достаточно хорошо, чтобы разглядеть спасение язычников и чтобы тем самым «возбудилась их ревность». И Павел, иудей и апостол язычников, памятуя об этой ревности, надеется возбудить её в иудеях (хотя бы в некоторых) и тем привести их к спасению (Рим 11. 11—14).
355
Если же спасение от ревности, то было бы хорошо также направить ревность язычников на иудеев. Павел, избранный иудей, обращается к язычникам и предупреждает их: корень, на котором привиты вы, несвятые, свят, и если для оказания милости некоторые из природных ветвей были отломаны (будучи при этом святыми, Рим 11. 16), то насколько же больший страх пристал язычникам, которые тем легче могут быть отломаны, что они не соприродны корню! (Рим 11. 16-24) И если раньше человек неизбежно склонялся перед непостижимостью Божественного избрания и отвержения, то теперь он тем более падает в прах перед неисследимым приговором Бога, который попеременно отвергает одних, чтобы избрать других, одних обрекает на непослушание, чтобы помиловать других, и наконец всех заключает в непослушание, чтобы затем всех помиловать (Рим 11.32).
Эта неуловимая игра ревностей, в которой Бог поочерёдно проявляет «неверность» то одним, то другим, есть единственный путь, на котором Он может достичь своей главной цели: всеобщего спасения в конце истории. Недостаточно было бы сказать, что ветхий, частный союз теперь расширился до нового, универсального, ибо уже и Ветхий Завет по своей внутренней установке был универсальным, о чём свидетельствует обетование, данное Аврааму (а ещё ранее - Ною). Вместе с тем Новый Завет сам обретёт универсальность, лишь когда «весь Израиль спасется», т.е. когда Церковь не будет питаться светом благодати, отнятым у Израиля для своего, церковного времени. Свет, в котором стоит Церковь, и принадлежит и не принадлежит ей. И тьма, в которой пребывает Израиль, точно так же принадлежит и не принадлежит ему, поскольку эта тьма — заместительная и существует ради просвета.
В этой светотени скрывает и в равной степени открывает себя не кто иной, как Бог мировой истории, так что явление Его совершенной любви остаётся, собственно, эсхатологическим событием. Прежде любовь к одним осуществлялась за счёт остальных. Но кто же оплатил по всем счетам любви, как не Сын Человеческий — иудей, отвергнутый иудеями и распятый язычниками, христианами же преданный, отринутый и брошенный? Он, став-
356
ший неприемлемым и чуждым всякой партии, убит за пределами Святого Города, подобно тому как жертвенные животные сжигались вне стана (Евр 13. 11-12). Поэтому своим внеположным существованием Он не породил никакого нового внутреннего пространства: «Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр 13.13-14). Когда Христос был осуждён — Израилем иради Израиля, — то тем самым приговор во Христе был исполнен над Израилем: быть распятым на кресте вне собственного города и святой ограды. Но именно туда было указано и Церкви, которая не имеет никакого иного места, кроме без-местности (U-to-pia).Эта всему-внешняя безместность есть общий крест иудеев и язычников,, чем разрушается стоявшая между ними преграда, чем гасится ненависть во плоти Распятого, из обоих созидается новый человек, учреждается мир, и оба примиряются в едином Божием теле (Еф 2.14-16).
Поскольку оба они занимают одно и то же место, Церковь не имеет права забыть Израиль как нечто чуждое и, пожав плечами, пройти мимо, оставив его позади один на один с его судьбой. Присутствие Израиля в приговорённой к смерти плоти Сына Божия, составляющей пищу Церкви, приводит к тому, что судьба Израиля, его осуждённости, постоянно воскрешается в самом средоточии Церкви, вплоть до возникновения их неделимой общности перед судом, которому «время начаться... с дома Божия» (1 Петр 4. 17). Если Израиль, по слову Павла, открыто претерпевает заместительное, вместо языческой Церкви, отвержение, то как же эта последняя может, хотя бы сокрыто, не пострадать подобным же образом, на Кресте, за Израиль и вместе с Израилем? Как может она, подобно Израилю (и глубже — подобно Оставленному на Кресте за них обоих), не испытать сомнение в Божией верности и ревность по отношению ко всем другим, кому Бог оказал более верности? И возможно ли, чтобы в глубине её любви не трепетал страх, который Павел столь настойчиво внедряет в её сознание (Рим 11. 20), — страх быть отсечённой, который есть не что иное, как страх самоуверенности, или
357
скрытого неверия? Не должен ли этот страх расти вместе с верой Церкви в собственную непогрешимость и незапятнанность, которые даются ей только там, где горько рыдает согрешивший Пётр и где Мария понимает себя как простую и ничтожную девушку, как чистую (не-понимающую) веру? Разве Церковь — «чистая дева»? «Но боюсь, чтобы, как змий хитростью своею прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе» (2 Кор 11. 3). Так говорит Павел, горящий «Божественной ревностью» к Церкви.
В месте абсолютной истины, где неумолимый свет Божий падает на иудеев и язычников, можно увидеть переходы от Ветхого Завета к Новому: предатель Иуда, один из двенадцати, — это сам себя замыкающий, не желающий идти далее Ветхий Завет, но точно так же — Новый Завет, собирающий в этом образе всю свою недостойность. Как синтез всеобщего «нет» он столь же безместен, как сам Распятый; для него нет дороги ни назад (Мф 27. 1-9), ни вперёд; и ему, как и Иисусу, остаётся лишь безместное висение между небом и землёй и рассеяние - не крови из сердца, как у Того, — но внутренностей собственного чрева.
Так и два народа, слева и справа от Креста, подобно сораспятымразбойникам, остаются внутри мировой истории взаимно чуждыми и взаимно сообразными, не будучи в состоянии дотянуться друг до друга и соединиться. Их единство достижимо там, где разрушена разделяющая их перегородка. Но это место, которое для Бога составляет средоточие истории, для них является её концом. Диалектика иудея и язычника есть теологическое средоточие истории, момент её двойственности, незыблемый, покуда время остаётся ещё не снятым в вечности. Лишь в этом расщеплении воскресший Логос собирает воедино всю историю, которая изначально уже собрана в самом Распятом.
358
В. ВЕРА И ВЕЧНОСТЬ
В «Атласном башмачке» Клоделя ангел-хранитель указывает донье Проэзе на её пограничное существование:
«Кто знает, быть может, ты уже мертва? Иначе откуда бы взялось у тебя это равнодушие к месту, это чурание тяжести?
В такой близости от границы — кто знает, по какую её сторону — по эту или по ту — я маню тебя к игре, повинуясь лишь своему желанию».
Он нежно отрешает её «от этой земли, которую ты мнишь незыблемой, ты, хрупкое создание, всякий миг пульсирующее между бытием и бренностью». Проэза видит себя сверху, глазами ангела, как лежащую на морском берегу пустую оболочку и уже сомневается: «Живу ли я вне или внутри своего тела? Живу в нём-и всё же вижу его». Так, она уже заранее погружена в вечную жизнь и оттуда должна «поймать на крючок» своего возлюбленного и привести его к Богу. Ангел бросает её в очищающее пламя чистилища, чтобы она, как Беатриче, смогла вернуть к себе этого человека, проведя его сквозь пламя. Когда позднее они с доном Камило обсуждают падение крепости Матадор, они уже не вполне поглощены темой разговора: «Так значит, бывают вещи, что окружают нас видимостью своего присутствия, в действительности же давно канули в небытие?» В большом заключительном диалоге между доньей Проэзой и Родриго их взаимная любовь уже погружается ею в Божию бездну по ту сторону смерти. Патетически бушующая скорбь Родриго начинает казаться чем-то ненастоящим. И после смерти доньи Проэзы она будет звучать тем более фальшиво и ходульно, чем больше дон Родриго будет говорить о единении мира и об эволюции (а не о смиренной христианской любви), и лишь когда вся эта возвышенная риторика оборачивается изменой (чем она и была с самого начала), он «в чистой вере» становится вровень со своей возлюбленной.
359
Одна лишь христианская вера может наполнить настоящее грядущей вечностью так, чтобы настоящее было и изобличено в своей пустотности и примирилось бы с нею (вместо того чтобы идеалистически взвинчивать себя до некоего фальшивого мгновения, понятого как вечность), но всё же обнаруживало бы свою пустоту лишь благодаря обещанной и в - качестве — уже дарованной ему полноте. Одновременность всего этого возможна, лишь если Христос воскрес и всю временную жизнь погрузил в вечность. В ином случае единственным выходом из фрагментарной ситуации земного бытия было бы бегство во временное будущее, которое, однако, всегда бывает настигнуто и оставлено позади знанием сердца. Пафос Проповедника сродни слову Божьего откровения и недосягаем ни для философии истории, ни для релятивизирующей филологии. Так говорит мудрость:
«Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце, и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется; к тому месту, куда бегут реки, туда они продолжают бежать. Все — томление; никто не скажет, что глаза его не насытились зрением и уши не наполнились слушанием. Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться» (Екк 1.4-9).
Нужно ли демифологизировать эту мудрость? Идёт ли здесь речь о человеке, подвластном космическому, циклическому времени, который ещё не пробился к линейному историческому времени человеческой свободы - и теперь совершает прорыв к надежде на будущее, неведомой древним народам? Или вернее сказать, что речь другого Проповедника, из Нового Завета, содержит в себе ещё более истины? Ибо если кто однажды увидел, постиг и принял в своё сердце образ, воздвигнутый Богом в самой середине истории, — может ли теперь привлечь его внимание какой бы то ни было образ будущего? Или такой человек надеется узреть за этим образом нечто большее, новое, возможно, более прекрасное? Быть может, некий образ, который отме-
360
нил бы предыдущий, ибо растущее человечество в этом более прекрасном будущем уже не будет распинаемо, но и забудет, что значит благоговение к страданиям? Не может быть ни воскресения, ни Евхаристии без Елеонской горы. И Божию любовь нельзя понять без Креста. Кто оказался в состоянии увидеть и прочесть этот единственный образ, тот, опередив всё, приблизился к концу. Он не может и не хочет ждать и надеяться ничего другого, как только появления (за пределами всякой возвышенной человеческой риторики) безмолвного знамения славы Слова, которое «как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада» (Мф 24.27).
Одна лишь вера имеет в себе самой исполняющую надежду (а не пустое стремление уцепиться за будущее), поскольку она, минуя все промежуточные временные ступени, захватывает само исполняющее, а точнее, сама бывает захвачена им. Она стремится достигнуть цели, но сама оказывается достигнутой ею (Флп 3. 12-13). Вера в любых фрагментах обязательно схватывает целое, так как она сама охвачена телесным целым и включена в его тело. Поэтому вере не нужен идеалистический побег из времени в «вечное мгновение», поскольку она именно во времени обретает целое, подобно тому как и целое обретает её во времени. Но вере точно так же не нужен и побег из настоящего (по видимости незаполненного) в некое более наполненное будущее, поскольку тогда она потеряла бы вместе с этим отбрасываемым и малоценным настоящим также и присущую ему вечность. Вера наполняет себя этой вечностью, лишь исполняя порученную ей миссию в нынешнем времени: в одном лишь сейчас время и вечность совпадают друг с другом. Но эта миссия разворачивается вместе с вершащимся временем, она подразумевает и требует будущего. Исполняющаяся миссия составляет одно с молитвой: «Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя яко на небеси и на земли». Вместе с исполнением миссии вечное сходит во время на его пути к будущему, и тем самым время приближается к вечному, в котором уже заранее заключено исполненное — воскресшее — время. Молитвой и послушанием мы приближаем пришествие
361
Христа. «Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели когда мы уверовали. Ночь прошла, а день приблизился» (Рим 13. 11-12).
Один лишь христианин в своей вере имеет зримую надежду, которая может вырваться за пределы пустого времени и ощутить прикосновением тело возлюбленного Господа. «Не прикасайся ко Мне, — запрещает Иисус, — ибо Я еще не восшел к Отцу Моему». Но теперь Он уже восшёл и может и желает допустить, чтобы осязающая рука надежды прикасалась к Нему, пройдя сквозь всё, что без Него лишено всякой сущности.
«...Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к тому, что впереди» (Флп 3. 13). Это простирание вперёд (επεκτείνομαι τοις έμπροσθεν) не может быть заменено никаким непосредственным вертикальным жестом. И это снова обращает нас к началу, т.е. к Августину. Растяжение (distentio, διαστασις)времени преодолевается не иначе, как с помощью extentio secundum intentionem (как сказано в Conf XI, 39 со ссылкой на Флп 3). Этот напряжённый шаг верующего сквозь временное пространство навстречу Воскресшему есть истинный прогресс мира. Лишь он один сообщает творению в целом подлинное движение к Богу. Он наделяет вечной душой тщетные земные деяния. В качестве веры он не хочет опережать видение (2 Кор 5. 7), в качестве надежды он не хочет незамедлительно достичь искомого, ибо тогда перестал бы быть терпеливой надеждой (Рим 8. 24-25). В ней же — вся уверенность, ибо: «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Erô за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим 8. 31-32).
362
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
