13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Федотов Георгий Петрович
Федотов Г.П. Бердяев – мыслитель
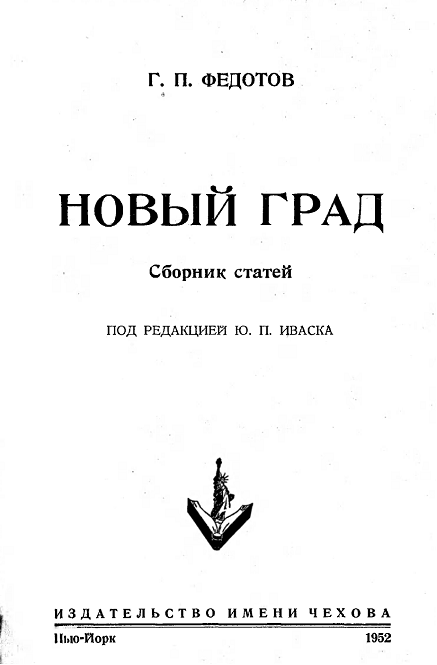
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
ГЕОРГИЙ ФЕДОТОВ
БЕРДЯЕВ – МЫСЛИТЕЛЬ
«Новый Журнал», XIX, Нью-Йорк, 1948.
24 марта 1948 года в своем доме в Каламаре под Парижем скончался Николай Александрович Бердяев, выдающийся русский религиозный философ. Русское общество мало следило за работой его острой, неутомимой мысли. Оно сильнее всего реагировало на его политические выпады, часто неожиданные и парадоксальные. Сравнительно немногие имели счастье знать и любить его как человека. Но весь мир знал Бердяева как религиозного философа. В Европе и в Америке его ценят гораздо выше, чем в русской эмиграции и, конечно, в самой России. Объяснение, веро-
301
ятно, в том, что Бердяев со своей философией личности, свободы и творчества более связан духовно с Западом, чем с Россией; но в то же время он вобрал в себя много денных элементов русского миросозерцания (чрез Достоевского, Хомякова, Вл. Соловьева), которые являются для Запада новым откровением. Запад, конечно, ошибается, считая Бердяева типичным выразителем русского православия; Бердяева самого беспокоило это давнее недоразумение. Но мы преступно несправедливы, игнорируя большого русского мыслителя, писавшего не школьные книги, не академические исследования, но страницы, полные жизненного (по-модному, экзистенциального) смысла, обращенные к каждому.
Бердяев писал горячо, всегда в борьбе на нескольких фронтах, не страшась преувеличений и противоречий. «Духовное солнце не бесстрастно», сказал он в одной из последних своих книг. Встречаясь с этими противоречиями, некоторые склонны даже отрицать единство его мысли. Но этот взгляд совершенно ошибочен. Противоречия скопляются на поверхности, в его отталкиваниях, скорее чем в утверждениях. В глубине он оставался верным своей основной жизненной интуиции, которая сложилась в цельное метафизическое миросозерцание уже в его первых настоящих книгах: «Философия Свободы» (1911 г.) и «Смысл Творчества» (1916 г.).
У Бердяева в молодости было много учителей, таких далеких и несхожих. Из западных «отцов» достаточно назвать Якова Беме и Канта,. Маркса и Ницше. Самое сочетание этих несовместимых имен исключает мысль об эклектическом синтезе. Их невозможно примирить, но можно перелить, расплавив в личном опыте, в совершенно новое и оригинальное мировоззрение. Такова была философия Бердяева, враждебная всякой систематике, необычайно радикальная и в выражении и по существу, но вытекающая из единства
302
жизненного и нравственного опыта. Это единство мы и попытаемся установить в немногих, наиболее отчетливых и твердых линиях.
Основная жизненная интуиция Бердяева — острое ощущение царящего в мире зла. В этой интуиции он продолжает традицию Достоевского (Ивана Карамазова), но также и русской революционной интеллигенции, с которой он столько копий переломал в первые годы своего идеалистического исповедания (период «Вех»). Борьба со злом, революционно-рыцарская установка по отношению к миру отличает Бердяева от многих мыслителей русского православного возрождения. Не смиренное или эстетическое принятие мира, как Божественного всеединства (основа русского «софианства»), но борьба с миром, в образе падшей природы, общества и человека, составляет жизненный нерв его творчества. Бердяев почти всегда должен отталкиваться от чего-либо, от какой-либо лжи, для того, чтобы выяснить свою истину. Он открыто признает себя дуалистом. Монизм, влекущий большинство философов, особенно русских, ему всегда был чужд. Вот почему он сразу отверг Платона, и до конца оставался верен Канту, при всей разительной несхожести их духовных типов. Между истинным миром «вещей в себе» и миром явлений должна быть пропасть, для того, чтобы Бердяев мог поверить в Божественное происхождение истинного мира. Манихейский (или маркионитский) соблазн злого бога-творца должен был когда-то искушать его. Он преодолел его своим учением о грехопадении. Оно столь же радикально, как Кальвиновское, но вместе с тем почти во всем ему противоположно. Последствия греха ощущаются Бердяевым всего сильнее не в человеке, а в природе. Бердяев видит природное зло не только в жестокости борьбы за существование, в страдании и смерти, но в самом факте роковой необходимости, несвободы, которая составляет сущность материи. Че-
303
ловек, с его возможностями духовной свободы, брошен в слепой механический мир, который порабощает и губит его. В последние годы своей жизни, познакомившись с философией немецкого экзистенциализма, Бердяев еще более заострил свое мироотрицание. Зло — в самой объективности мира, в том, что он представляется нам как собрание вещей или объектов. Но это злой кошмар нашего греховного сна. Подлинно реальны только субъекты, т. е. свободные духи. Освобождение от власти мира или вещей составляет цель человеческой жизни.
При своем остром ощущении мирового зла Бердяев не может допустить никакой оптимистической теодицеи. Бог не есть самодержавный правитель мира. Сама эта мысль, делающая Бога ответственным за зло, неизбежно вызывает у Бердяева прометеевский бунт. Он предпочитает атеизм, воинствующий во имя справедливости и сострадания, вере во всемогущее Провидение. Бердяев верит в Бога, который, сотворив мир, отрекся от Своего всемогущества ради свободы твари — даже если свобода эта оказывается губительной. Любовь Божия в том, что Он разделяет страдания человека, злоупотребившего своей свободой. Воплотившийся и страдающий Бог делает возможным ответную любовь к Нему человека. Но Бог и не безвластен. Он действует в мире чрез человека, вдохновляя его, посылая ему свою благодать. Однако благодать эта не является непреоборимой. Человек может отвергнуть ее или следовать за ней. Но без нее, без Бога падший человек бессилен, и дело его в мире безнадежно. Эту истину Бердяев подчеркивал с достаточной силой в пору его юношеской борьбы с атеистической интеллигенцией. Бердяев верит в сотрудничество Бога и человека, в богочеловечество, пониманию которого он научился у Вл. Соловьева. Бердяев говорит о Царстве Божием, как о конечном идеале, но Царство строится не только Богом, но и усилиями человека. Так
304
религиозная философия Бердяева становится не столько учением о Боге, сколько учением о человеке: антропологией в богословском смысле.
Огромная религиозная ценность человека — в том, что он, несмотря на свое падение, имеет в себе божественное начало, «образ Божий», который пребывает в его духе, в его «я», или личности. Его телесное и душевное естество погружено в мир падшей природы и порабощено им; но дух его, или личность остается носителем свободы. Бердяев не презирает тела подобно платоникам, ибо тело создано быть органом духа, для выражения его вовне. Однако, в отличие от современных софианцев, интерес Бердяева сосредоточен на духе человека. Четыре основных понятия, взаимно связанных, в сущности разные аспекты одной идеи, определяют религиозную тему Бердяева: Личность, Дух, Свобода и Творчество. Недаром самые значительные его книги носят заглавия: «Смысл Творчества», «Философия свободного духа», «О назначении человека».
Личность в понимании Бердяева радикально отличается от индивидуальности, как своеобразия, неповторимой комбинации черт. Индивидуальность или особь принадлежит природному миру и разделяет с ним рабство и смертность. Бердяев враг индивидуализма, миросозерцания по преимуществу буржуазного, но любит называть свою философию персонализмом. Эта терминология, вероятно, немецкого происхождения, прививается ныне во Франции именно под влиянием Бердяева и его французских учеников. В английском языке ее проведение наталкивается на большие трудности.
Личность есть духовно-творческое и свободное начало в человеке.
Известно, как трудно определение духа в тех школах, где он противополагается душе. Бердяев не давал
305
определений. Он противопоставлял дух душевно-телесному человеку как начало свободы в царстве необходимости. Но он не ограничивал духа его проявлениями в религиозной жизни. Познание, искусство, человеческие отношения — все это сферы духовности. Дух там, где свобода.
Однако свобода царит лишь в Царстве Божием. В нашей жизни она позволяет только просветы, прорывы из природного мира. В борьбе с природным рабством человек имеет Бога своим вождем и вдохновителем. Но его свобода утверждает себя и в отношении к Богу. Бердяев признает Откровение не как внешний авторитет, а как свободно избранный путь, в согласии с опытом и высшими потребностями личности. Бердяев не хочет быть рабом и Бога, и все рабские формы богопочитания ему чужды и даже ненавистны.
Для метафизического обоснования такой свободы Бердяев создает своеобразную теорию, отчасти заимствованную у Якова Беме, германского мистика XVI- XVII века. По Беме, есть нечто более первичное, онтологически, чем Бог. Божество, Божественный мир первичнее личного Бога, а Бездна (Ungrund) первичнее Божества. Эта Бездна содержит в себе все возможности, как Аристотелевская материя. Для Бердяева поэтому она есть чистая свобода. Другими словами, свобода не создана Богом, но Он сам рождается (не в порядке времени) из свободы и из этой же свободы, из Ничто, которое потенциально содержит в себе Все, Он творит мир. От того-то в основе мира и человека лежит свобода, и свобода не только к добру, но и ко злу. Эта Бемевская идея несет у Бердяева двойную службу: объясняет наличие зла в мире, т. е. делает возможным теодицею; и определяет свободу человека не только по отношению к миру, но и к Богу. Но такая концепция свободы трудно примирима с христианским пониманием Бога, как Существа Абсолютного. Здесь
306
мы имеем дело с наиболее уязвимым местом философии Бердяева.
Столь же своеобразна и Бердяевская концепция творчества. Творчество это цель жизни человека на земле — то, для чего Бог создал его. Грехопадение не отменило его призвания, поскольку сохранило его свободу. Если христианство есть религия спасения, то это спасение через творчество, а не только через аскетическое очищение от греха. Иногда, впрочем, Бердяев противопоставляет творчество спасению или святости как иной жизненный путь. Не отрицая необходимости аскезы, как средства самовоспитания, он против ее переоценки, которая из средства делает ее целью. И грешный человек может творить. Грех искажает всякое человеческое творчество, но не обесценивает его.
Все платонизирующие системы этики и эстетики, т. е. системы идеалистические, видят смысл творчества в усмотрении и следовании божественным прототипам или идеям, лежащим в основе тварного мира. Отталкиваясь от реализма (натурализма), который ищет подражания природе или жизни, идеализм все же ограничивает человеческое творчество подражанием, или воспроизведением уже данных, или сокрытых в мире идей. Бердяев решается утверждать в творчестве возможность принципиально нового, т. е. нового даже для Бога. Бог хочет от человека продолжения Его творения, и для этого дал ему творческую способность (Свой образ). В этом смысл всего трагического эксперимента, каким является создание Богом свободного существа.
Грех делает невозможным не творчество, а его совершенство. Всякое творчество, в условиях падшего мира, обречено на неудачу. И главная из этих неудач, для Бердяева, есть объективация творчества, т. е. превращение его в продукт или вещь, подчиненные закону необходимости. Книга, картина, даже симфония
307
— тленны и обременены тяжестью мира: они лишь отдаленно соответствуют мечте творца о совершенно свободной мысли и жизни. Еще более объективны, т. е. несвободны наши поступки и социальные институты, создаваемые людьми. Творческий огонь застывает в лаву, которая сама делается препятствием для творчества. Это значит, для Бердяева ценен творческий акт, а не его результат, не «произведение» искусства или мысли. Отсюда понятно, что он враг даже стремления к законченному совершенству: враг всякого классицизма. Пушкин не нашел места в его «Русской идее».
Это пренебрежение к совершенству объясняет и писательский стиль самого Бердяева. Враг всякой системы, не верящий в возможность мысли, свободной от противоречий, Бердяев хочет сохранить в своих писаниях возможно полную свободу своей кипящей, взволнованной мысли. Нечего и говорить, что он не унижается до доказательств. Подобно французскому поэту Пеги, он стремится все к новому выражению одной и той же мысли, не зачеркивая уже найденных, бросает нить и снова возвращается к ней. Он мастер удачных, образных определений, но они часто тонут среди черновых набросков. Мы лишь предчувствуем блестящий писательский дар, запущенный как старый русский сад, заросший сорными травами.
Неизбежную неудачу, обреченность всякого человеческого творчества Бердяев называет его эсхатологизмом. Это указание конца, границы, смертности мира и человека. Но конец не последний, неудача не окончательна. Бог спасает творчество человека и воскрешает его за гранью истории, в Царстве Божием.
Легко и соблазнительно причислить Бердяева к линии духовных анархистов. Но это заключение будет ошибочным. Разумеется, интересы личности для него всегда дороже общества. И он прошел через искушение Штирнером. Но для него, социалиста, не без по-
308
мощи Хомякова, открылось, что личность не может осуществить себя в отрыве от других «я». Одиночество означает ее иссыхание и гибель. Я находит себя через Ты. И не только в романтическом слиянии двух, но и в Мы, как свободном общении многих. Бердяев охотно берет Хомяковское учение о соборности ,как преодолении конфликта между индивидуальностью и коллективом в общем деле, любви и сознании. Однако чаще всего он указывает на опасности, подстерегающие личность при ее выходе в план социальный. Это опасности объективации, образование институтов, застывших форм, вместо реального (экзистенциального) общения. Признавая общение, Бердяев ведет войну с обществом. «Социальное» вообще для него является понятием порочным. Помимо всех грехов и неправды, которыми отягощена социальная жизнь, сам характер социальности, как обыденности, уже порочен. Сильнее всего греховность общества проявляется в государстве — во всяком, а не только тираническом. Но и брак есть обыденность, угашающая любовь. И Церковь, как институт, есть социальная объективация, т. е. деформация Церкви, как общения в Духе и любви. Бердяев за свою долгую христианскую жизнь не переставал обличать грехи исторической церкви, как и грехи государства. В этом он видел преимущественно пророческое или «профетическое», как он любил говорить несколько скромнее, служение. Свою философскую публицистику, всегда пронизанную, злободневностью, но sub specie aeternitatis, он причислял именно к профетической литературе. Отказываясь от звания богослова, с оттенком презрительности относясь к самому богословию, он имел высокое самосознание христианского пророка в обличии и стиле современного журнализма. В этом все-таки заключалось его социальное служение Церкви.
Борясь с социальностью, Бердяев всю жизнь оставался социалистом. Он никогда не был ортодоксаль-
309
ным марксистом, хотя бы потому, что никогда не был материалистом. Но даже с Марксом его разрыв был не Полным и не окончательным. В эмиграции он постепенно возвращался к учителю своей юности. В Марксе он ценил прежде всего критика капиталистического строя, беспощадно разоблачавшего его маски и фикции. Но он видел в нем и задатки гуманиста, боровшегося против обесчеловечения работника машиной и безличным строем хозяйства. Опубликование ранних домарксистских сочинений Маркса немало способствовало укреплению этого взгляда на Маркса, как на гуманиста, заставляя Бердяева забывать подчас, как много Маркс сам содействовал обезличению и механизации пролетариата и рабочего движения.
В Бердяевском социализме сравнительно мало ощущается сострадание или мотив каритативный. Или же он целомудренно скрыт за негодованием против эксплуатации человека. Цель социалистического движения для Бердяева — освобождение личности в бесклассовом обществе. Личность и здесь на первом плане, и социализм свой Бердяев предпочитает называть персоналистическим. Против этатизма Маркса или его учеников, Бердяев иногда выдвигал общинный или кооперативный социализм Прудона, дающий личности большие гарантии свободы. Но, может быть, есть и еще один мотив, самый личный и сильный в социалистическом комплексе Бердяева: его ненависть к буржуазии. Ненависть эта направлена не столько на буржуазию, как господствующий класс в современном обществе, сколько на ее психологический тип: на «буржуа» во французском смысле слова — мелочного, скупого гедониста, потерявшего веру во все высокие ценности и всякую способность к героическим добродетелям. Отношение Бердяева к буржуа не имеет ничего общего с завистью пролетария. Оно ближе к ненависти художника, богемы, но в нем есть нечто и от дворянского презрения к выскочке, купчишке, кото-
310
рый вытеснил благородный рыцарский тип, не имея для себя никакого нравственного оправдания. В социализме Бердяева столь же много дворянского, как в анархизме Толстого. Свою ненависть к буржуа-плебею Бердяев распространял и на прошлое и не хотел видеть в этом классе никаких исторических заслуг. Ни современная наука, ни голландская живопись, ни освобождение сервов — от средневековых коммун до Французской Революции — для Бердяева не связывались с буржуазией. Даже Маркс был более справедлив к ее освободительной миссии. Бердяев явно предпочитал и античное рабство и средневековое крепостничество капитализму. И, очевидно, не положение трудящихся классов или степень их эксплуатации определяли его предпочтение.
Насколько постоянны были социалистические симпатии Бердяева, настолько текучи и неустойчивы его политические взгляды. Безусловно для него было одно: защита личности и ее свободы — и то лишь в высших ее проявлениях: мысли, совести, слова. К политическим формам он относился почти равнодушно, часто меняя свои симпатии. Отчасти это вытекало из его презрения к формальному началу в жизни вообще, особенно к праву в жизни социальной. В годы ревизии своего революционного мировоззрения (1900-1910) Бердяев был очень скромен. Он соглашался на конституционную монархию, он признавал демократию относительно лучшей из политических форм. Но чем дальше, тем более его отношение к демократии становится критическим. Особенно в те годы, когда во Франции он столкнулся с теневыми сторонами ее в Третьей Республике. Конечно, главной причиной холодности и даже отталкивания Бердяева от западной демократии был социальный субстрат ее: буржуазия в ее упадке. Мещанство и пошлость, царящие в нравах и вкусах общества, погоня за низменными наслаждениями, как цель и смысл жизни, равнение на среднего
311
человека, как мерило ценностей, — все это претило Бердяеву, с его духовным аристократизмом. Особенно должно было возмущать его как философа новейшее философское обоснование демократии на релятивизме. Отказавшись от христианского идеала своей молодости, и даже от рационализма своих зрелых лет, современная демократия ищет оправдания принципу большинства в относительности всякой истины и всякой ценности. Но такое мировоззрение разрушает культуру и обезличивает человека. Политический атомизм, изолирующий личность в демократиях современных (вернее XIX века), разрушающий всю сложную ткань древних общественных союзов, кроме государства, также, разумеется, не мог не вызывать протеста Бердяева с его идеалом общения.
Однако, все эти законные мотивы отталкивания от демократии не искупают того софизма, который, чем дальше, тем ярче выступает в аргументации Бердяева. Это мотив формальности демократии. В его устах формальность означает фиктивность. Это значит, что свободы слова, печати и проч., столь насущные для философа, становятся вдруг мнимыми, раз дело касается масс. Бердяев усваивает здесь гиперболический язык раннего социализма, который был неуместен и сто лет тому назад. Бердяев как будто проглядел все успехи рабочего движения, с его мощными союзами, значительным политическим влиянием и даже долей социальной обеспеченности. Пролетариат для него остается вечно голодной, бесправной и темной массой, не ощущающей даже потребности в свободе. Свобода для него то же, что свобода незанятого извозчика в известном анекдоте Прудона. Только полной оторванностью от живого рабочего класса можно объяснить эту аберрацию философа.
В двух практических и важных пунктах Бердяев расходится с современной демократией и приближается к фашизму в его русской или западной форме.
312
Во-первых, в своем; абсолютном отказе от экономической свободы. Он прав, конечно, в том, что социализм невозможен без ограничения свободы в экономической сфере. Но, не желая искать, вместе с современными социалистами, нового сочетания начал личной свободы и общественной регламентации, он заранее и целиком отдает государству всю полноту хозяйственной власти. Тем самым он лишает всякой независимости и хозяйственного интереса и крестьянство и ремесленников, включая «свободные» профессии, делая государство ничем не ограниченным властелином их судьбы. Отстаивая духовную свободу — для тех немногих, кто живет творчеством духовных ценностей — он, не замечая сам того, создает остров свободы для мыслителей и поэтов в океане всеобщего рабства.
Если в полном отрицании экономической свободы Бердяев приближается к коммунизму, то в корпоративной организации государства он разделяет принципы и восточного (советского) и западного фашизма. «Формальной» группировке граждан по территориальным округам и политическим партиям противополагается их организация по профессиональным трудовым корпорациям. Предполагается, что трудовые связи более реальны, чем поместные и политические. Это было бы верно при возрождении творческого и этического средневекового отношения к труду, как к искусству и долгу. При современном утилитаризме, особенно в связи с уничтожением многопартийности, корпоративная система делается политической основой для тирании. Так Бердяев, который из всех социальных форм более всего ненавидел государство, отступает перед ним почти по всему фронту — из ненависти к духовному типу буржуа.
Сообразно с колебаниями его политической мысли, менялось и его отношение к большевизму в России. Было время (1917-22 гг.), когда его негодование против коммунистической тирании не имело границ.
313
Он сам жил в стране пролетарской революции и видел ее человеческое, а не только доктринерское лицо. Впрочем и тогда уже он кое-что принимал в ней: напр, приобщение широких масс к культуре и даже праведное возмездие. Действительно, Бердяев усвоил идею Де-Местра, что революции — суд Божий над народами. Из этой христианской идеи (не особенно связанной с его личной теологией) Бердяев сделал вывод, что нельзя идти против Божьего суда: всякая контрреволюция осуждена, и революция может быть преодолена лишь изнутри, в своей имманентной эволюции. Это определило его отрицательное отношение к русскому белому движению и всей почти политической эмиграции, от крайне-правых до социалистов, боровшихся с большевизмом, как с внешней и враждебной силой, поработившей Россию.
Оказавшись поневоле в эмиграции (Бердяев был выслан из СССР), он скоро был вынужден вести борьбу на два фронта: против капитализма и коммунизма одновременно. Это была позиция достойная философа и христианина. Одна из его книг-брошюр «Правда и ложь коммунизма» своим заглавием указывает на его двойственную установку.
Однако, за время второй мировой войны это равновесие было нарушено — в пользу Советской России. Бердяев оказался захваченным потоком русских патриотических настроений, вспыхнувших с необычайной силой в среде русской эмиграции во Франции. И хотя в его статьях этого времени преобладают социальные, а именно антикапиталистические ноты, но национальные мотивы просоветской стратегии не подлежат сомнению. Россия представлялась освободительницей мира от Гитлеровского фашизма. Сходство двух тоталитарных режимов забывалось. Жила вера, ни на чем не основанная, в близость больших перемен во внутренней политике большевистской партии. Тогда-то Бердяев написал книгу, одну из последних своих книг,
314
— «Русская идея», где выразил неожиданную для него славянофильскую веру в особое религиозно-историческое призвание России. В течение многих лет он боролся против национализма, как одного из самых страшных ядов нашей эпохи. Вместе с Вл. Соловьевым он утверждал всеобщие, но различные призвания каждого народа. Он не отказался от этой веры и теперь. Но Россия имеет особое преимущество перед другими народами: в самой силе и качестве ее религиозного мироощущения. «Русский народ принадлежит к религиозному типу»... «Этические идеи русского человека очень отличны от этических идей западных народов, и это более христианские идеи». И русская идея более «общинна», чем западная. Вот почему для «нового Иерусалима» «путь уготовляется в России». Социальная революция в России есть этап на этом пути.
Многие друзья и ученики Бердяева были глубоко и тяжело поражены этим последним уклоном учителя. Особенно странно было, что Бердяев, который всю жизнь шел против течений, господствующих вокруг него, оказался вторящим толпе и властителям текущего дня. Являлась мысль о старческом ослаблении его духовных сил. Впрочем, чем дальше развертывались события, тем более разочаровывался Бердяев в своих ожиданиях от Советского Союза. Уже он поднимал свой голос в защиту свободы слова, попираемой в России. Друзья передают, что под конец от его первоначального энтузиазма ничего не осталось. Однако, он не пожелал выразить в печати свое новое накопившееся возмущение — чтобы не дать лишних аргументов сторонникам войны против СССР. Войны он боялся больше всего на свете.
В «Русской идее» самой характерной чертой русской религиозности Бердяев считает эсхатологизм. Его подбор типических русских мыслителей по этому признаку страдает некоторой искусственностью. Ни Пушкин, ни почвенники, преемники московской тради-
315
ции, не вошли в линию «Русской идеи». Поднятый русской революцией, задолго до ее взрыва, вихрь разрушительных и эсхатологических идей объявляется выразителем смысла всей тысячелетней истории России. Но этот выбор русской магистрали показателен для самого Бердяева. Он, действительно, самый эсхатологический из всех русских религиозных мыслителей. Подобно многим людям своего поколения, он переключил в христианскую эсхатологию революционные настроения эпохи. Эсхатологизм Бердяева вырастает из совершенно других религиозно-психологических корней, нежели традиционно-христианский, особенно православный. Не уход из истории и не сознание ничтожества человеческого культурного дела порождает его жажду конца. Ее рождает революционное недовольство всем существующим и тоска по конечном и радикальном преображении мира. Эсхатология Бердяева не есть отвержение истории, но завершение ее.
Бердяев считает себя философом истории по преимуществу. Его отношение к основным формам падшего мира — пространству и времени — не одинаково. Мир пространства, содержащий в себе материю, порабощает человека. Мир времени создает возможность истории как арены человеческого коллективного творчества. Правда, человеческое творчество реализуется в истории лишь частично. Эта неудача, а также смертность его, делают историю не бессмысленной, но трагически несовершенной. Все существующее должно сгореть в огне личных и исторических катастроф. Но конец истории, которого жаждет Бердяев, не только уничтожение социального, но и осуществление Царства Божия. Суд и осуждение зла лишь подчиненный момент в торжестве Царства. Бердяев готов даже допустить Оригеновский апокатастасис — всеобщее спасение, если бы этому не препятствовало его признание последней ценности свободы. Ад есть кара Божия, но право тварной свободы. Эсхатология Бердяева
316
полна оптимизма, несмотря на ее катастрофичность. Сама катастрофичность, вероятно, источник радости для революционного духа, как трагическая игра для Ницше. Мы уже видели, как свет этой вселенской эсхатологии падает на все человеческое творчество, делая невозможным, для Бердяева даже противным, всякое законченное, пребывающее совершенство.
И однако, в плане истории, т. е. эсхатологии, Бердяева и подстерегало последнее искушение. Он знает и любит повторять, что вся история соткана из преступлений. Но финальная Осанна заставляет его часто забывать, что история есть поле свободы и борьбы. Добро и зло борются в мировом процессе чрез человека. В этой борьбе личность зачастую обречена стать жертвой бессмысленных социальных сил. Ее давит и губит не одна природа, но и история. И Бог ждет от нее сопротивления действующим в истории силам зла.
Соблазн Бердяева — признать разумность истории en bloc, заставив личность перед ней преклониться. Бог, который молчит для него в природе, говорит в истории — и не только чрез пророков, ее обличающих, но и чрез ее временных и грешных владык. Это соблазн оптимистического гегельянства, столь роковой для русской интеллигенции, начиная с Белинского, через марксистов, до наших «пореволюционеров» всех оттенков. Монизм, от которого бежал Бердяев-философ, подстерегал его в истории. Не желая покоряться ни законам природы, ни авторитетам человеческим и даже божественным, Бердяев склонил свою гордую голову перед историей, в одной из ее самых страшных и отвратительных фаз: перед коммунистической революцией.
Может ли этот политический, хотя бы и последний грех, заставить нас забыть о подвиге целой жизни, об исключительной духовной красоте и благородстве ушедшего учителя? Время скоро исцеляет политиче-
317
ские раны. «Двенадцать» Блока не мешают уже нам почитать поэта, как Пушкин дорог нам всем, несмотря на «Клеветникам России». Н. А. Бердяев войдет навсегда в историю России, как образ живого и страстного религиозного искателя и борца, как человек, впервые открывший Западу все богатство и сложность, всю противоречивость и глубину русского религиозного гения.
318
Страница сгенерирована за 0.1 секунд !
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
