13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Бердяев Николай Александрович
Бердяев Н.А. Католический модернизм и кризис современного сознания
Файл в формате PDF взят с сайта http://relig-library.pstu.ru
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
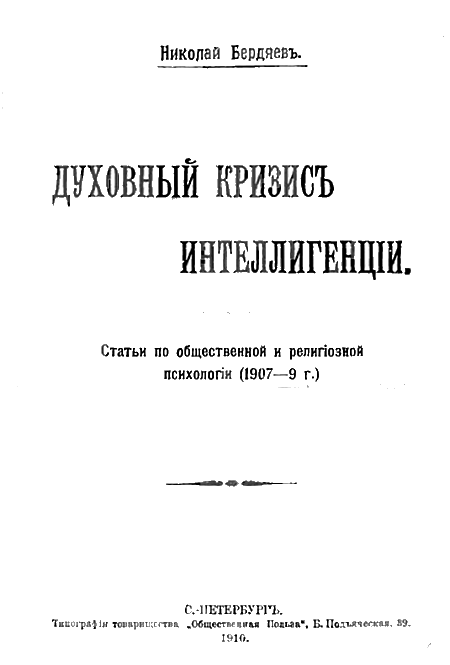
НИКОЛАЙ БЕРДЯЕВ
КАТОЛИЧЕСКИЙ МОДЕРНИЗМ И КРИЗИС СОВРЕМЕННОГО СОЗНАНИЯ *)
I
Когда присматриваешься к французской культуре, то всегда более поражает в ней раздробленность, разъединенность, отсутствие центра: нет властителей дум и нет дум, властвующих над жизнью, нет сознания единого и органического. Внешний порядок жизни, внешнее национальное единство, усовершенствованный механизм внешней культуры соединяются с анархией духа, с опустошенностью народной души. Французы устроились и довольны, не нам чета. И нам, русским, несчастным и больным душою, трудно почувствовать живую душу Франции. А в Париже все есть, по разным уголкам великого города каждый может найти то, что его интересует, чего его душа хочет. Но уголки эти оторваны от центра жизни, о них можно ничего не узнать, прожив всю жизнь в Париже. Обыватели Парижа обычно знают только свой квартал и почти не знают, что делается в квартале соседнем. Так и в жизни духа все делится на кварталы, и люди одного квартала мало знают о другом. Французы очень заняты политикой, каждый француз считает себя великим политиком и имеет свой план спасения отечества, а тем самым и мира. Это — во всех кварталах, это — общее в жизни Франции. Есть еще общее — литература,
*) Напечатано в «Русской Мысли» Сентябрь 1908 г.
253
очень измельчавшая, романы, расходящиеся в огромных количествах экземпляров. Многие думают, что, кроме романов и политики, во Франции сейчас нет ничего, а политика и романы ничем не одухотворены. Взгляд этот на современную Францию слишком общий и слишком далекий. На таком расстоянии можно рассмотреть лишь общие контуры и нельзя увидеть важных деталей, отдельных уголков, в которых совершается кризис современного сознания.
На расстоянии мне казалось, что в современной Франции нет никаких признаков религиозных движений, нет никакой философской мысли, что Франция почти сплошь настроена позитивистически, успокоилась в торжествующем духовном мещанстве. Это верно лишь отчасти. В уголках французской культуры можно заметить философское и религиозное брожение, и начинается где-то внутри кризис позитивизма. Есть сейчас во Франции талантливый философ Бергсон *), борец против интеллектуализма, провозглашающий философию действия и раскрывающий своей философией двери мистике и религии Бергсон делается все более популярен, к нему прислушивается молодежь, он странным, на первый взгляд совершенно непонятным образом оказывает влияние на два разных, противоположных течения французской жизни: на католиков-модернистов и синдикалистов. Нео-католик Леруа и синдикалист Жорж Сорель сошлись на берегсоновской философии действия, на его антиинтеллектуализме. Как бы ни оценивать эту философию, нельзя в ней не видеть отражения кризиса позитивизма, протеста против интеллектуализма, которым заразил духовную атмосферу старый позитивизм *).
Существуют в современной Франции и нео-католики, — модернисты, как их принято называть, и нео-протестанты. Издают они журналы, устраивают конференции, которые посещаются, впрочем, специальной публикой. Есть и социально-католическое движение, которое группируется вокруг
*) Главное сочинение Бергсона — «L'evolution créatrice», в котором он подверг глубокомысленной критике эволюционные теории.
**) См. недавно вышедшую книгу известного философа Бутру «Scienseet religion», в которой есть целая глава «La philosophie de l'action».
254
общества «Sillon» и очень энергично в своем стремлении соединить ортодоксальное католичество с демократией, республикой и социальными реформами *). Но первое место среди этих течений бесспорно принадлежит католическому модернизму **). Модернизм — движение по преимуществу умственное, но оно тесно связано с кризисом западного католичества и кризисом современного европейского сознания. А католичество и современное сознание — факты первостепенной важности в развитии мировой культуры. Модернизм привлек к себе внимание широких слоев общества и стал злобой дня благодаря папской энциклике. Особенно нашумел аббат Альфред Луази, который недавно выпустил книгу «SimplesreflexionssurledecretduSaint-OfficeetsurL'encyclique». Книга эта разошлась в несколько дней и вызвала волнение в католическом мире. В книге этой Луази не без гордости говорит, что те, которых теперь официально называют модернистами, несколько лет тому назад назывались луазистами, и он пытается ответить за весь модернизм святой римской инквизиции и папе, осудившим самым решительным образом модернистов и все их книги.
В католическом модернизме есть много оттенков, и Луази справедливо протестует против смешения всех оттенков в общем осуждении. Но можно все-таки установить два основных течения в модернизме: одно философское, другое экзегетическое. Социальный католицизм с Марком Санье во главе стоит в стороне от модернизма; этому течению чужды модернистские сомнения, и оно встречает более снисходительное отношение папы, несмотря на свои социально-реформаторские тенденции ***). С другой стороны, модернизму чужды социальные стремления, это все-таки течение, хотя и протестующее против интеллектуализма, но
*) См. L. Cousin «Vie et doctrine du Sillon».
**) Самым замечательным документом жизни религиозной души во Франции я считаю произведение Гюисманса, этого героя и мученика декадентства, бесконечно чуждого современной пошлости. Гюисманс интереснее и глубже «модернистов».
***) Папа Лев XIII был вдохновителем социального католицизма[135], и кардиналы — сподвижники покойного папы, до сих пор поддерживают силлонистов в Риме.
255
по преимуществу интеллектуальное, его сфера — работа сознания. Модернизм есть опыт соединения католичества с новым духом, с современным научным сознанием, подобно тому как силлонизм пытается соединить католичество с современной демократией. По словам Луази, модернисты потому стали модернистами, что они — современные люди, люди нашей эпохи, что современная культура вошла в их плоть и кровь, что ткань их существа стала модерн. А католическая церковь продолжает стоять во враждебном отношении к духу времени, находится в вечной оппозиции ко всему современному, к философии, к науке, к прогрессу культуры. Официальной философией католической церкви по-прежнему остается философия Фомы Аквинского, интеллектуалистическая схоластика и в XX веке продолжает определять католическое сознание. Нео-католики, зараженные духом времени, усомнились в Фоме Аквинском как безраздельном властителе религиозного и философского сознания. Оставаясь католиками, модернисты захотели вкусить сладость той свободы исследования, которая давно уже утверждена была в протестантизме. Но можно ли остаться добрыми католиками, вступив на путь свободного философствования и свободной экзегетики? У модернистов оказалось две совести — совесть католическая и совесть современная, и им остается колебаться между двумя истинами — истиной католической церкви, от которой они не в силах отказаться, и истиной современной философии и современной научной экзегетики, которой они заражены. Модернистов разъедают философские и экзегетические сомнения, их болезненно поражают возражения современного сознания против веры, против чуда и предания. Фома Аквинский не спасает от этих сомнений, он их лишь усиливает и укрепляет. Нужно освободиться от Фомы, чтобы оправдать католическую веру перед современным сознанием. Вместе с тем у модернистов бурлит старая католическая кровь, они срослись всем своим существом с церковью и папой, авторитет церкви им дороже Христа, церковной иерархией они дорожат как великой культурно-исторической силой. В противоположность протестантам, модернисты-католики видят в церкви динамическую силу христианства в исто-
256
рии. Церковь для них есть религиозное развитие, живая история, и они справедливо не хотят возвращаться назад, к Евангелию и первым векам христианства. Эта привязанность модернистов к церкви, эта большая их близость к церкви, чем к Христу, ставит их в трагическое и безвыходное положение при столкновении с папой.
Главным сейчас представителем философской струи модернизма является Леруа, автор книги «Dogmesetcritique», ученик Бергсона, остроумный метафизик, подвергнувший философскому анализу идею догмата *). Леруа философски борется со схоластикой, с интеллектуализмом в истолковании догматов, старое, рационалистическое обоснование католической веры хочет заменить новым, волюнтаристическим обоснованием, и приходит к моральному догматизму, к учению о догмате как источнике действия. Догматы для Леруа и философов модернизма имеют не теоретическое, а практическое значение Ясно, что тут дух Канта побеждает дух Фомы Аквинского. Модернисты в этом вполне модерн, вполне отражают дух времени и современное состояние сознания.
Главным представителем экзегетического направления в модернизме является Луази, автор серьезных исследований по библейской и евангельской истории, католический аббат, посмевший отстаивать свободу экзегетики *). Луази совсем не философ, он ученый, историк христианства. Он глубоко, всей католической своей кровью расходится с Гарнаком и даже написал против Гарнака целую книгу *); но делает то же дело, что и Гарнак, и подобно последнему не в силах философски защитить свою веру. «Das Wesen des Christentums» Гарнака и «L'Evangile et l'eglise» Луази — две основные книги, характеризующие модернизм протестантский и модернизм католический. Это два ответа на сомнения, вызванные современным научным духом, духом исторического исследования, не
*) В том же направлении во Франции действовали Блондель и Лабертоньер, а в Англии Ньюман, один из главных вдохновителей модернизма.
**) См. «Les Evangiles synoptiques», «Le quatrieme Evangile», «Histoire critique du texte et des versions de L'Ancien Testament» идр.
***) См. «L'Evangile et l'eglise».
257
знающего пощады, — ответ нео-протестанта, который любит Христа, и нео-католика, который любит церковь. И оба не верят в богочеловечество Христа, один с немецко-протестантской искренностью и правдивостью, другой с французско-католической хитростью и двусмысленностью. В абсолютной религиозной истине, в религиозном реализме одинаково усомнился и Леруа со своей волюнтаристической философией, и Луази со своей ученой экзегетикой. Истина современной философии и современной исторической науки оказалась сильнее древней религиозной истины, казалось бы, независящей ни от времени, ни от науки, ни от философии. Почему же Леруа, Луази и все эти модернисты так испугались духа времени, так пасуют перед современным сознанием, так бессильны защитить свою веру от напора научных и философских сомнений? Потому что кровь их слишком заражена историческими грехами католичества, они отравлены вековечной враждой католической церкви к прогрессу, к науке и философии. Те, для кого Фома Аквинский был последним словом человеческой культуры, высшей наукой и философией, те объективно беззащитны от духа современности, когда усомнились в абсолютном и последнем значении Фомы. Для тех, что впитали в свою плоть и кровь идею абсолютного авторитета папы и с идеей этой связали дорогую для их сердца принадлежность к Церкви Христовой, для тех свобода нового духа имеет особую соблазнительность. Современность, свобода науки и философии приобрели для модернистов ту же прелесть, какую имела запретная красота женщины для средневекового монаха. Фома Аквинский и папа Пий X стоят на пути к этой чудной красавице и не пускают, грозят отлучением и вечным проклятием. Но так ли прекрасна эта женщина, так ли привлекательна запретная современность?
В современности, в сознании нового человека, давно уже освободившегося и от Фомы, и от папы, и от всякой религии, совершается кризис, обратный тому, который происходит с Луази, Леруа и им подобными: современность жаждет веры, жаждет вновь обрести утраченную святыню, идет разными путями к религиозному возрождению. Модернисты-католики запоздали в своем опыте со-
258
единения католичества с духом времени, дух времени уходит от себя и скоро окончательно оставит те позиции, на которых они хотят укрепить свою подновленную веру. Современные католики хотят реформировать и обновить католичество той современностью, которая исторически сама есть продукт грехов католичества и которая от своих новых грехов может освободиться лишь новой и более полной верой. Старый католический интеллектуализм хотят заменить современным волюнтаризмом и тем вдохнуть жизнь в дряхлеющее католичество. Но современный волюнтаризм стал безнадежной слепотой, к нему пришли люди из отчаяния, потеряв всякую веру и всякое сознание смысла жизни.
В сущности, Леруа усомнился в догмате, современное сознание мешает ему по-старому верить в догмат, он почувствовал философские препятствия, и старая католическая философия не может его защитить от духа времени. По всему видно, что Леруа искренно желал бы остаться добрым католиком, сердечно привязан к вере, но он слишком «модерн», его старая религиозность сочетается с новым безрелигиозным сознанием, а это сознание страшится чуда. В современном сознании культурных европейских народов живет тот предрассудок, что невозможность чуда доказана и показана. Леруа прежде всего усомнился в существовании абсолютной истины и в существовании органа для ее восприятия. Вслед за всей модернизированной философией Леруа отвергает большой, абсолютный разум, отрекается от наследия Логоса, открывавшегося в истории человеческого сознания. Современный волюнтарист Бергсон ему ближе, чем великие философские традиции прошлого, он утерял нить, которая тянется через всю мировую культуру от Платона до Шеллинга. Леруа очень остроумный философ, но ему чужды заветы свободного богопознания. Вместе с тем Леруа вынужден порвать с религиозным реализмом, он фатально идет к религиозному символизму. Человек современного философского духа, ученик Бергсона, хотя и верный сын католической церкви, не может реалистически истолковывать догматов, не может утверждать высшую разумность догматов. Для Леруа догмат не столько факт мистического
259
порядка, реально воспринимаемый верой, реальный и объективный факт, лежащий вне человека, сколько субъективное состояние самого человека, его моральная активность. Догмат нужен для действия, для практики религиозной жизни. Pensée-action — вот основное слово. Моральный догматизм Леруа напоминает практический разум старого Канта, хотя Леруа и не может быть назван кантианцем в точном смысле этого слова. Бергсон и Леруа, конечно, связаны с духом кантовского практического разума, кантовского волюнтаризма, но от немецких неокантианцев они отличаются, в их мышлении есть национально-французские особенности. Все это течение философии действия родственно духу блестящего американского философа и психолога Джемса *).
Кант оставил человека перед страшной пустотой, отрезав пути к восприятию трансцендентных реальностей. Абсолютная истина как реальность, по Канту, недоступна человеку, религиозному реализму наступил конец, несчастному, беспомощному человеку оставлено лишь право усилием воли, волевой активностью, моральным действием самому создать религиозную действительность. Объективно утерянную веру нужно субъективно воссоздать. Христианские догматы, которые раньше воспринимались как реальная и объективная действительность, для современного сознания — утерянный рай. Но потребность в религии осталась, она необходима для жизни, для морали, и остается лишь возможность утверждать догматы-действия, догматы-моральные постулаты. Леруа слишком католик, чтобы формулировать состояние своего сознания так, как я его формулирую, но сущность кризиса, который происходит с людьми, подобными Леруа, мне думается, может быть именно так выражена. Вера в богочеловечество Христа и в воскресение Христа нужна для религиозной жизни, для морального действия, для осмысленной практики. Это так. Но реально, мистически-реально Богочеловек ли Христос, воскрес ли Христос, искупаются ли грехи мира и спасается ли мир фактом явления Христа, фактом, в объективности своей возвышающимся не только
*) См. William James: «L'experience religieuse».
260
над всяким нашим человеческим состоянием, но и над всем этим миром? Как добрый католик Леруа верит, что Христос-Сын Божий и воскрес, но как философ, как «модернист», он смущен и неуверен. Разум вечный и разум временный находятся в разладе.
Луази, представитель другого течения модернизма, в своем ответе Гарнаку ставит церковь выше Христа. И это так характерно для его католической крови. Христос воспринимается только через церковь, которая есть динамическая сила истории, Христос перешел в церковь и в ней растворился. Самого Христа нельзя ощутить, возврат к Христу есть реакция, реставрация. Остается лишь один путь — дальнейшее развитие самой церкви. Но Луази одержим экзегетическими сомнениями, библейская критика соблазняет его. История, т. е. научная истина, незаметно принимает для него характер верховного критерия. Он часто так выражается, что его можно заподозрить в склонности к двойной бухгалтерии, для него как бы существует две истины — одна историческая, научная, другая религиозная, теологическая. В своей последней книге Луази защищается от этого подозрения и прямо говорит: «То, что ложно исторически, то я считаю ложным везде» *). После этого откровенного признания, которое ясно обнаруживает, что экзегетические сомнения доконали его веру, он утешает себя и нас тем, что «легенда или миф могут обозначать собою религиозную истину, могут выражать моральное чувство». Потерянную объективную истину Луази хочет потом воссоздать субъективно, как нечто морально нужное для жизни, для практики.
Какой же смысл имеют экзегетические сомнения Луази? Я понимаю еще сомнения философские, но сомнения исторического исследования сами по себе не имеют принципиального значения для веры. Можно философски утверждать, что ко всякой религии, в том числе и к христианству, может быть только одно отношение — историческое, что всякая религия есть лишь предмет исторического исследования. Тогда вы сознательно, философски отрицаете, что есть у человека орган для восприятия религиозного в
*) См. «Simplesreflexions», стр. 62.
261
истории, кроме научно-исторического исследования. Гарнак, самый замечательный, самый ученый специалист по христианской экзегетике, безнадежно запутался в этом отношении. Он задался целью определить при помощи исторического исследования, за которым признает значение верховного критерия истины, «сущность христианства», которую заранее определил религиозно. Получается порочный круг: «сущность христианства» есть религия Гарнака, добытая им непосредственным религиозным чувством, а историческое исследование, не сознавшее своих религиозно-философских пределов, делает вид, что оно определяет «сущность», которая для научного исследования всегда неуловима *). Положение Луази еще хуже. Гарнак — протестант-рационалист, он сознательно исповедует христианство как моральное учение; Луази — католик (хотя и модернист), он прирос к церкви так, что никакие экзегетические сомнения не могут его от нее оторвать, и вместе с тем хочет превратить научно-историческое исследование в верховный критерий истины. Что же сталось с религиозным восприятием, с ощущением Христа как Спасителя, ощущением первичным, ни от какой науки, ни от какой истории не зависящим! Реальное религиозное восприятие Гарнак отрицает в качестве рационалиста, для него остается лишь моральное религиозное чувство Луази как будто бы признает религиозное восприятие по отношению к церкви и отрицает его по отношению к Христу. Христос отдается во власть экзегетических исследований **). То, что в Христе остается нетронутым историческим исследованием, то переходит в католическую церковь, динамическую силу человеческого прогресса, которая выше Христа, перерастает Христа и, быть может, перерастет себя, как бы хотели модернисты. Более безнадежной, колеблющейся и двойственной
*) Для меня гносеологически несомненно, что религиозность объекта требует религиозности субъекта. В этом положен предел всякому научному исследованию религии Тайна религии дается лишь религиозному восприятию, требует посвященности.
**) Образ являвшегося в истории Сына Божьего воспринимается через священное предание Церкви, но сама Церковь — это таинственное вселенское общество живых и умерших — воспринимается лишь мистически.
262
позиции, чем та, на которой стоят Луази и ему подобные, трудно себе представить. Он не верит в абсолютную религиозную истину и, держась за церковь, хочет противиться безраздельной власти релятивизма, исторической относительности всего, подвергающегося научному исследованию. Ответ Луази папе и святой инквизиции производит тяжелое впечатление. Чувствуется, что человек постепенно растерял свою веру, но боится в этом признаться самому себе. Непонятно, почему он держится за церковь, почему старается оправдаться. Луази рассердился, тон у него такой, что невежественным-де людям не подобает рассуждать о его ученых исследованиях. Но ученому человеку, исследователю христианской истории нет надобности тратить время на объяснения с папой и католической церковью.
II
Русские религиозные искания всех оттенков очень отличаются от того, что мы видим в католическом модернизме. Ткань нашей религиозной мысли совсем иная. Непосредственному нашему религиозному ощущению Христос ближе, чем внешняя церковность, наше религиозное мышление утверждает абсолютную истину; стремимся мы к религиозному реализму, а не символизму; в нашем искании Града грядущего, — Царства Божьего на земле, больше дерзновения, чем на Западе. В православии никогда не было того интеллектуализма, который был в католической схоластике, и потому не может быть такого мотива борьбы с интеллектуализмом, как у модернистов. Нам не нужно сокрушать авторитет Фомы Аквинского в религиозном мышлении. Нам кровно ближе мистическое богословие Дионисия Ареопагита и Максима Исповедника. Православная мистика проникнута духом сверх-рационализма, ей чужд и рационализм и иррационализм. Самые замечательные русские богословы-философы, Хомяков, Вл. Соловьев, В. Несмелов, блестяще решали проблемы, связанные с распрей веры и знания, давали глубокую религиозную философию и многими головами стоят выше Леруа и ему подобных. Хомяков и Соловьев органически вос-
263
приняли идею абсолютного разума, раскрытую германским идеализмом, претворили идеализм отвлеченный в идеализм конкретный, и перед судом большого разума дело веры было у них выиграно. Лишь малый разум, господствующий в современной философии и современной культуре, подверг сомнению права веры и реальность догматов. Хомяков и Вл. Соловьев вышли из философской школы большого разума, продолжали великие традиции, которые идут от Платона, через неоплатоников, учителей Церкви, философствующих мистиков, через таких гениальных средневековых мыслителей, как Иоанн Скот Эригена, до германских идеалистов, Гегеля и Шеллинга. Леруа и модернисты игнорируют эту великую традицию, они вышли из школы малого разума, из философского модернизма, который предал великие философские традиции прошлого во имя духа позитивности. И слишком искушает модернистов этот дух современной философии, дух малого разума. Многому могли бы научиться модернисты у Вл. Соловьева, но они даже не знают французской книги Соловьева «LaRussieetl'egliseuniverselle», которая посвящена вопросу о соединении церквей и обнаруживает тяготение Соловьева к католичеству. Они слишком католики и слишком модернисты, чтобы понять великого русского теософа.
Для современного философского сознания существует лишь два исхода — интеллектуализм или волюнтаризм. Современный человек отдается или своему малому человеческому разуму, или своей человеческой воле, в которой ищет спасения от рассудочности. Современное сознание разорвано, все в нем разобщено, органический центр потерян, а центр этот может быть лишь сверхчеловеческий. Интеллектуализм и волюнтаризм, рационализм и иррационализм — это две стороны одной и той же разорванности, оторванности от высшего центра бытия. Воля утверждает себя отдельно от интеллекта, интеллект отдельно от воли, и воля и интеллект утверждают себя оторвано от абсолютного разума, от разума органического, в котором интеллектуальное и волевое слиты в высшем единстве. Модернисты всецело находятся в пределах антитез современного сознания, воля и разум для
264
них разъединены, вера и знание разорваны, абсолютной разумности догматов они не видят. Они даже не подозревают о возможности того пути, по которому идет русская философская и религиозная мысль, пути сверх-рационализма. Догматы не теории, не спекулятивные учения, — в этом Леруа, конечно, прав. Он справедливо протестует против интеллектуалистического истолкования догматов. Догматы прежде всего факты, факты не эмпирического, а мистического порядка. Для Леруа догматы имеют по преимуществу моральное значение в жизни, нужны для действия, являются как бы практическими нормами. В книге Леруа есть очень интересная глава о воскресении Христа, в которой он приходит к очень характерному выводу. Догмат о воскресении значит, что мы должны относиться к Христу как к нашему современнику. Много раз подчеркивает Леруа, что в качестве доброго католика он верит в воскресение как в факт, верит и во все догматы. Но мистический смысл воскресения от него совсем ускользает. Признает ли он объективную космическую спасительность воскресения Христова, как победы над первоисточником зла в мире, над смертью. У Леруа воскресение истолковывается в смысле человеческого субъективного отношения к Христу, а не в смысле отношения Христа к человеку и к миру. Между тем как догматы-факты имеют объективный мировой смысл, обнаруживают отношение Божества к миру, догматы-факты спасают *). Догматы-факты разумны в высшем смысле этого слова. Современное сознание, перед которым так склоняются модернисты, игнорирует традицию свободного богопознания, историю теософии. Идея разума, которая может примирить интеллектуализм и волюнтаризм, знание и веру, связана с учением о Логосе, столь чуждым духу модернизма и всего современного сознания.
Перед судом высшего разума чудо — разумно, порядок природы — неразумен, безумен. Связь причины со следствием в порядке природном — бессмысленна, ирра-
*) См. интересную книгу Бриллиантова «Влияние восточного богословия на западное в произведениях Иоанна Скота Эригена» — в которой верно отмечается объективно божественный характер восточного благовествования и субъективно человеческий характер западного.
265
циональна, сам этот порядок природы явился результатом отпадения от разума, иррационализации бытия. Царство необходимости не есть царство разума, разумно и осмысленно лишь царство свободы *). В этом смысле можно сказать, что в мировой жизни был только один факт абсолютно разумный, абсолютно осмысленный — факт воскресения Христа. В этом чудесном факте отпавший от разума мир возвращается к разуму. Чудо воскресения, отменившее порядок природы с его законом тления, — осмысленно, разумно. Когда говорят о несовместимости чуда с разумом, о неразумности и безумности чуда, то судят малым разумом, человеческим рассудком, который сам неразумен, сам разобщен со смыслом бытия. В современном передовом сознании Европы живет легенда о том, что окончательно доказана и показана несовместимость чуда с разумом, невозможность, бессмысленность чуда. Никогда и никем ничего подобного не было доказано и не могло быть доказано **). Положительная наука просто этим не занимается, это вне ее компетенции и для нее неинтересно. Наука только говорит, что с научной точки зрения, в пределах закономерного порядка природы, которым она занята, чудо невозможно и чуда никогда не было. Но религия сама утверждает, что по законам природы чудо невозможно, что оно возможно лишь как отмена порядка природы, лишь в порядке благодати. Силы же сверх-природные лежат вне кругозора науки, и о них наука не может утверждать ничего положительного, как и ничего отрицательного. Философия интересуется вопросом о возможности чуда, исследует этот вопрос. Но та философия, которая положила в свою основу идею разума, именно она-то чудо и признает. Философия разумная, продолжающая традиции разума, строившая учение о Логосе, онтологическое учение о смысле бытия, допускает возможность чуда; и не допускает этой возможности философия иррациональная, отрицающая самое идею разума. Уж, ко-
*) Кант понял это в самой сильной части своей философии, в «Критике практического разума».
**) H. Минский в статье «Абсолютная реакция» (в «Слове») строит свои аргументы против возможности чуда на наивном смешении разума с природной необходимостью. Это обычное у рационалистов смешение.
266
нечно, Шеллинг или Вл. Соловьев больше признавали разум и исходили из разума, чем Милль или Коген. Современная научная, критическая философия отбрасывает идею разума как устаревшую и ненужную. Разум есть идея онтологическая, а не гносеологическая, она связана с признанием положительного смысла бытия, верховного его центра и верховной цели. Позитивная, критическая, научная философия не имеет права даже говорить о разуме, и для нее не имеет никакого смысла разговор о неразумности чуда. Современное сознание отрицает чудо своим сердцем и волей, испугавшейся чуда, как черта. Вопрос об отношении между знанием и верой в современном сознании не только не решен, но даже не поставлен.
Наука есть частная форма знания, не высшая и не окончательная, она всегда направлена на ограниченную область и, перейдя свои пределы, перестает быть наукой, становится лже-философией и лже-богословием. Так, например, позитивизм, который простирает свои суждения за пределы научного знания, есть лже-философия, а материализм может быть назван лже-богословием. Вера заключает в себе полноту знания, она не противо-научная, а сверхнаучная. Частная сфера научного знания не отрицается религиозной верой, а осмысливается, приводится в связь с целым. Сам предмет научного знания — эмпирическая природа для религиозной веры освещается светом сверх-природным. Но вера не может стоять ни в какой зависимости от науки, ни в каком смысле не может ею определяться, ограничиваться или отрицаться. В основе знания тоже ведь лежит вера. Мир знания и мир веры прежде всего даны нам как разные совершенно порядки, которые могут и должны быть сведены в одну плоскость, но на почве веры, а не знания. Вопрос об отношении между знанием и верой очень остро стоит для современного сознания и для всех форм современного религиозного движения. Это предмет религиозной гносеологии, которая имеет свои основы в мировом развитии человеческого самосознания. Но раз религиозная вера не может ни в каком смысле зависеть от научного знания и ни в какой степени им отрицаться, то тем самым
267
падает сама возможность экзегетических сомнений в Христе. Экзегетические сомнения основаны на том предположении, что вера в Христа может зависеть от научных исследований о Христе и христианстве. Это лишь частный случай общего вопроса о верховенстве науки в человеческом сознании. Если научность есть единственный критерий истины, если наука есть не только наука, т. е. частная и ограниченная сфера, но также и философия, и религия, т. е. все, то никакого иного отношения к Христу, кроме научно-исторического, и быть не может. Идолопоклонство перед наукой, превращение ее из части в целое, из подчиненной функции в верховную норму привели к идолам «научной» философии и «научной» религии. Но, казалось бы, философия должна быть философской, религия должна быть религиозной, и только наука должна быть научной, если научность не есть единственный и высший критерий. Теперь модно требовать научного обоснования не только философии, но и религии. Требование, поражающее своей нелепостью. Наша философия и наша религия отрицают верховенство науки, философия для нас имеет самостоятельный источник, а религия стоит выше всего. Как же мы можем «научно» обосновать нашу веру и нашу философию? «Научность» есть лже-богословский идол нашей эпохи, и нельзя «научно» этот идол разбить. Тут порочный круг. Философски и религиозно мы утверждаем лишь научность науки, а самую науку считаем сферой частной и ограниченной. Право свободного экзегетического исследования, которым так дорожит Луази, есть право священное, но судьба веры ни в каком смысле не может от него зависеть. Вера же самого Луази очень поддалась под напором его собственных исследований. Католичество делает человека беспомощным против угроз свободы исследования, так как отрицает эту свободу и боится ее.
Католический модернизм недостаточно видит, что в мире накопилось новое сознание, еще более новое, чем то, с которым соединяются модернисты, в котором они видят современность, — сознание религиозное. Это сознание оправдывается высшей философией. Что же совершается внутри современной философии? Волюнтаризм современной философии (Бергсон, Джемс, многие немцы) есть кризис
268
позитивизма, он изобличает невозможность довольствоваться позитивистическим интеллектуализмом, который сдавливает все стремления человека к бесконечности. Бергсон повлиял даже на французских синдикалистов, которые отрекаются от марксистского интеллектуализма и жаждут философии действия. В синдикалистском actiondirecte происходит тайнодейство, это как бы откровение, добытое усилием воли и непонятное со стороны. В сущности Бергсон, Леруа и им подобные утверждают, что истина рождается в действии, что то и есть истина, что создается волей и нужно для воли *). Это имеет аналогию с утверждением марксизма, согласно которому истина есть лишь нужное для процесса жизни, для действия, в данную
[264]
эпоху для пролетариата — классовая мистика, которую дальше развивает синдикализм. Подобная философия принуждена отрицать реальность истины и присутствие абсолютных норм в сознании. Если в сознании реально не присутствует абсолютное и не является источником истины, то остается лишь отдаться темной воле, в надежде, что ее действенное усилие приведет к такому результату, который вместе с тем можно будет назвать истиной. Но путь этот ведет от ложного света позитивизма к полной тьме, к слепой мистике. Само действие, само волевое усилие может совершаться лишь на абсолютных основах, согласно данным откровения, религиозного откровения в истории и естественного откровения разума и совести, тогда лишь действие воли целестремительно и ведет к свету, к абсолютной реальности. Беда в том, что новый волюнтаризм остается в пределах все того же рационализма, иррационализм есть лишь вывернутый наизнанку рационализм Единственный свет разума, который допускает волюнтаризм и иррационализм, есть все тот же старый свет малого разума, все тот же рационалистический свет. Но свет этот не может осветить миров иных, не распространяется на сферу религиозную. Поэтому религиозная область остается неосвещенной и подвергается опасности со стороны света рассу-
*) Аналогичный взгляд можно найти у Зиммеля и у многих других немецких мыслителей.
269
дочного, света науки и философии Вера нужна для волевой жизни, для практики, для действия, но она неразумна, она колеблется от напора современности, от властных заявлений самодержавной науки и философии. Та философия, за которую схватился Леруа и модернисты, не может оправдать веры, быть введением в возможность религии и веры, эта философия изобличает лишь кризис позитивизма и кризис католичества, не более.
Давно уже католичество соблазнилось тайной «великого инквизитора» в своей иерархии. Говорю, конечно, не о том или ином папе как человеке, не о том или ином иерархе церкви, а о духе папизма, об уклоне, принятом католическим иерархизмом Папа Лев XIII был замечательным человеком и подлинно верующим, верит, конечно, и Пий X, но оба они прикрывают тайну жуткого уклона. Это ослабление истины из католической церкви сказалось на модернизме. Модернисты не в силах мужественно порвать с папой, потому что не верят в абсолютную истину, не верят в идеальную природу человека. Они слишком релятивисты, слишком оппортунисты. Польский модернист Мариан Здзеховский поместил в Московском Еженедельнике статью «Модернистское движение в римско-католической церкви», в которой делает странное признание, очень характерное для модернизма. М. Здзеховский — горячий модернист, он восхищается книгами модернистов, превозносит Луази, самого сомнительного в смысле католичества, а в конце вдруг заявляет: «Вмешательство церковной власти лежало в интересе общего блага, предостерегательная энциклика со стороны папы оказалась необходимой. И она появилась Пий X исполнил свой долг». В этих странных словах сказалась вся двойственность модернизма. Модернисты боятся самих себя, не уверены, что свобода доведет их до добра, подозревают себя в религиозной незрелости. Детям нельзя позволить слишком баловаться, немножко можно позволить, а потом следует остановить и наказать, а то баловство может довести до беды. Можно себе позволить философские и экзегетические исследования в духе современности, но на этом пути нет абсолютного критерия истины, легко провалиться в пропасть. Папа
270
Пий X остается абсолютным критерием и может спасти погибающего от эксцессов свободы даже в том случае, если он утерял веру в Христа. Свобода, оказывается, ведет к потере веры в Христа, но вера в Пия X остается и спасает от гибели. Весь ужас католичества, весь его провал — в этой подмене Христа папой. Христос — свобода, папа — авторитет. Католическая церковь — слишком законченное, слишком достроенное здание, слишком материально осязаемое Католичество снимает с человека бремя свободы, в этом его сила и в этом его ужас. В церкви православной нет этой материальной ощутимости, нет законченности, в ней слаба была историческая динамика. В православии никто толком не знает, где голос церкви и где границы церковного вероучения. Тут слабость православия, но тут же и возможная его сила. В легенде о «великом инквизиторе» Достоевский с небывалой, необычайной силой постиг тайну подмены Христа папой, свободы — авторитетом. От соблазна «великого инквизитора» модернисты хотели бы освободиться, но не имеют силы, так как не хватает им веры в абсолютную истину, в спасительность свободы, в религиозный реализм. Католичество исключило путь свободы, окружило человека препятствиями, а дух современности — модернизм — исключил абсолютную истину, лишил религиозную жизнь реальности. Католики-модернисты тогда лишь в силах будут победить реакционный авторитет папы и ложной иерархии и осуществить свои новаторские стремления, когда станут менее католиками и менее модернистами, когда будут, прежде всего, свободно утверждать в себе Христа и свободно будут чувствовать себя членами тела Христова — Церкви. Верю, что этот религиозный процесс легче может начаться в России, из православия *). В православии хранилась святыня божественного, человеческая же стихия была слабо выражена. В православии не было исторической динамики Запада, и эта слабость может стать религиозным преимуществом в тот час, когда исключительно человеческая динамика станет
*) В мистическом, а не историческом смысле слова.
270
бессмысленной и начнется богочеловеческая динамика истории.
Религиозное брожение в России гораздо интенсивнее, качественно выше, новее, чем во Франции и других странах. У нас больше смелости и размаха, больше религиозного дерзновения. Идей у нас много, мы вдохновенно разрушаем старое и пророчествуем о новом, но исторической активности, способности к реальному действию у нас так мало, что страшно становится. Наше религиозное движение все еще напоминает разговор Ивана Карамазова с Алешей в трактире. И препятствия, которые стоят у нас на пути к возрождению Христовой веры и укреплению нового религиозного сознания, совсем не те, что в западном модернизме. Главное препятствие — не в сознании, не в интеллектуальном духе современной науки и философии, а в воле, первоначальной стихии, в которой не произошел еще окончательный выбор пути. Наши главные сомнения не экзегетические и не философские, а скорее мистические. Оригинальная русская философия не ставит никаких препятствий для веры. Почти все русские философы были верующие, соединяли знание с верой. Величайший русский философ Вл. Соловьев был философ христианский и давал оправдание веры лучше, чем теперь дает Леруа и чем прежде давала схоластика. Русская философия признает разумность христианской веры, видит в христианстве единственное осмысленное миропонимание, и ей одинаково чужд отвлеченный интеллектуализм и отвлеченный волюнтаризм. Новое религиозное сознание должно опереться на традиции русской философии, а не современной европейской философии. Бергсон, Джемс, Риккерт и др. современные философы — интересны и талантливы, они — симптом кризиса позитивизма, но они не смутят того, кто продолжает дело мирового раскрытия Логоса и чувствует свою связь с великими философами прошлого.
В русском религиозном брожении таится непосредственное чувство Христа, равно как и духа, противного Христу. Это живое чувство Христа не убито у нас исторической церковью, как в западном католичестве, и потому оно может стать основой религиозного возрождения. В наших религиозных исканиях очень силен социальный момент,
271
который совершенно чужд модернизму, в них есть живое чаяние Царства Божьего на земле, наступление истинной теократии. Все русские богоискатели, начиная с Чаадаева, шли к Вселенской Церкви, в которой будет полнота всего и в которой осуществятся христианские пророчества и обетования. Чаадаев и Вл. Соловьев — величайшие наши религиозные мыслители — имели уклон к католичеству. Они верили, что в православии дана абсолютная святыня, божественная основа церкви, но в католичестве они хотели увидеть ту человеческую созидательную силу, силу историческую, которая должна осуществить общественную организацию Царства Божьего на земле; в католичестве им виделось орудие перенесения божественной святыни православия во всемирно-историческую жизнь. В соединении церквей, в сочетании восточной правды православия с западной правдой католичества Вл. Соловьев видел исход во Вселенскую Церковь. Модернистское католическое движение несколько разочаровывает нас в этом. В нем отсутствует тот социальный момент, который привлек Чаадаева и Соловьева. Официальное же католичество остается косным и реакционным, хотя все еще могучим. Все учит нас тому, что святыня вечного, не временного, православия, — божественная основа Вселенской Церкви *), должна соединиться не с социальной организацией католичества, а с европейской культурой и с освобождающим гуманизмом общественным, где уже произошло утверждение человеческой стихии, волевой человеческой активности, столь недостающей христианскому Востоку. Кризис современного сознания идет этому навстречу.
*) Верю, что основа эта общая у православия и католичества, но священное в католичестве нужно искать не в папизме как социальной системе.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
