13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Рикёр Поль
Рикёр П. Время и рассказ. Том II.
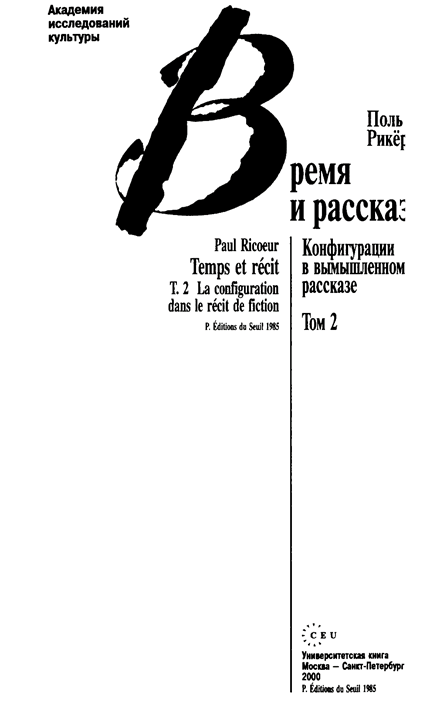
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
Оглавление размещено в начале.
Поль Рикёр
ВРЕМЯ И РАССКАЗ
Том IΙ.
Москва-Санкт-Петербург
2000
СОДЕРЖАНИЕ
Часть третья
Конфигурация времени в вымышленном рассказе 11
1. За пределами трагического mythos 16
2. Постоянство: сфера парадигм? 22
3. Упадок: конец искусства рассказа? 28
II. Семиотические ограничения повествовательности 37
1. Морфология сказки по Проппу 41
3. Нарративная семиотика А. Ж. Греймаса 52
1. Глагольные времена и акт высказывания 69
2. Время рассказа (Erzählzeit) и рассказываемое время (erzählte Zeit) 84
3. Акт высказывания — высказывание — объект в «повествовательном дискурсе» 88
4. Точка зрения и повествовательный голос 95
IV. Вымышленный опыт времени 107
1. Между временем [бытия к] смерти (temps mortel) и монументальным временем: «Mrs. Dalloway» 109
3. В поисках утраченного времени: преодоленное время 137
3. От обретенного времени к времени утраченному 152
Заключение 158
Примечания 166
Указатель имен 212
ПРЕДИСЛОВИЕ
Второй том работы «Время и рассказ» не требует какого-либо специального введения. Он представляет собой третью часть единого произведения, программа которого изложена в начале первого тома. Кроме того, данная часть своей темой конфигурация времени в вымышленном рассказе — в точности соответствует теме второй части — конфигурация времени в историческом рассказе. Четвертая часть, которая составит третий, и последний, том, объединит под заголовком «Рассказываемое время» три свидетельства, — даваемые совместно феноменологией, историей и литературой, о способности повествования (récit), взятого в его нераздельности и полноте, рефигурировать время.
Я воспользуюсь этим кратким предисловием, чтобы присоединить к благодарностям, высказанным в начале первого тома данной работы, выражение моей признательности дирекции National Humanities Center (Северная Каролина). Возможностью провести представленные здесь исследования я в большой мере обязан исключительным условиям работы, которые обеспечивает этот Центр своим fellows’.
* Стипендиатам (англ.) Прим. перев.
9
Часть третья
КОНФИГУРАЦИЯ ВРЕМЕНИ
В ВЫМЫШЛЕННОМ РАССКАЗЕ
В третьей части нашей книги повествовательная модель, обозначенная как мимесис-II1, подвергается испытанию в новой области нарративного поля, которую я обозначаю, чтобы отличить ее от сферы исторического рассказа, термином вымышленный рассказ. К этой обширной подобласти принадлежит все то, что теория литературных жанров относит к народной сказке, эпопее, трагедии и комедии, роману. Такое перечисление указывает лишь на категорию текстов, временна́я структура которых будет рассмотрена ниже. Перечень этих жанров не только не является окончательным, но и их предварительное перечисление не связывает нас заранее с какой-либо конкретной классификацией литературных жанров, ибо наш специфический предмет освобождает нас от необходимости занять определенную позицию в отношении проблем классификации и истории литературных жанров2. В этом плане мы чаще всего, если позволяет состояние проблемы, присоединяемся к общепринятым классификациям. В то же время уже сейчас нам необходимо объяснить, почему мы характеризуем эту подобласть повествования при помощи термина «вымышленный рассказ». Следуя терминологической конвенции, принятой в первом томе3, я придаю термину «вымысел» менее широкое толкование, нежели многие авторы, считающие его синонимом нарративной конфигурации. Это отождествление нарративной конфигурации и вымысла, разумеется, оправданно в той мере, в какой конфигурирующий акт является, как утверждали мы сами, операцией продуктивного воображения в кантовском смысле слова. Я, однако, оставляю термин «вымысел» для тех литературных произведений, которым чужды притязания на статус правдивого рассказа, характеризующие рассказ исторический. Действительно, если мы считаем конфигурацию и вымысел синонимами, у нас нет больше свободного термина, чтобы выразить различие в отношении этих двух способов повествования к вопросу об истинности. Исторический и вымышленный рассказы объединяет их принадлежность к сфере одних и тех же конфигурирующих операций, которые мы отнесли к мимесис-II. В то же время то, что их разделяет, касается не структурирующей активности, воплощенной в нарративных структурах как таковых, но претензии на истину, исходя из чего и определяется третье миметическое отношение.
11
Хорошо, что наше исследование долго разворачивалось в плане второго миметического отношения — между действием и рассказом. Благодаря этому у нас будет время для прояснения неожиданных сходств и различий в судьбе нарративной конфигурации в обеих областях исторического рассказа и рассказа вымышленного.
Четыре главы, составляющие третью часть этой работы, отображают этапы одного и того же пути: речь идет о том, каким образом — расширяя, углубляя, обогащая, открывая вовне понятие построения интриги, унаследованное от аристотелевской традиции, можно соответственно диверсифицировать понятие времени, воспринятое из августиновской традиции, не выходя, однако, за рамки, установленные понятием нарративной конфигурации, то есть не переступая границ мимесис-ΙI.
1. Расширить понятие построения интриги — это значит, прежде всего, удостоверить способность аристотелевского mythos преображаться, не утрачивая при этом своей идентичности. Именно такой способностью построения интриги к изменению следует измерять широту нарративного понимания. Здесь подразумеваются многие вопросы: а) сохраняет ли сравнительно новый повествовательный жанр — современный роман — родственную связь с трагическим mythos (бывшим для греков синонимом интриги), позволяющую также подвести его под формальный принцип несогласного согласия, посредством которого мы охарактеризовали нарративную конфигурацию; б) обладает ли интрига, при всей своей изменчивости, достаточным постоянством, чтобы ее можно было подвести под парадигмы, охраняющие стиль традиционности, свойственный нарративной функции, по крайней мере в культурном пространстве Запада; в) начиная с какого критического момента предельные отклонения от стиля традиционности позволяют высказать предположение не только о разрыве с повествовательной традицией, но и о смерти самой нарративной функции.
В этом первоначальном исследовании проблема времени ставится пока еще только в скрытой форме, через посредство понятий новации, постоянства, упадка, которыми мы попытаемся охарактеризовать идентичность нарративной функции, не делая уступок какому бы то ни было эссенциализму.
2. Углубить понятие построения интриги — значит сопоставить нарративное понимание, которое основано на усвоении форм повествования, транслируемых нашей культурой, с рациональностью, реализуемой в наши дни нарратологией4, в частности нарративной семиотикой, типичной для структурного подхода. Спор о приоритете между нарративным пониманием и семиотической рациональностью, который нам предстоит разрешить, демонстрирует очевидное родство с дискуссией по поводу эпистемологии современной историографии, изложенной во второй части нашей книги. Действительно, номологическое объяснение, которым ряд теоретиков истории пытались заменить наивное искусство рассказа, и принятое в нарративной семиотике выделение глубинных структур рассказа, в сравнении с которыми правила построения интриги образуют не
12
более чем поверхностные структуры, могут быть отнесены к одному уровню рациональности. Вопрос состоит в том, можем ли мы дать в этом споре о приоритете тот же ответ, что давали в подобном споре, касавшемся истории: чем больше мы объясняем — тем лучше понимаем.
Проблема времени ставится здесь вновь, но более отчетливо, чем ранее: в той мере, в какой нарративной семиотике удалось придать глубинным структурам рассказа ахронический статус, оправдан вопрос, позволяет ли осуществляемое ею изменение стратегического уровня оценить по достоинству наиболее оригинальные черты нарративной временности, которую мы охарактеризовали в первой части, сопоставляя анализ времени у Августина и анализ mythosу Аристотеля, как несогласное согласие. Исследование судьбы диахронии в нарратологии поможет прояснить трудности, относящиеся к этому второму кругу вопросов.
3. Обогатить понятие построения интриги и связанное с ним понятие повествовательного времени значит исследовать возможности нарративной конфигурации, которыми, как представляется, располагает вымышленный рассказ. Причины этого особого положения вымышленного рассказа выявятся лишь позже, когда мы сможем обосновать противоположность между историческим временем и временем вымысла исходя из более широкой, чем у Августина, феноменологии сознания времени.
В преддверии развернутой трехсторонней дискуссии между временем реальной жизни, временем истории и временем вымысла мы будем опираться на замечательное свойство, присущее нарративному акту высказывания (énonciation): в самом дискурсе он демонстрирует специфические черты, которые отличают его от высказывания (énoncé) о сообщаемых предметах. Из этого вытекает сходная особенность времени, способного раздваиваться на время акта рассказывания и время рассказываемых событий. Несогласия между двумя этими временными модальностями не связаны более с альтернативой ахронической логики и хронологического хода событий, в рамках которой постоянно рисковало замкнуться предшествующее обсуждение. Они демонстрируют в действительности ряд нехронометрических аспектов, позволяющих увидеть в таких несогласиях изначальное, в известном смысле рефлексивное, свойство растяжения, присущее августиновскому времени и выступающее на первый план в вымышленном рассказе главным образом благодаря разграничению акта высказывания и самого высказывания.
4. Открыть вовне понятие построения интриги и соответствующее ему понятие времени это значит, наконец, проследить процесс трансцендирования, вследствие которого всякое творение вымысла, вербальное или пластическое, повествовательное или лирическое, проецирует вне себя самого мир, который можно назвать миром произведения. Так, эпопея, драма, роман проецируют* при помощи вымысла способы жизни в мире, которые ждут воссоздания в чтении, способном, в свою очередь, обеспечить пространство для сопоставления мира текста и мира
* Французский глагол projeter имеет, в частности, значения и «проецировать», и «демонстрировать», «показывать» (прим. перев.).
13
читателя. Проблемы рефигурации, восходящие к мимесис-III, строго говоря, возникают только в этом сопоставлении и благодаря ему. Вот почему понятие мира текста, как нам кажется, еще связано с проблемой нарративной конфигурации, хотя оно и подготавливает переход от мимесис-II к мимесис-III.
Этому понятию мира текста соответствует новое отношение между временем и вымыслом. На наш взгляд, это важнее всего. Мы не колеблясь употребляем здесь, невзирая на его очевидную парадоксальность, выражение вымышленный опыт времени, чтобы отобразить собственно временны́е аспекты мира текста и способов существования в мире, который проецируется текстом вовне5. Статус этого понятия вымышленного опыта весьма неопределенен: с одной стороны, временны́е способы существования в мире действительно остаются воображаемыми в той мере, в какой они существуют только в тексте и посредством текста; с другой стороны, они являют собой своего рода трансцендентность в имманентности, что как раз и делает возможным сопоставление с миром читателя6.
14
I. Метаморфозы интриги
Ведущая роль в эпистемологической сфере нарративного понимания, которая будет обоснована в следующей главе в противовес рационалистским притязаниям нарратологии, может быть удостоверена и сохранена только в том случае, если мы с самого начала припишем ему ту широту, которой оно должно обладать, будучи признано первичным — что и пытается имитировать нарратология. Но задача эта не из легких: аристотелевская теория интриги была изложена в те времена, когда лишь трагедия, комедия и эпос признавались «жанрами», достойными философского размышления. Но внутри самих этих жанров возникли новые типы, заставившие усомниться в том, что теория интриги, связанная с поэтической практикой древних, столь же применима к таким новым произведениям, как «Дон Кихот» или «Гамлет». Кроме того, появились новые жанры, главным образом роман, превратившие литературу в огромное поле для экспериментов, откуда рано или поздно были изгнаны все принятые условности. В таком случае можно задаться вопросом: не стала ли интрига категорией, столь же ограниченной по значению и столь же устаревшей, как и роман с интригой. Более того, эволюция литературы не сводится к появлению новых типов в старых жанрах и новых жанров в констелляции литературных форм. Ее одиссеи, похоже, ведут к размыванию границ жанров и к оспариванию самого принципа порядка, в котором укоренена идеи интриги. Сегодня ставится под вопрос само отношение между тем или иным единичным произведением и всякой унаследованной парадигмой7. Не исчезает ли интрига с литературного горизонта по мере того, как стираются контуры наиболее фундаментального различения выделения миметической композиции в ряду всех композиционных форм?
Итак, необходимо подвергнуть испытанию способность интриги к метаморфозе за пределами ее первичной сферы приложения, обрисованной в «Поэтике» Аристотеля, и установить границу, за которой понятие интриги утрачивает всякое различительное значение.
Такое исследование сферы применимости понятия интриги будет опираться на анализ мимесис-ΙI, проведенный в первой части нашей работы8 и содержащий правила расширения понятия интриги, которые необходимо разъяснить9.
15
1. За пределами трагического mythos
С самого начала построение интриги было определено в наиболее формальном плане как интегрирующий динамизм, который извлекает единую и завершенную историю из множества эпизодов (incidents), иными словами, преобразует это множество в единую и завершенную историю. Такая формальная дефиниция открывает возможность для проводимых по определенным правилам преобразований, которые заслуживают названия интриг, коль скоро мы можем выделить в них временны́е целостности, осуществляющие синтез разнородного10 по отношению к обстоятельствам, целям, средствам, взаимодействиям, предвиденным и непредвиденным результатам. Так, например, историк Поль Вейн приписал существенно расширенному понятию интриги функцию интеграции компонентов социального изменения, столь же абстрактных, как те, которые были выдвинуты на первый план несобытийной и даже серийной историей. Литература, по-видимому, может представить расширения такого же масштаба. Пространство игры открывается благодаря иерархии упомянутых выше парадигм: типов, жанров и форм. Можно высказать гипотезу, что метаморфозы интриги являют собой все новые и новые воплощения формального принципа временно́й конфигурации в жанрах, типах и отдельных оригинальных произведениях.
Пожалуй, именно в области современного романа уместность понятия построения интриги должна более всего оспариваться. Действительно, современный роман с самого момента своего возникновения заявил о себе как о жанре в высшей степени многогранном. Призванный отвечать на новые и быстро меняющиеся социальные запросы11, он рано избавился от парализующего контроля критиков и цензоров. И именно он на протяжении как минимум трех столетий служил обширным полем для экспериментов в области композиции и отображения времени12.
Главным препятствием, которое роман, вероятно, поначалу пытался преодолеть хитростью, а затем решительно обошел, была вдвойне ошибочная концепция интриги. Вдвойне ошибочная поскольку, во-первых, она была просто заимствована из двух уже устоявшихся жанров, эпоса и драмы, а во-вторых, поскольку классическое искусство, особенно во Франции, навязало двум этим жанрам искаженную и догматическую версию правил, изложенных в «Поэтике» Аристотеля. Достаточно упомянуть, с одной стороны, узкую и насильственную интерпретацию, данную правилу единства времени, которому посвящена 7 глава «Поэтики», а с другой — строгое требование: начинать in médias res*, как Гомер в «Одиссее», потом возвращаться назад с целью объяснить нынешнюю ситуацию, и все это ради того, чтобы отчетливым образом отделить литературный рассказ от рассказа исторического, который, как считалось, должен был следовать течению времени, вести своих персонажей, не прерываясь, от рождения к смерти, и заполнять повествованием все временны́е интервалы.
* с сути дела (лат.). — Прим. перев.
16
Под надзором этих застывших в суровой дидактике правил интрига могла пониматься только как удобная для чтения форма, замкнутая на самой себе, симметричная относительно кульминационного пункта, покоящаяся на легко определяемой каузальной связи между завязкой и развязкой, короче, как форма, где эпизоды безоговорочно подчинялись бы конфигурации.
Важным следствием этой узкой концепции интриги была недооценка формального принципа построения интриги: тогда как Аристотель подчинял характеры интриге, толкуя ее как понятие, охватывающее собой эпизоды, характеры и мысли, в современном романе, как мы видим, понятие характера освобождается от понятия интриги, а затем вступает в соперничество с ним и даже полностью его затмевает.
Причины этой революции коренятся глубоко в истории жанра. В самом деле, три примечательных этапа расширения романного жанра нашли выражение именно в области характеров.
Вначале, благодаря развитию плутовского романа, значительно расширилась социальная сфера, в которой разворачивается действие романа. Теперь следовало описывать уже не подвиги либо злодеяния легендарных или знаменитых персонажей, а приключения обыкновенных мужчин и женщин.
Английский роман XVIII века свидетельствует об этом вторжении в литературу людей из народа. Вместе с тем рассказываемая история, как представляется, увлекается в сторону эпизодического вследствие взаимодействий, происходящих в значительно более дифференцированной социальной ткани, бесчисленных наслоений главенствующей темы любви на темы денег, репутации, социальных и моральных установлений, — короче, вследствие бесконечно разнообразной praxis (см. суждения Гегеля о «Племяннике Рамо» в «Феноменологии духа»13).
Второй этап расширения характера — похоже, в ущерб интриге — иллюстрируется романом воспитания14, который достигает своей кульминации у Шиллера и Гёте и господствует до первой трети XX века. Центральной темой здесь, по-видимому, является обретение главным героем самого себя. Прежде всего, сюжет рассказа составляет достижение героем зрелости; затем развитием типа во все большей мере руководят сомнения героя, его смятение, препятствия в определении им своего места и в самоопределении. Но на всем протяжении этого развития от рассказываемой истории требовалось главным образом сочетать в себе социальную сложность и сложность психологическую. Это новое расширение непосредственно вытекает из предшествующего. Таким образом, техника романа в XIX столетии, в его золотой век — от Бальзака до Толстого — предвосхитила это расширение, извлекая все возможное из старой нарративной формулы, которая предписывает углублять характеры, больше рассказывая о них, и выводить из богатства характера все большую сюжетную сложность. В этом смысле характер и интрига взаимно обусловливают друг друга15.
Новый источник усложнений выявился главным образом в XX веке благодаря роману потока сознания, превосходным примером которого стали произведения Вирджинии Вульф (наиболее значительное из них мы исследуем далее с точки зрения восприятия времени16): здесь вызы-
17
вает интерес именно незавершенность личности, многообразие уровней сознательного, подсознательного и бессознательного, нагромождение неотчетливых желаний, незавершенный и мимолетный характер эмоциональных состояний. Понятие интриги, похоже, потерпело здесь окончательное фиаско. Можно ли еще говорить об интриге, когда исследование глубин сознания обнажило неспособность самого языка сгруппироваться и обрести форму?
Ничто, однако, в этих последовательных расширениях характера в ущерб интриге не может уклониться от воздействия формального принципа конфигурации, а значит, и понятия построения интриги. Я даже рискнул бы сказать, что ничто не принуждает нас к отказу от аристотелевского определения mythosкак «подражания действию». Вместе с полем интриги расширяется также и поле действия. При помощи действия можно понять не только поведение главных протагонистов, приводящее к видимым изменениям ситуации, поворотам фортуны — к тому, что можно назвать внешней судьбой людей. Существует еще действие в широком смысле слова: нравственное развитие персонажа, его рост и воспитание, постижение им сложностей моральной и эмоциональной жизни. Наконец, в еще более утонченном смысле с действием связаны чисто внутренние изменения, затрагивающие сам временно́й поток чувств, эмоций, порой на уровне менее оформленном, менее сознательном, нежели тот, который доступен интроспекции.
Таким образом, понятие подражания действию может быть расширено за пределы «романа действия» в узком смысле слова; оно может включать в себя «роман характера» и «роман мышления», предоставляя интриге всеобъемлющую власть по отношению к узко определенным категориям эпизода, персонажа (или характера) и мысли. Сфера, ограниченная понятием mimesis praxeōs, расширяется соответственно расширению способности рассказа «выражать» свой объект посредством нарративных стратегий, порождающих оригинальные целостные образования, могущие — благодаря игре умозаключений, ожиданий и эмоциональных откликов со стороны читателя вызывать «чистое удовольствие». В этом смысле современный роман учит нас расширять понятие действия, которому подражают (или которое репрезентируют), до тех пор пока мы можем сказать, что формальный принцип композиции осуществляет синтез изменений, способных затронуть существа, подобные нам, индивидуальные или коллективные, с именами собственными, как в новом романе XIX столетия, или просто обозначенные инициалами (К...), как у Кафки, или даже существа вовсе безымянные, как у Беккета.
Стало быть, история романного жанра никоим образом не вынуждает нас отказаться от термина «интрига» как обозначения коррелята нарративного понимания. Но для уяснения сути того, что могло быть расценено как фиаско интриги, недостаточно такого обзора истории развития романного жанра. Есть более скрытая причина, обусловившая сведение понятия интриги к понятию простой нити истории, схемы или краткого изложения событий. Интрига в этом урезанном виде потому могла показаться внешним, даже искусственным, а в конечном счете произвольным ограничением, что с момента рождения романа и до конца его
18
золотого века — XIX столетия — на авансцену вышла проблема более насущная, нежели вопрос об искусстве композиции, проблема правдоподобия. Эта замена одной проблемы другой стала возможной благодаря тому факту, что достижение правдоподобия свершилось под знаменем борьбы с «условностями», в первую очередь с тем, что понималось под интригой в случае эпоса, трагедии и комедии в их античной, елизаветинской или классической (во французском смысле слова) формах. Борьба с условностями и борьба за правдоподобие представляли собой, таким образом, две стороны одной медали. Именно эта забота об истинности в смысле верности реальности, приравнивания искусства к жизни, более всего способствовала затушевыванию проблем нарративной композиции.
Эти проблемы, однако, не были полностью устранены; они были лишь перемещены. Достаточно поразмыслить о разнообразии приемов, использовавшихся в английском романе для достижения цели изображения жизни в ее повседневной правде. Так, Дефо в «Робинзоне Крузо» прибегает к псевдо-автобиографии, подражая бесчисленным дневникам, мемуарам, подлинным автобиографиям, которые в ту же эпоху писались людьми, сформированными кальвинистской дисциплиной ежедневного самоанализа. После него Ричардсон в «Памеле» и «Клариссе» счел, что сможет с большей верностью описать частный опыт — например, конфликт между романтической любовью и институтом брака, прибегнув к столь искусственному приему, как переписка17, вопреки его очевидным недостаткам: слабой избирательности, вторжению незначительности и болтовни, топтанию на месте и повторам. Но в глазах такого романиста, как Ричардсон, преимущества бесспорно брали верх. Заставляя свою героиню писать письмо безотлагательно, тотчас, романист мог создать впечатление максимальной временно́й близости между писанием письма и чувством. Кроме того, использование настоящего времени способствовало созданию этого впечатления непосредственности — благодаря квази-одновременному изображению испытываемых чувств и сопутствующих им обстоятельств. Тем самым удавалось и устранить неразрешимые трудности псевдо-автобиографии, опиравшейся единственно на возможности памяти, невероятной по силе. Наконец, этот прием позволял читателю стать участником психологической ситуации, предполагавшейся самим использованием эпистолярного жанра, — ситуации, которой присуще тонкое смешение самоуглубления и излияния чувств, заполняющих душу того, кто решается доверить перу выражение интимных переживаний; со стороны читателя этому соответствует не менее утонченная смесь бесцеремонного подглядывания в замочную скважину и безнаказанности уединенного чтения.
Поразмыслить об искусственности условностей, ставшей для этих романистов платой за стремление к правдоподобию, им помешало, возможно, убеждение, которое они разделяли со сторонниками эмпиристской философии языка — от Локка до Рида: убеждение, что язык может быть очищен от всякого образного элемента, считавшегося чисто декоративным, и приведен к его первоначальному назначению согласно Локку, к «передаче знания о вещах» (to convey the knowledge of things). Эта вера в непосредственно референциальную функцию языка, сведен-
19
ного к его буквальному использованию, не менее важна, чем стремление свести концептуальное мышление к его предполагаемой основе — опыту частной жизни. По сути дела это стремление связано с подобной верой: и вправду, как можно выразить при помощи языка частный опыт, если язык нельзя свести к чистой референциальности, сопряженной с его предполагаемой буквальностью?
Очевидно, что, будучи перенесен в сферу литературы, этот возврат к опыту, а также к простому и непосредственному языку, привел к созданию нового жанра18, обусловленного намерением установить возможно более точное соответствие между литературным произведением и реальностью, которой оно подражает. В этом проекте имплицитно содержится и сведение мимесиса к подражанию-копии, в смысле, полностью чуждом «Поэтике» Аристотеля. Поэтому не удивительно, что ни псевдо-автобиография, ни эпистолярный стиль не составляли реальной проблемы для тех, кто их использовал. Память не может быть заподозрена в фальсификации, рассказывает ли герой о событии постфактум или изливает душу сразу же. У самих Локка и Юма она является опорой каузальности и личной идентичности. Таким образом, передача структуры повседневной жизни с наибольшим приближением считается задачей разрешимой и в конечном счете не создающей особых проблем.
Весьма парадоксально, что именно рефлексия о чрезвычайно условном характере определенного таким образом романного дискурса привела впоследствии к рефлексии о формальных условиях самой иллюзии приближения и, стало быть, — к признанию того, что статус самого романа существенным образом связан с вымыслом. В конце концов, немедленная, спонтанная, неприкрашенная передача опыта в эпистолярной литературе не менее условна, чем собирание прошлого с помощью якобы непогрешимой памяти, как в псевдо-автобиографическом романе. Эпистолярный жанр действительно предполагает, что можно передать на бумаге без утраты убедительности репрезентативную силу, приписываемую живому слову или сценическому действию. К выраженной Локком вере в непосредственное референциальное значение языка, лишенного всяких прикрас и образов, прибавляется вера в авторитет печатного слова, возмещающего отсутствие живого голоса19. Вероятно, прежде всего заявленная цель — правдоподобие — должна была слиться с задачей «изображения» реальности жизни, чтобы сошла со сцены куцая и искусственная концепция интриги, а затем — благодаря рефлексии о формальных условиях правдоподобного произведения — на первый план выдвинулись проблемы композиции. Иначе говоря, быть может, следовало изгнать условности во имя правдоподобия, чтобы обнаружить, что платой за это является возрастание утонченности композиции, то есть создание интриг все более сложных и в этом смысле все более далеких от реальности и жизни20. Как бы ни обстояло дело с этой предполагаемой хитростью разума в истории романного жанра, остается парадоксом, что именно утонченность повествовательной техники, обусловленная заботой о верности повседневной реальности, привлекла внимание к тому, что Аристотель назвал — в широком смысле слова подражанием действию путем упорядочения фактов в интригу. Сколько требуется условностей, сколько уловок, чтобы описать жизнь, то есть создать на бумаге ее убедительное подобие!
20
Да, немалым парадоксом (который будет полностью развернут лишь в нашем исследовании связи между конфигурацией и рефигурацией) является то, что власть условностей должна была возрастать пропорционально претензиям романа на изображение реальности, — претензиям, выдвигавшимся на протяжении самого долгого периода в его развитии, периода реалистического романа. В этом смысле три определенных выше в общих чертах этапа — роман действия, роман характера, роман мышления — являются вехами двойной истории: истории завоевания новых областей формальным принципом конфигурации, но также и истории обнаружения все более условного характера этого предприятия. Эта вторая история, история в контрапункте, представляет собой историю осознания романа как искусства вымысла, по знаменитому выражению Генри Джеймса.
На первой фазе внимание к форме остается подчиненным породившей ее реалистической мотивации, оно даже скрыто за репрезентативными устремлениями. Правдоподобие — это еще область правды, ее образ и подобие. И наиболее правдоподобно то, что ближе всего к знакомому, обычному, повседневному — в противоположность волшебному эпической традиции и возвышенному классической драмы. Итак, судьба интриги решается в этом почти безнадежном усилии асимптотически сблизить приемы романной композиции с реальностью, которая ускользает пропорционально умножению числа формальных требований композиции. Все происходит так, как будто лишь все более сложные условности могут сравняться с естественностью и правдой и как будто растущая сложность условностей оттесняет за недосягаемый горизонт ту самую реальность, с которой искусство стремится сравняться и которую хочет «выразить». Вот почему призыв к правдоподобию не мог долго заслонять собой тот факт, что правдоподобие — не просто сходство с правдой, но подобие правды. Это тонкое различение должно было постепенно вырасти в настоящую пропасть. Действительно, по мере того как роман все больше осознает себя как искусство вымысла, рефлексия о формальных условиях создания этого вымысла вступает в открытое соперничество с реалистической мотивацией, за которой она прежде скрывалась. Золотой век романа, XIX столетие, может быть охарактеризован как неустойчивое равновесие между все более решительно утверждавшимся стремлением к верности реальности и все более ясным осознанием искусственности полученной в результате композиции.
Это равновесие должно было однажды нарушиться. Действительно, если правдоподобие — лишь подобие правды, что тогда представляет собой вымысел, руководствующийся этим подобием, как не мастерство убеждения, благодаря которому искусственность уловки принимается за подлинное свидетельство о реальности и жизни? Таким образом, искусство вымысла оказывается искусством иллюзии. Отныне осознание искусственности будет подрывать изнутри реалистическую мотивацию, а затем обернется против нее и разрушит ее.
Сегодня приходится слышать, что роман без интриги, без персонажей, без отчетливой временно́й организации более верен опыту, фрагментарному и непрочному, нежели традиционный роман XIX века. Но тогда защита фрагментарного и непрочного вымысла получает то же обо-
21
снование, какое некогда получала защита литературы натурализма. Аргумент о правдоподобии был просто поставлен на другое место: прежде именно социальная сложность требовала отказа от классической парадигмы, теперь же предполагаемая бессвязность реальности вынуждает отказаться от всякой парадигмы. А потому литература, удваивающая хаос реальности хаосом вымысла, сводит мимесис к самой слабой его функции — отображению реальности путем ее копирования. К счастью, остается в силе тот парадокс, что вымысел подтверждает свою капитуляцию тем, что приумножает уловки.
Теперь можно поставить вопрос: не был ли перевернут изначальный парадокс? В начале нашего обзора репрезентативные интенции служили обоснованием условности, в конце же осознание иллюзорности ниспровергает условность и обосновывает попытку освободиться от всяких парадигм. Это переворачивание и повлекло за собой вопрос о границах, а быть может, и об исчерпании метаморфоз интриги.
2. Постоянство: сфера парадигм?
Предшествующее обсуждение коснулось свойственной формальному принципу фигурации способности к расширению при помощи интриги за пределы его исходных примеров, предложенных в «Поэтике» Аристотеля. Наше рассуждение потребовало обращения к истории литературы, в данном случае к истории романа. Следует ли из этого, что история литературы может заменить собою критику? На мой взгляд, критика не может ни отождествиться с ней, ни игнорировать ее. Она не может ее устранить, потому что именно знакомство с произведениями, появившимися в процессе смены культур, чьими наследниками мы являемся, обучает нарративному пониманию до того, как нарратология сконструирует его вневременное подобие. В этом смысле нарративное понимание сохраняет, интегрирует в себе и воссоздает свою собственную историю. Однако критика не может ограничиться констатацией чисто случайного появления на свет отдельных произведений. Ее собственная функция состоит в том, чтобы выделить стиль развития, порядок в движении, который превращает эту последовательность событий в значимое наследие. По крайней мере, следует попытаться это сделать, если верно, что нарративная функция обладает своей собственной интеллигибельностью еще до того, как семиотическая рациональность примется заново определять ее правила. В программной главе первой части я предложил сравнить эту дорациональную интеллигибельность с интеллигибельностью схематизма, из которого проистекают, согласно Канту, правила категориальной деятельности рассудка. Но этот схематизм не является вневременным. Он сам обусловлен седиментацией практики, имеющей свою особую историю. Именно седиментация придает схематизму уникальный исторический стиль, который я назвал традиционностью.
Традиционность — это феномен, несводимый ни к какому другому, который позволяет критике удержаться на полпути между случайностью простой истории «жанров», «типов» или единичных «произведений», связанных с нарративной функцией, и вероятностной логикой повество-
22
вательных возможностей, неподвластной какой-либо истории. Порядок, который можно извлечь из этого само-структурирования традиции, не является ни историческим, ни аисторическим, но трансисторическим в том смысле, что он проницает историю скорее кумулятивный, чем просто аддитивным способом. Даже если он включает разрывы, внезапные изменения парадигм, сами эти разрывы не забываются; они также не дают забыть то, что им предшествует и от чего они нас отделяют; они тоже являются частью феномена традиции и ее кумулятивного стиля21. Если бы феномен традиции не обладал таким свойством упорядочения, невозможно было бы ни оценить феномены отклонения, которые мы рассмотрим в следующем разделе, ни поставить вопрос о смерти искусства повествования в результате истощения созидающего его динамизма. Оба этих феномена — отклонения и смерти — всего лишь оборотная сторона проблемы, которую мы сейчас рассматриваем: проблемы организации парадигм на уровне схематизма нарративного понимания, а не семиотической рациональности.
Это наблюдение привело меня к «Анатомии критики» Нортропа Фрая22. Теория модусов в его первом очерке и в еще большей мере теория архетипов в третьем очерке, безусловно, систематичны. Но реализуемая здесь систематичность иного плана, нежели рациональность, характерная для нарративной семиотики. Она восходит к схематизму нарративного понимания в его традиционности. Она стремится вычленить типологию этой непрерывно создающейся схематизации. Поэтому она может искать опоры не в своей связности или дедуктивных качествах, но лишь в своей способности открыто индуктивным путем дать представление о возможно большем числе произведений, включенных в наше культурное наследие. Я попытался в другом месте23 дать реконструкцию «Анатомии критики», иллюстрирующую тезис о том, что система нарративных конфигураций, предложенная Нортропом Фраем, восходит к трансисторическому схематизму повествовательного понимания, а не к аисторической рациональности нарративной семиотики. Воспроизведу здесь несколько фрагментов, имеющих отношение к моей аргументации.
Рассмотрим прежде всего теорию модусов, которая наиболее точно соответствует тому, что я называю здесь нарративным схематизмом; среди этих модусов остановимся на тех, которые автор называет модусами вымысла, чтобы отличить их от модусов тематических, поскольку первые касаются лишь структурных отношений внутри фабулы и не затрагивают ее тему24. Дистрибуция модусов вымысла осуществляется в соответствии с основным критерием — способностью героя к действию, которая может быть, как мы читали в «Поэтике» Аристотеля, большей, чем наша, меньшей, чем наша, или сравнимой с нашей.
Фрай прилагает этот критерий к двум параллельным предварительным планам, трагическому и комическому, которые, собственно говоря, представляют собой не модусы, а классы модусов. В модусах трагического герой изолирован от общества (чему соответствует подобная же эстетическая дистанция со стороны зрителя, как в «очищенных» чувствах ужаса и сострадания); в модусах комического герой вновь встраивается в общество. Именно к этим двум планам, планам трагического и комическо-
23
го Фрай прилагает критерий степени способности к действию. Так, он различает в каждом из них пять модусов, разделенных на пять групп. В первой группе группе мифа герой выше нас по своей природе (in kind): мифы — это, вообще говоря, истории богов; в плане трагического здесь имеются мифы дионисийские, прославляющие умирающих богов, в плане комического аполлонические мифы, где божественный герой принимается в общество богов. Во второй группе — группе волшебного (romance) — герой превосходит других людей и все свое окружение уже не по природе, а по степени: к этой категории принадлежат сказки и легенды; в плане трагического мы находим здесь волшебный рассказ, выдержанный в элегическом тоне: смерть героя, смерть святого мученика и т.д., чему со стороны слушателя соответствует особое чувство страха и сострадания, вызываемое волшебным; в плане комического волшебный рассказ, выдержанный в идиллическом тоне: пастораль, вестерн. В третьей группе группе высокого миметического модуса (high mimetic) герой стоит лишь выше других людей, но не условий земного существования, как мы видим в эпопее или трагедии; в плане трагического поэма воспевает фиаско героя: катарсис, соответствующий этому, получает от трагической hamartia* особую ноту сострадания и страха; в комическом плане здесь имеется древняя комедия Аристофана: нашей реакцией на смешное является симпатия, слитая с карающим смехом. В четвертой группе, группе низкого миметического модуса, герой больше не превосходит ни свое окружение, ни других людей, он равен им; в трагическом плане перед нами предстает патетический герой, разобщенный и с окружающим миром, и с собой, — от обманщика (alazon) до «философа», одержимого самим собой, вроде Фауста или Гамлета; в комическом плане — это новая комедия Менандра, эротическая интрига, основанная на случайных встречах и узнаваниях, бытовая комедия, плутовской роман, рассказывающий о социальном восхождении плута; сюда же следует поместить реалистический роман, описанный нами в предыдущем параграфе. В пятой группе иронии — герой стоит ниже нас по силе и уму: мы смотрим на него свысока; к этому же модусу принадлежит герой, который притворяется худшим, чем он есть на самом деле, который старается говорить меньше, чтобы приобрести большую значительность; в плане трагедии здесь имеется целая коллекция моделей, каждая по-своему отвечающих на превратности жизни расположением духа, лишенным страсти, и пригодных для изучения трагического одиночества как такового: гамма здесь весьма широка, от pharmakos, или искупительной жертвы, через героя, неизбежно подвергающегося осуждению (Адам в Книге Бытия, господин К. в «Процессе» Кафки), до невинной жертвы (евангельский Христос и по соседству с ним, между иронией неизбежности и иронией нелепости, Прометей); в плане комедии мы имеем здесь изгнанного pharmakos(Шейлок, Тартюф), карающее комическое, которому не дает обернуться самосудом лишь преграда, создаваемая игрой;-сюда относятся и все пародии на трагическую иронию, разнообразные возможности которых широко используются детективом или научно-фантастическим романом.
* ошибки (греч.). — Прим. перев.
24
Два дополнительных тезиса смягчают внешнюю таксономическую жесткость, создаваемую подобной классификацией. Согласно первому тезису, центр тяжести вымысла постоянно перемещается на Западе сверху вниз, то есть от героя божественного к героям трагедии и иронической комедии, включая пародию на трагическую иронию. Этот закон нисхождения не обязательно является законом упадка, хотя и рассматривается как его эквивалент. Прежде всего, по мере того как священное из первой группы и волшебное из второй идут на убыль, мы видим, как усиливается миметическая тенденция в высоком миметическом модусе, затем в низком миметическом модусе, и возрастает значимость правдоподобности, а затем правдоподобия (р. 69-70)25. Этим подтверждается важная идея, высказанная в нашем предшествующем анализе, — об отношении между условностью и правдоподобием. Помимо того, благодаря уменьшению силы героя высвобождаются и свободно проявляют себя достоинства иронии. Можно сказать, что ирония существует в потенциальной форме с момента появления mythosв широком смысле слова: всякий mythos, действительно, предполагает «иронический уход от реальности». Этим объясняется видимая двойственность термина «миф»: в смысле священного мифа этот термин обозначает область действия героев, превосходящих нас во всех отношениях; в аристотелевском смысле mythos охватывает все царство вымысла. Оба смысла соотносятся посредством иронии: ирония, присущая mythos, оказывается тогда связанной с совокупностью модусов вымысла. Она имплицитно присутствует в любом mythos, но становится «особым модусом» лишь вследствие упадка священного мифа. Такой ценой ирония превращается в «последний по счету модус», согласно упомянутому выше закону нисхождения. Этот первый дополнительный тезис, как мы видим, вводит в таксономию определенную направленность.
Согласно второму тезису, ирония так или иначе возвращает к мифу (р. 59-60, 66-67)26. Сквозь иронию pharmakos, или неизбежного, или нелепого Нортроп Фрай стремится различить в нижней точке шкалы иронической комедии признаки возврата к мифу в той его форме, которую он обозначает как «иронический миф».
Эта направленность таксономии — в соответствии с первым тезисом, — как и ее круговой характер, согласно второму тезису, определяют, по Нортропу Фраю, стиль европейской и западной традиционности. В действительности эти два правила чтения показались бы совершенно произвольными, если бы теория модусов не обнаружила свой герменевтический ключ в теории символов, которой посвящены три других больших эссе в «Анатомии критики».
Литературный символ — это, по сути дела, «условная вербальная структура», иначе говоря, предположение, а не утверждение, в котором направленность «вовнутрь» важнее направленности «вовне» — направленности знаков, чья задача — обращаться к внешнему миру и к реальности27.
Символ, в таком его понимании, предоставляет герменевтический ключ для интерпретации одновременно нисходящей и циклической последовательности модусов вымысла. Будучи помещены в определенные литературные контексты, символы в действительности проходят серию
25
«фаз» («phases»), которые можно сопоставить с четырьмя смыслами средневековой библейской экзегезы, замечательно реконструированной отцом де Любаком28.
Первая стадия, именуемая буквальной, соответствует первому смыслу библейской герменевтики. Она очень точно определяется как принятие всерьез условности, присущей поэтической структуре. Понять поэму буквально значит понять целое, которое она образует, таким, каким оно дано; это значит, сколь бы парадоксально это ни звучало, читать поэму как поэму. Реалистический роман лучше всего удовлетворяет такому критерию, выдвигаемому на буквальной фазе развития символа.
На второй фазе — формальной, — которая соотносится с аллегорическим смыслом библейской герменевтики, поэму структурирует ее подражание природе, причем она нисколько не утрачивает своего условного характера; из природы символ заимствует систему образов (imagérie), ставящую всю литературу в косвенное, опосредованное отношение к природе, благодаря чему она может не только нравиться, но и воспитывать29.
Третья фаза — фаза символа как архетипа. Не стоит торопиться с изобличением видимого «юнгианства» архетипической критики (critique archétypale), осуществляемой на данной стадии. Этот термин подчеркивает прежде всего повторяемость одних и тех же вербальных форм, порождаемых особым свойством поэтического искусства — его исключительной способностью к передаче, которую другие исследователи обозначили термином «интертекстуальность»; эта повторяемость способствует унификации и интеграции нашего литературного опыта30. Поэтому я вижу в понятии архетипа эквивалент того, что я называю здесь схематизмом, порождаемым седиментацией традиции. Кроме того, архетип включает в устойчивый условный порядок подражание природе, характеризующее вторую фазу: последняя привносит сюда свои собственные повторения: день и ночь, четыре времени года, жизнь и смерть и т.д. Мы с полным правом можем полагать, что порядку природы подражает соответствующий вербальный порядок, раз нам известно, что в основе словесного порядка лежит миметическая концепция образа, базирующаяся на концепции условности символа31.
Последняя фаза развития символа — символ как монада. Эта фаза соответствует анагогическому смыслу древней библейской экзегезы. Фрай под монадой понимает способность воображаемого опыта обретать целостность исходя из определенного центра. Без сомнения, все предприятие Нортропа Фрая базируется на тезисе, что любой архетипический порядок отсылает к «центру словесного порядка», «center of the order of words» [p. 118] (p.146). К нему устремлен весь наш литературный опыт. Тем не менее мы бы составили себе совершенно ложное представление о значении архетипической критики, а еще более анагогической критики, если бы усмотрели в них стремление к господству в духе рационализирующих реконструкций. Напротив, схемы, относящиеся к этим двум фазам, свидетельствуют о порядке, которым можно овладеть лишь на этапе его циклической композиции. Действительно, системой образов (imagérie), чей тайный порядок например, порядок четырех времен года — мы стремимся постичь, руководит свыше апокалиптическая образность, выступающая в неисчислимых формах и имеющая центром примирение в единстве: единстве Бога, единого в трех лицах, единстве
26
человечества, единстве животного мира (символизируемого Агнцем), растительного мира (символизируемого Древом жизни), минерального мира (чей символ Град Небесный). Помимо того, у этой символики есть демоническая оборотная сторона в образе Сатаны, тирана, чудовища, бесплодной смоковницы, «пра-моря» символа «хаоса». В конце концов эта полярная структура сама объединяется силой Желания, конфигурирующего одновременно бесконечно желанное и его противоположность — бесконечно отвратительное. В архетипической и анагогической перспективе всякая литературная образность несостоятельна по отношению к этой апокалиптической образности конца времен, но постоянно пребывает в поисках ее32. Вокруг символа Апокалипсиса могут концентрироваться литературные подражания циклу времен года, ибо на этой фазе связь с природным порядком разорвана, а потому он может быть лишь объектом подражания, становясь огромным хранилищем образов. Итак, литературу в целом можно охарактеризовать как поиск (quête) — равным образом в модусе волшебного, высокого и низкого миметических модусов, а также в ироническом модусе, представленном сатирой33. И именно в качестве поиска весь наш литературный опыт соотносится с этим «порядком вербального целого»34.
С точки зрения Нортропа Фрая, продвижение от условного к анагогическому представляет собой никогда не завершающееся приближение к литературе как системе. Это тот telos *, который ретроспективно делает правдоподобным архетипический порядок, в свою очередь конфигурирующий воображаемое, и в конечном счете организует условное в систему. В каком-то смысле это было мечтой Блейка и в еще большей мере — Малларме, заявившего: «Все в мире существует, чтобы завершиться книгой»35.
Заканчивая этот обзор одной из самых удачных попыток обобщения литературной традиции Запада, скажем, что задача философа состоит не в том, чтобы обсуждать ее результаты, но в том, чтобы, считая ее приемлемой, подумать об условиях возможности такого перехода от истории литературы к критике и к анатомии критики.
Мы выделим три момента, имеющие отношение к нашему исследованию построения интриги и проблемы времени.
Прежде всего, поиск порядка возможен потому, что культуры создали произведения, которые можно объединить по их фамильному сходству, выявляемому в случае модусов повествования на уровне самого построения интриги. Затем, истоки этого порядка можно возвести к продуктивному воображению, схематизм которого он конституирует. Наконец, как порядок воображаемого, он содержит неупразднимое временно́е измерение измерение традиционности.
Каждый из этих трех моментов позволяет увидеть в построении интриги коррелят подлинного нарративного понимания, которое де-факто и де-юре предшествует всякой реконструкции повествования на втором уровне рациональности.
* цель (греч.) — Прим. перев.
27
3. Упадок: конец искусства рассказа?
Мы завершили анализ идеи о том, что схематизм, управляющий нарративным пониманием, развертывается в истории, сохраняющей один и тот же стиль. Теперь надлежит рассмотреть противоположную идею: этот схематизм допускает отклонения от нормы, в силу чего данный стиль в наши дни становится так непохож на самого себя, что возникают сомнения относительно его идентичности. Следует ли поэтому включить в стиль традиционности, присущий рассказу, возможность его смерти?
Сама идея традиционности — то есть эпистемологической модальности «создания традиции» — подразумевает наличие в ней нераздельной связи идентичности и различия. Идентичность стиля это не идентичность ахронической логической структуры; она характеризует схематизм нарративного понимания, каким он конституируется в кумулятивной и седиментированной истории. Вот почему эта идентичность трансисторична, а не вневременна. Следовательно, можно полагать, что парадигмы, сохраненные благодаря этой самоконфигурации традиции, порождали и продолжают порождать вариации, которые ставят под угрозу идентичность стиля, возвещая тем самым о его смерти.
В этом отношении замечательным пробным камнем служат проблемы, поставленные искусством завершать повествовательное произведение. Поскольку в западной традиции парадигмы композиции являются в то же время и парадигмами завершения, можно ожидать, что вероятное исчерпание парадигм найдет свое выражение в трудностях, связанных с завершением произведения. Установить связь между двумя этими проблемами тем более правомерно, что единственная формальная черта аристотелевского понятия mythos, которую необходимо сохранить, независимо от его последовательных приложений к «жанрам» (трагедия, роман и т.д.) и «типам» (елизаветинская трагедия, роман XIX века и т.д.), это критерий единства и завершенности. Как известно, mythos — это подражание единому и законченному действию. Но действие является единым и завершенным, если у него есть начало, середина и конец, т. е. если начало влечет за собой середину, середина — перелом (péripétie) и узнавание — ведет к концу и конец замыкает собой середину. В таком случае конфигурация берет верх над эпизодом, согласие — над несогласием. Итак, симптомом того, что традиция построения интриги исчерпала себя, правомерно считать отказ от критерия завершенности, а значит, сознательное нежелание заканчивать произведение.
Прежде всего важно договориться по существу проблемы и не смешивать два вопроса, первый из которых относится к сфере мимесис-II (конфигурации), а второй — мимесис-III (рефигурации). Произведение может быть закрытым с точки зрения конфигурации и открытым с точки зрения прорыва в мир читателя, который оно способно совершить. Чтение (об этом речь пойдет в четвертой части нашей книги) есть именно тот акт, который осуществляет переход от эффекта закрытости в первом смысле к эффекту открытости во втором смысле. В той мере, в какой всякое произведение действует, оно добавляет к миру нечто, чего в нем не было прежде; но этот чистый избыток, который можно отнести на счет произведения как действия, его способности прерывать повторение,
28
как утверждает Ролан Барт во «Введении в структурный анализ повествовательных текстов», не противоречит необходимости окончания. «Ударные» (cruciales) концовки36, возможно, лучше всего совмещают оба эти эффекта. Не будет парадоксом утверждение, что удачно завершенное произведение разверзает бездну в нашем мире, а значит, и в нашем символическом постижении мира.
Прежде чем обратиться к прекрасной работе Фрэнка Кермоуда «The Sense of an Ending», полезно будет сказать несколько слов о трудностях — быть может, непреодолимых, — с которыми сталкивается любой поиск критерия завершенности в поэтике.
Некоторые исследователи, к примеру, Дж. Хиллис Миллер, считают эту проблему неразрешимой37. Другие, в частности Барбара Херннстейн Смит, искали опору в тех решениях проблемы окончания, что были предложены в смежной области, в лирической поэзии38. В ней действительно легче определить и описать правила завершения произведения: к примеру, концовки гномического, нравоучительного или эпиграмматического характера; кроме того, эволюция лирического стихотворения от сонета Возрождения через романтическое стихотворение до верлибра и визуальной поэзии наших дней позволяет с точностью проследить судьбу этих правил; наконец, технические решения проблемы концовки, предложенные лирической поэзией, дают возможность соотнести с читательскими ожиданиями, порожденными стихотворением, ожидания, которым финал сообщает «чувство завершенности, устойчивости, цельности» (ор. cit., р. VIII). Концовка производит такое воздействие лишь в том случае, если опыт конфигурации не только динамичен и непрерывен, но и поддается ретроспективным перегруппировкам, благодаря чему само решение предстает как заключительная апробация, закрепляющая удачную форму.
Но как бы ни прояснял дело параллелизм между поэтическим финалом и законом удачной формы, ему полагает предел тот факт, что в первом случае конфигурация это дело языка, а чувство завершенности может быть достигнуто разными способами; из этого следует, что само завершение допускает множество вариантов, в том числе и неожиданность; но весьма трудно сказать, когда неожиданная концовка является оправданной. Разочаровывающий финал может вполне соответствовать структуре произведения, если цель последнего — оставить читателя с нереализованными ожиданиями. Равным образом трудно сказать, в каком случае разочарование обусловлено самой структурой произведения, а не просто «слабой» концовкой.
Будучи перенесена в план повествования, лирическая модель наводит на мысль о необходимости тщательного исследования отношения между способом завершения рассказа и степенью целостности рассказа, которая зависит от большей или меньшей эпизодичности действия, от единства характеров, структуры аргументации и от того, что мы позднее назовем стратегией убеждения, представляющей собой риторику художественного произведения. Эволюция лирического завершения также находит параллель в сфере нарративного завершения: продвигаясь от приключенческого рассказа к тщательно выстроенному роману, а затем и к обдуманно фрагментарному роману, структурный принцип проходит полный цикл,
29
который определенным образом приводит к очень изощренной эпизодичности. Следовательно, решения, диктуемые этими структурными изменениями, очень трудно определять и классифицировать. Эта трудность коренится в постоянно существующей возможности смешения между окончанием воспроизводимого действия и концовкой художественного произведения как такового. В традиции реалистического романа финал произведения тяготеет к совпадению с концом изображаемого действия; таким образом имитируется остановка системы взаимодействий, создающей ткань рассказанной истории. Такого рода концовки предпочитали большинство романистов XIX века. В этом случае, сопоставляя проблему композиции и ее решение, сравнительно легко сказать, удался конец или нет. Другое дело, когда литературное искусство в силу рефлексивности, о которой шла речь выше, вновь поворачивает к вымыслу; финал произведения в этом случае является завершением самой операции вымысла. Такая инверсия перспективы характерна для современной литературы. Критерий удачного окончания в этом случае гораздо труднее применить, в частности, если концовка должна гармонировать с тональностью неразрешенности, пронизывающей все произведение. Наконец, удовлетворение ожиданий, порождаемых динамизмом произведения, также принимает здесь различные, если не противоположные, формы. Неожиданное завершение может обмануть наши ожидания, смоделированные прежними условностями, но при этом продемонстрировать нам принцип более глубокого порядка. Хотя всякое окончание является ответом на ожидания, оно не обязательно их удовлетворяет. Оно может оставить ожидания нереализованными. Концовка, не содержащая в себе завершения, уместна в произведении, где автор намеренно и сознательно поднимает проблему, которую считает неразрешимой; и все же она остается обдуманным и согласованным финалом, который рефлексивным способом подчеркивает неисчерпаемость тематики всего произведения. Незавершенность в известном смысле демонстрирует неразрешимость поставленной проблемы39. Но я согласен с утверждением Барбары Херрнстейн Смит, что анти-окончаний наталкивается на границу, за которой мы оказываемся перед альтернативой — либо изъять произведение из области искусства, либо отвергнуть самую фундаментальную предпосылку поэзии, состоящую в том, что поэзия есть подражание нелитературным способам применения языка, в том числе обычному использованию рассказа как систематического упорядочения событий жизни. На мой взгляд, следует сделать выбор в пользу первой возможности: отстраняя все подозрения, нужно доверять ужасному институту языка. Это пари41, имеющее оправдание в себе самом.
Именно эту альтернативу — и, в прямом смысле слова, этот вопрос о доверии (confiance) — рассматривает в своей завоевавшей широкую известность работе «The Sense of an Ending» Фрэнк Кермоуд42. Случилось так, что он начал изучение проблемы там, где ее оставил Нортроп Фрай, соотнесший Стремление к завершенности мира дискурса с темой Апокалипсиса, рассматриваемой в плане анагогической критики. Кермоуд, также взяв за исходный пункт метаморфозы темы Апокалипсиса, стремится возобновить с большей высоты дискуссию об искусстве завершения, о котором собственно литературной критике трудно делать какие-то выводы. Но теперь разговор идет в рамках теории вымысла,
30
совершенно отличной от теории символа и архетипа, предложенной Нортропом Фраем.
Признавая, что специфические ожидания читателя руководят нашей потребностью придать осмысленный конец поэтическому произведению, Кермоуд обращается к мифу об Апокалипсисе, который в традициях Запада больше всего способствовал структурированию этих ожиданий; тем самым Кермоуд рискует придать термину «вымысел» широкое значение, во всех отношениях выходящее за рамки собственно литературного вымысла: он исследует вымысел в плане теологии, под углом зрения иудео-христианской эсхатологии; в плане истории политики — в связи с имперской идеологией, сохранившей свое влияние вплоть до падения Священной римской империи германской нации; в плане эпистемологии — под углом зрения теории моделей; в плане литературном, обращаясь к теории интриги. На первый взгляд, эта череда сопоставлений кажется неуместной: разве Апокалипсис не является прежде всего моделью мира, тогда как «Поэтика» Аристотеля предлагает лишь модель вербального произведения? Однако переход от одного плана к другому, а в особенности из сферы космоса в сферу поэтики, находит частичное оправдание в том факте, что идея конца мира пришла к нам через посредство сочинения, которое в библейском каноне, принятом на христианском Западе, завершает Библию. Апокалипсис обозначал, таким образом, одновременно конец света и конец Книги. Соответствие между миром и книгой простирается еще дальше: в начале книги повествуется о Начале, в конце ее — о Конце. В этом смысле Библия представляет собой грандиозную интригу мировой истории, а всякая литературная интрига своего рода миниатюра большой интриги, соединяющей Апокалипсис с Книгой Бытия. Таким образом, эсхатологический миф и аристотелевский mythosобнаруживают сходство в способе, каким они связывают начало с концом и представляют воображению картину триумфа согласия над несогласием. Действительно, уместно будет провести параллель между аристотелевской peripeteia и катастрофой Последних Времен, изображенной в Апокалипсисе.
Именно в точке слияния согласия и несогласия трансформации эсхатологического мифа могут пролить свет на нашу проблему поэтического завершения. Отметим вначале замечательную способность, которую в течение долгого времени демонстрирует апокалиптика: она продолжает существовать, невзирая на все разоблачения со стороны событий; в этом плане Апокалипсис представляет собой модель предсказания, постоянно опровергаемого и все же никогда не дискредитируемого, — а значит, и модель постоянно отодвигаемого конца. Кроме того, и как следствие, оспаривание предсказания о конце света повлекло за собой чисто качественную трансформацию апокалиптической модели; из неизбежного (imminente) конец стал имманентным (immanente). Поэтому Апокалипсис перемещает свои образные средства на Последние Времена — время Ужаса, Упадка и Обновления, — становясь мифом о Кризисе*.
* crisis (греч.) — суд, кризис, перелом. Прим. перев.
31
Эта радикальная трансформация апокалиптической парадигмы находит свой эквивалент в кризисе, затронувшем литературную композиции и также развертывающемся в двух планах в плане завершения произведения и в плане исчерпания парадигмы согласия.
Предвестника этой замены неизбежного конца Кризисом, который становится неопределенной по протяженности peripeteia, Фрэнк Кермоуд усматривает в елизаветинской трагедии. С его точки зрения, она имеет более глубокие связи с христианской апокалиптикой, нежели с «Поэтикой» Аристотеля. Даже если Шекспир может еще считаться «the greatest creator of confidence» (p. 82)*, трагическое у него указывает на тот момент, когда Апокалипсис пребывает в состоянии перехода от неизбежности к имманентности: «Трагедия берет на себя груз образов Апокалипсиса, смерти и суда, неба и ада, но мир переходит в руки изнуренных переживших все людей» (р. 82). Конечное восстановление порядка тускнеет в сравнении с предшествующими ему Ужасами. Скорее время Кризиса обретает черты квази-вечности43, которые в Апокалипсисе были присущи только Концу, и становится поистине драматическим временем. Таков король Лир: его страдания обращены к постоянно откладываемому концу, за худшим следует еще худшее, и сам конец есть лишь образ ужаса, вызванного Кризисом. «Король Лир» является, следовательно, трагедией вечно длящегося несчастья. Начиная с «Макбета» перипетия становится пародией на пророческую двусмысленность, «а play of prophecy»**. Здесь также двусмысленность разрушает время; вспомним знаменитый стих, где герой замечает, что все решения, которые нужно принять, «all meeting together in the same juncture of time»44. Это значит, что «the play of Crisis»*** порождает время Кризиса, которое еще несет на себе отметины вечного, даже если эта вечность — «between the acting of a dreadful thing/ And the first motion»45 — есть лишь симулякр, узурпация Вечно Сущего. Едва ли есть необходимость напоминать, в какой степени «Гамлета» можно считать «another play of protracted crisis»****.
Этот переход от Апокалипсиса к елизаветинской трагедии46 проясняет ситуацию, сложившуюся в той части современной культуры и литературы, где Кризис заместил собой Конец, сделавшись нескончаемым переходом. Невозможность завершения становится, таким образом, симптомом оспаривания самой парадигмы. Именно современный роман нагляднее всего демонстрирует связь двух тем: упадка парадигм, то есть конца вымысла (fin de la fiction), и невозможности завершить произведение, то есть отказа от придумывания конца (fiction de la fin)47.
Это описание современной, к тому же хорошо известной, ситуации не так важно, как суждение, которое критика может вынести о ней в свете судьбы Апокалипсиса. Сочинение конца, сказали мы, беспрестанно оспаривалось и все же так и не было дискредитировано. Такова ли судьба литературных парадигм? Так же ли Кризис еще означает здесь для нас
* «величайшим творцом доверия» (англ.). — Прим. перев.
** «пьесой о пророчестве» (англ.). — Прим. перев.
*** «пьеса о Кризисе» (англ.). Прим. перев.
**** «еще одной пьесой о затянувшемся кризисе» (англ.). Прим. перев.
32
Катастрофу и Обновление? Именно в этом состоит глубокое убеждение Кермоуда, которое я полностью разделяю.
Кризис символизирует собой не отсутствие конца вообще48, но превращение неизбежного конца в имманентный. Невозможно, считает автор, довести стратегию оспаривания и peripeteia до той точки, где вопрос о завершении утратил бы всякий смысл. Но, спросим мы, что означает имманентный конец, когда конец больше не является концовкой?
Этот вопрос заводит анализ в тупик. Такая ситуация была бы непреодолимой, если бы мы рассматривали только форму произведения, пренебрегая ожиданиями читателя. Ведь именно здесь находит убежище парадигма созвучия, ибо именно отсюда она ведет свое происхождение. В конечном счете непреодолимым кажется именно ожидание читателя, что в финале возобладает какое-то созвучие. А это предполагает, что не все является peripeteia, потому что сама peripeteia утратила бы свое значение, коль скоро наше ожидание порядка оказалось бы во всех отношениях обманутым. Для того чтобы произведение вновь завладело вниманием читателя, необходимо понять разрушение интриги как адресованный читателю призыв к участию в произведении, к самостоятельному созданию интриги. Если мы ожидали порядка, то испытаем разочарование, не обнаружив его; и это разочарование сменится удовлетворением лишь в том случае, если читатель, принимая эстафету от автора, создаст произведение, которое автор постарался разрушить. Фрустрация не может быть последним словом. Читателю должна быть предоставлена возможность самому заняться композицией. Ибо игра ожидания, разочарования и работы по восстановлению порядка осуществима лишь тогда, когда условия ее успешности включены в негласный или открытый договор автора с читателем: я разрушаю произведение, вы его восстанавливаете, как сможете. Но для того чтобы сам договор был честным, автор, отнюдь не отказываясь от условностей композиции, должен ввести новые условности, более сложные, более* тонкого свойства, более скрытые и хитроумные, нежели условности традиционного романа, короче, условности, выводимые из последних посредством иронии, пародии, насмешки. Стало быть, самые смелые удары, нанесенные парадигматическим ожиданиям, не выходят за рамки «правилосообразной деформации», благодаря которой инновация постоянно чередуется с седиментацией. Абсолютный скачок за пределы всякого парадигматического ожидания невозможен.
Эта невозможность особенно отчетливо видна в трактовке времени. Одно дело — отбросить хронологию, совсем другое отказаться от всякого замещающего ее принципа конфигурации. Нельзя думать, что рассказ способен обойтись вообще без конфигурации. Время романа может порвать связи с реальным временем: таков закон вхождения в сферу вымысла. Но оно не может не конфигурировать его сообразно новым нормам временно́й организации, которые тоже будут восприняты читателем как временны́е благодаря новым ожиданиям, связанным со временем вымысла (мы рассмотрим их в четвертой части). Полагать, что со временем вымысла покончено, так как удалось привести в беспорядок, нарушить, перевернуть, столкнуть, удвоить временны́е модальности, к которым приучили нас парадигмы романа, построенного на условностях, значит полагать, что единственно мыслимым временем является имен-
33
но хронологическое время. Это значит сомневаться в том, что вымысел располагает средствами для создания своих собственных временных измерений и что откликом на эти средства могли бы стать читательские ожидания, связанные со временем, гораздо более тонкого свойства, нежели те, что соотносятся с линейной последовательностью49.
Итак, следует принять вывод, сделанный Фрэнком Кермоудом в конце первого очерка и нашедший подтверждение в его пятом очерке: ожидания, сопоставимые по значению с теми, что породил Апокалипсис, весьма стойки, но все же они меняются и в этом процессе обретают новую убедительность.
Это заключение особенно проясняет мои слова о стиле традиционности, характеризующем парадигмы. Кроме того, оно предлагает критерий для «различения форм модернизма» (р. 114). Для прежнего модернизма модернизма Паунда, Йитса, У. Льюиса, Элиота и даже Джойса (см. пояснения по поводу Джойса на р. 113-114) — прошлое остается источником порядка, даже тогда, когда оно осмеивается и очерняется. Для более позднего модернизма, который автор называет раскольническим, порядок — это то, что следует отрицать. В этом плане Беккет знаменует собой поворот к расколу, «the shift towards schism» (p. 115). Он — «извращенный теолог мира, пережившего грехопадение и опыт боговоплощения (которое изменяет все отношения между прошлым, настоящим и будущим), но не желающего достичь спасения» (р. 115). Поэтому он сохраняет ироническую и пародийную связь с христианскими парадигмами, и именно этот порядок, инвертированный иронией, позволяет защитить интеллигибельность. «Но как бы то ни было, то, что берет под защиту интеллигибельность, предотвращает раскол» (р. 116). «Раскол лишается смысла вне референции к какому-то предшествующему состоянию; абсолютно Новое —именно в качестве нового — просто не может быть постигнуто умом» (ibid.). «...Новизна как таковая предполагает существование того, что не является новым, — прошлого» (р. 117). В этом смысле «новизна — это феномен, который затрагивает прошлое в целом; ничто не может быть новым само по себе» (р. 120). Лучше всех об этом сказал Э. Х. Гомбрих: «The innocent eye sees nothing»* (op. cit., p. 102).
Эти энергичные суждения подводят нас вплотную к тому, что я назвал вопросом о доверии (позже мы увидим, что лучше не скажешь): почему мы не можем почему мы не должны избегать парадигмы порядка, сколь бы утонченной, замысловатой, запутанной она ни была?
Фрэнк Кермоуд затруднил себе ответ, поскольку его собственная концепция отношения литературного вымысла к религиозному мифу в апокалиптике рискует подорвать основы его веры в выживание парадигм, определяющих ожидания читателем завершения. Переход от неизбежного конца к имманентному, по его мнению, есть в действительности результат «скептицизма грамотеев», противостоящий наивной вере в реальность ожидаемого Конца. А потому статус имманентного конца — это статус демифологизированного мифа в смысле Р. Бультманна или, я бы сказал, в смысле расколотого мифа по Паулю Тиллиху. Если перенести на литературу судьбу эсхатологического мифа, то всякий вымысел, в том числе и
* «Простодушный глаз ничего не замечает» (англ.). — Прим. перев.
34
литературный, тоже предстает как функция расколотого мифа. Миф, ставший литературным, сохраняет, конечно, космическую направленность, как мы видели это у Нортропа Фрая, но поддерживающая его вера разъедается «скептицизмом грамотеев». Мы видим здесь полное расхождение между Нортропом Фраем и Фрэнком Кермоудом. Именно там, где первый усматривал направленность всего мира дискурса к «абсолютно спокойному центру вербального порядка», Кермоуд обнаруживает, по примеру Ницше, потребность в утешении перед лицом смерти, которая в известной мере делает вымысел мошенничеством50. Лейтмотивом всей книги является идея о том, что придумывание (fiction) конца, разнообразное по формам теологическим, политическим и литературным, должно быть способом утешения перед лицом смерти. Вот откуда та двойственная и волнующая тональность — я бы сказал, Unheimlichkeit*, — которая так завораживает в книге «The Sense of an Ending»51.
Таким образом утверждается разрыв между правдивостью и утешением. Вследствие этого автор постоянно балансирует между неодолимым подозрением, что вымыслы лгут и плутуют в той мере, в какой утешают52, и убеждением, равно неодолимым, что вымыслы не являются произвольными, поскольку отвечают потребности, над которой мы не властны, потребности наложить печать порядка на хаос, печать смысла — на бессмыслицу, согласия — на несогласие53.
Такая позиция объясняет, почему Фрэнк Кермоуд отвечает на гипотезу о расколе, которая в конце концов представляет собой лишь самое крайнее следствие «скептицизма грамотеев» по отношению ко всякому вымыслу о согласии, простым «и все же...». Так, упомянувслова О. Уайльда «the decay of lying»**, он восклицает: «And yet, it is clear, this is an exaggerated statement of the case. The paradigms do survive, somehow. If there was a time when, in Steven's words, “the scene was set”, — it must be allowed that it has not yet been finally and totally struck. The survival of the paradigms is as much our business as their erosion»54 (p. 43).
He потому ли Ф. Кермоуд сам загнал себя в подобный тупик, что он неосторожно поставил и преждевременно разрешил проблему отношений между «вымыслом и реальностью» (ей посвящен отдельный очерк), вместо того чтобы оставить ее на время в неопределенности, как мы пытаемся сделать здесь, отделяя проблемы конфигурации в плане мимесис-II от проблем рефигурации в плане мимесис-III? Нортроп Фрай был, по-моему, в целом более осмотрителен в постановке этой проблемы, приписывая мифу об Апокалипсисе лишь литературный статус и не упоминая о религиозном значении, которое он может обрести в эсхатологической перспективе истории спасения. Нортроп Фрай, пожалуй, с самого начала более догматичен, чем Фрэнк Кермоуд, в своем определении эсхатологического мифа как «спокойного центра...». Он в конечном счете поступает осторожнее, чем Кермоуд, не допуская смешения литературы и религии: лишь в гипотетической сфере символов, сказали мы, осуществляется их анагогическое объединение. Постоянная контаминация литературного вымысла и расколотого мифа составляет одновременно силу
* мистический страх (нем.). — Прим. перев.
** «упадок вымысла» (англ.). — Прим. перев.
35
и слабость книги Фрэнка Кермоуда: силу — благодаря широте, приписываемой царству вымысла, слабость из-за конфликта между верой в парадигмы и «скептицизмом грамотеев», проистекающего из сближения вымысла и расколотого мифа. Что же до решения, то я называю его преждевременным, подразумевая под этим, что автор не оставил намерению придать жизни смысл иной перспективы, нежели та, за которую ратует Ницще в «Происхождении трагедии»: необходимо набросить аполлоническую вуаль на дионисийское очарование хаоса, если мы не хотим погибнуть из-за того, что посмели созерцать ничто. На этой стадии наших размышлений мне кажется оправданным сохранить в памяти на будущее иные возможные отношения между вымыслом и реальностью человеческого действия и страдания, нежели утешение, сведенное к жизнеутверждающей лжи. Преображение (transfiguration), как и искажение (défiguration), изменение (transformation), как и откровение (révélation), тоже имеют свои права, которые необходимо оберегать.
Если же вести разговор об апокалиптическом мифе лишь под углом зрения литературного вымысла, следует найти иные корни потребности конфигурировать рассказ, чем ужас перед бесформенным. Я, со своей стороны, считаю, что поиски согласия входят в число неустранимых предпосылок речи и коммуникации55. Либо связная речь, либо насилие, говорил Эрик Вайль в «Логике философии». Универсальная прагматика дискурса утверждает именно это: интеллигибельность постоянно сама себе предшествует и сама себя оправдывает.
А если так, то всегда возможно отказаться от связной речи. Это мы тоже прочитали у Эрика Вайля. В применении к сфере повествования, такой отказ означает конец всякой нарративной парадигмы, смерть рассказа.
Эту возможность с ужасом описывал Вальтер Беньямин в своем знаменитом эссе «Der Erzähler»56. Может быть, мы находимся в конце эпохи, где рассказу нет больше места, потому что, по словам Беньямина, у людей больше нет опыта, которым можно поделиться. В засилье рекламы и информации он видел симптом безвозвратного ухода повествования.
А может, мы и вправду являемся свидетелями — и пособниками — особого рода смерти, смерти искусства рассказывать сказки, из которого проистекает искусство рассказа во всех его формах. Быть может, роман как повествование тоже умирает. Действительно, вполне можно допустить, что кумулятивный опыт, который, по крайней мере в культурном пространстве Запада, породил вполне определенный исторический стиль, сегодня находится при смерти. Сами парадигмы, о которых говорилось прежде, представляют собой лишь осадочные (sédimentés) отложения традиции. Ничто, таким образом, не мешает предположить, что метаморфоза интриги натолкнется где-нибудь на границу, за которой больше нельзя будет распознать формальный принцип временно́й конфигурации, делающей из рассказанной истории единую и завершенную историю. И все же... И все же, быть может, нужно вопреки всему доверять потребности в согласии, до сих пор еще структурирующей ожидания читателей, и верить, что уже рождаются новые повествовательные формы, которые мы пока не можем назвать, что нарративная функция может видоизменяться, но не может умереть57. Ибо мы не в состоянии представить себе культуру, где люди больше не знали бы, что значит рассказывать.
36
II. Семиотические ограничения повествовательности.
Сопоставление нарративного понимания, чьи истоки лежат в непрерывном усвоении в ходе истории — модальностей построения интриги, и рациональности, за которую ратует нарративная семиотика, во введении к данному тому было отнесено к сфере углубления. Под углублением мы понимаем исследование глубинных структур, которые на поверхности рассказа отображаются в конкретных повествовательных конфигурациях.
Нетрудно понять наш замысел. Предшествующее исследование привело нас к парадигмам, которые характеризуют стиль традиционности, присущий нарративной функции. Если и можно полагать, что этим парадигмам свойственна известная долговечность, ей далеко до вневременности, приписываемой сущностям: она остается скорее погруженной в историю форм, жанров и типов. Заключительное упоминание о возможной смерти искусства рассказа даже показало, сколь непрочна эта долговечность нарративной функции, наличествующей, однако, в тысячах этнических культур, изученных культурной антропологией.
Ввиду такой бренности долговременного семиотическое исследование руководствуется главным образом стремлением положить в основу нарративной функции правила игры, неподвластные истории. С этой точки зрения наш предшествующий анализ, вероятно, должен показаться закоренелым историцизмом. Если нарративная функция в силу свойственного ей стиля традиционности может притязать на долговечность, основу последней должны составить ахронические ограничения. Короче, следует оставить историю ради структуры.
Как же это сделать? Путем методологической революции, подобной той, итогом которой в эпистемологии историографии стала попытка дополнить рациональностью логического типа понимание, заключенное в самом создании повествовательных текстов (récits). В этой методологической революции мы можем выделить три главные черты.
Прежде всего, речь идет о том, чтобы максимально приблизиться к дедуктивным операциям с помощью моделей, построенных аксиоматическим способом. Этот выбор находит свое оправдание в том факте, что мы сталкиваемся с практически неисчислимым разнообразием повество-
37
вательных выражений (устные, письменные, графические, жестовые) и нарративных классов (миф, фольклор, басня, роман, эпопея, трагедия, драма, фильм, комикс, не говоря уже об истории, живописи, беседе). Эта ситуация делает неприемлемым всякий индуктивный подход. Остается лишь дедуктивный путь, то есть конструирование гипотетической модели описания, в которой можно было бы выделить несколько основных подклассов58.
А какая же дисциплина, имеющая дело с фактами языка, в наибольшей мере удовлетворяет этому идеалу рациональности, если не лингвистика? Второй характерной чертой нарративной семиотики является, таким образом, конструирование ею моделей по образцу лингвистики. Такая достаточно широкая формулировка позволяет охватить очень разные подходы, наиболее радикальные из которых нацелены на то, чтобы вывести, исходя из языковых структур подфразового уровня, структурные значения единиц больших, чем фраза. То, что предлагает здесь лингвистика, можно резюмировать следующим образом: в данном языке всегда можно выделить код сообщения, или, как говорил де Соссюр, отделить язык (langue) от речи (parole). Систематичными являются именно код, язык. Сказать, что язык систематичен, — значит допустить, кроме всего прочего, что аспект синхронии, или одновременности, может быть отделен в нем от диахронического аспекта, то есть аспекта последовательности и историчности. Что же касается системной организации, ее, в свою очередь, можно освоить, если свести ее к конечному множеству базовых различительных единиц, системных знаков, и установить комбинаторную совокупность правил, порождающих все ее внутренние отношения. При этих условиях структура может быть определена как замкнутое множество внутренних отношений между конечным числом единиц. Имманентность отношений, то есть индифферентность системы к внелингвистической реальности, — это важное следствие правила закрытости (clotûre), характеризующего структуру.
Как известно, эти структурные принципы с наибольшим успехом были применены сначала к фонологии, затем к лексической семантике и к правилам синтаксиса. Структурный анализ рассказа можно рассматривать как одну из попыток распространения или транспозиции этой модели на лингвистические единицы сверхфразового уровня, тогда как для лингвиста предельной сущностью является фраза. Но то, что мы находим выше фразы, и есть дискурс в точном смысле слова, то есть последовательность фраз, содержащая, в свою очередь, собственные правила композиции (долгое время одной из задач классической риторики было исследование этой упорядоченности речи). И рассказ является, как мы только что отметили, одним из самых обширных классов дискурса, то есть последовательностью фраз, подчиненных определенному порядку.
Теперь расширение структурных принципов лингвистики может означать разного рода деривации — от туманной аналогии до строгой гомологии. Эту вторую возможность решительно защищает Ролан Барт в работе «Введение в структурный анализ повествовательных текстов»: «Рассказ — это большое предложение, а повествовательное предложение это в известном смысле наметка небольшого рассказа» (с. 39). До-
38
водя свою мысль до конца, Ролан Барт заявляет: «Выдвигаемый здесь принцип гомологии имеет не только эвристическую ценность: он предполагает своего рода тождественность языка и литературы» (там же).
Третья основная черта, чьи импликации чрезвычайно важны в случае рассказа, такова: среди структурных свойств лингвистической системы наибольшее значение имеет ее органический характер. Под этим следует понимать приоритет целого над частями и вытекающую из него иерархию уровней. Заметим, что французские структуралисты придавали гораздо большее значение этим интегративным возможностям лингвистических систем, чем приверженцы чисто дистрибуционалистских моделей американского структурализма. «Каково бы ни было число предлагаемых уровней и какое бы определение мы им ни давали, не следует сомневаться в том, что рассказ представляет собой иерархию инстанций»59.
Эта третья черта заведомо самая важная: она в точности соответствует тому, что мы описали в плане нарративного понимания как конфигурирующую операцию. Именно ее семиотика постарается воспроизвести с помощью иерархизирующих и интегративных средств логической модели. Будем ли мы вслед за Цветаном Тодоровым различать уровень истории (включающий в себя два уровня интеграции — уровень действий с присущей ему логикой и уровень персонажей с его синтаксисом) и уровень дискурса, содержащий времена, виды и наклонения рассказа60, — или вслед за Роланом Бартом уровень функций, то есть сегментов действия, формализованных в смысле Проппа и Бремона61, затем уровень действий и актантов (как у Греймаса), и, наконец, снова с Тодоровым, уровень наррации, где повествование является предметом обмена между дарителем и получателем, в любом случае утверждается, что рассказ, подобно языку, представляет собой комбинацию двух основных процессов: членения и интеграции, придания формы и придания смысла62.
Именно это состязание между членением и интеграцией мы будем анализировать на последующих страницах, взяв за исходный пункт методологическую революцию, которая завершается вытеснением истории во имя структуры. Путеводной нитью нашего анализа станет, таким образом, прогресс, достигнутый семиотикой в реконструкции той способности к членению и интеграции, которая характеризует построение интриги на уровне рациональности, где отношение между формой и смыслом лишается всякой отсылки к повествовательной традиции. Пробным камнем такой реконструкции станет замещение «ахроническими» ограничениями стиля традиционности, присущего нарративной функции. Нарративная семиотика тем лучше будет удовлетворять этим главным характеристикам, чем в большей мере ей удастся, по словам Барта, дехронологизировать и логизировать рассказ.
Она справится с этой задачей, если подчинит всякий синтагматический, то есть временно́й, аспект рассказа соответствующему парадигматическому, то есть ахроническому аспекту63.
*Чтобы понять предмет дискуссии, начало которой было положено этим распространением лингвистики на сферу нарративной семиотики, следует оценить размах революции, в которую вылилось совершенное
39
нарративной семиотикой стратегическое изменение плана. Невозможно переоценить трансформацию самого объекта исследования, которую влечет за собой структурный анализ, когда он переносится из фонологии или лексической семантики на повествовательные тексты, такие как миф, сказка, героический рассказ. Будучи приложен к подфразовым единицам — от фонемы до монемы и лексемы, — структурный анализ не имеет дела с объектами, уже включенными в сетки символической обработки. Стало быть, он не вступает в конкуренцию с какой-либо другой тактикой, где предмет его изучения уже фигурировал бы как отдельный культурный объект64. Вымышленный рассказ, напротив, еще до выхода нaсцену семиотики являл собой, именно в качестве рассказа, объект для практики и понимания. Поэтому ситуация здесь та же, что и в истории, где исследованию с его притязаниями на научность предшествовала легенда и хроника. Вот почему напрашивается сравнение между тем знанием, которое может приобрести семиотическая рациональность по отношению к нарративному пониманию, и судьбой номологической модели в историографии, описанной во второй части нашей работы. Действительно, предметом дискуссии в нарратологии также является степень автономии по отношению к пониманию интриги и ко времени интриги, — автономии, которую следует предоставить процессу логизации и дехронологизации.
Применительно к логизации вопрос состоит в том, годится ли для нарратологии решение вроде того, что было предложено в историографии. наш тезис, напомним, состоял в том, что номологическое объяснение не может заменить собой нарративного понимания, а может быть только интерполировано в него, в соответствии с изречением: чем больше мы объясняем, тем лучше понимаем. А номологическое объяснение не может заменить собою нарративного понимания, ибо оно заимствует у последнего черты, оберегающие неупразднимо исторический характер истощи. Следует ли также говорить здесь, что семиотика, чье право на существование не подвергается сомнению, сохраняет свой нарративный характер лишь в той мере, в какой она заимствует его у присущего рассказу предварительного понимания, широта которого была продемонстрирована в предыдущей главе?
Что же касается дехронологизации, представляющей собой лишь оборотную сторону логизации65, она, по сути дела, вновь ставит под вопрос отношение между временем и вымыслом. Речь теперь идет не просто об сторичности нарративной функции (мы назвали это стилем традиционности), как в предыдущей главе, но о диахроническом характере самой рассказываемой истории в ее отношении к синхроническому, или, скорее, ахроническому измерению глубинных структур повествовательности. В этом плане изменение терминологии, касающееся нарративного времени, не так уж безобидно: говорить о синхронии и диахронии66 это значит уже попасть в сферу влияния новой рациональности, надстраивающейся над нарративным пониманием, которое прекрасно соответствовало аристотелевской и августиновской характеристике времени как несогласного согласия. Поставленный логизацией вопрос возникает в той же форме и в связи с дехронологизацией: возможно ли реинтерпретировать диахронию рассказа лишь в семиотическом плане, средствами од-
40
ной грамматики глубинных структур? Или же она поддерживает с временно́й структурой рассказа, описанной в первой части нашей книги, отношение внешней автономии и скрытой зависимости, подобное тому, что мы попытались установить между объяснением и пониманием в плане историографии?
1. Морфология сказки по Проппу67
Две причины побудили меня начать обсуждение логизации и дехронологизации нарративных структур с критического исследования «Морфологии сказки» Проппа. С одной стороны, импульс к логизации мэтр русского формализма получил именно от морфологии, то есть описания «сказки по составным частям и отношению частей друг к другу и к целому» (с. 23). И эту морфологию он прямо возводит к Линнею68, то есть к таксономической концепции структуры, а также — в менее явной форме — к Гёте, то есть к органической концепции структуры69. Уже в связи с этим возникает вопрос, не свидетельствует ли сопротивление в рамках морфологии органической точки зрения точке зрения таксономической в пользу принципа конфигурации, не сводимого к формализму. С другой стороны, в своей линейной концепции организации сказки Пропп прерывает на полпути попытку полной дехронологизации нарративной структуры. Можно также задаться вопросом, не связаны ли причины, помешавшие упразднить хронологическое измерение сказки, с теми, что воспрепятствовали таксономической точке зрения поглотить точку зрения органическую и таким образом не дали возможности морфологии удовлетворить требование более радикальной логизации.
Морфология Проппа характеризуется главным образом тем, что она отдает функциям примат над персонажами. Под функцией автор понимает сегменты действия, точнее — абстракции действия, такие как удаление, запрет, нарушение, вопрошание, информирование, обман, сообщничество, он называет лишь семь исходных функций; эти функции, выступающие в бесчисленных конкретных формах, неизменно присущи всем сказкам и могут быть определены независимо от персонажей, выполняющих эти действия.
Первый из четырех основных тезисов, высказанных в начале работы, очень точно определяет этот примат функции в морфологии: «Постоянными, устойчивыми элементами сказки служат функции действующих лиц независимо от того, кем и как они выполняются. Они образуют основные составные части сказки» (с. 25). Но мы видим, как в комментарии, предшествующем этому определению, находит выражение упомянутое нами выше соперничество между органической и таксономической точками зрения: «Под функцией понимается поступок действующего лица, определяемый с точки зрения его значимости для хода действия»70 (там же). Эта ссылка на интригу как телеологическое единство заранее корректирует чисто аддитивную концепцию отношений между функциями внутри сказки.
Однако именно эта аддитивная концепция постепенно утверждается в последующих тезисах, и прежде всего во втором: «Число функций, изве-
41
стных волшебной сказке, ограниченно» (там же). Мы затрагиваем здесь общий постулат всех формалистов: внешние проявления неисчислимы, но основные компоненты составляют конечное число. Оставив в стороне вопрос о действующих лицах, число которых, как мы увидим в дальнейшем, очень невелико (Пропп сократил его до семи), автор прилагает этот принцип конечного числа именно к функциям. Только высокая степень абстракции, присущая определению функций, позволяет свести их количество к нескольким десяткам, точнее, к тридцать одной71. Здесь наш первоначальный вопрос возвращается в новой форме: каков принцип завершения ряда (série)? Связан ли он с тем, что мы только что назвали интригой, или же с каким-то другим фактором интеграции в последовательность (série)?
Третий тезис выносит решение в пользу второй интерпретации: «Последовательность функций всегда одинакова» (там же). Идентичность последовательности обусловливает идентичность сказки. Правда, этот тезис свидетельствует о неустранимости хронологии в модели Проппа. Этот же аспект модели станет точкой расхождения для его сторонников: одни, более близкие к Проппу, сохранят в своей модели хронологический фактор; другие, следуя скорее примеру Леви-Стросса, попытаются свести этот фактор к лежащей в его основе комбинаторике, максимально лишенной временно́го характера. Но хотя благодаря третьему тезису модель Проппа останавливается, как мы сказали, на полпути к дехронологизации и логизации рассказа, следует сразу же подчеркнуть, что временность, сохраненная им на уровне самой модели, остается именно хронологией в смысле правильной последовательности. Пропп никогда не задается вопросом, в каком времени следуют друг за другом функции; его интересует только отсутствие произвола в последовательности. Вот почему аксиома последовательности сразу же принимается за аксиому порядка. Идентичной последовательности достаточно, чтобы обеспечить идентичность самой сказки.
Четвертый тезис дополняет третий; он гласит, что все русские сказки, выстраивая в ряд одни и те же функции, составляют один и тот же рассказ: «...все известные сказке функции разместятся в один рассказ» (с. 26). Поэтому «все волшебные сказки однотипны по своему строению» (с. 33). В этом смысле все русские сказки в совокупности суть лишь варианты одной-единственной сказки, представляющей собой отдельную сущность, образованную из последовательности функций, которые по своей природе являются родовыми. Ряд из тридцать одной функции заслуживает названия протоформы волшебной сказки в целом, вариантами которой являются все известные сказки. Этот последний тезис позволяет последователям Проппа противопоставить структуру и форму. Форма — это форма единственной сказки, лежащей в основе всех ее вариантов; структура же станет комбинаторной системой, гораздо более зависимой от интриг, в сравнении с определенной культурной конфигурацией русской сказки72.
Четыре тезиса Проппа ставят — каждый на свой лад — вопрос о постоянстве унаследованного от Гёте органического мышления, которое дает о себе знать и в таксономическом дискурсе, воспринятом от Линнея; этот же вопрос возникает всякий раз, идет ли речь о циркулярном отно-
42
шении между определением понятия функции и развертыванием интриги (первый тезис), о том, что число функций должно быть конечным (второй тезис), о своего рода необходимости, руководящей их последовательностью (третий тезис), и, наконец, о статусе протоформы, одновременно единичной и типической, к которой сводится единая цепочка из тридцати одной функции (четвертый тезис).
Подробное приведение примеров, следующее за формулировкой тезиса, со всей отчетливостью демонстрирует скрытый конфликт между по преимуществу телеологической концепцией порядка функций и по большей части механистической концепцией их сцепления.
Прежде всего удивляет, что экспозиция «исходной ситуации» (с. 29) не считается функцией, хотя она «представляет собою важный морфологический элемент» (там же). Какой же именно? Это элемент зачина (ouverture) рассказа. Но зачин, соответствующий тому, что Аристотель называет «началом» (commencement), можно определить только телеологически, по отношению к интриге в целом. Вот почему Пропп не учитывает его в своем перечислении функций, строго подчиненном принципу линейной сегментации.
Далее, можно заметить, что семь первых функций, перечисленных выше, одновременно определяются и по отдельности, и как образующие некое подмножество, как «подготовительная часть сказки» (с. 34); взятые вместе, эти функции, действительно, вводят вредительство или его эквивалент, нехватку. А эта новая функция не просто является одной из функций: ею создается «движение сказки» (с. 33). Данная функция в точности соответствует тому, что Аристотель называет завязкой (dêsis) интриги, требующей развязки (lusis). Вот почему «первые семь функций могут рассматриваться как подготовительная часть сказки, тогда как вредительством открывается завязка» (с. 34). В этом качестве вредительство (или недостача) образует стержень интриги в целом. Значительное число видов вредительства (Пропп насчитывает их девятнадцать!) наводит на мысль, что присущая этой функции высокая степень абстракции в меньшей мере связана с ее родовым расширением, большим, чем у других функций, нежели с ее ключевой позицией — на повороте интриги. В этом отношении примечательно, что Пропп не предлагает родового термина для обозначения вредительства и нехватки. Данные функции сходны в том, что обе они служат поводом для поиска. По отношению к поиску вредительство и недостача выполняют одну и ту же роль: «В первом случае недостача создается извне, во втором она осознается изнутри... Эту недостачу можно сравнить с нулем, который в ряду цифр представляет собой определенную величину» (с. 3637). (Нельзя не вспомнить здесь о пустой клеточке у Клода Леви-Стросса в знаменитом «Введении в творчество Марселя Мосса»73.) В самом деле, вредительство (или недостача) есть своего рода начало (с. 37) именно поиска. А поиск не является, собственно говоря, какой-либо определенной функцией, но сообщает сказке то, что выше было названо «движением». Понятие поиска отныне постоянно будет нас сопровождать: Пропп распространяет даже на подразряд VIII-XI (от появления героя на сцене до его отбытия) способность служить завязкой действия, ранее приписанную вредительству: эти элементы, отмечает
43
он, «представляют собой завязку сказки. Далее развивается ход действия» (с. 40). Это замечание свидетельствует о близости между завязкой и поиском в сцеплении функций. Следующий подразряд (XI-XIV) от испытания героя до получения магического предмета драматизирует вступление героя во владение средством, помогающим восстановить попранную справедливость; первое (испытание) имеет значение подготовки, а последнее выполнения, и предлагаются многочисленные комбинации, чтобы привести их в соответствие друг другу; мы видим их на таблице (с. 46), предвестнице комбинаторных опытов, продемонстрированных в первой модели Греймаса.
Следующие функции — от путеводительства до победы над вредителем (XV-XVIII) тоже образуют подразряд, так как ведут к ликвидации начальной беды или недостачи (XIX). Пропп говорит об этой последней функции, что она «образует пару с нанесением вреда или с бедой в завязке... Этой функцией рассказ достигает своей вершины» (с. 51). Вот почемy возвращение (XX) героя обозначается не буквой, а перевернутой стрелкой (↓), которая соответствует отправке, обозначенной (↑). Невозможно было бы лучше подчеркнуть преимущество принципа телеологиеского единства над принципом сегментации и простой последовательности функций. Впрочем, последующие функции (XXI-XXVI) лишь оттягивают развязку благодаря новым опасностям, новым битвам, новой помощи, маркированным вмешательством ложного героя и согласием героя взяться за трудную задачу. Эти фигуры повторяют вредительство, завязку и развязку. Что же касается последних функций, от узнавания героя (XXVII) до наказания ложного героя (XXX) и свадьбы (XXXI), то они образуют последний подразряд, играющий роль заключения применительно к интриге, взятой как целое по отношению к ее завязке: «Этим сказка завершается» (с. 59). Но что же вынуждает завершать действие таким образом? Странно, что Пропп говорит здесь о «логической и художественной необходимости» (с. 60), характеризуя последовательное развертывание ряда. В силу этой двойной необходимости «схема», образованная однолинейным рядом из тридцати одной функции, сыграет роль «единицы мерки» (там же) по отношению к рассмотренным по отдельности сказкам74. Но что сообщает ряду такое единство?
Ответ частично дается ролью, которую в синтезе действия играют персонажи. Пропп разделяет их на семь классов: антагонист (вредитель), даритель (donateur), помощник, искомый персонаж, отправитель, герой, южный герой (с. 72-73). Напомним, что Пропп начал с отделения персонажей от функций, чтобы определить сказку только с помощью постепенного развертывания последних. Однако любая функция может быть определена лишь путем приписывания ее персонажу. Это обусловлено тем, что существительные, выражающие функцию (запрет, вредительство и т.п.), отсылают к глаголам действия, всегда требующим агента75. Кроме того, способ соединения внутри рассказа персонажей с функциями вступает в противоречие с сегментацией, которая обусловливала различение этих функций; персонажи соотносятся с группами, отводящими каждому его собственную сферу деятельности. Понятие круга действия вводит поэтому новый синтетический принцип в распределение функций: «Многие функции логически объединяются по известным кругам. Эти круги в це-
44
лом и соответствуют исполнителям. Это — круги действия» (с. 72)... «Вопрос о распределении функций может быть разрешен в плоскости вопроса о распределении по персонажам кругов действий» (с. 73). Здесь возможны три случая: или круг действия в точности соответствует персонажу (отправитель посылает героя в путь), или персонаж занимает несколько кругов действий (вредитель — три, даритель — два, помощник — пять, искомое лицо шесть, герой четыре, ложный герой — три); или же один круг действий распределяется по нескольким персонажам (так, отправка на поиски вводит в действие героя и ложного героя).
Таким образом, именно персонажи опосредуют поиск; страдает ли герой от действий вредителя в момент завязки интриги, предпринимает ли он попытку исправить вред или возместить нехватку, предоставляет ли даритель, со своей стороны, герою средство восстановить справедливость, — во всех этих случаях именно персонажи обусловливают единство подмножеств функций, определяющих завязку действия и развитие поиска. В связи с этим можно поставить вопрос, не лежат ли в основе любого построения интриги взаимопорождающие процессы развития характера и развития рассказываемой истории76. Вот почему не удивительно, что Пропп называет и другие элементы связи, помимо функций и персонажей: мотивировки, формы появления действующих лиц с их атрибутами или аксессуарами: «Эти пять разрядов элементов определяют собой уже не только конструкцию сказки, но и всю сказку в целом» (с. 87). Но разве функцией построения интриги, начиная с аристотелевского определения mythos, не является как раз объединение столь разных элементов в том, что мы назвали синтезом разнородного и что на более сложных примерах было уже проиллюстрировано историографией?
Заключительные рассуждения Проппа, приложенные к «сказке как целому» (с. 83), подтверждают отмеченный нами факт: на протяжении всей его работы в ней соперничают две концепции порядка, которые мы обозначили именами соответственно Гёте и Линнея. Сказка есть одновременно последовательность (Пропп говорит еще — «схема») и ход (séquence). Последовательность: «Волшебная сказка есть рассказ, построенный на правильном чередовании приведенных функций в различных видах, при отсутствии некоторых из них для каждого рассказа и при повторении других» (с. 89). Ход: «Морфологически волшебной сказкой может быть названо всякое развитие от вредительства (А) или нехватки (а) через промежуточные функции к свадьбе (С) или другим функциям, использованным в качестве развязки. ... Такое развитие названо нами ходом. Каждое новое нанесение вреда или ущерба, каждая новая недостача создает новый ход. Одна сказка может иметь несколько ходов, и при анализе текста прежде всего следует определить, из скольких он состоит ходов» (с. 83)77. На мой взгляд, эта единица счета — ход, — которая влечет за собой новую комбинацию78, не является результатом деления на функции, а предшествует ему: она представляет собой телеологический ориентир в распределении функций во всей цепочке и управляет подразрядами, такими как подготовительная фаза, завязка интриги, запаздывание, развязка. Соотнесенные с этим единственным импульсом, отдельные сегменты последовательности выполняют роль перемены, перелома и узнавания в трагическом mythos. Короче, они составляют «сердцевину»
45
интриги. И повествовательное время — не просто последовательность сегментов, внешних по отношению друг к другу, а длительность, растянутая (tendue) между началом и концом.
Я не делаю из этого критического обзора вывода о совпадении пропповской протосказки с тем, что мы с самого начала называем интригой. Протосказка, реконструированная Проппом, — это не сказка: ее, как таковую, никто никому не рассказывает. Это продукт аналитической рациональности: деление на функции, родовое определение функций и размещение их на единой оси последовательности суть операции, превращающие исходный культурный объект в объект научный. Такая трансформация становится очевидной, когда алгебраическая запись всех функций, упразднив обозначения, заимствованные из обыденного языка, оставляет место лишь для чистой последовательности из тридцати одного соположенного знака. Данная последовательность больше даже не является протосказкой, ибо это вовсе не сказка — это ряд, то есть линейный след хода.
Следовательно, рациональность, создающая этот ряд путем деления исходного культурного объекта, не может заменить собой нарративного понимания, присущего созданию и восприятию сказки, ибо она постоянно заимствует что-то у этого понимания, чтобы конституировать саму себя. Ни одна из операций деления или размещения функций в ряду не может обойтись без референции к интриге как динамическому единству и к построению интриги как структурирующей операции. Сопротивление, оказываемое органической и телеологической концепцией порядка в духе Гёте таксономической и механистической концепции последовательного развертывания функций в духе Линнея, стало для меня симптомом этой косвенной референции к интриге. Итак, вопреки эпистемологическому разрыву, который утверждает нарратологическую рациональность, между ней и нарративным пониманием можно обнаружить опосредованную филиацию, сравнимую с той, что существует между нарративным пониманием и историографической рациональностью (об этом шла речь во второй части нашей книги79).
2. За логику рассказа
Сделаем еще один шаг на пути логизации и дехронологизации повествования, исходя скорее из персонажей, нежели из действий, и соответствующим образом формализуя роли, которые эти персонажи могут играть во всяком рассказе. Таким образом мы могли бы постичь логику повествования, отправным пунктом которой был бы систематический перечень основных возможных повествовательных ролей, то есть позиций, которые могут занимать персонажи любого рассказа. Такую попытку предпринял Клод Бремон в работе «Логика повествования»80. Вопрос для нас заключается в том, какой статус приписывается интриге и ее темпоральности в логике рассказа, исходящей из оснований, противоположных пропповским.
Действительно, логически ориентированная модель, предложенная Клодом Бремоном, базируется на критической рефлексии по поводу работы Проппа.
46
Автор оспаривает главным образом способ последовательного сцепления «функций» в модели Проппа: это соединение, полагает он, производится там жестким, механическим, принудительным образом, не оставляющим места для альтернатив и выбора (р. 18-19). Такое ограничение объясняет, почему схема Проппа прилагается только к русской сказке: именно такая сказка представляет собой этот «ход» из тридцати одной тождественных функций. Тем самым модель Проппа ограничивается утверждением культурного выбора, конституировавшего русскую сказку как одну из разновидностей в сфере «рассказов». Чтобы восстановить формальную нацеленность модели, следует вновь открыть альтернативные возможности, закрытые однозначной последовательностью русской сказки, и заменить однолинейную траекторию, которую она проходит, картой вероятных ее маршрутов.
Но каким образом можно вновь открыть закрытые альтернативные возможности? Это можно сделать, по мнению Клода Бремона, поставив под вопрос телеологическую необходимость, которая восходит от конца к началу: в рассказе зло совершается для того, чтобы злодей был наказан. Ретроспективная необходимость, определяемая законом временно́й финальности, словно бы преграждает путь альтернативам, с которыми, напротив, сталкивается поступательное движение: борьба приводит либо к победе, либо к поражению. Но телеологическая модель знает лишь победоносную борьбу (р. 31-32): «То, что победа предполагает борьбу, есть требование логики; то, что борьба предполагает победу, это стереотип культуры» (р. 25).
Если мы не хотим остаться в плену у типической интриги, подобной пропповскому ряду, следует принять за основную единицу то, что Клод Бремон называет «элементарной последовательностью». Она короче, чем ряд у Проппа, но длиннее, чем функция. Действительно, для того чтобы можно было что-либо рассказать, необходимо и достаточно, чтобы определенное действие прошло через три фазы: ситуация, открывающая некую возможность, актуализация этой возможности и окончание действия. Эти три момента кладут начало двум альтернативам, которые схематически представлены следующим образом (р. 131)81:

Эта серия дихотомических возможностей удовлетворяет условиям одновременно регрессивной необходимости и прогрессивной случайности.
Если в качестве нарративной единицы выбрана элементарная последовательность, то проблема состоит в переходе от этой последовательности к последовательностям сложным. Здесь перестает действовать логическая необходимость и ставится задача «вернуть возможно больше мобильности и разнообразия устойчивым синтагмам, служащим материалом для русской сказки» (р. 30)82.
47
Остается сформулировать понятие роли, затем составить обширный перечень возможных ролей, каковым можно будет заменить ограничению пропповскую схему последовательности, типическую интригу. Эта переформулировка обусловлена рефлексией о самом понятии функции стержне всего пропповского анализа. Напомним первый основной тезис Проппа: функция должна быть определена безотносительно к персонажам действия, то есть в отвлечении от конкретного агенса или пациенса. Но, заявляет Клод Бремон, действие неотделимо от того, кто ему подвергается или его совершает. Он выдвигает два аргумента. Функция выражает некий интерес или инициативу, вводящие в игру пациенса или атенса. Кроме того, несколько функций образуют последовательность, если эта последовательность имеет отношение к истории одного и того же персонажа. Значит, следует соединить существительное-субъект с процессом-предикатом в едином понятии роли. Таким образом, роль можно определить как «приписывание субъекту-лицу вероятного предиката-процесса, происходящего или законченного» (с. 134). Как видим, элементарная последовательность встраивается в роль через посредство предиката-процесса. Пересмотр модели Проппа, таким образом, завершен. Понятие «последовательность действий» можно теперь заменить понятием «упорядочение ролей» (р. 133).
Здесь и начинается собственно логика рассказа. Она заключается в «составлении систематического перечня основных повествовательных ролей» р. 134). Этот перечень систематичен в двояком смысле: он создает путем последовательных спецификаций (или определений) все более и более ложные роли, лингвистическая репрезентация которых требует все более артикулированного дискурса; кроме того, он порождает путем корреляций, зачастую бинарного типа, группы дополнительных ролей.
Первая дихотомия противопоставляет два типа ролей: это пациенсы, затронутые процессами модификации или консервации, и, соответственно, агенсы, инициаторы этих процессов83. Примечательно, впрочем, что Клод Бремон начинает с ролей пациенсов, рассматриваемых им в качестве самых простых: «Мы определяем как играющее роль пациенса всякое лицо, которое предстает в рассказе как затронутое тем или иным образом ходом излагаемых событий» (р. 139). Эти роли не только саше простые, но и наиболее многочисленные, поскольку изменения в сюжет может внести не только инициатива агенса (р. 174-175)84.
В следующей дихотомии два типа ролей пациенсов различаются в зависимости от способа, которым осуществляется воздействие на них. 3 одной стороны, это влияния на субъективное осознание пациенсом своей судьбы; это либо информация, руководящая последовательностью сокрытие—опровержение—подтверждение, либо чувства (удовлетворенность или неудовлетворенность), управляющие, вследствие добавления временно́й величины времени, надеждой или страхом. С другой стороны, имеются действия, которые объективно направлены на судьбу пациенса либо с целью ее изменения (улучшения или ухудшения), либо ради ее сохранения в прежнем состоянии (защита или обман).
Перечень агенсов отчасти дублирует перечень пациенсов: модификатор или консерватор, помощник (améliorateur) или вредитель, защитник ши обманщик. Но последовательность специфических типов агенсов
48
связана с понятием влияния со стороны пациенсов. Изучение этой группы представляет собой, несомненно, одно из самых замечательных достижений «Логики повествования» (р. 242-281). Влияние пациенса направлено на возможного агенса, у которого оно должно вызвать ответную реакцию: убеждение и разубеждение осуществляются как на уровне информации о подлежащих выполнению задачах, используемых способах действия или препятствиях, которые надо преодолеть, так и на уровне эмоций, которые влияющий может возбудить или подавить. Если добавить к этому, что информация или побуждение могут быть хорошо или плохо обоснованы, мы придем к очень важным ролям, которые сконцентрированы вокруг ловушки и превращают влияющего в соблазнителя и обманщика, притворщика и плохого советчика.
Эта вторая дихотомия разнообразными способами обогащает понятие роли; прежде всего она вводит его, при посредстве понятий улучшения или ухудшения, защиты или обмана, в поле оценок*, тем самым агенс и пациенс возводятся в ранг личностей. Кроме того, субъективность, могущая усваивать информацию и испытывать ее воздействие, вступает в новое поле, поле влияний. Наконец, роль агенса, способного к инициативе, соотносится еще с одним полем, полем действий в сильном смысле слова.
Перечень завершается рассмотрением заслуги и провинности. Появляются новые роли: со стороны пациенса — роли бенефициария и жертвы недостойного поступка, со стороны агенса роли воздаятеля, награждающего или карающего. Таким образом открывается новое поле для осуществления ролей, в дополнение к полю оценок, влияний и действий: поле воздаяний.
Таков в схематическом виде этот перечень, нацеленный на определение основных повествовательных ролей (р. 134). Он соответствует номенклатуре, классификации ролей. В этом смысле результат вполне отвечает намерениям автора: это не схема интриг, как у Нортропа Фрая, но схема возможных позиций, занимаемых вероятными персонажами возможных рассказов. Именно в этом смысле перечень демонстрирует определенную логику.
В заключение этого краткого обзора «Логики повествования» поставим вопрос: сумела ли логика ролей успешнее, чем морфология функций, формализовать понятие рассказа на уровне рациональности, превосходящем уровень нарративного понимания, не заимствуя при этом более или менее неявным образом у понятия интриги те черты, которые сообщают этой логике собственно повествовательный характер?
По сравнению с пропповской морфологией сказки логика ролей, вне всякого сомнения, достигает более высокого уровня абстрактности и формальности. Тогда как Пропп придерживается схемы интриги одного типа интриги русской волшебной сказки, достоинство схемы Бремона составляет возможность приложения его перечня ролей к любому виду нарративного сообщения, в том числе к историческому повествованию (предисловие, р. 7); его поле исследования — это ведь поле возможных нарративов. Кроме того, при описании повествовательных ролей сразу достигается более полная дехронологизация рассказа, поскольку перечень ролей равнозначен составлению парадигматической таблицы
49
сновных позиций, которые может занимать тот или иной персонаж рассказа. Более полная формализация, более полная дехронологизация — модель Бремона может претендовать на эти два качества.
В то же время возникает вопрос, не лишается ли роль ее собственно повествовательного характера из-за полного отсутствия синтагматического анализа. Действительно, ни понятие роли, ни понятие перечня ролей сами по себе не носят чисто повествовательного характера, разве что силу скрытой референции к их положению в рассказе, которое никогда не тематизируется эксплицитным образом. При отсутствии такого расположения ролей в интриге логика ролей опять попадает в сферу се[антики действия, предваряющей повествовательную логику.
Уточним аргумент, следуя порядку изложения, описанному выше. Напомним, что понятию роли предшествует понятие «элементарной последовательности», проходящей через три стадии, которые может пройти любое действие, от возможности до успешного осуществления. Я полностью согласен с тем, что эта последовательность — в силу открываемых ею альтернатив и возможностей выбора — составляет условие повествовательности, которого очень недостает модели Проппа. Но условие повествовательности не равнозначно повествовательному композиту. Оно становится им лишь в том случае, если какая-либо интрига прочерчивает путь, представляющий собой результат всех выборов между линиями последовательных альтернатив. Бремон справедливо утверждает, что «процесс, в который вступает элементарная последовательность, не является аморфным. Он уже обладает своей собственной структурой, структурой вектора» (р. 33). Но разве эта «векторность», которая вменятся повествователю, когда он «завладевает ею, чтобы превратить ее в сырье для своего рассказа» (ibid.), не заимствуется у интриги, переносящей логические условия действия в реальную логику рассказа? Не проецируют ли развитие рассказа на логику действия серию возможных выборов, образующую элементарную последовательность?
Правда, Бремон дополняет свое понятие элементарной последовательности понятием сложных последовательностей. Но при каком условии они составляют рассказ? Специфицировать одну последовательность при помощи другой последовательности, как в случае соединения путем вставок, еще не значит создать рассказ. Это значит составить описание для логики действия, как в аналитической теории действия85. Чтобы построить рассказ, то есть конкретно провести ситуацию и персонажей от начала до конца, необходимо посредничество того, что считается здесь простым культурным архетипом (р. 35) и представляет собой не что иное, как интригу. Выстроить интригу это значит выявить правильную форму» разом и в плане временно́й последовательности и плане конфигурации86. В моем понимании рассказ вводит в действие ограничения, дополняющие те ограничения, что поставлены логикой повествовательных возможностей. Или, иными словами, логика повествовательных возможностей является только еще логикой действия. Чтобы стать логикой рассказа, она должна обратиться к закрепленным в культуре конфигурациям, к схематизму повествования, оперирующему в типах интриг, воспринятых из традиции. Только благодаря этому схематизму действие может быть рассказано. Функция интриги — ори-
50
ентация логики практических возможностей в сторону логики повествовательных возможностей.
Это сомнение относительно чисто повествовательного статуса элементарной последовательности и сложных последовательностей накладывает отпечаток на само понятие повествовательной роли, которое автор сближает с понятием «повествовательного предложения» у Тодорова87. Здесь уместно напомнить то, что А. Данто говорил о повествовательных предложениях: повествовательное высказывание имеется тогда, когда упоминаются два события, одно из которых подразумевается, а другое обеспечивает описание для рассмотрения первого. Таким образом, только в интриге роль является повествовательной. Связь действия с агентом — это наиболее общий факт семантики действия и лишь постольку имеет отношение к теории повествования, поскольку последнюю очевидным образом обусловливает семантика действия.
Что же касается систематического перечня основных ролей, он относится к теории повествовательности в той мере, в какой, по признанию самого автора, роли, занесенные в этот перечень, «могут появиться не только в рассказе, но посредством рассказа и для рассказа: посредством рассказа — в том смысле, что введение или устранение роли в определенный момент повествования всегда отдается на усмотрение рассказчика, который решает, умалчивать о ней или говорить; для рассказа в том смысле, что роли здесь определяются, как того хотел Пропп, с точки зрения их значения в развертывании интриги» (р. 134). Невозможно было бы лучше, чем в этом тексте, подтвердить циркулярность отношений между ролью и интригой. К сожалению, в систематическом перечне главных ролей это никоим образом не принимается в расчет; впрочем, он не в состоянии заменить собой эти отношения88. Здесь недостает «синтеза ролей в интригу» (р. 322), на возможность которого автор лишь указывает. Однако этот синтез больше не связан с логикой рассказа, толкуемой как лексика и синтаксис ролей, то есть грамматика. Синтез ролей в интриге не является итогом некоей комбинации ролей. Интрига это движение, роли — это позиции, занимаемые по ходу действия. Знать все позиции, которые могут быть заняты, знать все роли — еще не значит знать интригу. Перечень, сколь бы разветвленным он ни был, еще не составляет рассказанной истории. Следует ввести в действие также хронологию и конфигурацию, mythos и dianoia. Эта операция, как отметил Л. Минк, является актом суждения, связанным со «сведением вместе». Иначе говоря, интрига относится к сфере praxis рассказа, то есть к прагматике речи, а не к грамматике ролей89.
Из этого размывания связи между ролью и интригой следует, что «концептуальные требования, имманентные развитию ролей» (р. 133), в большей мере относятся к сфере семантики и логики действия, чем действительно нарративной логики. Мы могли это констатировать: постепенное обогащение перечня ролей посредством сложной игры спецификаций и корреляций, последовательно переводящих роли из поля оценок в поле влияний, затем в поле инициатив и, наконец, в поле вознаграждений, без труда можно отнести к семантике действия, заимствованной у обыденного языка90. Но размывание связи между ролью и интригой не доходит до ее уничтожения: разве соответствие ролей их
51
включению в интригу не является скрытым ориентиром в упорядочении системы ролей по отношению к полям, в которые они последовательно входят? Разве не нарративная практика, на которую опирается сякое построение интриги, как бы вербует — через посредство семантики действия — предикаты, могущие определить повествовательные роли по их способности вводить структуры человеческого действия в сферу повествования?
Если эта гипотеза верна, то лексика повествовательных ролей не является системой, предшествующей и высшей по отношению ко всякому построению интриги. Интрига же представляет собой не результат комбинаторных свойств системы, а принцип отбора, который и определяет различие между теорией действия и теорией повествования.
3. Нарративная семиотика А. Ж. Греймаса
Нарративной семиотике А. Ж. Греймаса, представленной в работах «О мысле»91 и «Мопассан»92, предшествовала первая попытка разработки модели, описанная в «Структурной семантике»93. Здесь уже заметно стремление сконструировать строго ахроническую модель и выявить неустранимо диахронические аспекты рассказа, каким мы его излагаем или воспринимаем, посредством введения надлежащих правил трансформации. Этим стремлением диктуется первое стратегическое решение — исходить, в отличие от Проппа, не из функций, то есть формализованных сегментов действия, выстраиваемых, как мы видели, в последовательном порядке, а из акторов, — Греймас назвал их актантами, чтобы отличить от конкретных персонажей, в которых воплощаются их роли. У такого выбора есть двойное преимущество: как это было уже у Проппа, перечень актантов короче перечня функций (вспомним определение русской сказки как рассказа с семью персонажами); кроме того, их взаимодействия непосредственно поддаются скорее парадигматической, нежели синтагматической репрезентации.
Далее мы скажем, в какой мере актантная модель одновременно стала более радикальной и более богатой в последующих формулировках нарративной семиотики. Однако уже в ее начальной стадии в ней нашли выражение главные трудности ахронической модели, связанные с трактовкой повествовательного времени.
Первая задачи модели положить в основу перечня актантных ролей, список которых представляется чисто случайным, некие универсальные свойства человеческого действия. И если мы не можем дать исчерпывающее описание комбинаторных возможностей человеческого действия на поверхностном уровне, нам следует найти в самом дискурсе принцип конструирования на его глубинном уровне. Греймас следует здесь рекомендации французского лингвиста Люсьена Теньера, согласно которому самая простая фраза уже представляет собой маленькую драму, включающую в себя процесс, акторов и обстоятельства. Три данных синтаксических компонента порождают классы глагола, существительных (имен тех, кто принимает участие в процессе) и наречий. Благодаря этой базовой структуре фраза превращается в «спектакль,
52
который homo loquens* дает самому себе». Преимущества модели Теньера многочисленны: прежде всего, она укоренена в структуре языка; далее, ее — в силу постоянства распределения ролей между синтаксическими компонентами отличает большая устойчивость; наконец, ей присущи свойства ограниченности и завершенности, необходимые для систематического исследования. Итак, заманчиво было бы экстраполировать эту модель с синтаксиса элементарного высказывания на синтаксис дискурса в соответствии с упомянутой выше аксиомой о гомологии между языком и литературой.
Тот факт, что актантная модель еще не полностью удовлетворяет семантическим требованиям структурализма, выражается в том, что экстраполяция синтаксиса высказывания на синтаксис дискурса требует перечня ролей, выведенных предшествующими исследователями из различных эмпирически данных совокупностей (corpus) (русская сказка Проппа, «200000 драматических ситуаций» Этьена Сурио). Актантная модель, таким образом, является результатом взаимоприспособления дедуктивного подхода, где главную роль играет синтаксис, и индуктивного подхода, который опирается на предшествующие перечни ролей. Отсюда разнородность модели, где смешиваются систематическое конструирование и различные «усовершенствования» практического характера.
Это взаимоприспособление обретает равновесие в модели из шести ролей, в основе которой лежат три пары актантных категорий (каждая из них образует бинарную оппозицию). Первая категория противопоставляет субъект объекту: ее синтаксическая основа имеет форму А хочет В. Помимо того, она находит опору и в рассмотренных выше перечнях: действительно, именно в сфере желания осуществляется транзитивное или телеологическое отношение (у Проппа герой отправляется на поиски искомого лица). Вторая категория базируется на отношении коммуникации*. отправитель противопоставляется получателю. Здесь также основа является синтаксической: всякое сообщение (message) связывает высказывающего его и воспринимающего; здесь вновь обнаруживается также пропповский отправитель (царь дает герою задание и т.д.) и отправитель, слившийся с самим героем. Третья ось — прагматическая*, она противопоставляет помощника и вредителя. Эта ось сочетается либо с отношением желания, либо с отношением коммуникации, каждому из которых можно препятствовать или содействовать. Греймас признает, что синтаксическая основа здесь менее очевидна, хотя некоторые наречия («охотно», «однако»), некоторые обстоятельственные причастия или, наконец, некоторые виды глагола в определенных языках занимают место синтаксической основы. В мире волшебных сказок эта пара представлена доброжелательными и злокозненными силами. Короче говоря, модель комбинирует три отношения: желания, коммуникации и действия, — каждое из которых основано на бинарной оппозиции.
Сколь бы трудоемким ни был процесс разработки модели, она привлекает своей простотой и элегантностью; кроме того, в отличие от модели Проппа, она может быть применена в самых разнообразных и
* человек говорящий (лат.). — Прим. перев.
53
разнородных микромирах. Однако теоретика интересуют не эти тематические приложения, а системы отношений между установленными позициями.
Судьба модели решается при переходе от персонажей к действиям, или, если выражаться более специально, от актантов к функциям. Напомним, что Пропп остановился на перечне из тридцати одной последовательной функции, исходя из которых он определил самих персонажей и их сферы действия. В актантной модели предприятие, которое Греймас характеризует как работу по «редукции» и «структурированию», опирается на правила трансформации трех отношений желания, коммуникации и действия. Предвосхищая вторую модель, модель, описанную в книге «О смысле», Греймас предлагает характеризовать все трансформации, являющиеся результатом какой-либо семической категории, как виды соединения (conjonction) и разъединения (disjonction). Поскольку рассказ — если принять в расчет совокупность изучаемых лингвистических явлений, — предстает в синтагматическом плане как процесс, чьим исходным пунктом служит заключение договора и который затем разворачивается от разрыва договора до его восстановления, редукция синтагматического к парадигматическому достигается путем уподобления договора конъюнкции между повелением и согласием, его разрыва дизъюнкции между запретом и нарушением, его восстановления — новой конъюнкции (получение помощника в результате испытания его качеств, устранение нехватки в решающем испытании, узнавание в прославляющем испытании). Внутри этой генеральной схемы вводятся многочисленные конъюнкции и дизъюнкции в соответствии с тремя основными отношениями желанием, коммуникацией и действием. Но в целом между нехваткой и ликвидацией нехватки имеются только «тождества, которые необходимо соединить, и оппозиции, которые следует разъединить» (р. 195). Всякая стратегия становится, таким образом, всеохватывающим предприятием, нацеленным на то, чтобы избежать диахронии.
Однако в чисто актантной модели эта стратегия не достигает своей цели. Она скорее дает возможность подчеркнуть неустранимость временно́го развития в рассказе, в той мере, в какой делает более отчетливым понятие испытания94. Испытание представляет собой ключевой момент рассказа, охарактеризованный в диахроническом плане как поиск; оно действительно устанавливает отношения между состязанием и успехом. Но переход от первого ко второму в борьбе совершенно случаен, поэтому отношение следования нельзя свести к отношению необходимой импликации95. То же самое можно сказать о паре повеление—согласие, кладущей начало поиску, равно как и о поиске в целом.
Со своей стороны, случайный характер поиска обусловлен строго аксиологическим характером, присущим самим понятиям договора, его нарушения и восстановления. Будучи отрицанием договора, нарушение представляет собой аксиологическое отрицание и в равной мере логическую дизъюнкцию. Сам Греймас видит в этом разрыве положительную черту «утверждение свободы личности» (р. 210)96. А потому посредничество, осуществляемое рассказом как поиском, не могло бы быть только логическим: трансформация термов и их отношений является чисто исторической. Испытание, поиск, борьбу97 нельзя, таким образом, свес-
54
ти к предметному выражению логической трансформации; последняя скорее сама является идеальной проекцией в высшей степени темпорализирующей операции. Иначе говоря, посредничество, осуществляемое рассказом, по сути дела носит практический характер — нацелено ли оно, как утверждает сам Греймас, на восстановление предшествующего порядка, находящегося под угрозой, или на проецирование нового порядка, который стал бы обещанием спасения. Объясняет ли рассказываемая история существующий порядок, проецирует ли новый — она, будучи историей, устанавливает пределы для всех чисто логических переформулировок нарративной структуры. В этом смысле нарративное понимание, понимание интриги предшествует реконструкции рассказа на базе синтаксической логики.
Все это существенно обогащает наше размышление о повествовательном времени. Коль скоро диахронический элемент нельзя трактовать как некий осадок (résidu) анализа, можно задаться вопросом, какое временно́е качество скрывается за словом «диахрония», чью зависимость по отношению к терминам «синхрония» и «ахрония» мы подчеркнули. На мой взгляд, движение от договора к борьбе, от нарушения порядка к его восстановлению, движение, конституирующее поиск, не просто предполагает временную последовательность, хронологию, которую всегда возникает искушение дехронологизировать и логизировать, как мы говорили выше. Сопротивление диахронического элемента в модели с принципиально ахронической установкой, похоже, является признаком более фундаментального сопротивления, сопротивления нарративной временности простой хронологии98. Если хронология может быть сведена к поверхностному эффекту, то именно потому, что эта поверхность была предварительно лишена ее собственной диалектики, то есть того противостояния между аспектом последовательности и аспектом конфигурации в рассказе, которое превращает рассказ в последовательную целостность или целостную последовательность. Еще более существенно то, что своего рода зазор между договором и борьбой, лежащий в основе этой диалектики, выявляет черту времени, которую Августин вслед за Плотином охарактеризовал как растяжение духа. В таком случае следовало бы говорить уже не о времени, а о темпорализации. Это растяжение в действительности представляет собой временно́й процесс, выражающийся через посредство отсрочек, обходных путей, приостановок и всей стратегии затягивания поиска. Временное растяжение в еще большей мере выражается посредством альтернатив, бифуркаций, случайных сцеплений и в конечном счете непредсказуемости поиска, приводящего к успеху или поражению. А поиск — это пружина истории, ибо он разделяет и объединяет нехватку и ликвидацию нехватки, подобно тому как испытание — это завязка процесса, без которой ничего бы не произошло.
Таким образом, актантный синтаксис отсылает к интриге «Поэтики» Аристотеля, а через нее — ко времени «Исповеди» Августина.
Нарративная семиотика, представленная в работах «О смысле» и «Мопассан», являет собой, собственно говоря, не новую модель, а радикализацию и одновременно обогащение актантной модели, которую мы
55
только что рассмотрели. Это радикализация, поскольку автор пытается свести ограничения повествовательности к их основному источнику: ограничениям, налагаемым на самое элементарное функционирование всякой семиотической системы; повествовательность можно было бы тогда обосновать как деятельность, избавляющую от случайности. Это обогащение, ибо процесс сведения к элементарному восполняется процессом развития в направлении сложного. Значит, цель состоит в том, чтобы, продвигаясь назад, вернуться к семантическому уровню, более фундаментальному, чем уровень дискурсивный, и найти там повествовательность, упорядоченную еще до ее манифестации. И наоборот, на прогрессивном пути значение нарративной грамматики Греймаса состоит в том, что она постепенно уровень за уровнем объединяет условия повествовательности исходя из максимально простой логической модели, не содержащей изначально никаких хронологических черт.
Вопрос заключается в том, благодаря чему — внешним допущениям или исходной модели — обретают свою специфически повествовательную функцию последовательные дополнения, к которым автор прибегает для обогащения исходной модели, соединяя их со структурой повествовательных текстов, реально созданных устными и письменными традициями. Греймас убежден в том, что, несмотря на эти добавления, между исходной моделью и конечной матрицей от начала и до конца может поддерживаться равновесие. Эту уверенность следует подвергнуть теоретическому и практическому испытанию.
Будем же следовать порядку, указанному «играми семиотических ограничений»: пойдем от глубинных структур, определяющих условия интеллигибельности семиотических объектов, к опосредующим структурам, которые (по контрасту с предшествующими) получили название поверхностных, в них нарративизация обретает свои реальные членения и, наконец, к структурам манифестации, присущим любому языку и всякому выразительному материалу.
Первый этап, «глубинные структуры» это этап «конститутивной модели»99. Проблема, которую хотел разрешить Греймас, создание модели, заведомо носящей сложный характер, хотя и не воплощенной в какой-либо лингвистической или даже не-лингвистической субстанции (или посреднике). В самом деле, если модель должна обладать способностью к нарративизации, она должна быть артикулируемой. Можно смело сказать, что поистине гениальным ходом было обнаружение этой уже наличествующей артикулированности в максимально простой логической структуре — в «элементарной структуре значения» (ibid.). Эта структура относится к условиям постижения смысла не важно, какого именно. Если нечто что угодно имеет значение, то не потому, что мы обладаем некоей интуицией о его смысле, а потому, что самую элементарную систему отношений можно развернуть следующим образом: белое имеет значение потому, что я-могу разделить три отношения: отношение противоречия белое-не-белое; отношение противоположности белое-черное; и отношение пресуппозиции — не-белое—черное. Здесь мы имеем дело со знаменитым семиотическим квадратом, на который, как предполагается, вследствие его логической силы должны опираться все последующие обогащения модели1θθ.
56
Каким образом эта конститутивная модель может нарративизироваться, по крайней мере виртуально? — Она должна дать динамическую репрезентацию таксономической модели, т. е. системы ненаправленных отношений, конституирующих семиотический квадрат, короче, представить отношения в виде операций. Мы вновь находим здесь столь важное понятие трансформации, уже введенное актантной моделью в основной форме конъюнкции и дизъюнкции. Переформулированные в понятиях операций, указанные выше три отношения противоречия, противоположности и пресуппозиции предстают как трансформации, с помощью которых отрицается одно содержание и утверждается другое. Первейшее условие повествовательности есть не что иное, как это приведение таксономической модели в действие с помощью направленных операций. Эта первая референция к повествовательности уже говорит о воздействии на процесс анализа его цели, заключающейся в объяснении неустойчивого характера повествовательного процесса на уровне манифестации. Вот почему столь важно привести структуру в движение. Тем не менее правомерен вопрос: разве не компетенция, приобретенная в ходе длительного чтении традиционных рассказов, позволяет нам заранее назвать нарративизацией простую переформулировку таксономии в понятиях операций, и не она ли требует от нас перехода от устойчивых отношений к неустойчивым операциям?
Второй этап — этап «поверхностных», но еще не «предметных» (figuratives) структур начинается с включения конститутивной модели в сферу действия. Говоря о предметном уровне, следовало бы рассмотреть реальных участников, выполняющих задачи, претерпевающих испытания, достигающих определенных целей. На том уровне, где мы сейчас находимся, мы ограничиваемся грамматикой действия в целом. Именно с ней связана вторая стадия конститутивной модели. Базовое высказывание — это простое повествовательное высказывание в форме: кто-то делает что-то. Чтобы трансформировать его в высказывание-программу, к нему добавляют различные модальности, которые его потенциализируют: хотеть делать, хотеть (чего-то), хотеть быть (ценность), хотеть знать, хотеть мочь101.
Мы действительно вступаем в плоскость повествования, когда вводим затем полемическое отношение между двумя программами, а значит — между субъектом и анти-субъектом. Тогда достаточно приложить правила трансформации, вытекающие из конститутивной модели, к синтагматической последовательности повествовательных высказываний, чтобы достичь, посредством дизъюнкции, противопоставления, затем путем модализации желания господствовать и господства и, наконец, путем конъюнкции — приписывания субъекту власти над объектом-ценностью (objet-valeur). Мы назовем перформацией (performance)102 синтагматическую последовательность в форме «состязание, господство, присвоение», к которой можно, помимо того, приложить все модальности действия: желание действовать, умение действовать, способность действовать. Говоря о перформации как унифицированной синтагматической последовательности, Греймас пишет: «Это, вероятно, самая характерная единица повествовательного синтаксиса» («Du Sens», р. 173). Значит, именно к этой сложной структуре перформации прилагается принцип эквива-
57
лентности между глубинной и поверхностной грамматикой; эта эквивалентность всецело базируется на отношении импликации между состязанием, господством и присвоением103.
Построение повествовательной модели завершается прибавлением к полемической категории категории переноса (transfert), заимствованной у структуры обмена. Переформулированное под углом зрения обмена, присвоение объекта-ценности (последнее из трех повествовательных высказываний, составляющих перформацию) означает, что один субъект приобретает то, чего лишается другой. Присвоение, таким образом, можно разложить на две операции: лишение, эквивалентное дизъюнкции, и собственно присвоение, эквивалентное конъюнкции. Их единство представляет собой перенос, выраженный двумя транслативными высказываниями.
Эта переформулировка ведет к понятию последовательности перформаций. Именно такая последовательность служит формальным остовом всякого рассказа.
Преимущество этой переформулировки состоит в том, что она позволяет представить все предшествующие операции как изменения «мест» исходных и конечных пунктов переносов, иначе говоря, соотнести их с топологическим синтаксисом транслативных высказываний. Итак, четыре вершины семиотического квадрата становятся точками, в направлении которых или исходя из которых осуществляются переносы. В свою очередь, плодотворность этого топологического синтаксиса проясняется по мере развертывания топологического анализа в двух планах: действия и желания действовать.
Если рассмотреть сначала только объекты-ценности, полученные и переданные посредством действия, топологический синтаксис наглядно представляет упорядоченную последовательность операций, изображенную в виде семиотического квадрата вдоль линии противоречия, противоположности и пресуппозиции, — как круговую трансмиссию ценностей. Можно без колебаний сказать, что этот топологический синтаксис переносов является подлинной пружиной повествования «как процесса, создающего ценности» (р. 178).
Если же мы рассмотрим теперь не только операции, но и операторов104, то есть отправителей и получателей, участвующих в переносе в рамках схемы обмена, — то увидим, что топологический синтаксис регулирует трансформации, затрагивающие способность действовать, то есть производить рассмотренный выше перенос ценностей. Иначе говоря, он управляет самим введением синтаксических операторов, создавая субъектов, обладающих способностью к действию.
Это раздвоение топологического синтаксиса соответствует, таким образом, раздвоению действия и желания (способности, умения действовать), то есть разделению повествовательных высказываний на дескриптивные и модальные, а значит, также и разделению двух рядов перформаций: приобретение, следовательно, есть перенос, касающийся или ценностей-объектов, или модальных ценностей (приобретение способности, умения, желания действовать).
Второй ряд перформаций самый важный с точки зрения начала синтаксического маршрута. Для того чтобы переносы объектов-ценно-
58
стей, в свою очередь, следовали друг за другом, операторы должны быть введены как могущие, затем — как умеющие и хотящие. Если же спросят, откуда появляется первый актант, нужно напомнить о договоре, который вводит субъекта желания, приписывая ему модальность хотения. Частное повествовательное единство, в которое помещено хотение «знающего» или «могущего» субъекта, образует первую перформацию рассказа.
«Завершенный рассказ» (р. 180) комбинирует серию переносов ценностей-объектов с серией переносов, вводящих «знающего» или «могущего» субъекта.
Топологические изыскания Греймаса знаменуют собой, таким образом, самую радикальную попытку максимально продвинуть парадигматическое внутрь синтагматического. Здесь автор чувствует себя ближе всего к воплощению старой мечты: превратить лингвистику в алгебру языка104.
В целом семиотика в конце своего собственного маршрута, идущего от плана имманентности к плану поверхностному, представляет сам рассказ как маршрут. Но этот маршрут она считает строго гомологичным операциям, предполагаемым элементарной структурой значения на уровне фундаментальной грамматики. Он представляет собой «лингвистическую манифестацию нарративизированного значения» («Du Sens», р. 183).
Собственно говоря, маршрут семиотических уровней повествовательности скорее не пройден до конца, а прерван: можно заметить, что здесь ничего не сказано о третьем уровне, уровне манифестации, где позиции, определенные формальным образом в плане поверхностной грамматики, наполняются предметным содержанием. Фактически предметный уровень до сих пор оставался бедным родственником семиотического анализа. Причина здесь, вероятно, заключается в том, что выражение в предметной форме (figuration) (в аксиологической, тематической, актантной сферах) не считается продуктом автономной конфигурирующей деятельности. Отсюда название, данное этому уровню, «манифестация»: как если бы там не происходило ничего более интересного, чем демонстрация лежащих в основе его структур. В этом смысле модель предлагает фигурации без конфигурации. Весь динамизм построения интриги оказывается перенесенным на логико-семантические операции и на синтагматизацию повествовательных высказываний в программы, в перформации и в последовательности перформаций. Значит, не случайно понятие интриги отсутствует в толковом словаре нарративной семиотики. Собственно, оно и не могло найти там места, поскольку относится к сфере нарративного понимания, которому семиотическая рациональность пытается найти эквивалент, точнее, имитацию. Значит, прежде чем можно будет вынести суждение о судьбе, уготованной «играм семиотических ограничений» на предметном уровне, от нарративной семиотики следует ждать проявления особого интереса к предметности (figurativité).
Прежде чем высказать некоторые критические соображения по поводу семиотической модели, я хотел бы подчеркнуть, что творчество Греймаса и его школы отличает дух напряженного поиска. Уже отмечалось,
59
до какой степени семиотическая модель радикализирует и обогащает первую актантную модель. Таким образом, работу «О смысле» нужно рассматривать просто как поперечный срез в постоянно движущемся вперед исследовании.
В «Мопассане» уже сделаны дополнения, которые отчасти предвосхищают важные изменения концепции. Отмечу три из них.
В плане глубинных структур Греймас начал корректировать идею об ахроническом характере операций трансформации, прилагаемых к семиотическому квадрату, присоединяя к ним видовые (aspectuelles) структуры: дуративность (durativité), обусловленную темпорализацией какого-либо состояния и характеризующую всякий непрерывный процесс; затем два точечных вида, устанавливающих границы между процессами: инкоативность и терминативность (к примеру, в новелле Мопассана «Два друга» — слова «умирающий» и «рождающийся»; здесь итеративность сочетается с дуративностью); наконец, отношение напряжения — тензивитивность, — установленное между дуративной семой и одной из точечных сем: например, в выражениях «довольно близкий», «слишком», «далеко».
Трудно определить место этих видовых структур по отношению, с одной стороны, к глубинным структурам, а с другой — к дискурсивным структурам, коэкстенсивным действию. В самом деле, видовые структуры, с одной стороны, гомологичны логическим операциям: оппозиция «перманентность/эпизодичность» управляет оппозицией «дуративность/ точечность». Точно так же временны́е позиции «до/ во время/ после» считаются «темпорализованными позициями» (р. 71) логических отношений «предшествование/ одновременность/ следование». Членение же «перманентность/эпизодичность» является всего лишь «адаптацией ко времени» пары «непрерывное/прерывное». Но этими выражениями лишь затемняется отношение ко времени. С другой стороны, можно поставить вопрос, могут ли видовые характеристики вводиться до какойлибо синтагматической цепи или дискурсивного маршрута. Вот почему в детальном анализе эпизодов новеллы Мопассана видовые черты вводятся в связи с их дискурсивными приложениями. Действительно, неясно, как могли бы темпорализироваться логические отношения, если бы не развертывался какой-либо процесс, требующий синтагматической структуры дискурса, которая соответствует временно́й линейности. Итак, введение в модель видовых структур осуществляется не без труда.
Второе важное дополнение — также на стыке логико-семантического уровня и его дискурсивного приложения — способствует большей динамизации модели, не ослабляя при этом ее парадигматической основы. Оно касается крайне аксиологизированного характера содержаний, которые надлежит поместить на вершине семиотического квадрата. Так, вся новелла «Два друга» разворачивается на доминанте изотопии, где жизнь и смерть составляют ось противоположностей с их пересекающимися противоречиями: не-жизнь, не-смерть. Это не актанты иначе пришлось бы говорить о них в категориях действия, — а эйфорические и дисфорические коннотации, способные служить опорой для любого рассказа. Последующая семиотическая трактовка будет состоять в приписывании этим позициям персонажей, но наряду с ними — и лишь слегка антропоморфизированных
60
сущностей, таких как Солнце, Небо, Вода, Монт-Валерьен. Все указывает на то, что эти глубинные аксиологические ценности представляют собой нечто большее, нежели культурные стереотипы или идеологии. Ценности жизни и смерти общи для всех людей; той или иной культуре или школе, тому или иному повествователю свойственно воплощать эти ключевые ценности в определенных образах, как в нашей новелле, относящей Небо к жизни, а Воду к смерти. Важность этой расстановки эйфорических и дисфорических ценностей на самом глубоком из возможных уровней состоит не только в том, чтобы обеспечить стабильность рассказа в его развертывании, но и в том, чтобы, прибавляя аксиологическое к логическому, содействовать нарративизации фундаментальной модели. Разве мы не узнали от Аристотеля, что драма говорит в первую очередь о тех переменах, которые инвертируют счастье на несчастье, и наоборот? Но, повторяем, место этих аксиологических определений в общей схеме не так легко установить. Прежде всего, здесь еще трудно не делать референции к тематическим ролям, которых касаются эти коннотации, то есть к дискурсивным субъектам, развертывающим здесь ход повествования. Затем, в оппозиции ценностей уже подразумевается полемичность. Тем не менее предполагается, что эти оппозиции предшествуют ролям и субъектам в их полемических отношениях.
Третье дополнение к элементарной модели еще труднее отличить от ее дискурсивных приложений. И все же его логическое предшествование по отношению к действию и к актантам, как и его откровенно парадигматический характер, обеспечивают ему место в наибольшей близости к глубинным структурам. Оно касается отправителей, чьи актанты и тематические роли — это посланники, воплощения, предметные выражения (сообразно изменениям уровня иерархии) — самих отправителей и их нарративизированных репрезентантов. Так, в «Двух друзьях» отправители это Жизнь, Смерть и их противоречия, но также и Париж, Пруссия и т. д. С понятием отправителя связано понятие сообщения, а значит, отсылки, то есть приведения в движение, динамизации. Когда автор впервые вводит его в свой текст, он подчеркивает именно эту функцию: «трансформация аксиологии, данной как система ценностей, в синтагматизацию операций» (р. 62). Правда, семиотика рассказа вводит это понятие лишь в тот момент, когда она может поставить ему в соответствие дистрибуцию актантов. Но для теории важно, что эта дистрибуция охватывает рассказ в целом; вот почему автор может говорить о «протоактантном статусе отправителя» (р. 63)106. Так в семиотическом квадрате накладываются друг на друга — еще до того, как туда впишут предметных акторов, — логические термины, аксиологические предикаты и отправители.
Еще более значительны дополнения, которые «Мопассан» вносит в грамматику действия, то есть в чисто дискурсивный план. Современный рассказ требует рассмотрения процессов, развертывающихся в когнитивном плане, — будь то-наблюдение или информация, убеждение или интерпретация, обман, иллюзия, ложь или тайна. Греймас отвечает на это требование (восходящее к драматической функции «узнавания» у Аристотеля и к знаменитому анализу трикстера, или обманщика, в антропологии) серией смелых методологических решений. Прежде всего, он без колебаний разделяет действия на прагматические и когнитивные, при-
61
чем последние превращают компетентного субъекта в ноологического субъекта, отличного от субъекта соматического. Затем он выделяет в когнитивном действии два полюса: убеждающее действие, осуществляемое отправителем, автором когнитивного действия, по отношению к получателю, чему со стороны последнего соответствует интерпретативное действие. Главное преимущество трактовки когнитивного измерения под углом зрения действия это возможность подчинить операции познания тем же правилам трансформации, которым подчиняются и собственно действия (уже Аристотель включил в свой mythos«мысли» персонажей, обозначив их категорией dianoia). Итак, умозаключения от «кажимости» к «бытию», в которых и состоит интерпретация, являются формами действия, способными вписаться, как и другие, в маршрут повествования. Точно так же полемическое отношение может противопоставить не только два парадигматических действия, но и два убеждающих действия, например в дискуссии, или же два интерпретативных действия, скажем, в обвинении или в отрицании виновности. Отныне, когда речь идет о полемическом отношении, следует держать в памяти всю эту богатую палитру действия107.
Однако нельзя игнорировать тот факт, что в относительно однородной до сих пор теории действия была пробита брешь. Чтобы осмыслить убеждение и интерпретацию, следует в действительности прибегнуть к новым в семиотике, но давно известным в философии категориям «бытия» и «кажимости». Убеждать — значит заставлять поверить, что то, что кажется, — существует; интерпретировать — значит делать заключения от «кажимости» к «бытию». Но автор утверждает, что за этими терминами сохраняется «смысл семиотического существования» (р. 107). Он называет отношением фидуции (relation fiduciaire)* этот переход от одного плана к другому, который вводит ценности, получившие название уверенности, убеждения, сомнения, гипотезы, признавая, что еще не располагает надежной категоризацией ценностей фидуции (р. 108). Таким образом он надеется сохранить логический характер нарративных трансформаций, в которых субъект, например, маскируясь, стремится к тому, чтобы другой субъект интерпретировал «не-кажимость» как «не-бытие»; первый подводится под категорию тайны, соединяющую «бытие» и «не-кажимость». Этот подход, примененный на уровне когнитивного измерения рассказа, сохраняет, таким образом, одновременно свои нарративные характеристики и свои логические черты благодаря введению нового семиотического квадрата, квадрата достоверности (carré de la véridiction), который конструируется на основе оппозиции бытие—кажимость, дополненной двумя соответствующими противоположностями: не-бытие, не-кажимость. Истинность маркирует соединение бытия и кажимости, ложность соединение некажимости и не-бытия, ложь кажимости и не-бытия, тайна бытия и не-кажимости. Обман — это убеждающее действие, состоящее в том, чтобы трансформировать ложь в правду (выдать за...), то есть представить и заставить принять то, что кажется, но не существует, за то, что кажется и существует. Иллюзия есть интерпретативное действие, которое отвечает на ложь, допуская ее как своего рода контракт с обманщиком-отправителем.
* от лат. fiducia — вера, доверие, уверенность (прим. перев.).
62
Таким образом обманщику как актантной роли (тот, кто выдает себя за другого) можно дать точное определение в плане достоверности.
Введение когнитивного действия, различение когнитивного и интерпретативного действия и конституирование структуры достоверности представляют собой самые значительные дополнения, внесенные «Мопассаном» в категоризацию действия, особенно если учесть все модализации способности действовать, которые сюда привносятся, в том числе важнейшую из всех, представленную в новелле «Два друга»: отказ, то есть желание не-мочь. Таким образом, на примере этой новеллы Мопассана можно уяснить себе столь значительную драматическую ситуацию, как иллюзорный поиск, трансформированный в тайную победу108.
Таковы важнейшие обогащения, привнесенные «Мопассаном» в семиотическую модель. Я бы сказал, что они растягивают модель, но не разрывают ее. (Может быть, как раз в вопросе о достоверности угроза разрыва особенно велика.) Поскольку они не влекут за собой какой-либо существенной переработки модели, представленной десятью годами ранее в работе «О смысле», они также и не ставят под сомнение критику базовой семиотической модели на трех ее уровнях: глубинных, поверхностных и предметных структур.
Основной вопрос, возникающий в связи с моделью наррративной грамматики, заключается в том, не является ли так называемая поверхностная грамматика более богатой с точки зрения повествовательных возможностей, чем глубинная грамматика, и не обусловлено ли это растущее обогащение модели, происходящее на протяжении всего семиотического маршрута, нашей способностью прослеживать историю и приобретенным нами близким знакомством с повествовательной традицией.
Ответ на этот вопрос предрешен исходным определением глубинной грамматики как плана имманентности, а поверхностной грамматики — как плана манифестации.
Однако этот вопрос вновь вводит, но с опорой на значительно более утонченную модель, проблему, занимающую нас с начала этой главы: проблему отношений между рациональностью нарратологии и нарративным пониманием, вырабатываемым в практике построения интриги. Вот почему наше обсуждение теперь должно быть особенно детальным.
Мое начальное сомнение, которое будет подвергнуто испытанию последующей аргументацией, состоит в том, что с самой первой стадии, — стадии конструирования семиотического квадрата — анализ телеологически направляется предвосхищением конечной стадии, стадии повествования как процесса, создающего ценности («Du Sens», р. 178), в чем я вижу в плане семиотической рациональности — эквивалент того, что в нашей повествовательной культуре понимается как интрига. Следует уяснить: это сомнение никоим образом не обесценивает все предприятие Греймаса. Оно ставит под вопрос предполагаемую автономию семиотических подходов, подобно тому как обсуждение номологических моделей в истории поставило под вопрос автономию историографической
63
рациональности по отношению к повествовательной компетентности. Первая часть обсуждения пройдет в плане глубинной грамматики.
Здесь я оставлю в стороне проблему логической надежности конститутивной модели и ограничу обсуждение двумя вопросами. Первый касается условий, которым модель должна удовлетворять, чтобы сохранить свою эффективность на всем протяжении семиотического маршрута. Эта модель в том виде, в каком она конституируется в плане элементарной структуры значения, является сильной моделью. Но, как это часто бывает с интерпретацией в заданной области моделей, построенных a priori, некоторые из ее требований должны быть ослаблены, чтобы она хорошо функционировала в таких областях. Мы имели тому пример в сфере историографии: мы видели, до какой степени пришлось ослабить номологическую модель, чтобы встроить в нее эффективную методологию, требуемую ремеслом историка. Что же до исходной таксономической модели, она сохраняет логическое значение только при том условии, если остается сильной моделью. Но полной силой она обладает лишь на уровне семического анализа, если не завершенного, то хотя бы доведенного до той точки, где он допускает «ограниченное перечисление семических категорий» (р. 161). При этом условии противоположность является сильной противоположностью, а именно бинарной оппозицией между семами одной категории, как, например, бинарная семическая категория «белое—черное». Противоречие также является сильным: «белое-не-белое», «черное—не-черное»; и пресуппозиции не-^ через S2 действительно предшествуют отношения противоречия и противоположности — в строгом смысле, о котором мы только что сказали. Но можно усомниться в том, что три этих требования будут строго выполняться в области повествовательности. Если бы это было так, все последующие операции были бы в такой мере «предвидимыми и исчислимыми» (р. 166), как это полагает автор. Но тогда ничего бы не происходило. Не было бы события. Не было бы неожиданности. Нечего было бы рассказывать. Значит, можно ожидать, что поверхностная грамматика чаще всего будет иметь дело с квази-противоречиями, квази-противоположностями, квази-пресуппозициями.
Второй вопрос, на котором я хотел бы остановиться — также в плане глубинной грамматики, — касается нарративизации таксономии, достигаемой за счет перехода от ненаправленных отношений в таксономической модели к направленным операциям, дающим модели синтаксическую интерпретацию.
Фактически переход от идеи статического отношения к идее динамической операции влечет за собой подлинное дополнение к таксономической модели, которое ее действительно хронологизирует, по крайней мере потому, что трансформация занимает определенное время. Это дополнение маркировано в тексте «Элементов» понятием «продуцирования смысла субъектом» («Du sens», р. 164). Это больше чем переформулировка: здесь вводится, на равных правах, синтагматический фактор наряду с фактором парадигматическим. Понятие эквивалентности утрачивает тогда свой смысл взаимного отношения, существующего в переходе от морфологии к синтаксису: ибо в чем могут быть эквивалентны устойчивое отношение и его трансформация, если в трансформации существен-
64
но именно направление? В таком случае возникает вопрос: не строилась ли данная модель согласно идее направленных трансформаций, которые должны сказаться и на ее пассивных элементах?
Этот вопрос ставится на всех уровнях: конечная цель операции, по-видимому, заключается в последующей операции, а в итоге в завершенной идее повествовательности. То же самое наблюдается при переходе от глубинной грамматики к грамматике поверхностной.
Обогащение исходной модели является результатом широкого введения определений, характеризующих действие. Но все эти новые определения не выводятся непосредственно из таксономической модели, а относятся к сфере семантики действия109. Нам известно — из знания, имманентного самому действию, — что действие является объектом высказываний, структура которых существенно отличается от структуры предикативных высказываний в форме S есть Р и относительных высказываний в форме X находится между у и z. Эта структура дескриптивных высказываний о действии стала объектом точных исследований в аналитической философии, которые я рассматриваю в «Семантике действия» ι,θ. Примечательная особенность этих высказываний состоит в том, что они предполагают открытую структуру от «Сократ говорит...» до «Брут убил Цезаря в мартовские иды, в римском сенате, кинжалом...» Именно такая семантика действия фактически подразумевается теорией нарративного высказывания. «Действовать» (faire) может заменить собой здесь все глаголы действия (как to doв английском). Специфическое подключение семантики действия более всего очевидно в переходе — путем модализации от высказываний о действии к высказываниям о возможности действия. И правда, откуда нам известно, что желание действовать делает действие возможным? Ничто в семиотическом квадрате не дает нам оснований для такого предположения. Впрочем, типология желания действовать, желания быть, желания иметь, желания знать и способности хотеть превосходна. Но с точки зрения лингвистической она связана с совершенно особой грамматикой, чрезвычайно детально разработанной аналитической философией и получившей название интенсиональной логики. Но если оригинальная грамматика необходима для придания логической формы отношению между модальными высказываниями типа «хотеть, чтобы» и дескриптивными высказываниями о действии, то именно феноменология, имплицитно содержащаяся в семантике действия, придает смысл заявлению Греймаса, что «модальные высказывания, чьей функцией является желание, вводят субъект как виртуальность действия, в то время как два других модальных высказывания, характеризующихся модальностями знания и способности, определяют это возможное действие двумя разными способами: как действие, исходящее из знания или опирающееся единственно на способность» (р. 175). Точно так же эта имплицитная феноменология заявляет о себе, коль скоро модальное высказывание интерпретируется как «желание реализации» некоей программы, которая наличествует в форме дескриптивного высказывания и в то же время — в качестве объекта — составляет часть модального высказывания (р. 169).
Отсюда следует, что отношение между семиотическим планом и планом практическим есть отношение обоюдной первичности. Семиотичес-
65
кий квадрат привносит сюда свою сеть взаимоопределяемых терминов и систему противоречия, противоположности и пресуппозиции. Семантика действия поставляет главные значения действия и специфическую структуру высказываний, соотносящихся с действием. В этом смысле поверхностная грамматика представляет собой грамматику смешанную: семиопрактическую111. В рамках этой смешанной грамматики, по-видимому, очень сложно говорить об эквивалентности между структурами, развертываемыми семантикой действия, и операциями, предполагаемыми семиотическим квадратом.
Можно углубить это возражение, заметив, что простое повествовательное высказывание остается абстракцией внутри поверхностной грамматики, покуда не введено полемическое отношение между противостоящими друг другу программами и субъектами. Выше мы уже отмечали, что в отдельном предложении, обозначающем действие, нет ничего специфически повествовательного. Только цепь высказываний образует повествовательную синтагму и позволяет ретроспективно назвать повествовательными высказывания о действии, составляющие эту цепь. В таком смысле полемическое отношение представляет собой первое подлинное начало (seuil) повествовательности в поверхностной грамматике; второе создается понятием перформации, а третье — понятиями синтагматической последовательности перформаций и осуществляемого ею переноса ценностей.
Рассмотрим по очереди каждое из этих начал, исходя из первого, полемической репрезентации логических отношений.
Отметим прежде всего, что эта полемическая репрезентация привносит новые особенности, которые, еще не имея логического значения типа противоречия или противоположности, обладают самостоятельным практическим значением. Состязание и борьба это образы (figures), выражающие ориентацию действия в направлении к другому и изучаемые понимающей социологией, вроде социологии Макса Вебера: на четко определенной стадии постепенного введения базовых категорий в его обширном сочинении «Wirtschaft und Gesellschaft» («Экономика и общество»)112 действительно появляется борьба (Kampf). Следовательно, введением категории борьбы акцентируется смешанный полулогический, полупрактический — характер всей нарративной грамматики.
Заметим, кроме того, что утверждение об эквивалентности в логическом плане между состязанием и противоречием весьма спорно. Понятие состязания, как мне кажется, вводит в игру определенный тип негативности, несводимость которой к противоречию первым показал Кант в своем небольшом сочинении «Опыт введения в философию понятия отрицательных величин»113. Противопоставление субъекта анти-субъекту — это не противопоставление двух противоречащих действий. Рискнем предположить, что оно ближе к противоположности114.
Прибавление к полемическим категориям категорий переноса ставит аналогичную проблему. На этой новой стадии также очевидно имплицитное обращение к феноменологии: если переносить (transférer) значит лишать одного и давать другому, «лишать» и «давать» содержат в себе нечто большее, чем «разъединять» и «соединять». Лишение объекта-ценности, претерпеваемое субъектом, представляет собой модификацию, затрагивающую его как пациенса. Таким образом, на последнем этапе
66
построения модели вводится феноменология страдания/действия, в рамках которой обретают смысл такие понятия, как лишение и дарение. Весь топологический язык этой последней фазы представляет собой смесь логических конъюнкций/дизъюнкций115 и модификаций, происходящих не только в практическом, но и в патическом поле. Такое заключение не должно удивлять, если верно, что топологический синтаксис переносов, дублирующий маршрут логических операций семиотического квадрата, «организует повествование как процесс, создающий ценности» (р. 178). Каким же образом это удвоение может перевести от синтаксических операций, бывших в рамках таксономии «предсказуемыми и вычислимыми» (р. 166), к «процессу, создающему ценности»? Для этого логичность должна быть в какой-то мере неадекватна креативности, присущей рассказу. Это расхождение становится совершенно очевидным на уровне переноса по мере того, как корреляция и пресуппозиция отдаляются от сильной логической модели, выражая асимметрию лишения и присвоения и новизну, присущую присвоению. Качество новизны, связанное с присвоением, становится еще более явным, когда субъект терпит неудачу в способности, умении и желании действовать, — то есть в сфере самой виртуальности действия.
Это расхождение между исходной схемой, где все отношения уравновешиваются, и конечной схемой, где продуцируются новые ценности, замаскировано в частном случае русских сказок Проппа, где циркуляция ценностей завершается восстановлением исходного состояния. Царевна, похищенная предателем, который уносит ее в чужие края, чтобы спрятать, найдена героем и возвращена родителям! Сам Греймас в «Структурной семантике» признавал, что наиболее общей функцией рассказа является восстановление ценностного порядка, находившегося под угрозой. Но благодаря схематизации интриг, осуществленной культурами, чьими наследниками мы являемся, нам хорошо известно, что это восстановление характеризует лишь одну категорию повествовательных текстов, и даже, возможно, лишь одну категорию сказок. Сколь разнообразны способы, которыми интрига сочленяет «кризис» и «развязку»! И как различны способы, с помощью которых герой (или анти-герой) меняется по ходу интриги! Верно ли, что любой рассказ может быть спроецирован на эту топологическую матрицу, содержащую две программы, — полемическое отношение и перенос ценностей? Наше предшествующее исследование метаморфоз интриги заставляет нас усомниться в этом.
Итак, на модель Греймаса, как мне кажется, накладывается двойное ограничение: с одной стороны, логическое, с другой — практико-патическое. Но она может удовлетворить первому ограничению, все больше и больше встраивая в семиотический квадрат вводимые на каждом уровне повествовательные компоненты, лишь в том случае, если наше понимание интриги и рассказа параллельно влечет за собой соответствующие добавления открыто синтагматического порядка, без которых таксономическая модель осталась бы инертной и бесплодной116.
Признать смешанный характер модели Греймаса вовсе не значит ее отвергнуть: напротив, это значит прояснить условия ее интеллигибельности, как мы поступили во второй части данной книги по отношению к номологическим моделям в истории.
67
III. Игры co временем
Обогащение понятия интриги и, соответственно, понятия повествовательного времени — чему будет посвящено дальнейшее исследование, несомненно представляет собой, как мы отметили в преамбуле к третьей части книги, привилегию скорее вымышленного, чем исторического рассказа; причиной тому — снятие ряда присущих последнему ограничений, которые мы подробно рассмотрим в четвертой части. Эта привилегия состоит в примечательном свойстве рассказа — способности раздваиваться на акт высказывания и само высказывание. Чтобы ввести это различение, достаточно вспомнить, что конфигурирующий акт, руководящий построением интриги, является актом суждения, функцией которого является сведение вместе (prendre ensemble); точнее, это акт, родственный рефлектирующему суждению117. Так, мы утверждали, что рассказывать — это значит уже «размышлять о» рассказываемых событиях. В силу этого повествовательное «сведение вместе» содержит возможность дистанцироваться от собственного продукта и тем самым раздвоиться. Эта способность к раздвоению, свойственная телеологическому суждению, вновь проявляется в наши дни в чисто лингвистической терминологии, в понятиях акта высказывания и высказывания, которые благодаря Гюнтеру Мюллеру, Жерару Женетту и семиотикам школы Греймаса приобрели право гражданства в нарративной поэтике. Но именно такое перемещение внимания с нарративного высказывания на акт высказывания позволяет выделить чисто вымышленные черты повествовательного времени. В каком-то смысле их выводит на первый план игра различных временных уровней, обусловленных рефлексивностью самого конфигурирующего акта. Мы рассмотрим несколько вариантов этой игры, которая начинает разыгрываться уже между высказыванием и тем, о чем ведется повествование, но которая становится возможной именно благодаря разделению акта высказывания и высказывания.
68
1. Глагольные времена и акт высказывания
Я хотел бы предварить свой анализ рассмотрением возможностей, предоставляемых акту высказывания системой глагольных времен. Мне показалось уместным провести это исследование в преддверии изучения игр со временем (в основе которых лежит разделение акта высказывания и самого высказывания), поскольку избранные мною три автора прямо связали свои теории глагольных времен с функцией акта высказывания в дискурсе, а не со структурой высказываний, взятых в отрыве либо от отношения к повествователю, либо от ситуации собеседования. Кроме того, предложенный данными авторами способ решения вопроса об организации глагольных времен в естественных языках выявляет парадокс, непосредственно касающийся статуса времени в вымысле, то есть времени на уровне мимесис-II.
Действительно, с одной стороны, главное достижение этих исследований состоит в доказательстве того, что система времен, варьирующаяся от одного языка к другому, не может быть выведена из феноменологического опыта времени и присущего ему интуитивного различения между настоящим, прошлым и будущим. Эта независимость системы глагольных времен благоприятствует автономии нарративной композиции на двух уровнях: на уровне строго парадигматическом (скажем, на уровне таблицы глагольных времен в данном языке) система времен обеспечивает резерв различений, отношений и комбинаций, в котором вымысел черпает возможности своей собственной автономии по отношению к живому опыту; в этом плане у языка с его системой времен всегда наготове средство временного модулирования глаголов действия на протяжении всей повествовательной цепи. Наряду с этим, на уровне, который можно назвать синтагматическим, времена глагола способствуют нарративизации не только в силу игры их различий внутри больших грамматических парадигм, но и благодаря их последовательному расположению в цепи рассказа. Тот факт, что французская грамматика содержит в одной и той же системе imparfaitи passé simple, уже предоставляет большие возможности, но оригинальный смысловой эффект, создаваемый последовательным расположением imparfait и passé simple, обеспечивает возможности еще более замечательные. Иначе говоря, синтагматизация глагольных времен так же существенна, как и их парадигматическая структура. Но первая в не меньшей мере, чем вторая, выражает автономию системы глагольных времен по отношению к тому, что в элементарной семантике повседневного опыта мы называем временем.
С другой стороны, остается открытым вопрос, в какой мере система глагольных времен может избавиться от референции к феноменологическому опыту времени. Нерешительность в этом вопросе, демонстрируемая тремя концепциями, которые нам предстоит обсудить, очень поучительна: она иллюстрирует сложность (мы также ее сознаем) отношения времени вымысла ко времени феноменологического опыта, — берем ли мы это отношение в плане префигурации (мимесис-1) или в плане рефигурации (мимесис-III). Необходимость отделить систему глагольных времен от живого опыта времени и невозможность полно-
69
стью их разделить, на мой взгляд, прекрасно иллюстрирует статус нарративных конфигураций, автономных по отношению к повседневному опыту и одновременно осуществляющих опосредование между верховьем и низовьем рассказа.
Имеется два довода в пользу того, чтобы начать анализ с различения между историей и дискурсом, предложенного Эмилем Бенвенистом118, а затем рассмотреть вклад Кэте Хамбургер119 и Харальда Вайнриха120 в исследование проблематики глагольных времен.
С одной стороны, таким образом можно проследить процесс движения от анализа, проведенного в чисто парадигматической перспективе, к концепции, дополняющей изучение статической организации глагольных времен рассмотрением их последовательной дистрибуции внутри больших текстовых единиц. С другой стороны, продвигаясь от одной концепции к другой, можно увидеть, как углубляется разграничение глагольных времен и живого опыта времени, и осознать сложности, мешающие довести до конца эту попытку. Именно этим три данные концепции наиболее важны для нашего собственного исследования степени автономии нарративных конфигураций по отношению к префигурированному или рефигурированному опыту времени.
Напомню вкратце смысл различения между историей и дискурсом, введенного Бенвенистом. В истории не подразумевается говорящий: «Здесь нет говорящего; создается впечатление, что события сами себя рассказывают» (р. 241). Дискурс, напротив, обозначает «всякий акт высказывания, в котором предполагаются говорящий и слушающий; при этом первый намеревается каким-то образом повлиять на второго» (р. 242). Любой способ высказывания имеет свою систему времен: времена включаемые (inclus) и исключаемые (exclus). Так, рассказ включает три времени: аорист (или определенное простое прошедшее время), имперфект, плюсквамперфект (к которому можно добавить проспектов: «он должен был или собирался уйти»). Но рассказ по преимуществу исключает настоящее время, а вслед за ним — и будущее, то есть настоящее, которое скоро наступит, и перфект, то есть настоящее в прошедшем. Наоборот, дискурс исключает одно время аорист и включает три основных времени: настоящее, будущее, перфект. Настоящее — это базовое время дискурса, потому что оно означает одновременность излагаемых событий и текущего момента речи (instance de discours): стало быть, оно взаимосвязано с автореференциальным моментом дискурса. Вот почему два плана, характерных для акта высказывания, различаются также с помощью критериев другого рода: категорий лица. Рассказ не может исключить настоящее, не исключая личных отношений «я—ты»; аорист — это время события, существующее вне того, от чьего лица ведется повествование.
Каково же отношение между этой системой глагольных времен и временем реальной жизни (vécu temporel)?
С одной стороны, распределение личных времен французского глагола по двум различным системам нужно считать независимым от понятия времени и трех его категорий: настоящего, прошедшего и будущего. Сама дуальность обеих систем времени свидетельствует об этом: ни понятие времени, ни категории настоящего, прошедшего и будущего не предостав-
70
ляют «критерия, который определил бы позицию или даже возможность данной формы внутри системы глаголов» (р. 237). Это заявление совершенно того же рода, что отрыв символической системы в целом на уровне мимесис-II от эмпирического и практического уровня мимесис-1.
С другой стороны, разграничение двух систем акта высказывания имеет определенное отношение ко времени. Этот вопрос ставится главным образом в связи с повествованием (récit). Быть может, недостаточно отмечалось, что повествование, которое Эмиль Бенвенист противопоставляет дискурсу, постоянно называется «историческим рассказом» или «историческим актом высказывания». Но исторический акт высказывания «характеризует рассказ о прошедших событиях» (р. 239). В этом определении термин «прошедшее» столь же важен, как термины «рассказ» и «событие». Эти слова обозначают «факты, произошедшие в известный момент времени без всякого вмешательства говорящего в рассказ» (ibid.). Между этим определением и намерением отделить систему времен от интуитивного различения прошлого, настоящего и будущего нет противоречия в той мере, в которой существует возможность референции либо к реальному прошлому, как у историка, либо к вымышленному прошлому, как у романиста (это дает повод автору взять в качестве одного из примеров отрывок из Бальзака). Однако повествование может быть охарактеризовано по отношению к дискурсу как последовательность событий, которые рассказываются сами (без вмешательства говорящего), поскольку, согласно Эмилю Бенвенисту, понятие прошлого — реального или вымышленного — не подразумевает автореференции говорящего к его собственному способу высказывания, как в дискурсе. Отношение между вымышленным прошлым и реальным прошлым здесь не разработано. Предполагает ли вымышленное прошлое реальное прошлое, то есть память и историю, или же сама структура исторического временно́го суждения побуждает охарактеризовать его как прошлое? Но тогда непонятно, почему вымышленное прошлое воспринимается как квази-прошлое121.
Что же касается настоящего момента дискурса, то едва ли можно сказать, что он не имеет отношения ко времени реальной жизни (temps vécu), особенно если учесть, что перфект принадлежит к сфере настоящего в прошедшем, а будущее — к области настоящего, которое должно наступить. Одно дело — грамматический критерий настоящего, то есть автореференциальный характер момента дискурса, и другое — значение этой автореференции, то есть одновременность излагаемых событий и момента дискурса. Миметическое отношение грамматических категорий к живому опыту целиком заключено в этом отношении одновременного соединения и разъединения между грамматическим настоящим временем момента речи и настоящим временем реальной жизни122.
Это миметическое отношение между временем глагола и временем реальной жизни не может быть ограничено сферой дискурса, если мы, вместе с последователями Бенвениста, уделим больше внимания роли дискурса в самом повествовании, нежели оппозиции между дискурсом и повествованием. Могут ли факты прошлого — реальные и воображаемые — быть представлены без всякого вмешательства в рассказ со стороны говорящего? Могут ли события просто появляться на горизонте истории без
71
того, чтобы кто-либо как-либо о них говорил? Не является ли отсутствие повествователя в историческом рассказе результатом некоей стратегии, в силу которой он исчезает из рассказа? Это различение, которым мы в дальнейшем специально займемся, наложит свой отпечаток на поставленный нами вопрос об отношении между временем глагола и временем реальной жизни. Если в самом повествовании (récit) следует различать акт высказывания (дискурс, в смысле Бенвениста) и высказывание (по Бенвенисту, повествование), то проблема выступает в двояком виде: с одной стороны, это проблема отношений между временем акта высказывания и временем высказывания; с другой стороны, проблема отношений между двумя этими временами и временем реальной жизни или действия123.
Прежде чем вступить в эту дискуссию, углубим еще на одну ступень, вместе с Кэте Хамбургер, разрыв между базовым временем вымысла — претеритом — и базовым временем утверждений (assertions) о реальности, временем обычной беседы; затем же, вместе с Харальдом Вайнрихом, усилим отделение системы глагольных времен в естественных языках от категорий времени реальной жизни прошлого, настоящего, будущего.
Заслугой Кэте Хамбургер было четкое разграничение грамматической формы времени глагола, особенно прошедших времен, и их временно́го значения в рамках вымысла. Она больше, чем кто-либо, подчеркивала разрыв, вводимый в процесс речи литературным вымыслом124. Непреодолимый барьер отделяет ассертивный (assertif) дискурс (Aussage), касающийся реальности, от вымышленного рассказа. Результатом такого разрыва является иная логика с ее временными импликациями, о чем мы скажем далее. Прежде чем рассмотреть ее последствия, следует понять причину этой инаковости: она всецело проистекает из того, что вымысел заменяет я-начало (origine-je) ассертивного дискурса, которое само является реальным, я-началом персонажей вымысла. Вся значимость вымысла базируется на придумывании персонажей, которые мыслят, чувствуют, действуют и являются вымышленными я-началами мыслей, чувств и действий рассказываемой истории. Fiktive Ichpersonen* представляют собой стержень логики вымысла. Здесь Кэте Хамбургер максимально сближается с Аристотелем, для которого вымысел является подражанием (mimesis) тем, кто действует. Поэтому критерием вымысла служит употребление глаголов, обозначающих внутренние, то есть психические или ментальные процессы: «Эпический вымысел, — заявляет Кэте Хамбургер, — это единственное гносеологическое место, где Ich-Originität(или субъективность) третьего лица может быть представлена (dargestellt) как третье лицо»125 (S. 73).
Введение в речь глаголов, обозначающих внутренние процессы, чей субъект вымышлен, приводит к переворачиванию системы глагольных времен в сфере вымысла. В «ассертивной системе» языка претерит обозначает реальное прошлое реального субъекта, определяющее нулевую точку временно́й системы («начало» всегда берется в том смысле, в каком геометры говорят о начале системы координат). Прошлое существует только для Reale Ich-Origin**; Ich причастно пространству реальности это-
* Вымышленные первые лица (нем.). — Прим. перев.
** реального я-начала (нем.). — Прим. перев.
72
го я-начала. В сфере вымысла эпический претерит утрачивает свою грамматическую функцию обозначения прошлого. Рассказываемое действие, собственно говоря, не совершается. Поэтому можно сказать, что в вымысле отсутствует временность (S. 78 sq). Мы не вправе даже вести речь о «презентификации» (Vergegenwärtigung) в духе Шиллера: это означало бы снова маркировать отношение к реальному субъекту утверждения и упразднить чисто вымышленный характер я-начала персонажей. Речь могла бы скорее идти о настоящем в смысле времени, одновременного с рассказываемым действием, но без отношения к реальному настоящему времени утверждения.
Если введение глаголов, обозначающих ментальные операции, представляет собой критерий замены я-начала, характеризующего реальный субъект утверждения, я-началом, которое приписывается вымышленным персонажам, то симптомом такой замены является утрата эпическим претеритом значения «прошлого». Имеются и другие симптомы: например, несогласованные комбинации между наречиями времени и глагольными временами, которые были бы неприемлемы в утверждениях о реальности. Так, ввымышленномрассказеможно прочесть: «Morgen war Weihnachten» или «And, of course, he was coming to her party tonight»*. Присоединение к имперфекту наречия, маркирующего будущее, доказывает, что имперфект утратил свою грамматическую функцию.
То, что оппозиция утверждению о реальности представляет собой удачное определение эпического вымысла и что появление вымышленного персонажа может считаться главным признаком начала рассказа, все это бесспорно является сильным способом маркировать вымысел. Спорным остается то, что утраты значения прошлого достаточно для характеристики системы глагольных времен вымысла. Почему грамматическая форма сохраняется, тогда как присущее ей значение прошлого исчезло? Не следует ли поискать позитивную причину сохранения грамматической формы, столь же вескую, как причина утраты ее значения в реальном времени? Думается, решение состоит в том, чтобы искать эту причину в различии между реальным автором и вымышленным повествователем126. В вымысле имеются два рода дискурса: дискурс повествователя и дискурс персонажей. Кэте Хамбургер, стремясь оборвать все связи с ассертивной системой, решила исследовать лишь одну сторону субъективности, вымышленное третье лицо в рассказах от третьего лица127.
Значит, следует ввести в игру диалектику персонажа и повествователя, считая при этом последнего конструкцией столь же вымышленной, как и персонажи рассказа128.
В своей попытке лишить систему глагольных времен соотнесенности со временем реальной жизни и отделить ее от категорий (прошлого, настоящего, будущего), которыми грамматика, как предполагается, обязана этой соотнесенности, Харальд Вайнрих исходит из других соображений.
По его мнению, первый отрыв глагольных времен от категорий времени реальной жизни произошел в процессе самой первой вербализации
* «завтра было Рождество» (нем.); «и, конечно, он пойдет на ее прием сегодня вечером» (англ.). — Прим. перев.
73
опыта (в этом смысле оппозиция рассказ/утверждение попадает в сферу более обширной грамматики глагольных времен).
Это решительное суждение сразу освобождает исследование от предрассудка, что то или иное время глагола встречается во всех языках, и побуждает уделить равное внимание всем временам, входящим в номенклатуру, характерную для данного языка. В рамки такого исследования особенно удачно вписывается наш анализ отношения между системой глагольных времен и смыслом времени в вымысле — постольку, поскольку именно уровень текста, а не фразы считается здесь наиболее существенным. Порывая таким образом с исключительной привилегией фразы, Вайнрих намеревается рассмотреть «лингвистику текста» со структурной точки зрения129. С такой позиции он может оценить и значимость положения, занимаемого определенным временем в номенклатуре, и дистрибуцию времен на протяжении какого-либо текста. Именно из этого перехода от парадигматической точки зрения к синтагматической можно извлечь массу полезных уроков для исследования времени, при условии, что в таком исследовании за единицу измерения также принимается текст, а не фраза.
Если принцип членения времен глагола в данном языке не основан на опыте времени реальной жизни, его следует искать где-то еще. В отличие от Эмиля Бенвениста, Харальд Вайнрих заимствует свой принцип классификации и дистрибуции времен у теории коммуникации. Такой выбор предполагает, что синтаксис, к сфере которого относится изучение времен, представляет собой сеть сигналов, адресуемых говорящим слушателю или читателю, чтобы тот получил и определенным образом расшифровал вербальное сообщение. Говорящий побуждает слушателя произвести первичное распределение возможных объектов коммуникации в соответствии с определенными осями коммуникации: «В отражении этого схематического членения мира и заключается функция синтаксических категорий» (S. 27). Впоследствии мы обсудим миметические характеристики, явным образом вводимые этой референцией к миру, в котором синтаксис производит, как утверждается, первичное распределение — до семантики, скажем так — до лексики.
Харальд Вайнрих дистрибутирует времена рассматриваемых им естественных языков по трем осям, представляющим собой оси коммуникации.
1. «Ситуация говорения» (Sprechsituation) определяет собой первое различение — между «рассказывать» (erzählen) и «комментировать» (besprechen)130. Это различение заведомо важнее всего для нас; именно им продиктован подзаголовок немецкого оригинала: «Besprochene und erzählte Welt»*. Оно соответствует двум различным позициям (attitudes) в говорении: комментарий характеризуется напряженностью или вовлеченностью (gespannte Haltung), а рассказ — разрядкой или отстраненностью (entspannte Haltung).
Мир комментируемый репрезентируют: диалог в драме, политический меморандум, редакционная статья, завещание, научный доклад,
* «Рассказываемый и комментируемый мир» (нем.). — Прим. перев.
74
юридический трактат и все формы ритуальной, кодифицированной и перформативной речи. Эта группа связана с позицией напряженности, поскольку собеседники здесь затронуты, вовлечены; они взаимодействуют с рассказываемым содержанием: «Всякий комментарий есть фрагмент действия» (S. 33). В этом смысле существенны только не нарративные формы речи: Tua res agitur*.
Мир рассказываемый репрезентируют: сказка, легенда, новелла, роман, исторический рассказ131. Здесь собеседники не предполагаются: речь идет не о них, они не выходят на сцену132. Вот почему, сказали бы мы, вспомнив «Поэтику» Аристотеля, даже события, вызывающие сострадание или страх, коль скоро они воспринимаются отстраненно, принадлежат рассказываемому миру.
Распределение глагольных времен по двум группам, соответствующим той или иной позиции, является сигналом, направляющим ситуацию коммуникации к напряженности или разрядке (détente): «“Упорство” временных морфем в обозначении комментария и рассказа позволяет говорящему влиять на слушателя, формировать такое восприятие своего текста, которого он хочет добиться» (S. 30). Если типология ситуаций коммуникации применительно к напряженности или разрядке в принципе доступна для повседневного опыта, то в лингвистическом плане она маркирована дистрибуцией синтаксических сигналов, каковыми являются времена. Двум ситуациям говорения соответствуют две различные группы глагольных времен, а именно: во французском языке для мира комментируемого — présent, passé composé и futur; для мира рассказываемого — passé simple, imparfait, plus-que-parfait, conditionnel (мы увидим, как эти группы разделяются, в свою очередь, сообразно двум последующим критериям, которые оттачивают базовое различение между миром комментируемым и миром рассказываемым). Итак, между позицией говорения и распределением времен существует отношение взаимозависимости. С одной стороны, именно позиции обусловливают дистрибуцию времен по двум группам, в той мере, в какой говорящий употребляет времена комментария, чтобы «дать партнеру почувствовать напряженность, связанную с позицией коммуникации» (S. 32). С другой стороны, именно времена передают сигнал от говорящего к слушателю: это — комментарий, а это — рассказ. В таком смысле они и осуществляют первичное распределение между возможными объектами коммуникации, первое схематическое членение мира на мир комментируемый и мир рассказываемый. А у этого распределения имеются свои собственные критерии, поскольку оно базируется на методическом подсчете, производимом на примерах многочисленных текстов. Таким образом, преобладание в текстах первого типа одной группы времен, а в текстах второго типа — другой группы времен доступно измерению.
Это первичное распределение времен, безусловно, напоминает различение между дискурсом и повествованием у Эмиля Бенвениста, с тем отличием, что оно основано уже не только на отношении высказывающего к акту высказывания, но и на отношении собеседования и — че-
* Полностью: «Тебя это касается, если горит дом у соседа» (лат.) выражение Горация («Послания», 1, 18, 84). Прим. перев.
75
рез его посредство — на управлении восприятием сообщения с целью первичного распределения возможных объектов коммуникации: мир, общий для собеседников, тоже, стало быть, затрагивается чисто синтаксическим различением. Вот почему у Харальда Вайнриха речь идет о мире рассказываемом и мире комментируемом. Как у Эмиля Бенвениста, это различение имеет то преимущество, что освобождает дистрибуцию глагольных времен от категорий времени реальной жизни. Эта «нейтральность» по отношению ко времени (Zeit) (S. 44) чрезвычайно важна для определения времен рассказываемого мира. То, что грамматисты называют прошедшим временем и имперфектом (и что мы вскоре противопоставим под углом зрения подчеркивания (mise en relief)), суть времена рассказа — не потому, что рассказ выражает главным образом прошлые события, реальные или вымышленные, а потому, что эти времена ориентируют на позицию разрядки. Суть в том, что рассказываемый мир чужд непосредственному и сразу же вселяющему тревогу окружению говорящего и слушающего. Моделью в этом отношении остается волшебная сказка: «Более чем что-либо другое, она отрывает нас от обыденной жизни и отдаляет от нее» (S. 46). Функция выражений «однажды...» , «once upon a time», «vor Zeiten», «erase que se era» (буквально: «было то, что было») (S. 47) состоит в том, чтобы маркировать начало рассказа. Иначе говоря, прошедшее время выражает не прошлое как таковое, а позицию разрядки.
Эта первичная основная бифуркация, в основе которой лежит степень встревоженности собеседника, имеет обескураживающие на первый взгляд последствия для понятия повествовательности: в самом деле, акт конфигурации оказывается разорванным надвое, коль скоро драма, строящаяся в форме диалога, попадает в комментируемый мир, а эпопея, роман, история — в мир рассказываемый. Мы неожиданно вновь возвращаемся к аристотелевскому различению между diëgësis и drama, с той разницей, что для Аристотеля критерием было прямое или косвенное отношение поэта к излагаемому действию: Гомер сам сообщает факты, хотя при этом и отступает в тень настолько, насколько это позволяет диететический жанр, тогда как у Софокла именно персонажи совершают действие. Но для нас из этого следует один и тот же парадокс, поскольку понятие интриги было позаимствовано у драмы, которую и Харальд Вайнрих тоже исключает из рассказываемого мира. Не думаю, чтобы эта трудность задержала нас надолго, ибо мир дискурса, который мы относим к сфере нарративной конфигурации, имеет отношение к композиции высказываний и не затрагивает различия в актах высказывания. Кроме того, различие между напряженностью и разрядкой не столь отчетливо выражено, как это кажется вначале. Сам Харальд Вайнрих говорит о случае «захватывающих» (spannend) романов и замечает: «Повествователь сообщает своему рассказу напряженность путем компенсации» (S. 35); используя соответствующие методы, он «частично уравновешивает разрядку, свойственную исходной позиции... Он рассказывает так, как будто комментирует» (ibid.). В сознании автора это «как будто» не упраздняет базового феномена отстранения (retrait) от мира забот. Оно скорее усложняет его и прикрывает до такой степени, что совсем его скрывает (dissimule). К тому же несмешивание двух групп времен свидетельствует
76
о том, что под позицией напряженности продолжает существовать позиция разрядки, которая ее компенсирует. Но сокрытие (dissimulation) во всех рассказах, родственных, подобно роману, захватывающему повествованию, столь органично связано с позицией отстранения, что следует скорее совмещать разрядку и напряженность, а не разделять их, и предоставить место смешанным жанрам, которые порождаются такого рода вовлеченностью в отстранение.
Эти замечания подводят нас к концепциям последователей Эмиля Бенвениста, которые, исходя из бифуркации, отличной от той, что была предложена Харальдом Вайнрихом, проявляли больший интерес к включению дискурса в повествование (récit), чем к их разделению. Установление субординации между высказыванием и актом высказывания явилось одним из решений поставленной таким образом проблемы. К акту высказывания восходит вся гамма позиций говорения — от отстраненности до вовлеченности.
2. Вместе с перспективой говорения в действие вводится вторая синтаксическая ось, которая столь же связана с процессом коммуникации, как и ось позиции говорения. Речь идет об отношении предвосхищения (anticipation), совпадения или ретроспекции между временем действия и временем текста. Возможность такого расхождения между временем действия и временем текста обусловлена линейностью речевой цепи, а значит, и самого развертывания текста. С одной стороны, любой лингвистический знак имеет свои «до» и «после» в речевой цепи. Из этого следует, что предварительная информация и предвосхищаемая информация способствуют определению каждого знака в Textzeit*. С другой стороны, ориентация говорящего по отношению к Textzeit сама является действием, обладающим собственным временем, Aktzeit“. Именно это время действия может совпадать со временем текста, отставать от него или забегать вперед (anticiper).
У языка имеются свои сигналы для предупреждения о совпадении или о расхождении между Aktzeitи Textzeit. Среди времен комментария сложное прошедшее время маркирует ретроспекцию, будущее — проспекцию, настоящее при этом не маркируется. Среди времен рассказа плюсквамперфект и прошедшее предшествующее маркируют ретроспекцию, условное наклонение — проспекцию, простое прошедшее и имперфект — нулевой уровень рассказываемого мира: нарратор принимает участие в событиях неважно, вовлечен ли он в них (первое лицо) или является лишь свидетелем (рассказ от третьего лица). Итак, условное наклонение для рассказа — то же, что будущее время для комментария: оба они сигнализируют о предвосхищаемой информации. Тем самым упраздняется понятие времени будущего (temps de l’avenir): «предвосхищаемая информация означает только то, что информация дается до момента ее реализации» (S. 74). Времена ретроспекции также не соотносятся с понятием прошлого. В комментарии я занимаюсь — в настоящем — ретроспективной информацией; в этом случае ретроспективные времена открывают прошлое для нашего воздействия, тогда как в рассказе оно
* времени текста (нем.). — Прим. перев.
** временем действия (нем.). — Прим. перев.
77
недоступно такому воздействию. Обсуждать прошлое значит продлевать его в настоящее. В связи с этим примечателен случай научной истории. Действительно, историк одновременно рассказывает и комментирует. Он комментирует, коль скоро он объясняет. Вот почему времена исторической репрезентации являются смешанными: «В истории фундаментальная структура репрезентации состоит в том, чтобы встроить рассказ в рамки комментария» (S. 79). Это умение чередовать времена и есть искусство истории. Такое же включение рассказа в рамки комментария встречается в юридическом процессе и в некоторых случаях вмешательства рассказчика в форме комментария — в его повествование. Подобный отрыв синтаксической функции сигнала, связанной с глагольными временами, от выражения самого времени особенно примечателен в случае французского imparfaitи passé simple, которые маркируют не отдаленность во времени, а нулевую степень расхождения между Aktzeitи Texzeit. «Претерит (группа II) является сигналом о наличии рассказа. Его функция состоит не в том, чтобы маркировать прошлое» (S. 100). Таким же образом и прошлое и рассказ не перекрывают друг друга: с одной стороны, прошлое можно нейтрализовать иначе, нежели путем рассказа о нем, например, комментируя его. Тогда я удерживаю его в настоящем вместо того, чтобы от него освободиться, снять его (aufheben) в языке рассказа. С другой стороны, рассказывать можно и нечто иное, нежели прошлое: «Пространство, где разворачивается вымышленный рассказ, не есть прошлое» (S. 101). Чтобы поместить рассказ в прошлое, надо добавить ко времени рассказываемого мира другие знаки, отделяющие правду от вымысла, такие как создание и критика документов. Времена больше не являются ключами к этому процессу133.
3. Подчеркивание (mise en relief) представляет собой третью ось анализа глагольных времен. Эта ось тоже является осью коммуникации, не предполагающей референции к свойствам реального времени. Подчеркивание состоит в выдвижении на первый план определенных особенностей и оттеснении других на задний план. С помощью этого анализа автор стремится избавиться от грамматических категорий вида или наклонения действия, чересчур тесно связанных, по его мнению, с приматом фразы и слишком зависящих от референциального времени (идет ли речь о состоянии, процессе или событии). Повторяем, функция синтаксиса заключается в том, чтобы ориентировать внимание читателя и его ожидания. Именно такую роль выполняет во французском языке время, чаще всего употребляемое в рассказе для подчеркивания, а именно passé simple, тогда как imparfait сигнализирует о перемещении излагаемого содержания на задний план, что мы часто видим в начале и в конце сказок и легенд. Но можно распространить то же наблюдение на повествовательные фрагменты такого, к примеру, текста, как «Рассуждение о методе». Декарт употребляет «imparfait, когда он останавливает свою мысль, passé simple — когда методически продвигается вперед» (S. 222). Здесь автор тоже не делает уступок: «Подчеркивание является единственной и уникальной функцией противопоставления imparfait и passé simple в рассказываемом мире» (S. 117).
Можно ли высказать возражение, что понятие медленного или быстрого темпа указывает на какие-то черты самого времени? Нет, пола-
78
гает Вайнрих: впечатление быстроты объясняется концентрацией значений первого плана, как в знаменитом «Veni, vidi, vici» или в вольном стиле Вольтера в «Сказках и романах». Напротив, замедленность описаний в реалистическом романе, которая подчеркивается изобилием имперфектов, находит свое объяснение в готовности повествователя задержаться на социологическом заднем плане рассказываемых событий134.
Теперь мы видим архитектонику всего целого, на которой основано у Вайнриха синтаксическое членение глагольных времен. Три соответствия, дающих анализу путеводную нить, находятся в отношении не координации, а субординации и представляют собой сеть со все более мелкими ячейками. Сначала происходит глобальное разделение рассказа и комментария, с двумя их группами времен; потом внутри каждой группы осуществляется трихотомия перспективы: ретроспекция, нулевая степень, предвосхищение; затем каждая перспектива распадается на первый и второй план. И если верно, что синтаксические членения образуют по отношению к лексемам первичную классификацию возможных объектов коммуникации («в отражении этого схематического членения мира и заключается функция синтаксических категорий» (S. 27)), — то между синтаксисом и семантикой с точки зрения классификации объектов коммуникации существует лишь различие в степени тонкости такого схематического деления135.
Но работа Харальда Вайнриха не исчерпывается этим все более скрупулезным исследованием парадигматического распределения глагольных времен. Оно находит необходимое дополнение в распределении этих времен на протяжении текста, будь то комментарий или рассказ. А потому анализ временных переходов, то есть «перехода от одного знака к другому в процессе линейного развертывания текста» (S. 199), служит фундаментальным опосредованием между возможностями, предоставляемыми синтаксисом, и актом высказывания единичной повествовательной конфигурации. Это синтагматическое дополнение к парадигматическому распределению времен в естественном языке нельзя упускать из виду, если мы вспомним, что текст состоит из «знаков, организованных в линейную последовательность, передаваемую от рассказчика к слушателю в хронологическом порядке» (S. 198).
Такие временны́е переходы могут быть гомогенными или гетерогенными в зависимости от того, осуществляются ли они внутри одной и той же группы или между различными группами. Первые, как было показано, более многочисленны; они действительно гарантируют насыщенность текста, его текстуальность. Но вторые обеспечивают его информационное богатство: таково прерывание рассказа прямой речью (диалог), использование косвенной речи в самых разнообразных и изощренных формах (например, несобственно-прямая речь, которую мы рассмотрим далее, в связи с проблемой повествовательного голоса). Другие временны́е переходы, скрытые под старым названием согласования времен, представляют собой такие же сигналы управления в чтении текстов136.
Из всех вопросов, которые могут возникнуть при чтении содержательной работы Харальда Вайнриха, я удержу в памяти для дальнейшего анализа лишь один: уместно ли обращение к синтаксису глагольных времен для исследования времени в сфере вымысла?
79
Возобновим обсуждение в той точке, где мы оставили Эмиля Бенвениста. Работа Харальда Вайнриха позволяет уточнить оба тезиса, к которым мы пришли: с одной стороны, мы утверждали, что автономия систем времен в естественных языках, по-видимому, полностью соответствует разрыву, производимому вымыслом в плане мимесис-II. С другой стороны, автономия системы глагольных времен не доходит до полной независимости по отношению ко времени реальной жизни, поскольку эта система сочленяет вымышленное время, сохраняющее связь с временем реальной жизни, в верховье и в низовье вымысла. Противоречат ли этому тезису исследования Харальда Вайнриха?
Первый тезис не представляет трудности. Позиция, занятая Вайнрихом, особенно хорошо иллюстрирует то, как создание интриг соотносится с синтаксисом глагольных времен.
Прежде всего, избрав в качестве оперативного поля не фразу, а текст, Харальд Вайнрих работает с единицами того же размера, что и те, к которым обращается поэтика повествования (récit). Затем, все больше и больше расщепляя номенклатуру глагольных времен и комбинируя ее с номенклатурой многочисленных временных знаков, таких как наречия и адвербиальные выражения, не забывая при этом и о лицах глагола, лингвистика текста демонстрирует широкий диапазон различий, которым располагает искусство композиции. Последняя дифференциация, а именно подчеркивание, в этом отношении стоит ближе всего к построению интриги. Подчеркнутая идея сразу же позволяет определить, что является событием в рассказываемой истории. Не сам ли Харальд Вайнрих с воодушевлением цитирует выражение, обозначающее у Гёте передний план: «небывалое событие», — чьим эквивалентом является аристотелевская «перипетия»?137 Еще более очевидно, что обозначения темпа рассказа с помощью синтаксиса времен и наречий, богатство которых только что приоткрылось нам, на самом деле обретают выразительность (prennent leur relief), лишь внося свою лепту в развитие интриги: изменения темпа едва ли можно выявить вне их использования в нарративной композиции. Наконец, добавляя таблицу временных переходов к таблице группировки времен по парадигмам, лингвистика текста показывает, сколь значительными сериями глагольных времен располагает нарративная композиция для создания смысловых эффектов. Это синтагматическое дополнение представляет собой самый подходящий способ перехода от лингвистики текста к нарративной поэтике. Переходы от одного времени к другому служат ориентиром для трансформаций исходной ситуации в ситуацию финальную, в чем и заключается любая интрига. Идея о том, что гомогенные переходы обеспечивают насыщенность текста, тогда как гетерогенные переходы обеспечивают его информационное богатство, сразу же встречает отклик в теории построения интриги. Интрига тоже демонстрирует гомогенные и гетерогенные черты, постоянство и развитие, повторения и различия. Поэтому можно сказать, что если синтаксис предоставляет повествователю свою гамму парадигм и переходов, актуализируются эти возможности именно в композиционной деятельности.
Таково глубинное сходство, которое можно усмотреть между теорией глагольных времен и теорией нарративной композиции.
80
С другой стороны, я не могу следовать за Харальдом Вайнрихом в его попытке полностью отделить глагольные времена (Tempus) от времени как такового (Zeit). В той мере, в какой систему времен можно рассматривать как лингвистический аппарат, который позволяет структурировать время, соответствующее деятельности нарративной конфигурации, можно разом и воздать должное исследованиям, изложенным в «Tempus», и поставить под сомнение утверждение Вайнриха, что глагольные времена не имеют никакого отношения к реальному времени (Zeit). Вымысел, как мы говорили, непрерывно осуществляет переход от опыта в верховье текста к опыту в его низовье. Однако, на мой взгляд, сколь бы автономной по отношению ко времени и его обиходным названиям ни была система глагольных времен, она не порывает полностью с опытом времени. Она коренится в этом опыте и к нему же возвращается, и приметы этого происхождения и назначения неизгладимы как в линейном, так и в парадигматическом распределении.
Прежде всего, не случайно в столь многих современных языках одно и то же слово обозначает время как таковое и времена глагола, или различные названия, данные двум областям, сохраняют семантическое родство, без труда подмечаемое говорящими (в английском языке это случай tenseи time, в немецком такое родство легко установить по обычному чередованию латинских и германских корней в Zeitи Tempus).
Затем, сам Харальд Вайнрих сохранил в своей типологии глагольных времен одну миметическую черту, коль скоро функция сигнала и управления, приписываемая синтаксическим различениям, влечет за собой «первичное схематическое членение мира» (S. 27). Когда речь идет о разграничении времен применительно к ситуации говорения, имеются в виду мир рассказываемый и мир комментируемый. Конечно, я понимаю, что слово «мир» обозначает совокупность возможных объектов коммуникации без выраженной онтологической импликации, иначе под угрозой оказалось бы само различение между Tempus и Zeit. Но мир рассказываемый и мир комментируемый остаются при этом мирами, чье отношение к практическому миру просто не определяется, согласно закону мимесис-II.
Эта трудность воспроизводится на каждой из трех осей коммуникации, лежащих в основе распределения времен. Так, Харальд Вайнрих справедливо утверждает, что претерит сказок и легенд, романа, повести сигнализирует только о вхождении в сферу повествования; подтверждение этого разрыва с выражением прошедшего времени он видит в употреблении претерита в рассказе-утопии, в научной фантастике, в том числе фантастическом романе. Но можно ли сделать из этого вывод, что сигнал о начале рассказа не имеет отношения к выражению прошлого как такового? В действительности автор вовсе не отрицает, что в иной ситуации коммуникации эти глагольные времена выражают прошлое. Разве два этих лингвистических факта никак не связаны между собой? Разве нельзя обнаружить между ними, несмотря на цезуру, некую преемственную связь в форме как если бы? Разве сигнал о вступлении в сферу вымысла не осуществляет косвенным образом референцию к прошло-
* образ, изображение (нем.) Прим. перев.
81
му — при помощи нейтрализации и неопределенности? Гуссерль много говорит об этой филиации путем нейтрализации138. Ойген Финк вслед за ним определяет Bild* как нейтрализацию простой презентификации (Vergegenwärtigung)139. Благодаря нейтрализации «реалистической» интенции (visée) памяти всякое отсутствие по аналогии становится квазипрошлым. Всякий рассказ — даже о будущем — повествует о нереальном так, как если бы нереальное произошло. И как объяснить, что времена рассказа являются также и временами памяти, если между рассказом и памятью не существует какого-то метафорического отношения, порождаемого нейтрализацией?
Я охотно переинтерпретирую под углом зрения нейтрализации презентификации прошлого критерий разрядки, предложенный Харальдом Вайнрихом для различения мира рассказываемого и мира комментируемого. Позиция разрядки, маркируемая глагольными временами рассказа, не ограничивается, на мой взгляд, ослаблением вовлеченности читателя в его реальное окружение. Она в еще более существенной мере ослабляет веру в прошлое как действительно бывшее, чтобы перенести ее на уровень вымысла, как к тому побуждает формулировка зачина сказок, о которой говорилось выше. Таким образом, благодаря нейтрализации сохраняется опосредованное отношение ко времени реальной жизни140.
Сохранение временно́й интенции глагольных времен вопреки разрыву, создаваемому вхождением в сферу вымысла, наблюдается на обеих осях, дополняющих разграничение рассказа и комментария. Отметим, что для введения трех перспектив — ретроспекции, предвосхищения и нулевой степени — Харальд Вайнрих вынужден был провести различие между Aktzeitи Textzeit. Это возвращение понятия Zeitне случайно. Развертывание текста, устное или письменное, как было сказано, «безусловно является развертыванием во времени» (S. 67): такое ограничение обусловлено линейностью речевой цепи. Из этого следует, что ретроспекция и предвосхищение подчиняются одним и тем же условиям линейности времени. Можно попытаться заменить два этих термина понятиями излагаемой или предвосхищаемой информации: но я не понимаю, как можно исключить из их определения понятия прошлого и будущего. Ретроспекция и проспекция выражают самую элементарную структуру ретенции и протенции живого настоящего. Без этой косвенной ссылки на структуру времени нельзя понять, что обозначают предвосхищение или ретроспекция.
Подобные замечания можно было бы высказать и по поводу третьей оси коммуникации, оси подчеркивания. Если верно, что в плане вымысла различение между имперфектом и прошедшим временем никак больше не соотносится с обиходными обозначениями времени, первичный смысл этого различения, по-видимому, тесно связан со способностью улавливать в самом времени аспект перманентности и аспект эпизодичности (incidence)141. Трудно представить себе, чтобы эти черты самого времени никак не проявлялись во временах подчеркивания. В противном случае разве Харальд Вайнрих смог бы написать: «На первом плане рассказа — все, что происходит, движется, меняется» (S. 176)? Время вымысла никогда не отрывается полностью от времени реальной жизни, времени памяти и действия142.
82
Сам я вижу в этом двояком отношении преемственности и разрыва между временем реального прошлого (temps du passé vécu) и временем рассказа образцовую иллюстрацию отношений между мимесис-Ιи мимесис-ΙI. Времена прошедшего сначала отображают прошлое, затем, вследствие метафорической транспозиции, сохраняющей в себе то, что она преодолевает, они выражают — посредством не прямой, а косвенной референции к прошлому как таковому вхождение в сферу вымысла.
Еще один и, на мой взгляд, решающий довод в пользу того, чтобы не рвать все связи между глагольными временами и временем как таковым, связан с отношением вымысла к тому, что я назвал низовьем текста, — отношением, характеризующим стадию мимесис-III. Вымысел не только несет на себе следы практического мира, на фоне которого он очерчивается, но и переориентирует взгляд к свойствам опыта, которые он «изобретает» (invente), то есть открывает и одновременно создает143. Поэтому глагольные времена порывают связь с обозначениями времени реальной жизни (которое для лингвистики текста выступает как «утраченное время») лишь для того, чтобы вновь открыть это время при помощи бесконечно разнообразных грамматических средств.
Именно это проспективное отношение к опыту времени, очерчиваемое в литературе, объясняет, почему те, кого Харальд Вайнрих считает своими великими предшественниками, упорно связывали глагольные времена со временем как таковым. Когда Гёте и Шиллер говорят в своей переписке о свободе всеведущего повествователя, господствующего над квази-неподвижным под его взглядом действием, когда Август Вильгельм Шлегель восхваляет «вдумчивое спокойствие, присущее повествователю», они ждут от эстетического опыта выявления нового качества самого времени. Когда в особенности Томас Манн называет «Der Zauberberg» романом о времени (Zeitroman), он не сомневается в том, что «самим его объектом является время (Zeit) в чистом виде»144 (S. 55). Качественное различие между временем «равнинной» страны и растянутым и бестревожным временем тех, кто «там наверху» обрек себя вечным снегам (S. 56), конечно, представляет собой смысловой эффект рассказываемого мира. Стало быть, оно столь же вымышленно, как и все остальное в сфере романа. Но оно несомненно выражает, в форме как если бы, новое осознание времени. Глагольные времена стоят на службе этого продуцирования смысла.
Я не буду развивать здесь этот анализ; мы вернемся в нему в следующей главе. Он в действительности вовлекает в сферу исследования новое понятие, понятие вымышленного опыта времени, который вырабатывается тоже вымышленными персонажами рассказа. Этот опыт связан с иным измерением литературного произведения, нежели то, которое мы рассматриваем здесь, — с его способностью проецировать мир. Именно в этом спроецированном мире живут персонажи, вырабатывающие в нем свой опыт времени, столь же вымышленный, как и они сами, но все же имеющий своим горизонтом мир. Разве сам Харальд Вайнрих не допускает в неявной форме такое понятие мира произведения, говоря о мире рассказываемом и мире комментируемом? Не дает ли он этому понятию более точное обоснование, считая синтаксис
83
первичным членением мира возможных объектов коммуникации? Что такое в действительности эти возможные объекты, если не вымыслы, способные ориентировать нас затем в дешифровке нашего реального существования и его временности?
Эти предположения суть в данный момент не более чем вопросы, но по крайней мере они отчасти позволяют понять, почему изучение глагольных времен не может разорвать свои связи с опытом времени и его обыденных обозначений, как и вымысел не может порвать связь с практическим миром, в котором он коренится и к которому возвращается.
2. Время рассказа (Erzählzeit) и рассказываемое время (erzählte Zeit)
Это различение, предложенное Гюнтером Мюллером и развитое Жераром Женеттом, вводит нас в проблематику, которая, в отличие от только что изложенной, не связана с поиском в самом акте высказывания внутреннего принципа дифференциации, который выражался бы в распределении глагольных времен; в основе ее лежит поиск в разграничении между актом высказывания и высказыванием нового ключа к интерпретации времени в вымысле.
Очень важно, что, в отличие от трех рассмотренных выше авторов, Гюнтер Мюллер вводит различение, которое не замыкается в рамках дискурса; оно имеет выход на время реальной жизни, отчасти напоминающее референцию к рассказываемому миру у Харальда Вайнриха. Эта черта не свойственна структурной нарратологии, к которой относит себя Жерар Женетт, и находит развитие только в исследовании, связанном с герменевтикой мира текста, которую мы вкратце обрисуем в последней главе третьей части книги. В концепции Жерара Женетта различение между временем акта высказывания и временем самого высказывания держится в пределах текста; здесь отсутствует какая-либо миметическая импликация.
Я намерен показать, что Жерар Женетт более строго, чем Гюнтер Мюллер, проводит дистрибуцию двух повествовательных времен, но Гюнтер Мюллер, ценой меньшей связности, открывает возможности, дальнейшей разработкой которых мы и займемся. Нам необходима трехуровневая схема: акт высказывания—высказывание—мир текста*, им соответствуют время рассказа, рассказываемое время, вымышленный опыт времени, который создается соединением-разъединением между временем, требуемым для рассказа, и рассказываемым временем. Ни один из двух авторов не отвечает полностью этим ожиданиям: у Мюллера недостаточно проведено различение между вторым и третьим уровнем; Женетт же вообще элиминирует третий уровень в пользу второго.
Мы постараемся заново организовать эти три уровня, критически рассмотрев оба подхода, которые — по причинам, зачастую противоположным, — представляют для нас интерес.
Философский контекст, в котором Гюнтер Мюллер вводит различение между Erzählzeit и erzählte Zeit, сильно отличается от контекста французского структурализма. Г. Мюллер работает в сфере «морфологической по-
84
этики»145, черпающей вдохновение в гётевских идеях о морфологии растений и животных146. Лишь в таком контексте можно понять лежащую в основе «морфологической поэтики» референцию искусства к жизни147. Из этого следует, что различение, предложенное Гюнтером Мюллером, обречено балансировать между глобальным противопоставлением рассказа и жизни и различением, проводимым внутри самого рассказа. Определение искусства допускает обе интерпретации: «Рассказывать, повторяем, — значит презентифицировать (Vergegenwärtigen) события, недоступные чувствам слушателя» («die Bedeutung der Zeit in der Erzählkunst», S. 247). Ho именно в акте презентификации различаются факт «рассказывания» и само «рассказываемое». Стало быть, именно феноменологическое различение определяет, что всякое «рассказывание» — это «рассказывание о чем-то» (erzählen von), что само не является рассказом. Из этого элементарного различения и вытекает возможность различать два времени: время, требуемое для рассказа, и рассказываемое время. Но каков коррелят презентификации, чему соответствует рассказываемое время? У нас есть два ответа: с одной стороны, то, что рассказывается и не является рассказом, само не дано во плоти и крови в рассказе, а просто «передается, воссоздается» (Wiedergabe); с другой стороны, то, что рассказывается, по сути представляет собой «темпоральность жизни». Но «[сама] жизнь не рассказывается, а проживается» (S. 254). Следующее заявление примиряет обе интерпретации: «Всякое повествование есть повествование [о] чем-то, что является не рассказом, а процессом жизни» (S. 261). Любой рассказ, начиная с «Илиады», повествует о самом течении (Fliessen): «Эпопея тем чище, чем богаче темпоральностью жизнь» («Je mehr Zeitlichkeit des Lebens, desto reinere Epik», S. 250).
Впоследствии мы обсудим эту видимую двойственность статуса рассказываемого времени; сейчас же обратимся к тем аспектам разделения на время рассказа и рассказываемое время, которые относятся к сфере компетенции морфологической поэтики.
Все начинается с замечания о том, что рассказывать это, по выражению Томаса Манна, значит откладывать в сторону (aussparen), то есть одновременно отбирать и исключать148. А потому нужно подвергнуть научному исследованию модальности сгущения (Raffung), благодаря которым время рассказа отдаляется от рассказываемого времени. Точнее, сравнение двух времен действительно становится объектом литературоведения, когда оно поддается измерению. Отсюда идея метрического сравнения двух времен. Идея эта, по-видимому, берет начало в размышлениях Филдинга в «Томе Джонсе» о нарративной технике. В самом деле, именно Филдинг, основоположник романа воспитания, конкретно и под углом зрения техники поставил вопрос об Erzählzeit: как мэтр, знающий толк в игре со временем, он посвящает каждую из своих восемнадцати книг временным отрезкам разной длины от нескольких лет до нескольких часов, уделяя каждому из них то больше, то меньше внимания (в зависимости от обстоятельств), пренебрегая одними и подчеркивая другие. Хотя Томас Манн поставил проблему Aussparung, Филдинг был в этом его предшественником, намеренно варьируя Zeitraffung, неравное распределение рассказываемого времени во времени рассказа.
85
Но если мы измеряем, то что именно? И все ли здесь поддается измерению?
То, что мы измеряем, под названием Erzählzeit, это, согласно принятым условиям, хронологическое время, чьим эквивалентом — в силу предварительно установленной эквивалентности между протекшим временем и промежутком, пройденным на циферблате часов, — является число страниц и строчек опубликованного произведения. То есть речь вовсе не идет о времени, затраченном на сочинение произведения. Какому времени эквивалентно число страниц и строчек? Времени условного чтения, которое трудно отличить от варьирующегося времени реального чтения. А это время реального чтения является интерпретацией времени, затраченного на рассказывание; ее можно сравнить с интерпретацией, которую тот или иной дирижер дает времени, теоретически необходимому для исполнения музыкальной партитуры149. Приняв эти условности, можно утверждать, что рассказывание требует «определенного отрезка физического времени», измеряемого с помощью часов. Поэтому то, что мы сравниваем, суть именно «длины» времени, касается ли это Erzählzeit, ставшего измеряемым, или рассказываемого времени, также измеряемого в годах, днях и часах.
Но все ли доступно измерению в этих «сгущениях времени»? Если бы сопоставление времен ограничивалось сравнительным измерением двух хронологий, результаты исследования очень бы разочаровали, хотя даже в этом виде оно влечет за собой поразительные констатации, которые слишком часто игнорировались, настолько внимание к тематике оттеснило на задний план детали этой стратегии двойной хронологии. Сгущения времени выражаются не только в сокращениях, масштаб которых постоянно меняется. Они проявляются также в перескакивании через мертвые времена, в ускорении хода рассказа при помощи staccatoкакого-либо выражения («Veni, vidi, vici»), в концентрации в одном ключевом событии итеративных или дуративных характеристик («каждый день», «постоянно», «неделями», «осенью» и т.д.). Таким образом, в одном и том же произведении темп и ритм вносят свой вклад в вариации относительной протяженности времени рассказа и рассказываемого времени. Все эти особенности, вместе взятые, способствуют созданию Gestalt* рассказа. А понятие Gestaltоткрывает простор для исследования структурных аспектов, все более свободных от линейности, от последовательности и хронологии, даже если в основе их по-прежнему лежит отношение между измеряемыми промежутками времени.
Три примера, приведенные в очерке «Erzählzeit und erzählte Zeit»: «Wilhelm Meisters Lehrjahre» Гёте, «Mrs. Dalloway» Вирджинии Вульф и «Forsyte Saga» Голсуорси, Мюллер разбирает на редкость детально, благодаря чему его исследование становится моделью, достойной подражания.
Согласно избранному методу, анализ всякий раз опирается на самые линейные аспекты повествовательности, никогда при этом не сливаясь с ними. Исходная нарративная схема временна́я последовательность, и искусство рассказа заключается в восстановлении этой последователь-
* формы (нем.). — Прим. перев.
86
ности (die Wiedergabe des Nacheinanders, S. 270)150. Тем более ценны констатации, разрывающие эту линейность. Темп повествования, в частности, зависит от того, каким образом оно растягивается в описательных сценах или ускоряется от одного сильного времени к другому. По примеру историка Броделя, следует говорить не просто о долгом или коротком времени, но о времени быстром или медленном. Различение между «сценами» и «переходами» или «промежуточными эпизодами» также не носит строго количественного характера. Эффекты замедления или убыстрения, краткости или растянутости располагаются на границе количественного и качественного. Долго рассказываемые и разделенные короткими переходами или итеративными резюме сцены, которые Гюнтер Мюллер называет «монументальными», могут быть носителями процесса повествования, в противоположность тем рассказам, где основой являются «небывалые события». Таким образом, не поддающиеся количественной оценке структурные отношения усложняют Zusammenspiel; которая разыгрывается между двумя длительностями. Расположение сцен, промежуточных эпизодов, важных событий, переходов непрерывно модулирует количества и протяженности. К этим чертам прибавляются забегания вперед и возвращения назад, вставки, которые позволяют включать большие промежутки времени, воскрешаемые в памяти в кратких эпизодах повествования, и создавать эффект глубины перспективы, разрушая хронологию. Мы еще более отдаляемся от точного сопоставления отрезков времени, когда к возвращению назад добавляется время воспоминаний, время мечтаний, время пересказанного диалога, как у Вирджинии Вульф. Так качественные напряжения прибавляются к количественным мерам151.
А что же, таким образом, управляет этим переходом от измерения отрезков времени к оценке скорее качественного феномена сжатия? — Соотнесение времени повествования со временем реальной жизни, осуществляемое через посредство рассказываемого времени. Именно здесь идея Гёте снова берет верх: жизнь как таковая не составляет единого целого: природа производит живые существа, но они нейтральны в плане значения (gleichgültig); искусство может создавать лишь мертвые существа, но они обладают значением. Да, вот что образует здесь горизонт мысли: вырвать рассказываемое время из сферы незначимости с помощью повествования. Путем сберегания и сжатия повествователь вводит то, что чуждо смыслу (sinnfremd), в сферу смысла; даже когда рассказ стремится «передать» бессмысленное (sinnlos), он соотносит это бессмысленное со сферой объяснения смысла (Sinndeutung)152.
Значит, если удалить эту референцию к жизни, мы не сможем понять, что напряжение между двумя временами относится к сфере морфологии, которая и сходна с деятельностью формирования—трансформации (Bildung—Umbildung), осуществляющейся в живых организмах, и отлична от нее, поскольку благодаря искусству чуждая значению жизнь возвышается до уровня значимого произведения. Именно в этом смысле сравнение органической природы и поэтического произведения является одним из элементов поэтической морфологии.
* взаимную игру (нем.). Прим. перев.
87
Если отношение между временем рассказа и рассказываемым временем можно назвать, вслед за Женеттом, «игрой со временем», то ставкой в этой игре служит переживание времени (Zeiterlebnis), являющееся интенцией рассказа. Задача поэтической морфологии — выявить соответствие между количественными отношениями времени и качествами времени, связанными с жизнью. И наоборот, эти временны́е качества выявляются лишь в игре дериваций и обрамлений, без какой бы то ни было тематизации проблемы времени в духе Лоренса Стерна, Джозефа Конрада, Томаса Манна или Марселя Пруста. Фундаментальное время по-прежнему подразумевается, но не тематизируется. И все же именно время реальной жизни «со-определяется» отношением и напряжением между двумя временами рассказа и обусловленными этим «законами формы»153. Вот почему возникает искушение сказать: сколько поэтов — или даже поэм столько и форм «переживания» времени («vécus» temporels). Да так оно и есть: а потому это «переживание» может быть рассмотрено лишь косвенно, сквозь временно́й каркас, как то, к чему этот каркас прилаживается и для чего он подходит. Ясно, что дисконтинуальная структура подходит для времени опасностей и приключений, а линейная, более связная структура соответствует роману воспитания, где доминируют темы развития и изменения, тогда как раздробленная хронология, прерываемая внезапными переменами, предвосхищениями и возвратами, короче, обдуманно многомерная конфигурация, лучше согласуется с видением времени, лишенным всякой способности обзора и внутренней связности. Современное экспериментирование в области нарративных техник соответствует, таким образом, разрыву, затрагивающему опыт времени. Правда, в этом экспериментировании сама игра может превратиться в ставку154. Но полярность переживания времени (Zeiterlebnis) и временно́го каркаса (Zeitgerüst), по-видимому, неустранима.
В любом случае реальное сотворение времени (création temporelle), «поэтическое время» (S. 311), открывается на горизонте всякого «значимого сочинения» (S. 308). Это сотворение времени и является ставкой структурирования времени, — ставкой в игре между временем, затрачиваемым на рассказ, и рассказываемым временем.
3. Акт высказывания-высказывание-объект в «повествовательном дискурсе»155
Поэтическая морфология Гюнтера Мюллера продемонстрировала нам в конечном счете три времени: время акта рассказывания, рассказываемое время и время реальной жизни. Первое из них — хронологическое: это время скорее чтения, чем письма; мы измеряем лишь его пространственный эквивалент, исчисляемый количеством страниц и строчек. Что же касается рассказываемого времени, оно исчисляется в годах, месяцах, днях и при необходимости датируется в самом произведении. Оно в свою очередь извлекается путем «сжатия» из «сбереженного» времени, представляющего собой не рассказ, а жизнь. Номенклатура, предлагаемая
88
Жераром Женеттом, тоже включает в себя три компонента, однако она не совпадает со схемой Гюнтера Мюллера; в ее основе лежит предпринятая структурной нарратологией попытка вывести все категории из характеристик, содержащихся в самом тексте, что невозможно в случае времени реальной жизни.
Женетт определяет три уровня исходя из среднего уровня, нарративного высказывания: это повествование (récit) как таковое, состоящее в передаче реальных или вымышленных событий; в письменной культуре это повествование идентично повествовательному тексту. Нарративное высказывание, в свою очередь, предполагает отношения двоякого рода. С одной стороны, высказывание соотносится с объектом повествования, т. е. с рассказываемыми событиями, будь то вымышленными или реальными: это то, что обычно называют «рассказываемой» историей; в сходном смысле мир, в котором происходит история, можно назвать диегетическим универсумом156. С другой стороны, высказывание соотносится с актом наррации157 как таковым, с нарративным актом высказывания (для Улисса рассказ о его приключениях — такое же действие, как и уничтожение соперников); стало быть, в повествовании излагается некая история, иначе оно не было бы дискурсом: «В качестве нарратива повествование существует благодаря связи с историей, которая в нем излагается; в качестве дискурса оно существует благодаря связи с наррацией, которая его порождает» («Повествовательный дискурс», с. 66)158.
Каково же отношение этих категорий к тем категориям, что были разработаны Бенвенистом и Гюнтером Мюллером (мы отвлекаемся здесь от концепции Харальда Вайнриха)? Как следует из самого названия очерка, предложенное Эмилем Бенвенистом разграничение дискурса и повествования Женетт сохраняет лишь для того, чтобы его опровергнуть. Дискурс имеется во всяком повествовании, поскольку оно в такой же мере должно быть высказано, как, скажем, лирическая песня, исповедь или автобиография. Если повествователь отсутствует в своем тексте это тоже данность акта высказывания159. Поэтому акт высказывания производен от текущего момента дискурса в широком смысле, который Эмиль Бенвенист в другой работе придает этому понятию, противопоставляя его скорее виртуальной системе языка, нежели дискурсу в более ограниченном смысле, как стоящему в оппозиции к повествованию. Можно тем не менее признать, что различение между дискурсом и повествованием привлекло внимание к дихотомии, которую в дальнейшем пришлось перенести внутрь повествования в широком смысле слова. В этом плане включающая (inclusive), если можно так выразиться, дихотомия акта высказывания и высказывания непосредственно вытекает из более исключающего (exclusive) разделения дискурса и повествования у Эмиля Бенвениста160.
В случае с Гюнтером Мюллером дело обстоит сложнее. Предложенное им различение Erzälzeitи erzählte Zeitтакже было позаимствовано Женеттом, но полностью переработано им. Эта переработка обусловлена различием статусов тех уровней, чьи временны́е характеристики подвергаются анализу. В номенклатуре Женетта диегетический универсум и акт высказывания не обозначают ничего вне текста. Отношение высказывания к тому, о чем ведется рассказ, можно уподобить отношению
89
между означаемым и означающим в соссюровской лингвистике. То, что Гюнтер Мюллер называет жизнью, таким образом, выводится здесь из игры. Со своей стороны, акт высказывания обусловлен автореференцией дискурса и отсылает к тому, кто рассказывает, но нарратология стремится регистрировать лишь метки повествования, вписанные в текст.
Эта реорганизация уровней анализа влечет за собой полное перераспределение временных характеристик. Прежде всего, Zeiterlebnis выводится за рамки исследования. Остаются лишь внутренние для текста отношения между актом высказывания, высказыванием и историей (или диететическим универсумом). Именно этим отношениям посвящен анализ текста, взятого в качестве примера, — «В поисках утраченного времени».
По причинам, о которых речь пойдет позже, в центре анализа оказывается отношение между временем повествования и временем диегезиса, отчасти в ущерб времени акта высказывания. Что есть время повествования, если оно не является ни временем акта высказывания, ни временем диегезиса? Как и Гюнтер Мюллер, Жерар Женетт считает его эквивалентом и субститутом времени чтения, то есть времени, необходимого, чтобы пробежать или преодолеть пространство текста: «Повествовательный текст, как и любой другой, не имеет никакой другой временно́й протяженности, нежели та, которую он берет метонимически у процесса чтения» (там же, с. 70). Стало быть, следует «принять» и «зафиксировать квазификтивный статус Erzählzeit, мнимого времени, которое выступает как реальное и которое мы будем рассматривать, со всеми необходимыми оговорками, как некое псевдовремя» (там же)161.
Я не буду в деталях воспроизводить анализ трех необходимых характеристик — порядок, длительность, повторяемость, — по которым можно изучать отношения между псевдовременем повествования и временем истории. На всех трех уровнях значимыми являются несогласия между временными чертами событий в диегезисе и соответствующими чертами повествования.
Применительно к порядку эти несогласия могут быть объединены под общим названием анахронии162. Эпическому повествованию со времен Илиады было свойственно начинать in médias res, а потом возвращаться к началу, чтобы дать пояснения. У Пруста этот прием служит противопоставлению будущего, ставшего настоящим, и того представления о нем, которое сформировалось в прошлом. Искусство повествования у него — это в известной мере искусство игры с пролепсисом (рассказом, забегающим вперед) и аналепсисом (рассказом, возвращающимся назад) и встраивание пролепсисов в аналепсисы. Результатом этой первой игры со временем становится разветвленная типология, которую я не берусь описывать. Далее мы обсудим конечную цель этих анахронических вариаций. Идет ли речь о том, чтобы дополнить повествование событием, рассматривая его в свете предшествующего события, или заполнить задним числом существующий пробел, или вызвать непроизвольную реминисценцию повторным напоминанием о сходных событиях, или скорректировать предшествующую интерпретацию с помощью серии переинтерпретаций, прустовский аналепсис это не бесцельная игра; он согласуется со значением всего произведения163. Этот
90
возврат к оппозиции значимого и незначимого открывает такую перспективу в отношении повествовательного времени, которая выводит за пределы литературной техники анахронии164.
Использование пролепсисов внутри ретроспективного в целом повествования, как мне кажется, еще лучше, чем аналепсис, иллюстрирует это отношение к глобальному значению, открываемому нарративным пониманием. Некоторые пролепсисы ведут определенную линию действия к ее логическому концу, вплоть до возвращения к настоящему времени повествователя; другие служат для подтверждения подлинности рассказа о прошлом, будучи свидетельством о его воздействии на наличествующее в данный момент воспоминание («еще и сегодня я вновь ее вижу...»). Чтобы объяснить эту игру со временем, следовало бы позаимствовать у Ауэрбаха понятие «символической всевременности», «вспоминающего сознания»165. Но тогда избранные для исследования теоретические рамки оказываются неадекватными: «...прекрасный пример, — говорит Женетт, — почти чудодейственного слияния излагаемого события и момента наррации, одновременно более позднего (самого позднего из всех) и “все-временного”» (там же, с. 103)166.
Рассматривая в целом анахронии в «Поисках», Женетт заявляет: «Важное значение “анахронического” повествования в “Поисках утраченного времени” очевидным образом связано с ретроспективносинтетическим характером прустовского повествования, в каждый момент полностью охватываемого сознанием повествователя, который — с того времени, когда он в миг творческого экстаза ощутил значение этого повествования как целого, — не перестает держать в своем сознании все нити, воспринимать одновременно все факты и все моменты, между которыми он постоянно готов устанавливать множество “телескопических”связей» (с. 110). Не следует ли тогда сказать, что то, что нарратология рассматривает как псевдовремя повествования, есть комплекс временных стратегий, поставленных на службу концепции времени, которая, будучи с самого начала заявлена в романе, может, кроме того, стать парадигмой для переописывания прожитого и утраченного времени?
К подобным размышлениям побуждает исследование нарушений длительности. Я не возвращаюсь здесь к вопросу о невозможности измерить длительность повествования, если под этим подразумевается время чтения (там же, с. 117-118). Допустим вместе с Женеттом, что можно лишь сравнивать темпы повествования и истории, поскольку темп всегда можно определить через отношение между временно́й и пространственной мерами. Итак, для того чтобы охарактеризовать ускорение или замедление повествования по отношению к излагаемым событиям, мы возвращаемся к предложенному Гюнтером Мюллером сравнению длины текста, измеряемой в страницах и строчках, с длительностью истории, измеряемой в секундах, минутах и часах. Как и у Гюнтера Мюллера, вариации, называемые здесь анизохрониями, касаются крупных нарративных членений и их внутренней хронологии, о которой сообщается [в тексте] или которую можно вывести путем умозаключения. Тогда нарушения темпа можно разместить на шкале перехода от крайнего замедления — паузы до крайнего ускорения эл-
91
липсиса, расположив классическое понятие «сцены» или «описания» ближе к паузе, а понятие «резюмирующего повествования» по соседству с эллипсисом167. Так можно очертить разветвленную типологию сравнительных величин длины текста и длительности рассказанных событий. Но для меня важно то, что овладение со стороны нарратологии стратегиями ускорения и замедления дает возможность углубить то понимание функции, присущей способам построения интриги, которое мы приобрели при знакомстве с этими способами. Так, Жерар Женетт отмечает, что у Пруста общий объем (а значит, и замедление повествования, приводящее к своего рода совпадению между длиной текста и временем, необходимым герою, чтобы проникнуться зрелищем) тесно связан с «созерцательными остановками» (с. 129) в опыте героя168. Равным образом отсутствие резюмирующего повествования, отсутствие описательных пауз, тяготение повествования к выстраиванию в сцену в нарративном смысле этого слова, характер вступления, который носят пять огромных сцен утро, обед, вечер, — занимающие вместе около шестисот страниц, повторение, превращающее их в типические сцены, — все эти структурные черты «Поисков», затрагивающие все традиционные нарративные движения (с. 140), которые может выявить, проанализировать, классифицировать точная нарратологическая наука, обретают значение благодаря своего рода временно́й неподвижности, создаваемой повествованием в плане вымысла.
Но модификацией, придающей нарративной темпоральности «Поисков» «совершенно новый темп поистине беспримерный ритм» (там же), несомненно является итеративный характер повествования — черта, которую нарратология относит к третьей временно́й категории, категории повторяемости (рассказать 1 или η раз событие, происходящее 1 или ηраз), и противопоставляет сингулятивному повествованию169. Как интерпретировать это «упоение итеративом» (с. 149)? Моменты у Пруста тяготеют к сходству и смешению, что составляет, как признает Женетт, само условие опыта «непроизвольной памяти» (с. 150),7°. Однако сам этот опыт в данном упражнении по нарратологии не обсуждается. Почему?
Если «воспоминательная активность» героя-повествователя столь легко становится «фактором (я бы охотно сказал — средством) раскрепощения повествования по отношению к диететической темпоральности» (с. 176), то потому, что исследование времени до сих пор искусственно ограничивалось рамками отношения между повествовательным высказыванием и диегезисом, в ущерб временным аспектам отношения между высказыванием и актом высказывания, аспектам, которые были отнесены к грамматической категории залога171.
Отсрочка анализа времени наррации имеет свои отрицательные стороны. Так, не ясен смысл того переворачивания, вследствие которого история со своей нормальной хронологией и доминированием сингулятива вновь — на повороте произведения Пруста — получает перевес над повествованием с его анахронизмами и итеративами: этого, на наш взгляд, нельзя понять, если мы не приписываем обусловленные этим нарушения длительности самому повествователю, «который, будучи обу-
92
реваем нарастающим нетерпением и тревогой, стремится одновременно и нагрузить последние сцены... и перескочить к развязке... которая, наконец, сообщит ему бытие и оправдает его затянувшийся дискурс» (с. 177). Значит, надо интегрировать во время повествования другую темпоральность, «которая уже не есть темпоральность повествования, но которая в конечном счете обусловливает ее: это темпоральность собственно наррации» (там же)172.
Как же в таком случае обстоит дело с отношением между актом высказывания и высказыванием? Лишено ли оно вообще временно́го характера? Основным феноменом, текстуальный статус которого может быть сохранен, является «залог» (voix), понятие, заимствованное у грамматистов173 и характеризующее введение в повествование самой наррации, то есть нарративной инстанции (в том смысле, в каком Бенвенист говорит о моменте дискурса (instance de discours)), с двумя ее протагонистами, повествователем и получателем, реальным или виртуальным. Вопрос о времени ставится на этом уровне отношения в той мере, в какой нарративная инстанция, репрезентируемая в тексте залогом, сама демонстрирует определенные временны́е черты.
Причиной того, что время акта высказывания рассматривается в «Повествовательном дискурсе» с таким опозданием и столь кратко, отчасти являются трудности, связанные с упорядочением отношений между актом высказывания, высказыванием и историей174; в основном же это обусловлено проблемой отношения в «Поисках» между реальным автором и вымышленным повествователем, который оказывается здесь тем же, что и герой, поскольку время наррации носит тот же вымышленный характер, что и роль повествователя-героя. Но это выявление вымышленного характера «я» героя-повествователя требует анализа, а именно анализа залога. Действительно, хотя акт наррации не несет на себе никаких отметок длительности, изменения его дистанции по отношению к излагаемым событиям представляют «важный, значимый элемент повествования» (с. 227). В частности, названные выше вариации, связанные с временным строем повествования, находят в этих изменениях известное обоснование: они дают почувствовать постепенное сокращение самой ткани нарративного дискурса, «как будто, — добавляет Женетт, время истории тяготеет ко все большему увеличению в объеме и ко все большей сингулятивности по мере приближения к концу, который и есть ее источник» (с. 236). А то, что время истории героя приближается к своему источнику, то есть к настоящему времени повествователя, но не может соединиться с ним, составляет часть значения повествования: оно было окончено или по крайней мере прервано, когда герой стал писателем175.
Обращение к понятию повествовательного залога позволяет нарратологии предоставить место субъективности, не смешивая ее при этом с субъективностью реального автора. «Поиски» нельзя читать как замаскированную автобиографию, потому что «я», произнесенное повествователем-героем, само является вымышленным. Но из-за отсутствия такого понятия, как мир текста, обоснованием которого я займусь в следующей главе, использования понятия повествовательного залога недостаточно, чтобы правильно оценить вымышленный опыт времени, вырабатываемый героем-повествователем, в его психологических и метафизических аспектах.
93
Но без этого опыта, столь же вымышленного, как и «я», которое его осуществляет и рассказывает, и все же достойного называться «опытом» в силу его отношения к миру, проецируемому произведением, трудно осмыслить понятие утраченного и обретенного времени, составляющее тему «Поисков»176.
Именно это неявное отрицание понятия вымышленного опыта приводит меня в замешательство, когда я читаю и перечитываю страницы, озаглавленные «Игра со Временем» (с. 175-180), которые являются если не ключевыми, то во всяком случае очень важными в книге (страницы эти по меньшей мере преждевременны, если учесть, что время наррации исследуется позже). Поскольку вымышленный опыт времени, осуществляемый повествователем-героем, не ставится в связь с внутренним значением повествования, он отнесен к внешнему для произведения обоснованию, т. е. тому оправданию, которое автор, Пруст, дает своей повествовательной технике, со всеми ее интерполяциями, нарушениями и в особенности с ее итеративными конденсациями. Само же это оправдание соотносится с «реалистической мотивировкой», которая роднит Пруста с целой литературной традицией. Женетт подчеркивает лишь ее «противоречия» и «вольности» (с. 178). Это противоречие между стремлением рассказать о событиях так, как они были пережиты в то мгновение, и стремлением рассказать о них, как они вспомнились потом; оно проявляется в том, что напластования, отражаемые анахронизмами повествования, приписываются то самой жизни, то памяти. А главным образом это противоречивость поиска, посвященного разом и «вневременному», и «времени в чистом состоянии». Но не составляют ли эти противоречия саму сердцевину вымышленного опыта героя-повествователя? Что же до вольностей, их Женетт относит к «ретроспективным рациональным самоистолкованиям, на которые великие художники никогда не скупились, при этом даже пропорционально их гениальности, то есть пропорционально перевесу их художественной практики над всякой теорией, включая их собственную» (с. 178). Но не только повествовательная практика обладает преимуществом перед эстетической теорией: вымышленный опыт, наделяющий значением эту практику, тоже пребывает в поисках теории, которая всегда остается неадекватной ему (об этом свидетельствуют комментарии, которыми повествователь перегружает свой рассказ). Именно для теоретического взгляда, чуждого поэзису, действующему в самом рассказе, опыт времени сводится в «Поисках» к «противоречивой устремленности» к «онтологической тайне».
Быть может, функция нарратологии и состоит в том, чтобы перевернуть отношения между воспоминанием и нарративной техникой, увидеть в упомянутой выше мотивировке просто эстетического посредника, короче, свести видение к стилю. Роман об утраченном и вновь обретенном времени становится тогда для нарратологии «романом о Времени обузданном, плененном, околдованном, тайно ниспровергнутом, или, лучше сказать: извращенном» (с. 179).
Но не следует ли в конечном счете перевернуть это переворачивание и заняться формальным анализом повествовательной техники, показывающей время как извращенное, чтобы затем — долгим обходным пу-
94
тем — вернуться к более проницательному пониманию опыта утраченного и обретенного времени? Именно этот опыт сообщает в «Поисках» свое значение и свою интенцию (visée) повествовательной технике. Иначе разве можно было бы сказать о романе в целом то, что сам повествователь говорит о грезах: «он ведет грандиозную игру со Временем» (с. 179)? Разве игра могла бы быть «грандиозной», то есть опасной, если бы у нее не было ставки?
За рамками дискуссии об интерпретации «Поисков», предложенной Женеттом, остается вопрос о том, не следует ли, ради сохранения значения произведения, подчинить повествовательную технику интенции, выносящей текст за его пределы, к опыту, безусловно мнимому, но все же не сводимому к простой игре со временем. А этот вопрос влечет за собой следующий: не стоит ли узаконить то измерение, которое Гюнтер Мюллер, опираясь на Гёте, назвал Zeiterlebnis и которое нарратология, в силу методологического ограничения, выводит из игры. Тогда главная проблема заключается в том, чтобы сохранить вымышленный характер Zeiterlebnis наперекор сведению его к одной только повествовательной технике. Эта проблема и станет темой нашего анализа «Поисков» в следующей главе.
4. Точка зрения и повествовательный голос
Наше исследование игр со временем нуждается в последнем дополнении, где были бы учтены понятия точки зрения и повествовательного голоса, которые нам встречались выше, но чья связь с основными структурами рассказа осталась не выясненной177. А понятие вымышленного временно́го опыта, с которым мы соотносим наш анализ конфигурации времени вымышленным рассказом, не сможет обойтись без понятий точки зрения и повествовательного голоса (мы временно считаем их тождественными), в той мере, в какой точка зрения является точкой зрения на ту сферу опыта, к которой принадлежит персонаж, а повествовательный голос, обращаясь к читателю, представляет ему рассказываемый мир (если вновь воспользоваться термином Харальда Вайнриха).
Каким образом можно связать понятия точки зрения и повествовательного голоса с проблемой нарративной композиции?178 Прежде всего следует соотнести их с категориями повествователя и персонажа’, рассказываемый мир — это мир персонажа, а рассказывается он повествователем. Но понятие персонажа прочно укоренено в нарративной теории, поскольку рассказ не мог бы быть мимесисом действия, не будучи также мимесисом действующих существ, а действующие существа являются в широком смысле, который семиотика действия придает понятию агента, существами думающими и чувствующими, или, точнее, существами, способными говорить о своих мыслях, чувствах и действиях. Поэтому можно переместить понятие мимесиса от действия к персонажу и от персонажа к его дискурсу179. Это еще не все: коль скоро в диегезис включается дискурс персонажа по поводу его собственного опыта, мы можем переформулировать парные категории «акт высказывания-высказывание», на которых строится данная глава, в терминах, персонализирующих оба эти понятия; акт высказывания становится тогда дис-
95
курсом повествователя, а высказывание — дискурсом персонажа. Вопрос теперь будет заключаться в том, какие особые нарративные приемы делают рассказ дискурсом повествователя, передающего дискурс своих персонажей. Понятия точки зрения и повествовательного голоса указывают на некоторые из этих приемов.
Прежде всего необходимо определить степень смещения мимесиса действия к мимесису персонажа, кладущему начало целой цепочке понятий, которая ведет к понятиям точки зрения и повествовательного голоса.
Именно рассмотрение драмы побудило Аристотеля отвести персонажу и его мыслям значительное (хотя и всегда подчиненное всеобъемлющей категории mythos) место в теории мимесиса: персонаж в действительности принадлежит к сфере «что» мимесиса. А поскольку различение драмы и диегесиса относится только к сфере «как», то есть к способу презентации персонажей поэтом, категория персонажа обладает в диегесисе теми же правами, что и в драме. Для нас сегодня, наоборот, самый непосредственный подступ к проблематике персонажа с его мыслями, чувствами и речью — связан с диегесисом как оппозицией драме. И вправду, ни одно из миметических искусств не продвинулось в изображении мыслей, чувств и речи так далеко, как роман. Благодаря огромному разнообразию и бесконечной гибкости используемых им приемов роман стал исключительным инструментом исследования человеческой psyche*, так что Кэте Хамбургер даже усмотрела критерий разрыва между вымыслом и утверждением в изобретении центров вымышленных сознаний, отличных от реальных субъектов утверждений о реальности180. Вопреки предрассудку, согласно которому способность описывать внутренний мир субъектов действия, мысли, чувства и речи выводится из исповеди и исследования самим субъектом своего сознания, Кэте Хамбургер даже полагает, что именно роман от третьего лица, повествующий о мыслях, чувствах, словах вымышленного другого, дальше всего продвинулся в рассмотрении внутренней сферы сознания181.
Доррит Кон в книге «Прозрачность внутреннего мира»182 («Transparence intérieure») вслед за Кэте Хамбургер, чьим работам она дает высокую оценку, решительно кладет в основу прекрасного исследования «способов изображения в романе психической жизни» (таков французский перевод подзаголовка) изучение повествования от третьего лица. Первичный мимесис, мимесис психической, или внутренней, жизни (в терминологии автора, «mimesis of consciousness», р. 8) — это мимесис личности, отличной от говорящего («mimesis of other minds»). Изучение сознания в «текстах от первого лица», то есть в произведениях, имитирующих исповедь, автобиографию183, ставится на второе место и следует тем же принципам, что и изучение повествования от третьего лица. Это замечательная стратегия, если принять во внимание, что среди текстов от первого лица существует множество таких, в которых первое лицо столь же вымышленно, как и третье лицо в рассказах о нем (или о ней), настолько, что это вымышленное первое лицо может без существенного ущерба поменяться места-
* души (греч.). Прим. перев.
96
ми с третьим лицом, не менее вымышленным (подобные эксперименты случалось ставить Кафке и Прусту)184.
Превосходным пробным камнем нарративных техник, которыми располагает вымысел для выражения этой «прозрачности внутреннего мира», является анализ способов передачи мыслей и слов вымышленных субъектов в третьем и первом лице. По этому пути и идет Доррит Кон. Ее преимущество состоит в том, что она принимает в расчет и параллелизм между рассказами от третьего и от первого лица, и исключительную изобретательность, которую демонстрирует в этой области современный роман.
Главным приемом — по обе стороны линии, разделяющей два больших класса повествовательных произведений, — является непосредственное повествование о мыслях и чувствах, которые рассказчик приписывает вымышленному другому лицу или самому себе. Если в романе от первого лица рассказ о себе («self-narration») ошибочно считался естественным, поскольку он имитирует память — правда, память необычайную, то с психо-рассказом («psycho-narration»), или повествованием о чужих душах, дело обстоит иначе. Здесь мы получаем особую возможность подступа к знаменитой проблеме всеведущего повествователя, к которой мы вернемся позднее, анализируя проблему точки зрения и голоса. Эта особая возможность перестает казаться чем-то из ряда вон выходящим, если мы примем в расчет, вместе с Жаном Пуйоном, что в любом случае мы понимаем чужие psyché благодаря воображению185. Романист делает это если не без труда, то по крайней мере без угрызений совести: ведь он властен придать надлежащее выражение мыслям, которые он может непосредственно читать, поскольку он их придумывает, вместо того чтобы разгадывать мысли по их словесному выражению, как мы поступаем в повседневной жизни. В этом «коротком замыкании» и состоит вся магия романа от третьего лица186.
Наряду с прямым повествованием о мыслях и чувствах, в романе используются еще два приема. Первый из них прием цитируемого монолога («quoted monologue») — состоит в цитировании внутреннего монолога вымышленного другого или в том, что персонаж цитирует сам себя в ходе монолога, как в автоцитируемом монологе («self-quoted monologue»)187. В мои намерения не входит разбор вольностей, условностей и даже несуразностей этого метода, который предполагает, подобно предыдущему, прозрачность сознания, ибо повествователь — это тот, кто подгоняет передаваемые слова к непосредственно постигнутым мыслям, не нуждаясь в восхождении от слова к мысли, как в повседневной жизни. К этой «магии», создаваемой прямым чтением мыслей, данный прием добавляет главную трудность — приписывание одинокому субъекту использования языка, который в практической жизни предназначен для коммуникации; действительно, что значит разговаривать с самим собой? Такое отклонение от диалогического измерения речи в сторону монолога создает огромные проблемы, технические и теоретические одновременно; впрочем, они относятся к анализу судьбы объективности в литературе, а не к теме моей работы. К вопросу же об отношении между дискурсом повествователя и цитируемым дискурсом
97
персонажа мы еще вернемся в рамках нашего дальнейшего исследования проблем точки зрения и голоса.
Третий прием, который впервые был применен Флобером и Джейн Остин, знаменитая несобственно-прямая речь, erlebte Rede немецкой стилистики, — состоит уже не в цитировании монолога, а в его пересказе: в этом случае имеется в виду не цитируемый, а нарративизируемый монолог («narrated monologue»). Слова — в плане их содержания — суть слова персонажа, но они «рассказываются» повествователем в прошедшем времени и от третьего лица. Главные трудности цитируемого и автоцитируемого (self-quoted) монолога тем самым скорее маскируются, чем разрешаются: стоит только перевести рассказываемый монолог в цитируемый, восстанавливая соответствующее лицо и время, как они возникают вновь. Читателям Джойса хорошо знакомы и другие трудности, которыми изобилует текст, где нет больше границ между дискурсом повествователя и дискурсом персонажа. Но все же эта удивительная комбинация психо-рассказа и рассказываемого монолога наиболее полным образом интегрирует мысли и слова другого в ткань повествования: дискурс нарратора берет на себя дискурс персонажа и предоставляет ему свой голос, тогда как нарратор приспосабливается к тону персонажа. Это «чудо» знаменитой erlebte Redeвенчает собой «магию» прозрачности внутреннего мира.
Каким образом предшествующие замечания о репрезентации мыслей, чувств и слов в художественном произведении соотносятся с понятиями точки зрения и голоса?188 Промежуточное звено создается путем исследования типологии, где учитываются обе большие дихотомии, которые мы использовали спонтанно, не проясняя их сами по себе. Первая дихотомия полагает два вида произведений: с одной стороны, те, что повествуют о жизни своих персонажей как других людей («mimesis of other minds» Доррит Кон): в этом случае мы имеем дело с рассказом от третьего лица; с другой стороны, произведения, присваивающие своим персонажам грамматическое лицо нарратора; это так называемые рассказы от первого лица. Но эту дихотомию пересекает следующая, основанная на том, имеет ли дискурс повествователя преимущество перед речью персонажа или не имеет. Такую дихотомию легче установить в рассказах от третьего лица, поскольку различение между речью рассказывающей и речью рассказываемой находит опору в грамматическом различении между лицами и глагольными временами. Данная дихотомия не так очевидна в произведениях от первого лица, поскольку различие между повествователем и персонажем не маркировано здесь различием личных местоимений; в этом случае задача выявления повествователя и персонажа в одной и той же грамматической форме «я» возлагается на другие сигналы. Дистанция между повествователем и персонажем, как и степень преобладания дискурса повествователя по отношению к дискурсу персонажа, может варьироваться. Именно эта двойная система вариаций привела к построению типологий, нацеленных на охват всех возможных нарративных ситуаций.
Одним из наиболее впечатляющих предприятий такого рода является теория «типических нарративных ситуаций» Франца К. Штанцеля189. Штанцель не употребляет сами категории точки зрения (perspective) и го-
98
лоса, он предпочитает различать типы нарративных ситуаций (Erzählsituationen, сокращенно ES) исходя из той особенности, которая, на его взгляд, присуща всем романическим произведениям: все они передают (опосредуют) мысли, чувства и слова190. Здесь возможны три случая: или посредничество-передача предоставляет преимущество повествователю, навязывающему свыше свою точку зрения (auktoriale ES)191, или посредничество осуществляется отражателем (réflecteur) (термин Генри Джеймса), то есть персонажем, который думает, чувствует, ощущает и говорит не как повествователь, а как один из персонажей, — тогда читатель видит других персонажей его глазами (personaleили figurale ES); или же повествователь отождествляется с персонажем, говорящим от первого лица, и живет в том же мире, что и другие персонажи (Ich-ES).
Правду сказать, типология Штанцеля, несмотря на свою замечательную проясняющую силу, разделяет со многими типологиями недостаток двоякого рода: она слишком абстрактна, чтобы быть различающей, и не столь детальна, чтобы охватить собою все нарративные ситуации. В другой работе Штанцель пытается исправить первый недостаток, рассматривая каждую из трех типических ситуаций в качестве терма, маркируемого парой противоположностей, помещенных на концах трех разнородных осей. Auktoriale ESстановится, таким образом, полюсом, маркируемым на оси «точки зрения», в зависимости от того, каково видение персонажей у повествователя — внешнее, то есть широкое, или внутреннее, то есть ограниченное. Таким образом понятие точки зрения занимает определенное место в таксономии. Personale, или figurale, ESэто полюс, маркируемый на оси «наклонения» (mode), смотря по тому, определяет или нет персонаж видение романа от имени повествователя, который становится тогда немаркированным полюсом оппозиции. Что же касается Ich-ES, то он становится полюсом, маркируемым на оси «лица» в зависимости от того, принадлежит или нет повествователь той же онтической области, что и другие персонажи; таким путем удается избежать возвращения к чисто грамматическому критерию употребления личных местоимений.
Второй же недостаток Штанцель сглаживает, интерполируя между тремя типическими ситуациями, ставшими полюсами на осях, определенное число промежуточных ситуаций, которые он размещает по кругу (Typenkreis). Итак, можно получить представление о разнообразных нарративных ситуациях в зависимости от того, насколько они приближаются к тому или иному полюсу или отдаляются от него. Проблема точки зрения и голоса становится, таким образом, объектом более подробного рассмотрения: точка зрения повествователя-автора может исчезнуть лишь в том случае, если нарративная ситуация будет приближена к personale ES, где место, освобожденное повествователем, займет отражатель. Продолжая движение по кругу, мы удаляемся от personale ESи приближаемся к Ich-ES. Мы видим, как персонаж, который в ситуации несобственно-прямой речи (erlebte Rede) еще говорил голосом повествователя, все время навязывая при этом свой собственный голос, теперь делит сферу существования с другими персонажами; отныне именно он говорит «я», а повествователю остается лишь заимствовать его голос.
99
Несмотря на попытку динамизировать свою типологию, Штанцель не дает достаточно удовлетворительного ответа на оба высказанных выше упрека. На упрек в абстрактности можно было бы полностью ответить, лишь отказавшись принять за исходную точку анализ метаязыков, демонстрирующих определенную логическую когерентность и описывающих тексты сообразно тем или иным моделям, и занявшись поиском теорий, которые учитывают нашу литературную компетентность, то есть способность читателей распознавать и резюмировать интриги, а также группировать сходные интриги192. Если взять, таким образом, за правило внимательно прослеживать опыт читателя, шаг за шагом организующего элементы рассказываемой истории в интригу, мы осмыслим понятия точки зрения и голоса не как категории, которые определяются их местом в таксономии, а как различительную черту, выделенную из обширной констелляции других черт и определяемую своей ролью в композиции литературного произведения193.
Что касается упрека в неполноте, то на него не дает достаточно удовлетворительного ответа система, которая умножает формы перехода, не покидая круга, жестко определяемого тремя типическими нарративными ситуациями. Так, думается, что основным чертам повествовательного произведения не вполне соответствует презентация третьего лица как такового в системе, где три типические нарративные ситуации являют собой вариации речи повествователя, имитирует ли она власть реального автора, проницательность отражателя или рефлексивность субъекта, одаренного невероятной памятью. Но, по-видимому, то, что читатель может определить как точку зрения или голос, принадлежит к сфере исследования — посредством соответствующих нарративных техник — биполярного отношения между повествователем и персонажем.
Эти два ряда критических замечаний по поводу типологии нарративных ситуаций наводят на мысль о том, что к понятиям точки зрения и голоса нужно подходить, с одной стороны, без чрезмерного таксономического рвения, как к автономным чертам, характеризующим композицию повествовательного произведения, а с другой стороны, следует непосредственно связывать их с основным свойством повествовательного произведения — продуцированием речи повествователя, излагающего речь вымышленных персонажей194.
Понятие точки зрения, как мы полагаем, обозначает в рассказе от третьего или от первого лица ориентацию взгляда повествователя на персонажи и взгляда одних персонажей на других. Оно имеет отношение к композиции произведения и становится — у Бориса Успенского — объектом «поэтики композиции»195, коль скоро возможность принимать различные точки зрения — свойство, предполагаемое самим этим понятием, — позволяет художнику систематически варьировать точки зрения внутри одного и того же произведения, множить их и вставлять их комбинации в конфигурацию произведения.
Типология, предложенная Успенским, касается исключительно возможностей композиции, предоставляемых понятием точки зрения. Поэтому его изучение может войти как составная часть в исследование проблем нарративной конфигурации. Понятие точки зрения может стать предметом типологизации, поскольку — как подчеркивает также и Лот-
100
ман196, — произведение искусства может и должно быть прочитано на нескольких уровнях. В этом и состоит многоплановость, присущая произведению искусства. А каждый из этих планов является также возможным местом манифестации точки зрения, пространством возможных сочетаний точек зрения.
Понятие точки зрения находит свое приложение прежде всего в идеологическом плане, то есть в плане оценок, поскольку идеология есть система, направляющая концептуальное видение мира во всем произведении или в его части. Это может быть идеология автора или идеология персонажей. То, что называют «аукториальной точкой зрения», представляет собой не концепцию мира, созданную реальным автором, а концепцию, которая определяет повествовательную структуру отдельного произведения. На этом уровне точка зрения и голос суть просто синонимы: в произведении можно услышать и другие голоса, помимо авторского, и выявить множество упорядоченных изменений точек зрения, доступных для формального изучения (например, изучения употребления «постоянных» эпитетов в фольклоре).
К фразеологическому плану, то есть к плану характеристик речи, принадлежит исследование признаков первенства речи повествователя (auktorial sprech) или речи отдельного персонажа (figurai sprech) в произведениях от третьего или от первого лица. Такого рода анализ относится к сфере поэтики композиции, поскольку изменения точки зрения становятся векторами структурирования (как показывают вариации в именах персонажей, столь характерные для русского романа). Именно в этом плане раскрываются все сложности композиции, проистекающие из корреляции между речью автора и речью персонажа. (Мы обнаруживаем здесь изложенные выше замечания о разнообразных способах передачи речи персонажа и классификацию, сходную с той, что была предложена Доррит Кон197.)
В первую очередь нас интересует пространственный и временно́й план выражения точки зрения. Прежде всего, пространственная перспектива, взятая буквально, служит метафорой для всех других выражений точки зрения. Для рассказа необходима комбинация чисто перцептивных перспектив, включающих позицию, угол падения света, глубину поля (как в случае фильма). Так же обстоит дело с временно́й позицией повествователя по отношению к персонажам и одних персонажей по отношению к другим. Здесь также важна степень сложности, обусловленная сочетанием многочисленных временных перспектив. Рассказчик может идти в ногу со своими персонажами, приводя свое настоящее время повествования в соответствие с их настоящим временем и разделяя таким образом свойственные им ограниченность или неведение; он может, наоборот, двигаться вперед или назад, рассматривать настоящее с точки зрения антиципаций воскрешаемого в памяти прошлого или как минувшее воспоминание о предвосхищаемом будущем и т. д. 198
План глагольных времен и видов составляет отдельный уровень, поскольку речь здесь идет о чисто грамматических возможностях, а не о собственно временных значениях. Для поэтики композиции, как и для концепции Вайнриха, очень важны модуляции, происходящие на протяжении текста. Успенского особенно интересует чередование настояще-
101
го времени — когда оно используется в сценах, обозначающих перерыв в рассказе, где повествователь синхронизирует свое настоящее время с настоящим временем прерванного рассказа, — и прошедшего времени, когда оно передает скачки, происходящие в повествовании, при помощи как бы дискретных quanta199.
Успенский не хочет смешивать с перечисленными планами психологический план, применительно к которому он сохраняет оппозицию объективной и субъективной точек зрения, сообразно тому, трактуется ли описанное положение дел как факты, полагаемые необходимыми с любой точки зрения, или как впечатления, испытанные отдельным индивидом. Именно в этом плане правомерно противопоставление внешней точки зрения (ход действия, увиденный зрителем), и точки зрения внутренней (внутренней для описываемого персонажа); при этом не обязательно определяется локализация говорящего в пространстве и во времени. Тот, кого чересчур поспешно называют всеведущим наблюдателем, — это тот, для кого как психические, так и физические феномены излагаются как данные наблюдения безотносительно к интерпретирующей субъективности: «Он думал, он чувствовал и т.д.» Достаточно небольшого числа формальных знаков: «видимо», «очевидно», «казалось, что», «как будто». Эти знаки «чужой» точки зрения обычно сочетаются с присутствием повествователя, поставленного в отношение синхронии со сценой действия. Следовательно, не нужно смешивать два смысла слова «внутренний»: первый характеризует феномены сознания, которые могут принадлежать третьему лицу, второй единственно рассматриваемый здесь — характеризует позицию повествователя (или персонажа, берущего слово) по отношению к описанной точке зрения. Повествователь может находиться снаружи или внутри благодаря так называемому внутреннему, или ментальному, процессу.
Так устанавливаются корреляции с предшествующими различениями (нельзя сказать, однако, что они поэлементно соответствуют друг другу): например, существует корреляция между ретроспективной точкой зрения во временно́м плане и объективной точкой зрения в плане психологическом, или между синхронической точкой зрения и точкой зрения субъективной. Но здесь важно не смешивать планы, поскольку именно из объединения этих точек зрения, не обязательно конгруэнтных, складывается стиль, определяющий композицию произведения. Существующие типологии (рассказы от первого или от третьего лица, нарративные ситуации в духе Штанцеля и т.д.) фактически характеризуют эти стили, в имплицитной форме выделяя тот или иной план.
Можно лишь восхищаться достигнутой здесь соразмерностью между духом анализа и духом синтеза. Но наибольшей похвалы заслуживает искусство, с каким Успенский встраивает понятие точки зрения в поэтику композиции, помещая его, таким образом, в поле тяготения повествовательной конфигурации. В этом смысле понятие точки зрения обозначает собой кульминационный пункт исследования отношения между актом высказывания и высказыванием.
102
Если таков особый статус точки зрения в проблематике композиции, то как обстоит дело со статусом повествовательного голоса?200 Эту литературную категорию не может заменить собой категория точки зрения, поскольку ее, как вымышленную проекцию реального автора в самом тексте, нельзя отделить от неустранимой точки зрения повествователя. Но если точку зрения можно определить — не прибегая к персонализирующей метафоре — как источник, направление и угол падения света, который одновременно освещает субъекта и улавливает его черты201, то рассказчик, говорящий повествовательным голосом, не может быть так же освобожден от всякой персонализирующей метафоры, в той мере, в какой он является вымышленным автором дискурса202.
Невозможность элиминировать понятие повествовательного голоса находит неопровержимое доказательство в категории романов, построенных на полифонии голосов, совершенно отличных друг от друга и одновременно поставленных в определенное взаимное отношение. По мнению Михаила Бахтина, Достоевский является создателем нового романного жанра, который гениальный критик называет «полифоническим романом»203. Следует хорошо осознать значение этой инновации. Если данный романный жанр действительно является кульминационным пунктом нашего исследования конфигурации в рассказе, он также обозначает тот предел уровневой композиции, за которым наш отправной пункт в изучении понятия интриги радикально меняется. Заключительная стадия исследования завершилась бы в таком случае выходом за пределы поля структурного анализа как такового.
Под полифоническим романом Бахтин понимает романную структуру, порывающую с тем, что он называет монологическим (или гомофоническим) принципом европейского романа (включая Толстого). В монологическом романе именно одинокий голос повествователя-автора звучит на вершине пирамиды голосов, даже если они сложным и утонченным образом гармонизированы, о чем мы говорили выше, трактуя точку зрения как принцип композиции. Один и тот же роман может изобиловать не только разного рода монологами, но и диалогами, возвышающими роман до уровня драмы. И все же, будучи упорядоченным целым, он может представлять собой большой монолог повествователя. На первый взгляд кажется непонятным, как же может быть иначе, коль скоро мы предполагаем, что повествователь говорит одним-единственным голосом, как это впоследствии подтвердит риторика вымысла в духе В. Бута. Значит, удивительное своеобразие полифонического романа определяется революцией в концепции рассказчика и повествовательного голоса, как и в концепции персонажа. В самом деле, диалогические отношения между персонажами полностью охватывают здесь собой и отношения между повествователем и его персонажами. Единственное аукториальное сознание исчезает, а его место занимает повествователь, который беседует со своими персонажами и сам становится множеством центров сознания, несводимых к общему знаменателю. Именно эта «диалогизация» повествовательного голоса определяет различие между монологическим и диалогическим романом. Значит, само
103
отношение между речью повествователя и речью персонажа оказывается полностью разрушенным.
Наш первый порыв выразить радость по поводу появления самого принципа диалогической структуры речи, мысли и самосознания, возведенного в ранг структурного принципа романического произведения204. Второе наше побуждение задаться вопросом, не подрывает ли диалогический принцип, венчающий, казалось бы, пирамиду принципов композиции повествовательного произведения, — не подрывает ли он саму основу конструкции, а именно организующую роль построения интриги, распространяемого на все формы синтеза разнородного, благодаря чему повествовательный вымысел и остается мимесисом действия. Продвигаясь от мимесиса действия к мимесису персонажа, а затем к мимесису его мыслей, чувств и языка и переходя последнюю границу, границу между монологом и диалогом как в плане речи повествователя, так и в плане речи персонажа, не подменили ли мы незаметно построение интриги радикально отличным от нее структурирующим принципом, каким является диалог?
«Поэтика Достоевского» изобилует замечаниями по этому поводу. Отступление интриги во имя принципа сосуществования и взаимодействия свидетельствует о появлении драматической формы, в которой пространство стремится вытеснить время205. Напрашивается другой образ: образ контрапункта, делающего все голоса одновременными. Само понятие полифонии, приравненное к понятию диалогической организации, уже подразумевает это. Сосуществование голосов, похоже, заместило собой временную конфигурацию действия, бывшую отправной точкой всего нашего анализа. Кроме того, благодаря диалогу сюда примешивается фактор незавершенности и неполноты, затрагивающий не только персонажей и их видение мира, но и саму композицию, осужденную, по-видимому, остаться неразрешенной, даже незавершенной. Следует ли из этого заключить, что только монологический роман еще подчиняется принципу композиции, основанному на построении интриги?
Не думаю, что правомерно будет сделать такое заключение. В главе, посвященной «жанровым и сюжетно-композиционным особенностям произведений Достоевского» (с. 116-209), Бахтин стремится отыскать в постоянстве и возвращениях форм композиции, унаследованных от авантюрного романа, исповеди, жизнеописаний святых и особенно форм серьезно-смехового, сочетающих в себе сократический диалог и мениппову сатиру, условия возникновения жанра, который, не будучи сам по себе типом интриги, представляет собой матрицу интриг. Этот жанр, который он называет «карнавальным», легко поддается определению, несмотря на разнообразие своих воплощений206. «Карнавальный» жанр становится, таким образом, бесконечно гибким принципом композиции, которую никак не назовешь бесформенной.
Позволим себе сделать следующий вывод из этого сближения полифонического романа и карнавального жанра: бесспорно, что полифонический роман доводит до предела способность мимесиса действия к расширению. В конечном счете чисто многоголосый роман — «Волны» Вирджинии Вульф — это уже не роман, а своего рода оратория, предназначенная для чтения. Если полифонический роман не переступает это-
104
го предела, то лишь благодаря организующему принципу, который он воспринял из длительной традиции развития карнавального жанра. Короче, полифонический роман скорее побуждает нас отделить принцип построения интриги от монологического принципа и расширить его до той точки, где повествовательное произведение трансформируется в новый, неизвестный жанр. Но кто сказал, что повествовательное произведение — это первое и последнее слово в изображении сознаний и их мира? Его привилегия начинается и кончается там, где повествование может быть определено как «фабула времени» (fable du temps) или, по крайней мере, как «фабула о времени» (fable sur le temps).
Понятие голоса представляет для нас особый интерес именно по причине его важных временных коннотаций. Как автор дискурса, повествователь в действительности определяет настоящее время, настоящее время повествования, столь же вымышленное, как и инстанция дискурса, конституирующая нарративный акт высказывания. Это настоящее время повествования можно считать вневременным, если признать, как это делает Кэте Хамбургер, только один вид времени, «реальное» время «реальных» субъектов утверждений о «реальности». Но как только мы признаем, что сами персонажи суть вымышленные субъекты мыслей, чувств и речи, исчезает основание для исключения понятия вымышленного настоящего времени. Перемещая по ходу действия свою временную ось, эти персонажи развертывают в произведении свое собственное время, включающее в себя прошлое, настоящее, будущее и даже квази-настоящее. Именно это вымышленное настоящее мы приписываем вымышленному автору речи, повествователю.
Эта категория необходима по двум причинам. Прежде всего, изучая глагольные времена повествовательного произведения, в частности рассказываемый монолог в erlebte Rede, мы многократно попадали в центр игры взаимодействий между временами повествователя и временами персонажей. Здесь игра со временем добавляется к тем, что мы проанализировали выше, в той мере, в какой разделение акта высказывания и самого высказывания находит продолжение в разграничении речи того, кто высказывается (повествователя, вымышленного автора), и речи персонажа.
Кроме того, приписывание настоящего времени повествования голосу нарратора позволяет решить проблему, которая до сих пор оставалась нерешенной, а именно — проблему статуса претерита как базового времени повествования. Хотя мы поддерживали стремление Кэте Хамбургер и Харальда Вайнриха отделить претерит повествования от его референции к прожитому времени, то есть к «реальному» прошлому «реального» субъекта, вспоминающего или реконструирующего «реальное» историческое прошлое, в конечном счете мы сочли недостаточным утверждение Кэте Хамбургер, что претерит сохраняет свою грамматическую форму, полностью утрачивая при этом свое значение прошлого, и суждение Харальда Вайнриха, что претерит является лишь сигналом о вступлении в сферу рассказа. Для чего было бы претериту сохранять свою грамматическую форму, если бы он полностью утратил свое временно́е значение? И почему он мог бы стать исключительно только сигналом о начале рассказа? Ответим так: нельзя ли сказать, что претерит сохраняет свою грамматическую форму и свои особые права потому, что настоящее вре-
105
мя повествования понимается читателем как последующее по отношению к рассказываемой истории, а стало быть, рассказываемая история является прошлым для повествовательного голоса? Разве любая рассказываемая история не является прошедшей для голоса, который ее рассказывает? Отсюда уловки романистов прошлого, которые делали вид, что нашли в сундуке либо на чердаке дневник их героя или услышали рассказ какого-то путешественника. В первом случае этот прием должен был имитировать значение прошлого для памяти, во втором — его значение для историографии. Если романист откажется от этих уловок, останется прошедшее время повествовательного голоса, которое не является прошлым памяти или историографии, но обусловлено тем отношением следования, каковое повествовательный голос поддерживает с рассказываемой им историей207.
В целом понятия точки зрения и голоса столь взаимосвязаны, что становятся неразличимыми. В своих исследованиях Лотман, Бахтин, Успенский непосредственно переходят от одного понятия к другому. Речь идет скорее об одной функции, рассматриваемой в контексте двух разных вопросов. Понятие точки зрения является ответом на вопрос: откуда воспринимается то, что показано в рассказе? То есть откуда исходит речь? Понятие голоса отвечает на вопрос: кто здесь говорит? Если мы не хотим позволить себя обмануть метафорой видения в повествовании, где все рассказывается и где дать увидеть что-то глазами персонажа значит, согласно аристотелевскому анализу lexis(способа выражения), «поставить перед глазами», то есть превратить понимание в квази-интуицию, тогда следует считать видение конкретизацией понимания, то есть, как это ни парадоксально, придатком слуха208.
Итак, остается лишь одно различие между точкой зрения и голосом: понятие точки зрения относится еще к проблеме композиции (как мы видели у Успенского), то есть находится в поле исследования нарративной конфигурации; а вот понятие голоса поскольку голос обращается
106
к читателю — связано уже с проблематикой коммуникации. Таким образом, оно располагается в точке перехода от конфигурации к рефигурации, поскольку чтение обозначает собой взаимопересечение между миром текста и миром читателя. Именно эти две функции взаимозаменяемы. Всякая точка зрения есть адресованное читателю приглашение направить взгляд в ту же сторону, что автор или персонаж; а повествовательный голос — это безмолвная речь, представляющая читателю мир текста. Как голос, который обращался к Августину в момент принятия веры, он говорит: «Tolle! Lege!» Возьми и прочти!209
IV. Вымышленный опыт времени
Проведенное в предшествующей главе различение в сфере повествования акта высказывания и самого высказывания позволило ввести изучение игр со временем в надлежащие рамки; в основе этих игр лежит соответствующее такому различению разграничение времени, требуемого для рассказа, и времени рассказываемых событий. Но анализ этой временно́й структуры, носящей рефлексивный характер, показал необходимость выдвинуть в качестве конечной цели этих игр со временем — задачу артикулировать опыт времени, который послужил бы ставкой в этих играх. Тем самым мы открываем поле для исследования, сближающего проблемы нарративной конфигурации с проблемами рефигурации времени рассказом. Это исследование, однако, не пересечет пока границу между данными проблемными сферами, поскольку рассматриваемый здесь опыт времени есть вымышленный опыт, чьим горизонтом является воображаемый мир, остающийся миром текста. Только сопоставление этого мира текста и жизненного мира читателя позволит связать проблематику нарративной конфигурации с проблематикой рефигурации времени рассказом.
Несмотря на это принципиальное ограничение, понятие мира текста требует, чтобы мы открыли — согласно употребленному выше выражению210 — литературное произведение «вовне», в мир, который оно проецирует перед собой и предлагает читателю для критического освоения. Это понятие открывания (ouverture) не противоречит понятию завершения (clotûre), предполагаемому формальным принципом конфигурации. Произведение может быть замкнуто на самого себя с точки зрения структуры и одновременно открыто в мир, подобно «окну», которое разрезает перспективу расстилающегося за ним пейзажа211. Такое открывание состоит в
107
пред-ложении мира, который может быть пригодным для обитания. В этом плане негостеприимный мир, каким его показывают многие современны́е произведения, является таковым лишь в рамках той же проблематики мира, пригодного для обитания. То, что мы называем здесь вымышленным опытом времени, есть лишь временной аспект виртуального опыта бытия в мире, опыта, предлагаемого текстом. Именно таким образом литературное произведение, избегая замыкания (clotûre) в самом себе, соотносится с..., направляется к..., короче, касается чего-то. По эту сторону восприятия текста читателем и пересечения вымышленного опыта с живым опытом читателя, мир произведения представляет собой то, что я назвал бы транцендентностъю, имманентной тексту 212.
Значит, парадоксальное на первый взгляд выражение «вымышленный опыт» выполняет лишь одну функцию: оно обозначает проекцию произведения, способную пересечься с обыденным опытом действия; это, конечно, опыт, но вымышленный, поскольку проецируется он только лишь произведением.
Чтобы проиллюстрировать свои слова, я выбрал три произведения: «Mrs. Dalloway» Вирджинии Вульф, «Der Zauberberg» Томаса Манна и «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста. С чем связан такой выбор?
Прежде всего, эти романы являются хорошей иллюстрацией предложенного А. А. Мендилоу разграничения между «tales of time» и «tales about time»213. «Если едва ли возможно рассказать фабулу времени (fable du temps), заявляет Томас Манн в “Волшебной горе”, то попытка рассказать фабулу о времени (fable sur le temps), видимо, не так уж бессмысленна... В данном повествовании [мы] действительно поставили себе такую цель»214. Произведения, которые мы будем изучать, представляют собой такие фабулы о времени, поскольку сам опыт времени является там объектом структурных трансформаций.
Кроме того, каждое из этих произведений на свой лад исследует неизвестные ранее модальности несогласного согласия, затрагивающие уже не одну только нарративную композицию, но и живой опыт персонажей рассказа. Эти различные образы несогласного согласия, выходящие далеко за пределы временных аспектов обыденного опыта (как практического, так и патического) и описанные нами в первом томе под рубрикой мимесис-1, мы назовем имагинативными вариациями. Они суть разновидности временного опыта, которые могут исследоваться лишь вымыслом и предлагаются для чтения с целью рефигурации обычного времени215.
Наконец, три эти произведения сходны в том, что на границе фундаментального опыта несогласного согласия они изучают отношение времени к вечности, которое уже у Августина включало в себя множество различных аспектов. Здесь литература также оперирует при помощи имагинативных вариаций. Каждое из трех рассмотренных произведений, избавляясь таким образом от наиболее линейных аспектов времени, может зато исследовать иерархические уровни, составляющие глубину временного опыта. Итак, вымышленный рассказ выявляет формы темпоральности, характеризуемые большей или меньшей степенью напряженности, всякий раз предлагая иной образ душевного покоя, вечности во времени или вне времени и, добавлю, тайного отношения вечности и смерти.
108
Давайте же обратимся к трем этим фабулам о времени.
1. Между временем [бытия к] смерти (temps mortel) и монументальным временем: «Mrs. Dalloway»216
Прежде чем приступить к интерпретации, важно еще раз подчеркнуть различие между двумя уровнями критического прочтения одного и того же произведения. На первом уровне в центре внимания находится конфигурация произведения, на втором — видение мира и временной опыт, которые эта конфигурация проецирует вне себя самой. В случае «Mrs. Dalloway» прочтение первого типа было бы не то чтобы недостаточным, но просто неполным: повествование изысканно конфигурировано (о чем еще пойдет речь), именно затем, дабы рассказчик — не автор, а повествовательный голос, по воле которого произведение говорит и обращается к читателю, — предложил этому читателю разделить с ним совокупность временных опытов. Зато я охотно соглашусь, что нарративная конфигурация «Mrs. Dalloway» — конфигурация очень своеобразная, хотя и без труда включаемая в семейство романов «потока сознания», — служит опорой опыта со временем, который ставят персонажи романа и который повествовательный голос хочет передать читателю.
По воле вымышленного повествователя все события рассказанной им истории происходят в интервале между утром и вечером прекрасного июньского дня 1923 года, то есть спустя несколько лет после окончания Великой войны. Сколь изощренна повествовательная техника, столь проста нить рассказа. Кларисса Дэллоуэй, пятидесятилетняя женщина из лондонского высшего света, устроит в этот день прием, перипетии которого обозначат кульминацию и завершение рассказа. Построение интриги заключается здесь в создании эллипса, где вторым центром станет молодой Септимус Уоррен Смит, ветеран Великой войны; помешательство доведет его до самоубийства за несколько часов до начала приема у Клариссы. Завязка интриги состоит в том, что новость о смерти Септимуса сообщает доктор Брэдшоу, медицинская знаменитость, член светского кружка Клариссы. История застает Клариссу утром, в тот момент, когда она собирается идти за цветами для своего приема; история оставит ее в самый критический момент ее вечера. Тридцать лет тому назад Кларисса чуть было не вышла замуж за Питера Уолша, друга детства, который вот-вот должен вернуться из Индии, где он растратил свою жизнь во второстепенных занятиях и неудачных любовных связях. Ричард, которого Кларисса некогда предпочла ему, ставший с тех пор ее мужем, важная фигура в парламентских комиссиях, хотя и не блестящий политик. Другие обычные персонажи лондонского светского общества вращаются в поле притяжения этого ядра — друзей детства; важно, что Септимус не принадлежит к этому кругу и что сходство судеб Клариссы и Септимуса демонстрируется с помощью повествовательных приемов, о которых пойдет речь далее, на более глубоком уровне, нежели перелом новость о его самоубийстве, сообщенная в разгар вечера и позволяющая завершить интригу.
109
Повествовательная техника «Mrs. Dalloway» очень изощренна. Первый прием, который легче всего выявить, состоит в том, что течение дня размечается, как вехами, мелкими событиями. Эти события, порой ничтожные — за исключением, разумеется, самоубийства Септимуса, — ведут рассказ к его ожидаемому завершению: вечер, который дает миссис Дэллоуэй; длинный перечень приходов и уходов, происшествий, встреч: утром по дороге проезжает в экипаже принц Уэльский или другая особа, принадлежащая к королевской фамилии; аэроплан разворачивает свой рекламный плакат с огромными буквами, которые скандирует толпа; Кларисса возвращается домой, чтобы привести в порядок вечернее платье; Питер Уолш, внезапно вернувшийся из Индии, находит ее за шитьем; переворошив пепел прошлого, Кларисса целует Питера; он удаляется в слезах; он проходит по тем же местам, что и Кларисса, и встречает пару Септимуса и его жену Рецию, модисточку из Милана; Реция тащит мужа к видному психиатру, доктору Брэдшоу217; Ричард раздумывает, не купить ли ему для жены жемчужное колье, и останавливается на розах (ах, эти розы, которые возникают на всем протяжении повествования и даже замирают на мгновение на обоях комнаты Септимуса, приговоренного медициной к отдыху); чересчур застенчивый, Ричард не сможет произнести любовное признание, которое воплощают в себе эти розы; мисс Килман, набожная уродливая наставница Элизабет, дочери четы Дэллоуэй, отправляется за покупками вместе с Элизабет, которая оставляет ее за шоколадными эклерами; Септимус, побуждаемый доктором Брэдшоу расстаться с женой и лечь в загородную клинику, выбрасывается из окна; Питер решает пойти на прием, устроенный Клариссой; далее следует большая сцена вечера у миссис Дэллоуэй, сообщение доктора Брэдшоу о самоубийстве Септимуса; то, как миссис Дэллоуэй принимает новость о самоубийстве этого незнакомого ей молодого человека, определяет тональность, которую сама Кларисса придаст завершению своего вечера, являющемуся в то же время и смертью дня. Эти события, ничтожные или значительные, сопровождаются звуками мощных ударов Биг Бена и других лондонских колоколов. Далее мы покажем, что наиболее важное значение этого напоминания о времени не стоит искать на уровне конфигурации рассказа, как если бы повествователь преследовал лишь цель помочь читателю сориентироваться во времени рассказываемых событий: удары Биг Бена обретают свое подлинное место в живом опыте времени, который ставят различные персонажи. Они принадлежат вымышленному опыту времени, на который открывается конфигурация произведения.
К этому первому приему — нарастающему нагромождению деталей — добавляется самый известный прием повествовательной техники «Mrs. Dalloway». По мере того как все происходящее, сколь бы незначительно оно ни было, увлекает рассказ вперед во времени излагаемых событий, он откатывается назад, как бы затормаживается пространными экскурсами в прошлое, которые в той же мере являются событиями мысли, интерполированными в текст длинными эпизодами между короткими толчками действия. Для кружка Дэллоуэй такое изложение
* он думал, думала она (англ.). — Прим. перев.
110
мыслей — he thought, thought she* — это главным образом возвращения ко временам детства в Бортоне, и особенно ко всему тому, что было связано с несчастной любовью и неудавшейся свадьбой Клариссы и Питера. Для Септимуса и Реции подобные погружения в прошлое это доводящее до отчаяния бесконечное обдумывание сцепления событий, приведшего к крушению их брака и беспросветному несчастью. Эти долгие эпизоды безмолвных размышлений, или, что то же самое, внутренней речи, представляют собой не только возвращения назад, которые, задерживая рассказываемое время, парадоксальным образом продвигают его вперед; они придают внутреннюю глубину мгновению события мысли, они расширяют изнутри моменты рассказываемого времени, так что целостный временной промежуток повествования, несмотря на его относительную краткость, кажется насыщенным благодаря его подразумеваемой необъятности218. В течение этого дня, чье продвижение вперед размечают удары Биг Бена, наплывы воспоминаний, предположения, которые каждый из персонажей строит относительно мнений других людей о его внешности, его мыслях, его тайне, образуют широкие круги, сообщающие свое специфическое растяжение расширению рассказываемого времени219. Стало быть, искусство вымысла состоит в том, чтобы соткать вместе мир действия и мир интроспекции, смешать восприятие повседневности и восприятие внутреннего мира.
Для литературной критики, более внимательной к изображению характеров, чем к анализу рассказываемого времени, а через него — времени, прожитого персонажами рассказа, нет сомнения в том, что это погружение в прошлое, как и нескончаемое взаимное исследование сознаний, способствуют, наряду с поступками, описанными извне, воссозданию характеров от их истоков до нынешнего состояния. Придавая повествованию временную насыщенность, переплетение излагаемого настоящего с воспоминаниями о прошлом придает психологическую насыщенность персонажам, не сообщая им, однако, устойчивой идентичности, — настолько не согласуются суждения персонажей друг о друге и о самих себе. Читателю оставлены разрозненные частицы большой игры идентификации характеров, решение которой так же ускользает от него, как и от персонажей рассказа. Эта попытка идентификации персонажей несомненно отвечает побуждениям вымышленного повествователя, отправляющего созданные им характеры в их бесконечный поиск220.
Один из приемов повествовательной техники «Mrs. Dalloway» (его не так легко определить, как предшествующий) заслуживает самого пристального внимания. Нарратор, которого читатель по доброй воле наделил чрезмерной привилегией — знать изнутри мысли всех его персонажей, получает способ переходить от одного потока сознания к другому, заставляя своих персонажей встречаться в одних и тех же местах (на улицах Лондона, в городском парке), слушать те же звуки, присутствовать при одних и тех же событиях (проезд экипажа принца Уэльского, полет аэроплана и т.д.). Так история Септимуса, совершенно чуждая истории круга Дэллоуэй, впервые встраивается в то же поле повествования. Септимус, как и Кларисса, услышал разговоры, вызванные появлением кого-то из членов королевской семьи (в дальнейшем мы увидим, как повлияло это событие на видение различными персонажами самого времени). Прибегая к тому
111
же приему, повествователь перескакивает от размышлений Питера о его несчастной любви к горестным мыслям, которыми обменивается пара Септимус—Реция, вновь и вновь переживая крушение своего брака. Единство места: рядом, на скамейке одного и того же парка — равноценно здесь единству одного и того же мгновения, к которому повествователь прививает расширение временно́го отрезка воспоминаний221. Этот прием получил известность благодаря эффекту резонанса, которым уравновешивается эффект разрыва, создаваемый скачком из одного потока сознания в другой. Исчезла безвозвратно былая любовь Питера, брак Реции и Септимуса тоже не имеет будущего. В результате такого перехода мы вновь возвращаемся затем к Питеру, к Реции — через песенку старой калеки, поющей об увядшей любви: мост между душами перебрасывается благодаря связи мест и одновременно отголоску одной внутренней речи в другой. В ином случае описание чудесных облаков в июньском небе позволяет рассказу преодолеть пропасть, которая разделяет ход мыслей юной Элизабет, возвращающейся после своей отлучки из-под надзора мисс Килман, и поток сознания Септимуса, уложенного в постель по распоряжению психиатров. Остановка в одном и том же месте, пауза в одном и том же отрезке времени это своего рода мостик между двумя темпоральностями, чуждыми друг другу.
Теперь, по мере углубления в фабулу о времени, разворачивающуюся по ходу повествования в «Mrs. Dalloway», нам важно показать, что эти приемы, характерные для конфигурации времени, направлены на то, чтобы повествователь и читатель разделили временно́й опыт (или, вернее, целую гамму временных опытов), — стало быть, на рефигурацию в чтении самого времени.
Хронологическое время со всей отчетливостью репрезентируется в произведении ударами Биг Бена и нескольких других колоколов и башенных часов, возвещающих время дня. Но здесь важно не это напоминание о данном моменте, звучащее в одно время для всех, а отношение, которое разные действующие лица устанавливают с этими временными отметками. Именно вариации этого отношения, в соответствии с персонажами и обстоятельствами, образуют вымышленный временно́й опыт, тщательно выстраиваемый рассказом с целью убедить читателя.
Удары Биг Бена звучат в первый раз, когда Кларисса по пути в шикарные магазины, в Вестминстере, возвращается мыслями к прерванной идиллии с Питером, еще не зная, что он вернулся. Важно, что означают для нее в этот момент удары Биг Бена: «Вот! Гудит. Сперва мелодично — вступление; потом бесповоротно — час. Свинцовые круги побежали по воздуху»222 [р. 6] (с. 12). Только ей эта фраза, трижды повторенная в ходе повествования, напомнит о том, что удары башенных часов одинаковы для всех. Время — невозвратимо? И все же в это июньское утро бесповоротное не удручает, оно. усиливает радость жизни со свежестью нового мгновения и ожиданием блестящего вечера. Но вот промелькнула тень: если бы Питер вернулся, не назвал бы он ее опять, со своей нежной иронией: «The perfect hostess!»* Так движется внутреннее время, увлекаемое
* Безупречная хозяйка дома (англ.). Прим. перев.
112
назад памятью и уносимое вперед ожиданием. Distentio animi: «У нее всегда такое чувство, что прожить хотя бы день очень-очень опасное дело» [р. 11] (с. 14). Странная Кларисса: символ интересов, выкованных светским тщеславием, озабоченная впечатлением, которое она производит на других, подверженная смене настроений, а главное, храбро влюбленная в жизнь, невзирая на ее непрочность и двойственность: это для нее звучит — и прозвучит еще раз в ходе рассказа — песенка из шекспировского «Цимбелина»:
Fear no more the heat о’ the sun
Nor the furious winter’s rages223.
Но прежде чем назвать другие эпизоды, связанные с ударами Биг Бена, важно отметить, что официальное время, с которым сопоставляются персонажи, — это не только время башенных часов, но и все то, что находится в сговоре с ним. А в согласии с ним пребывает все, что в рассказе наводит на мысль о монументальной истории — если использовать выражение Ницше, — и в первую очередь великолепный мраморный декор имперской столицы («реального» места всех событий и их внутренних отголосков в произведении). Эта монументальная история, в свою очередь, излучает — рискну назвать его так — монументальное время, чьим всего лишь звуковым выражением является время хронологическое. С этим монументальным временем связаны образы Власти и Силы, которые образуют полюс, противоположный живому времени, прожитому Клариссой и Септимусом, — тому времени, которое силой жестокости приведет последнего к самоубийству и силой гордости толкнет первую на противостояние224. Но образы власти — это по преимуществу ужасные врачи, мучающие несчастного Септимуса, погруженного в мысли о самоубийстве, и толкающие его на смерть. Действительно, что означает безумие для сэра Уильяма Брэдшоу, этого медицинского светила, возвышенного дворянским саном, как не «отсутствие чувства меры [proportion]» [р. 146]? «Мера, божественная мера, богиня, которой сэр Уильям приносил жертвы» [р. 150]225. Именно это чувство меры, пропорции встраивает всю его профессиональную и светскую жизнь в монументальное время. Нарратор не побоялся добавить к этим образам Власти, столь созвучным с официальным Временем, религию, которую символизирует собой мисс Килман, уродливая, злая и набожная учительница, похитившая Элизабет у матери, до того момента пока девушка не убежит от нее, чтобы вновь обрести свое собственное время, с его обещаниями и угрозами. «Но у Пропорции есть сестра, куда менее улыбчивая, более грозная... имя ей Жажда-всех-обратить [Conversion]» [р. 151] (с. 73).
Время башенных часов, время монументальной истории, время образов Власти: одно и то же время! Прислушаемся к тому, как, ведомые этим монументальным временем, более сложным, чем простое хронологическое время, звонят, или, лучше сказать, — бьют часы на протяжении рассказа.
Второй раз Биг Бен гудит в тот самый момент, когда Кларисса представляет Питеру свою дочь226: «Удар Биг Бена, отбивающий полчаса, упал
113
между ними с особенной силой, будто рассеянный баловень стал играть без всякого смысла гантелями»227 [р. 71] (с. 40). Это не напоминание о неумолимом, как в первый раз, а вмешательство «между ними» неуместного: «Свинцовые круги разбегались по воздуху», — повторяет повествователь. Для кого же пробило полчаса? «Мой прием не забудь!» бросает миссис Дэллоуэй вслед Питеру, и он уходит, ритмически напевая про себя эти слова под перезвон Биг Бена. «Всего половина двенадцатого», думает он. Прибавляется звон колоколов церкви святой Маргариты, дружественных, гостеприимных, как Кларисса. Стало быть, звон веселый? — Только до того момента, когда ослабление звука напоминает о прежней болезни Клариссы и резкий последний удар становится похоронным звоном, возвещающим ее воображаемую смерть. Сколько же средств имеется у вымысла, чтобы прослеживать тончайшие переходы между временем сознания и хронологическим временем!
Биг Бен звонит в третий раз [р. 142] (с. 69). По воле повествователя полдень бьет для Септимуса и Реции, идущих за советом к доктору Брэдшоу, о чьей тайной связи с официальным временем мы уже говорили, и одновременно для Клариссы, раскинувшей свое зеленое платье на кровати. Для всех и ни для кого «свинцовые круги побежали по воздуху» (ibid.) (там же). Скажем ли мы вновь, что этот час одинаков для всех? Снаружи — да, изнутри — нет. И только вымысел может исследовать и выразить в слове этот разрыв между видениями мира и их несовместимыми точками зрения на время, разрыв, увеличиваемый социальным временем.
Снова бьют часы: половина второго — в этот раз на башнях богатого торгового квартала; для плачущей Реции они звучат, «рекомендуя покорность, утверждая власть, хором славя чувство меры» [р. 154-155] (с. 75)228.
Для Ричарда и Клариссы Биг Бен бьет три часа. Для первого, переполненного благодарностью чуду, каким ему представляется его союз с Клариссой, «Биг Бен выбил сперва мелодично — вступление; и затем бесповоротно — час» [р. 177] (с. 84)229. Двусмысленное сообщение: что это — подчеркивание счастья? или времени, растраченного в тщеславии? Что касается Клариссы, погруженной посреди гостиной в хлопоты о пригласительных билетах, «звук колокола опять затопил гостиную печальной волной» [р. 178] (с. 85). Но вот перед ней Ричард, протягивающий ей цветы. Розы снова розы: «Это счастье и есть, думал он» [р. 180] (там же).
Когда Биг Бен отбивает следующие полчаса, он подчеркивает торжественность, чудо — чудо старой женщины, промелькнувшей перед Клариссой внизу напротив в оконном проеме и скрывшейся в глубине комнаты; как будто бы удары огромного колокола вновь погрузили Клариссу в зону спокойствия, куда не могут проникнуть ни тщетное сожаление о былой любви Питера, ни подавляющая человека религия, проповедуемая мисс Килман. Но две минуты спустя после Биг Бена бьет другой колокол, чьи легкие звуки, вестники ничтожности, смешиваются с последними величественными волнами ударов Биг Бена, возвещающих Закон.
Часы бьют шесть раз — встраивая тем самым в социальное время абсолютно личный акт самоубийства Септимуса: «Часы пробили раз, два, три; какой разумный звук, не то что вся эта толчея и шушуканье. Как сам Септимус. Она [Реция] почти совсем заснула. А часы били еще четыре, пять, шесть» [р. 227] (р. 105). Три первых удара, как нечто конкретное,
114
прочное среди толчеи и шушуканья; три других как знамя, поднятое в честь павших на поле боя.
День продвигается, влекомый вперед стрелой желания и ожидания, которая была выпущена в начале рассказа (этим вечером прием у миссис Дэллоуэй!), и оттягиваемый назад непрерывным отступлением в воспоминания, которое — парадоксальным образом — размечает неотвратимое продвижение умирающего дня.
По воле повествователя Биг Бен последний раз пробивает время, когда сообщение о самоубийстве Септимуса погружает Клариссу в противоречивые мысли, о которых мы скажем позже; и вновь та же фраза: «Свинцовые круги побежали по воздуху». Для всех, для всего разнообразия настроений, этот звук один и тот же, но час это не только шум, производимый на ходу неумолимым временем...
Итак, следует остановиться не на поверхностной оппозиции времени башенных часов и внутреннего времени, а на разнообразии отношений между конкретным темпоральным опытом разных персонажей и монументальным временем. Вариации на тему этого отношения выводят роман далеко за пределы упомянутой абстрактной оппозиции, благодаря чему он становится для читателя мощным детектором бесконечно разнообразных способов сочетать друг с другом точки зрения на время, которые не может объединить чистое умозрение.
Эти вариации образуют здесь целую гамму «решений», две крайние точки которой представлены, с одной стороны, глубинным согласием монументального времени и образов Власти, олицетворяемых доктором Брэдшоу, а с другой стороны — «ужасом перед историей» (говоря словами Мирчи Элиаде), воплощенным в Септимусе. Другие временны́е опыты — прежде всего опыт Клариссы, в меньшей степени — опыт Питера Уолша — организуются по отношению к этим двум полюсам, сообразно большему или меньшему родству с тем решающим опытом, который повествователь делает ориентиром всего своего исследования временно́го опыта: это опыт смертельного несогласия между внутренним временем и временем монументальным, героем и жертвой которого является Септимус. Значит, нужно исходить именно из этого полюса радикального несогласия.
«Пережитое» (vécu) Септимусом непрестанно подтверждает, что для него не пролегла бы пропасть между временем, «отбиваемым» Биг Беном, и ужасом перед историей, ведущим его к смерти, если бы монументальная история, присутствующая повсюду в Лондоне, и различные образы Власти, обобщенные в могуществе врачей, не стали для времени башенных часов мощным подкреплением, превращающим время в радикальную угрозу. Септимус тоже видел, как проезжал автомобиль принца; он слышал почтительный гул толпы, заметил и полет рекламного аэроплана, лишь вызвавший у него слезы, настолько ужасным казалось все в красоте здешних мест. Ужас! Кошмар! В двух этих словах выражается для него антагонизм между двумя точками зрения на время, равно как и антагонизм между ним и другими — «вечное одиночество» [р. 37] (с. 25), между ним и самой жизнью. Этот опыт, до конца не выразимый, потому все же получает доступ к внутренней речи, что он находит вер-
115
бальное соответствие в чтении Эсхила, Данте, Шекспира, — в чтении, которое лишь принесло ему весть о всеобщем ничтожестве. По крайней мере, эти-то книги на его стороне, как протест против монументального времени и всей подавляющей и репрессивной науки врачебной власти. Эти книги, именно потому, что они на его стороне, создают дополнительную преграду между ним и другими, между ним и жизнью. В одном эпизоде «Mrs. Dalloway» выражено все: когда Реция, модисточка из Милана, затерянная в Лондоне, куда она последовала за мужем, произнесла: «Уже время...», «...со слова “время” сошла шелуха; оно излило на него свои блага; и с губ сорвались, как стружки с рубанка, сами собой, белые, твердые, нетленные, побежали слова, скорей, скорей занять место в оде Времени в бессмертной оде Времени» [р. 105] (с. 53). Время вновь обрело свое мифическое величие, свою мрачную репутацию скорее разрушающего, чем порождающего. Ужас перед временем, вызывающим из царства теней призрак однополчанина, Эванса, поднявшегося из глубин монументальной истории Великой войны — в сердце имперского города. Скрежещущий юмор повествователя: «“Сейчас я скажу тебе время” (I will tell you the time)230, — произнес Септимус очень медленно, очень сонно и загадочно улыбнулся покойнику в сером. И тут пробило четверть — было без четверти двенадцать». «“Молодость называется”, — думал Питер Уолш, проходя» [р. 106] (с. 54).
Две крайние точки временно́го опыта сопоставлены в сцене самоубийства Септимуса: доктор Брэдшоу сэр Уильям! решил, что Рецию и Септимуса ради блага больного нужно разлучить: «Доум и Брэдшоу его одолели» [р. 223] (с. 103). Хуже: это «человеческая природа» вынесла ему свой вердикт о виновности, объявила свой смертный приговор. В бумагах, которые Септимус просит сжечь, а Реция пытается спасти, — его «оды к Времени» [р. 224] (там же). Его время отныне несоизмеримо с временем носителей врачебных знаний, их чувством меры, их вердиктами, их способностью причинять страдание. Септимус выбрасывается из окна.
Вопрос состоит в том, не наделил ли повествователь смерть Септимуса, помимо отображаемого ею ужаса перед историей, другим значением, которое могло бы превратить время в отрицание вечности. В своем безумии Септимус является носителем откровения, постигающего время как препятствие к видению космического единства, а смерть как доступ к этому спасительному значению. Однако повествователь не пожелал сделать из этого откровения «сообщение» (message) своего рассказа. Связывая откровение с безумием, он оставляет читателя в сомнении относительно самого смысла смерти Септимуса231. Кроме того, именно Клариссе, как мы покажем далее, повествователь доверяет задачу обосновать но лишь до определенной степени этот искупительный смысл смерти Септимуса. Значит, никогда не следует упускать из виду, что смысл этот порождается именно соположением временно́го опыта Септимуса и Клариссы232. Взятое само по себе, видение мира у Септимуса выражает агонию души, которая не может вынести монументального времени; эта агония, возможно, усиливается к тому же связью смерти с вечностью (согласно интерпретации отношения вечности ко времени, которую я предложил выше своим прочтением «Исповеди» Августина233). Именно по отношению к этому непреодолимому разрыву между монументальным временем
116
мира и временем души, — временем [бытия к] смерти занимают свое место и выстраиваются временны́е опыты всех других персонажей и их способы устанавливать связь между двумя крайними точками этого разрыва. Я возьму как пример только Питера Уолша и Клариссу, хотя многое можно было бы сказать и о других имагинативных вариациях, предложенных повествователем.
Питер: его прежняя любовь, утраченная навсегда — it was over!, — его жизнь, в которой он, похоже, потерпел фиаско, заставляет его пробормотать: «Погибель души» [р. 88] (с. 47). Для возрождения у него нет той веры в жизнь, какой обладает Кларисса, зато он наделен легкомыслием, помогающим ему выжить: «Ужасно, кричал он, ужасно, ужасно! А впрочем, солнце пекло. Впрочем, все проходит. Жизнь шла своим чередом. Впрочем... Питер Уолш рассмеялся...» [р. 97-98] (с. 50). Потому что, хоть с возрастом страсти не слабеют, «но обретаешь — наконец-то! — способность, в которой самая изюминка и есть, — способность овладеть пережитым, ухватить его и медленно, медленно поворачивать на свету» [р. 119] (с. 59).
Безусловно, Кларисса является героиней романа; именно повествование о ее поступках и ее внутренняя речь размечают рассказанное время. Но в еще большей степени ее временно́й опыт, соразмеренный с временным опытом Септимуса, Питера и образов Власти, является ставкой в игре со временем, которая ведется с помощью характерных для «Mrs. Dalloway» повествовательных техник.
Светская жизнь Клариссы, ее общение с символами Власти отчасти помещают ее на сторону монументального, времени. И в этот вечер разве не стоит она на верху парадной лестницы как королева, встречающая своих гостей в Букингемском дворце? Разве не является она в глазах других, со своей прямой осанкой и застывшей позой, символом власти? Разве она для Питера не представляет собой часть Британской империи? Разве не определяют ее всю целиком нежные и жестокие слова Питера: «The perfect hostess!»?234 И все же повествователь хочет донести до читателя смысл глубокого родства между нею и Септимусом, которого она никогда не видела и даже не знает его имени. Тот же страх живет в ней, но, в отличие от Септимуса, она будет противостоять ему, поддерживаемая несокрушимой любовью к жизни. Тот же ужас: одного лишь напоминания об угасании красок на лице миссис Брутн — которая не пригласила ее на ланч вместе с мужем! — достаточно, чтобы напомнить ей: «она страшилась самого времени» [р. 44] (с. 28). Сохраняет ее хрупкое равновесие между временем [бытия к] смерти и временем решимости перед лицом смерти — если отважиться применить к ней эту главную экзистенциальную категорию «Sein und Zeit», — ее любовь к жизни, к непрочной красоте, к изменчивому свету, ее страсть к «падающей капле» [р. 54] (с. 33). Отсюда ее удивительная способность: «оттолкнувшись от воспоминания, погрузиться в самую сердцевину данного мгновения» (ibid.)235.
То, как Кларисса принимает новость о самоубийстве незнакомого молодого человека, дает повествователю возможность разместить ее на водоразделе между двумя крайними точками его имагинативных вариаций, касающихся временно́го опыта. Мы уже давно догадались: Септимус — это
117
двойник» Клариссы236, в каком-то смысле он умирает вместо нее. Она же скупает его смерть, продолжая жить237. Новость о самоубийстве, послужившая пищей для толков в разгар вечера, прежде всего наводит Клариссу а мысль, одновременно суетную и сопричастную: «Ох! подумала Клаисса, посреди моего приема смерть» [р. 279] (с. 127). Но в глубине души на совершенно убеждена: теряя жизнь, этот молодой человек спас высочайший смысл смерти: «Смерть его была вызовом. Смерть — попытка прибщиться, потому что люди рвутся к заветной черте, а достигнуть ее нельзя, она ускользает и прячется в тайне; близость расползается в разлуку; потухает восторг; остается одиночество. В смерти — объятие» [р. 281] там же). Здесь рассказчик сводит в единый повествовательный голос собственный голос, голоса Септимуса и Клариссы. Именно голос Септимуа отзывается эхом в голосе Клариссы: «Жизнь стала непереносимой; таие люди делают жизнь непереносимой» [р. 281] (с. 128). Именно глазами Септимуса она видит доктора Брэдшоу: «...он пошел к сэру Уильяму Брэдшоу, великому доктору, но неуловимо злобному, чрезвычайно без пола вожделения — обходительному с дамами, но способному на неописуемую радость — он тебе насилует душу, вот...» (ibid.) (с. 127-128). Но время Клариссы — это не время Септимуса. Ее прием не кончится катастрофой. «Знак», вторично помещенный здесь повествователем, поможет Клариссе соединить страх перед жизнью и любовь к ней в гордости противостояния. Этот знак — жест старой дамы с другой стороны улицы; она задергивает шторы, отходит от окна и идет спать «одна, очень спокойно»238 — образ безмятежности, внезапно связавшийся с песенкой из «Цимбелина»: «Fear no more the heat of the sun...» Ранним утром того же дня, как мы по[ним, Кларисса, остановившись у витрины, увидела том Шекспира, отрытый на этих стихах. Она спросила себя: «...о чем это она размечталась..? К чему подбирается память?» [р. 12] (с. 15). Позже в течение дня, в момент умиротворенного возвращения к реальному времени, Септимус, вероятно, услышал в этих стихах слово утешения: «Не страшись, твердит... сердце, не страшись. Он и не боялся. Каждый миг Природа веселым намеком вроде того золотого пятнышка, которое прыгало по обоям — вот, от оно, вот, — показывала ему, что скоро, мол, скоро... она выдохнет через рупором сложенные ладони Шекспировы речи, раскроет свой замысел» [р. 212] (с. 98-99). Когда Кларисса в конце книги повторяет эти стихи, она делает это так же, как это делал Септимус: «With a sense of peace and reassurance»* 239.
Так заканчивается книга: смерть Септимуса, понятая и в каком-то смысле разделенная, сообщает инстинктивной любви Клариссы к жизни тональность вызова и решимости: «Надо вернуться. Заняться гостями (she must assemble)» [р. 284] (с. 129). Тщеславие? Надменность? The perfect hostess? Возможно. Здесь голос повествователя сливается с голосом Питера, становящимся для читателя в это последнее мгновение голосом, наиболее достойным доверия. «Но отчего этот страх? И блаженство? — думал он. Что меня повергает в такое смятение? Это Кларисса, решил он про себя. И он увидел ее (For there she was)» [p. 296] (c. 133).
* «С чувством спокойствия и уверенности» (англ.). — Прим. перев.
118
Голос говорит просто: «For there she was». Сила этого присутствия — дар самоубийцы Клариссе240.
В целом, можем ли мы говорить о едином опыте времени в «Mrs. Dalloway»? Нет, в той мере, в какой судьбы персонажей и их видение мира остаются соположенными; да, в той мере, в какой близость между посещаемыми «пещерами» создает своего рода подземную сеть, которая и есть временно́й опыт в «Mrs. Dalloway». Этот временно́й опыт — не опыт Клариссы, или Септимуса, или Питера, или любого другого из персонажей: на мысль о нем наводит читателя отголосок (слово, которое Башляр заимствовал у Э. Минковского и так часто употреблял) одного одинокого опыта в другом одиноком опыте. Именно эта сеть в ее целостности и является опытом времени в «Mrs. Dalloway». Этот опыт, в свою очередь, противостоит — находясь с ним в сложном и неустойчивом отношении, — монументальному времени, порождаемому всеми сговорами между временем башенных часов и образами власти241.
2. «Der Zauberberg»242
То, что «Волшебная гора» — роман о времени, слишком очевидно, чтобы на этом настаивать. Гораздо труднее сказать, в каком именно смысле он является таковым. Для начала ограничимся самыми очевидными чертами, позволяющими охарактеризовать «Волшебную гору» как Zeitroman.
Прежде всего, утрата смысла, присущего мерам времени, — главная черта способа существования и жизни обитателей Берггофа, давосского санатория. От начала до конца романа это размывание хронологического времени ясно подчеркивается контрастом между людьми «здесь наверху», которые акклиматизировались к этой вневременности, и «там внизу», — на равнине, живущими в ритме календаря и циферблатов. Пространственная оппозиция удваивает и усиливает оппозицию временную.
Затем, относительно несложная нить истории размечается несколькими прибытиями «сюда наверх» и отъездами «туда вниз», драматизирующими колдовское воздействие этого места. Приезд Ганса Касторпа — первое событие такого рода. Этот молодой инженер лет тридцати приезжает из Гамбурга, по преимуществу равнинной местности, чтобы навестить своего кузена Иоахима, уже шесть месяцев находящегося на лечении в Берггофе. Поначалу он намерен провести в этом необычном месте не более трех недель. После того как доктор Беренс, мрачный и чудаковатый хозяин санатория, признает его больным, Ганс Касторп в свою очередь становится одним из гостей Берггофа. Отъезд Иоахима на военную службу, его возращение в санаторий и последовавшая за этим смерть, внезапный отъезд мадам Шоша — центрального персонажа любовной интриги, примешанной к фабуле о времени, — после ключевого эпизода «Вальпургиевой ночи», ее неожиданное возвращение вместе с мингером Пеперкорном — все эти приезды и отъезды представляют собой точки разрыва, испытаний и вопрошаний в том приключении, действие которого развертывается главным образом во временно́м и про-
119
странственном заточении героя в Берггофе. Сам Ганс Касторп проведет там семь лет, покуда «удар грома» объявление войны 1914 года — не вырвет его из колдовских чар волшебной горы; но вторжение большой истории вернет его во время «там внизу» лишь для того, чтобы отправить на «праздник смерти», на войну. Развертывание рассказа в его событийном аспекте побуждает, таким образом, усмотреть путеводную нить «Волшебной горы» в сопоставлении Ганса Касторпа с упраздненным временем.
Используемая в произведении нарративная техника, со своей стороны, подтверждает его характеристику как Zeitroman. Самый очевидный прием состоит в подчеркивании отношения между временем повествования и рассказываемым временем243.
Хронологическое пространство семи лет разделено между семью главами. Но отношение между протяженностью времени, о котором рассказывается в каждой главе, и временем, затраченным на рассказ и измеряемым количеством страниц, не пропорционально. В I главе двадцать одна страница посвящена «приезду» Ганса Касторпа (в главе 11 описывается возврат к прошлому, к протекшему времени, вплоть до того момента, когда было принято решение о роковом путешествии; о значении этого речь пойдет далее). В главе III семьдесят пять страниц отведены первому полному дню (или второму, считая день приезда), после чего ста двадцати пяти страниц главы IV достаточно, чтобы охватить три первые недели — как раз тот промежуток времени, который Ганс Касторп намеревался посвятить своему визиту в Берггоф. Для семи первых месяцев потребовались двести двадцать две страницы V главы, году и девяти месяцам отведены триста тридцать три страницы главы VI, а оставшиеся четыре с половиной года занимают двести девяносто пять страниц главы VII244. Эти числовые отношения сложнее, чем кажется: с одной стороны, Erzählzeit постоянно сокращается относительно erzählte Zeit; с другой стороны, удлинение глав в сочетании с сокращением рассказа создает эффект перспективы, необходимый для передачи главного опыта, внутреннего противодействия героя утрате чувства времени. Чтобы заметить этот эффект перспективы, необходимо кумулятивное чтение, при котором все произведение целиком присутствует в каждом из своих эпизодов. На самом же деле из-за протяженности романа только повторное чтение может воссоздать эту перспективу.
Замечания о продолжительности повествования подводят нас к последнему аргументу в пользу интерпретации «Волшебной горы» как Zeitroman. И этот аргумент в определенной степени решающий. Но в то же время он бросает нас в самый центр недоумений, обуревающих читателя, как только он задается вопросом, в каком смысле и благодаря чему «Волшебная гора» это действительно Zeitroman. Опору здесь следует искать в заявлениях автора, который присвоил себе право, само по себе неоспоримое и-часто использовавшееся романистами прошлого, право вмешиваться в свой рассказ. Невозможно не считаться с этим, поскольку такие вторжения способствуют — в процессе написания текста — выявлению и выведению на сцену повествовательного голоса, звучащего внутри произведения. (Впрочем, единственно в этом смысле мы и используем как аргумент авторские вмешательства в из-
120
ложение, приняв решение игнорировать информацию биографического и психографического характера, касающуюся Томаса Манна, которую можно извлечь из этих отступлений. Не то чтобы я отрицал, что повествователь, встреченный в рассказе, — это сам автор, то есть Томас Манн. Нам достаточно того, что автор, внешний по отношению к своему герою и уже умерший, превратился в повествовательный голос, еще и сегодня звучащий в его произведении.) Повествовательный голос, который время от времени обращается к читателю и рассуждает о своем герое, составляет добрую часть изложенного в тексте. Тем самым этот голос, отличный от собственно повествования и поставленный над рассказываемой историей, имеет неоспоримое право быть услышанным — с некоторыми оговорками, о чем мы скажем позднее, — когда он стремится охарактеризовать повествование как Zeitroman.
Впервые он звучит в Vorsatz («Вступлении»), помещенном в начале рассказа. Это «Вступление» не является введением в полном смысле слова: в нем подчеркивается власть повествовательного голоса внутри самого текста. Но проблема, которую ставит Vorsatz, есть именно проблема отношения между Erzählzeitи erzählte Zeit. Проблема эта включает в себя два аспекта. Начну со второго: с дискуссии, уже знакомой нам по исследованию игр со временем245. Вопрос здесь заключается в длительности (Dauer) чтения. И ответ на этот вопрос сразу же уводит нас от хронологического времени: «Разве занимательность истории или скука, которую она на нас нагоняет, когда-либо зависели от пространства и времени, необходимых для ее изложения?» [S. 5-6]246. Простое упоминание о возможной скуке подсказывает аналогию между временем написания и временем опыта, проецируемого рассказом. Все, вплоть до числа семь, — семь дней, семь месяцев, семь лет, — сжимает эту связь между временем чтения, которое считается соразмерным времени написания, и рассказанным временем — с оттенком иронии по поводу выбора числа семь, перегруженного герметической символикой: «Семи лет, даст бог, все же не понадобится» [ibid.] (I, с. 18) для рассказывания истории!.. За этим уклончивым ответом уже вырисовывается вопрос об уместности мер времени в опыте героя247. Но для нашей темы более важна загадочная ремарка, предшествующая этим намекам: по поводу рассказываемого времени в Vorsatz говорится, что повествование об истории, которую мы прочитаем, «должно, разумеется, вестись в формах давно прошедшего» (In der Zeitform der tiefsten Vergangenheit) [S. 5] (c. 17). Но то, что истории следует рассказывать в прошедшем времени, само по себе уже составляет проблему, к которой мы вернемся в последней главе; а то, что рассказываемое прошлое к тому же должно быть «давно прошедшим», особенно загадочно, поскольку давность утрачивает здесь свой хронологический характер: история «обязана степенью своей давности не самому времени» [ibid.] (там же). Тогда чему же? Повествователь-ироник дает на это двусмысленный ответ: давность в таком случае разделяется на датированную, но минувшую для нас стародавность мира до Великой войны, и на давность без возраста, давность сказки (Märchen)248. Этот первый намек найдет отголосок в проблеме опыта времени, создаваемого рассказанной историей: «...Мы даем... намек и указание на сомнительность и своеобразную
121
двойственность той загадочной стихии, которая зовется временем» [ibid.] (там же). Какую двойственность? А как раз ту, в силу которой на протяжении всего романа время календаря и циферблатов будет сопоставляться со временем, постепенно становящимся полностью неподвластным измерению и все больше и больше утрачивающим даже всякое значение для измерения.
На первый взгляд, проблема, поставленная этой двоякой природой времени, сходна с проблемой, с которой мы встретились в «Mrs. Dalloway»: говоря обобщенно, это исследование конфликтных отношений между внутренним временем и временем хронологическим, разросшимся до масштабов монументального времени. В действительности здесь имеется существенное различие. В «Волшебной горе» совершенно иные констелляции вращаются вокруг двух полюсов, так что мы начинаем сомневаться в том, что «Волшебная гора» — это только лишь Zeitroman, или даже главным образом Zeitroman. Выслушаем же противоположные доводы.
Прежде всего, линия, отделяющая «здесь наверху» от «там внизу», в то же время отделяет будничный мир — мир жизни, здоровья, действия — от мира болезни и смерти. Действительно, в Берггофе все больны, включая врачей, фтизиолога и шарлатана-психиатра. Ганс Касторп проникает в мир, где уже утвердилось господство болезни и смерти: тот, кто попадает туда, в свою очередь приговаривается к смерти. Если этот мир покидают, как Иоахим, в него возвращаются, чтобы умереть. Магия, чары волшебной горы — это очарованность болезнью, влечением к смерти. Сама любовь — пленница этих чар. В Берггофе чувственность и тлен сопричастны друг другу. Тайный договор связывает любовь и смерть. И в этом тоже — быть может, более всего — заключается магия этого места, пребывающего вне пространства и времени. Страсть Ганса Касторпа к мадам Шоша всецело подчинена этому слиянию чувственного влечения и зачарованности тленом и смертью. Мадам Шоша уже находится там, когда приезжает Ганс Касторп; она, если можно так сказать, является частью института болезни; ее внезапный отъезд и неожиданное возвращение в сопровождении пламенеющего249 мингера Пеперкорна — который в Берггофе покончит с собой, — составляют главные перипетии в аристотелевском смысле слова.
Так что «Волшебная гора» — не просто фабула о времени. Проблема заключается скорее в том, как может один и тот же роман быть сразу и романом о времени, и романом о смертельной болезни. Следует ли интерпретировать разрушение времени как прерогативу мира болезни, или же болезнь составляет своего рода предельную ситуацию для необычного самого по себе опыта времени? Согласно первой гипотезе, «Волшебная гора» это роман о болезни, согласно второй, роман о болезни — по преимуществу Zeitroman.
К этой первой очевидной альтернативе добавляется вторая. Проблема действительно усложняется наличием в строении романа третьего компонента, наряду с постепенным размыванием времени и зачарованностью болезнью. Эта третья тема — судьба европейской культуры. Отводя столь значительное место беседам, спорам и контраверзам, в центре которых находится эта тема, создавая столь тщательно проработанные персонажи, как Сеттембрини, итальянец-эрудит, словоохотливый глаша-
122
тай философии Просвещения, и Нафта, иезуит еврейского происхождения, извращенный критик буржуазной идеологии, автор превратил свой роман в широкую апологию упадка европейской культуры, где зачарованность обитателей Берггофа смертью сопоставляется (symbolise avec) — как сказал бы Лейбниц — с искушением нигилизма. Сама любовь преображается спором о культуре в транс-индивидуальную величину, по поводу которой мы задаемся вопросом, не исчерпала ли она спасительные возможности любви как таковой.
Каким же образом, спросим мы тогда, один и тот же роман может быть романом о времени, романом о болезни и романом о культуре? Не отступает ли тема отношения ко времени, которая вначале казалась первостепенной, а затем, похоже, отдала первенство теме отношения к болезни, — не отступает ли она еще на один шаг, если судьба европейской культуры становится главным предметом романа?
Манн, как представляется, разрешил эту проблему, включив три эти величины — время, болезнь и культуру — в необычный (singulière) во всех смыслах слова* опыт центрального персонажа, Ганса Касторпа. Тем самым он создал произведение, родственное великой немецкой традиции Bildungsroman**, которую веком ранее проиллюстрировал Гёте в знаменитых «Wilhelm Meisters Lehrjahre»250-251. Поэтому темой романа является воспитание, формирование, обучение молодого человека, «простого», но «любознательного» и «предприимчивого» (все это — выражения повествовательного голоса). Коль скоро роман прочитан как история духовного воспитания (apprentissage), средоточием которого является Ганс Касторп, подлинным вопросом становится то, каким образом повествовательная техника смогла встроить друг в друга опыт времени, смертельную болезнь и большой спор о судьбе культуры.
Что касается первой названной альтернативы роман о времени или роман о болезни? — повествовательная техника состоит в том, чтобы возвестило уровня мыслительного опыта, трансформации которого мы исследуем позже, двойное сопоставление с размыванием времени и очарованностью тленом. Детемпорализация и разложение становятся, благодаря искусству рассказа, неделимым объектом устремлений и умозрения героя. Только вымысел мог создать необычные условия, потребные для этого, также необычного, временно́го опыта, сведя воедино размывание времени и тягу к смерти. Таким образом, еще до того как мы примем в расчет спор о судьбе культуры, история духовного ученичества (apprentissage) объединяет Zeitromanс романом о болезни в рамках Bildungsroman.
Вторая альтернатива — судьба героя, даже антигероя, или судьба европейской культуры? — разрешается теми же средствами. Сделав Сеттембрини и Нафту «наставниками» Ганса Касторпа, Манн включил большой спор о Европе в единичную историю воспитания чувств. Бесконечные дискуссии с глашатаями соответственно оптимистического гуманизма и нигилизма, приправленного католицизмом с коммунисти-
* Французское слово singulier имеет значения «необычный», «своеобразный», «единичный», «единственный» (прим. перев.).
** романа воспитания (нем.). — Прим. пер.
123
ческим уклоном, возведены в ранг объектов влечения и умозрения на том же основании, что смерть и время.
Bildungsroman, в рамки которого помещается Zeitroman, заслуживает своего названия не потому, что его тема — судьба европейской культуры, а потому, что этот транс-индивидуальный спор дан словно бы в миниатюре — если рискнуть сказать такое о романе более чем в тысячу страниц! в Bildungsroman, центром которого является Ганс Касторп. Итак, между тремя этими величинами — временем, смертью, культурой — происходят обмены: судьба культуры становится аспектом спора между любовью и смертью, а любовные разочарования, в которой чувственность соседствует с распадом, становятся «наставниками», наподобие воспитателей словом, в духовном опыте героя.
Значит ли это, что в такой сложной архитектонике Zeitroman становится просто аспектом Bildungsromanна равных правах с романом о болезни и романом о европейском упадке? На мой взгляд, Zeitroman сохраняет неустранимый приоритет, который делается очевидным лишь тогда, когда мы ставим самый трудный вопрос, вопрос о подлинной природе духовного ученичества, история которого рассказана в романе. Томас Манн решил сделать изыскания героя по поводу времени пробным камнем всех других его изысканий относительно болезни и смерти, любви, жизни и культуры. В определенный момент рассказываемой истории — о нем мы скажем позднее время сравнивается с термометром без градуировки, который дают мошенничающим больным; тогда оно получает полумифическое, полуироническое значение «немой сестры». «Немая сестра» — это «немая сестра» тяги к смерти, а также любви сообщницы разложения и тревоги о большой истории. Мы могли бы сказать, что Zeitroman — это «немая сестра» эпопеи о смерти и трагедии культуры.
Будучи сфокусированы таким образом на опыте времени, все вопросы, поставленные воспитанием героя — на многочисленных регистрах, которые можно выделить в романе, резюмируются в одном вопросе: научился ли герой чему бы то ни было в Берггофе? Гений ли он, как говорили некоторые, или анти-герой? Или же его ученичество более тонкой природы, порывающей с традицией Bildungsroman?
Именно здесь со всей силой возвращаются сомнения, вызванные иронией повествователя. Мы усмотрели привилегированное место этой иронии в отношении дистанцирования, установленном между повествовательным голосом, упорно и настойчиво выводимым на сцену, и всей рассказываемой им историей, в ход которой непрерывно вмешивается этот повествовательный голос. Повествователь сделался насмешливым наблюдателем истории, которую он рассказывает. В первом приближении эта критическая дистанция, похоже, подрывает доверие к повествователю и делает проблематичным любой ответ на вопрос, научился ли чему-либо герой в Берггофе относительно времени, жизни и смерти, любви и культуры. Но по дальнейшем размышлении мы начинаем догадываться, что это отношение дистанцирования между повествовательным голосом и рассказом может представлять собой герменевтический ключ к проблеме, поставленной самим романом. Не находится ли сам герой, в плане его спора со временем, в том же отношении, что и повествователь в плане рассказываемой им истории: в отношении иронического дистанцирования?
124
Не будучи ни побежденным миром болезни, ни гётевским победителем, одерживающим верх благодаря действию, не является ли он жертвой, чье развитие идет по линии ясности ума и способности к самопознанию?
Именно эту гипотезу прочтения и следует подвергнуть испытанию, вновь перечитывая семь глав Zauberberg252.
Роман начинается так: «В самый разгар лета один ничем не примечательный молодой человек отправился из Гамбурга, своего родного города, в Давос, в кантоне Граубюнден. Он ехал туда на три недели погостить» [S. 7] (I, с. 19). Мы узнаём Zeitromanпо простому упоминанию о трех неделях253. Но более того: при повторном чтении повествовательный голос распознается в самой первой характеристике героя как «ничем не примечательного» (einfach)’ молодого человека, которая эхом отзовется в последних строчках романа, где повествователь прямо обращается к герою: «Приключения твоей плоти и духа, возвысившие (steigerten) твою простоту, дали тебе возможность пережить в духе то, что тебе едва ли придется пережить в теле» [S. 757] (II, с. 443). Кроме того, ирония этого голоса скрыта в видимой констатации факта: «Он ехал туда на три недели — погостить». При перечитывании эти три недели создадут контраст с семью годами, проведенными в Берггофе. В таком бесхитростном начале подразумевается вопрос: что произойдет с простотой этого молодого человека, когда его план рухнет в результате приключения, в которое он ввяжется? Мы знаем, что длительность его пребывания в Берггофе станет драматической пружиной всего рассказа.
В этой очень короткой первой главе повествователь впервые использует пространственное отношение для выражения отношения временно́го. Отдаление от родного края подобно забвению: «Говорят, что время — Лета; но и воздух дали — такой же напиток забвения, и пусть он действует менее основательно, зато — быстрее» [S. 8] (I, с. 20). Приехав в Берггоф, Ганс Касторп привносит туда видение времени, свойственное людям «там внизу». Первые споры между Гансом и его кузеном Иоахимом, уже акклиматизировавшимся ко времени верха, выводят на первый план несогласие двух способов существования и жизни. Ганс и Иоахим говорят о времени на разных языках; Иоахим уже утратил точность мер: «Три недели для них все равно что один день.... Поэтому на многое начинаешь смотреть совсем иначе» [S. 11] (I, с. 24). Так у читателя формируется ожидание: беседа будет служить не только, как в данном случае, простым средством выявления на языковом уровне различия между двумя способами постижения и восприятия времени: она станет главным посредником в воспитании героя254. Полный второй день, о котором идет речь в III главе, складывается из мелких теснящих друг друга событий; трапезы, кажется, непрерывно следуют одна за другой; разношерстная публика появляется в короткий отрезок времени, который кажется очень заполненным и вместе с тем точно размеченным прогулками, измерениями температуры, лежаниями; беседы с Иоахимом, а затем с первым наставником, Сеттембрини, незамедлительно выведенным повествователем на сцену, усугубляют языковые недоразумения, уже наметившиеся на-
* einfach (нем.) — простой (прим. перев.).
125
кануне, в день «приезда». Ганс Касторп удивляется приблизительности понятий Иоахима255. При первой встрече с Сеттембрини он отстаивает свои «три недели»256. Но спор с Сеттембрини с самого начала приобретает иной поворот, чем беседы с Иоахимом: недоразумение сразу становится началом исследования, поиска. Сеттембрини прав: «...наше любопытство не ведает узды, ибо и его мы считаем своей привилегией» [ibid.] (там же). В разделе, озаглавленном «Gedankenscharfe» — «Острота мысли» — являются предвестники умозрения, которое искусство рассказа будет неустанно стремиться нарративизировать. В сцене с термометром поколеблена уверенность Ганса, но не его бдительность: ведь температуру меряют в определенное время и в течение семи (семи!) минут?257 Ганс цепляется за предписание о том, что можно назвать больничным временем, но именно оно и расшатывает время. Во всяком случае, Ганс делает первый шаг в сторону остроты мысли, разделяя время, каким оно выступает для «чувства» (Gefühl), и время, измеряемое движением часовой стрелки, обегающей циферблат [S. 69] (I, с. 89-90). Невелики открытия, но все же они говорят в пользу остроты мысли258, даже если недоумение значительно ее превосходит259. Для воспитания нашего героя небезразлично то, что первое и внезапное озарение относительно того, что есть время, приходит к нему во сне. Как время само возвещает о себе? Как «немая сестра» «ртутный столбик без всяких цифр, для тех, кто решил плутовать» [S. 98] (I, с. 118). Сцена с термометром повторяется и вместе с тем упраздняется: с термометра исчезли цифры, исчезло нормальное время, как на часах, которые сломались. Своей тональностью «сладостной радости и надежды» [S. 96] (1, с. 116) оба рассказанных сна принадлежат череде «мгновений блаженства» — говоря уже словами Пруста, — которые расставляют вехи поиска; именно к ним привлекут внимание последние строки романа при повторном чтении: «Бывали минуты, когда из смерти и телесного распутства перед тобою, как “правителем”, полная предчувствий будущего (ahnungsvoll und regierungsweise), возникала греза любви» [S. 756] (II, с. 443). Правда, об этом сне еще нельзя сказать, что герой в нем «правит». Однако он свидетельствует о любопытстве, которое, попав в плен эротического влечения к Клавдии Шоша, достаточно сильно, чтобы побудить Ганса сопротивляться совету Сеттембрини уехать: «В его тоне вдруг появилась настойчивость...» [S. 93] (I, с. 113).
Тема эрозии чувства времени и соответствующего ему языка развивается в большой IV главе, охватывающей три недели, которые Ганс Касторп предполагал провести в Берггофе в качестве простого гостя. Смешение времен года способствует спутыванию привычных временных ориентиров, а параллельно с этим разворачиваются во всю ширь бесконечные политико-культурные споры с Сеттембрини (Нафта пока еще не появился). При первом прочтении из-за этих бесконечных споров мы рискуем потерять из виду нить временно́го опыта героя, и есть опасность, что Bildungsroman выйдет за пределы Zeitroman. При перечитывании оказывается, что функция, отведенная «Exkurs über den Zeitsinn» [S. 108-112] — «Экскурсу в область понятия времени» (I, с. 129-132), — вернуть большой спор о судьбе европейской культуры в рамки истории
126
воспитания героя и обеспечить таким образом равновесие между Zeitroman и Bildungsroman. Основа этого хрупкого соответствия, установленного повествователем260, обозначается одним словом: «сживание» (diesem Sicheinleben an fremden Ort) [S. ПО] (I, c. 131); это феномен разом и культурный и временно́й. С этого и начинается экскурс, превращаясь затем в размышление самого повествователя о монотонности и скуке. Неверно, говорит он, что эти впечатления замедляют течение времени. Напротив: «Пустота и однообразие, правда, могут растянуть мгновение или час или внести скуку, но большие, очень большие массы времени способны сокращать само время и пролетать с быстротой, сводящей его на нет» [S. 110] (I, с. 131). Этот двойной эффект сокращения и удлинения лишает всякой однозначности идею продолжительности времени и допускает лишь один ответ на вопрос «Как долго?»: «Очень долго» [S. 112]261.
Общий тон «Экскурса» — это скорее тон предостережения: «В сущности, странная вещь это “сживание” с новым местом, это, хотя бы и нелегкое приспосабливание и привыкание, на которое идешь ради него самого, чтобы, едва или только что привыкнув, снова вернуться к прежнему состоянию» [S. 110] (1, с. 131). Коль скоро речь идет о вещах, совершенно отличных от перерыва, паузы в основном течении жизни, чересчур непрерывная монотонность может привести к утрате самого сознания длительности, которое «настолько связано и слито с непосредственным ощущением жизни, что, если ослабевает одно, неизбежно терпит мучительный ущерб и другое» [ibid.] (там же). Выражение «ощущение жизни» (Lebensgefühl), конечно, не лишено известной иронии. И тем не менее, приписывая подобные идеи своему герою, повествователь показывает, что он лишь ненамного опередил его на пути к остроте мысли262. А любопытство героя никогда не притупляется, даже если порой его посещает желание «вырваться из заколдованного круга (Bannkreis) санаторской жизни, подышать вольным воздухом» [S. 124] (I, с. 146).
Размыванию времени, жертвой чего — наполовину сознавая это — становится герой, способствует еще и эпизод появления в момент его сна наяву Пшибыслава Хиппе, ученика с карандашом, чьи глаза и взгляд становятся глазами и взглядом Клавдии Шоша. Благодаря символическому характеру этого лейтмотива одолженного и возвращенного карандаша263 (лейтмотива, обусловившего, по воле повествователя, загадочный конец эпизода Walpurgisnacht, о чем мы скажем ниже), данный эпизод, который Тибергер удачно называет verträumte Intermezzo*, делает явной глубину кумулятивного времени, о котором уже говорилось в отступлении в главе II; эта глубина, в свою очередь, сообщает некую бесконечную длительность настоящему моменту [S. 129] (I, с. 149). Над этой глубиной будет возводиться в дальнейшем череда снов о вечности.
Еще до того как истекли намеченные три недели, для Ганса «первоначальная освеженность его чувства времени» ослабела, однако улетающие дни по-прежнему растягиваются, полные «все возрождающихся ожиданий (Erwartung)» [S. 150] (I, с. 173): влечение к Клавдии и перспектива отъезда придают времени еще большую подвижность и напряжен-
* приснившееся интермеццо (нем.). — Прим. перев.
127
ность264. Но в целом на исходе трех недель над Гансом Касторпом уже одерживают победу мысли, которыми его встретил Иоахим: «Да, три недели здесь наверху это ничто, ему все об этом твердили. Самая малая единица времени — месяц...» [S. 172] (I, с. 196). Разве он уже не сожалеет о том, что отвел пребыванию здесь так мало времени? И, подчинившись правилу «градусника» (это название важного раздела главы IV) [S. 170] (I, с. 194), не стал ли он, как другие больные, добычей волшебной горы?265
«Акклиматизировавшийся» Ганс Касторп, тем не менее, оказывается готовым к первому опыту вечности, с которого начинается глава V, еще более длинная, чем предыдущая. Повествователь с самого начала взял все в свои руки, вернувшись к поставленному в Vorsatzвопросу о протяженности романа: «Для описания последующих трех недель, — говорит он, едва ли потребуется такое же число страниц, часов и дней, какое потребовалось для изображения первых трех недель: мы уверены, что эти последующие недели пронесутся мгновенно и, мелькнув, отойдут в прошлое» [S. 195] (I, с. 220). Очевидная странность отношения между Erzählzeit и erzählte Zeitподчеркивает необычность самого опыта, приобретенного героем произведения: как известно, законы повествования требуют, чтобы опыт времени написания и чтения сокращался по мере развертывания приключений героя; теперь, когда победил закон верха, остается лишь углубиться в толщу времени. Нет больше свидетеля снизу. Время чувства упразднило время циферблатов. Потому-то, к нашему удивлению (это слово повторяется дважды) [ibid.] (там же), и открывается тайна времени.
Эпизод «Ewigkeitssuppe und plötzliche Klarheit» — «Суп вечности и внезапное прояснение» — [S. 195 sq.] (I, с. 220) не содержит, собственно говоря, какого-либо из объявленных «чудес», а скорее создает фон, или даже грунтовку, на которой будут изображаться решающие «чудеса». Действительно, странная это вечность — вечность тождества. И вновь именно голос повествователя говорит об этой веренице схожих дней, проведенных в постели: «Тебе приносят за обедом суп, как принесли вчера, как принесут и завтра... это непротяженное настоящее, в котором тебе вечно приносят суп. Однако говорить в отношении вечности о скуке и о том, что время тянется, было бы слишком парадоксально; а парадоксов мы решили избегать, особенно живя одной жизнью с нашим героем» [S. 195] (I, с. 221). Ироническая интонация здесь несомненна. Это замечание, однако, особенно важно; читатель должен обратить на него внимание в кумулятивном времени повторного чтения, которого в особенности требует этот роман: смысл Ewigkeitssuppe останется неопределенным, пока его не прояснят два других опыта вечности: опыт «Вальпургиевой ночи» в конце той же главы и опыт сцены «Снег» в главе VI.
Нарративный элемент, который лежит в основе этого комментария повествователя, — новая ситуация Ганса Касторпа, по приказу доктора Беренса прикованного к постели, ставшей смертным ложем для прежней обитательницы; три недели этой вечности пробегаются галопом на десяти страницах. В счет идут только «минуты этой остановившейся вечности» [S. 202] (I, с. 285), которую хорошо выражает также нагромождение замечаний о времени: больше уже не знаешь, какой се-
128
годня день, не знаешь, который час этого дня, «укороченного и искусственно убыстренного» [S. 204] (I, с. 230). Сеттембрини любит рассказывать тоном эрудита и политика-гуманиста об отношении, в котором всё, религия и любовь, находится со смертью. Рентген может внезапно принести роковой диагноз: Ганс Касторп — уже живая жертва болезни и смерти. Вид его скелета на светящемся экране у доктора Беренса — это прообраз его собственного разложения, взгляд в собственную могилу: посмотрев на свое тело на экране «глазами, проникающими насквозь, предвидящими, он впервые за свою жизнь понял, что умрет» [S. 233] (с. 261).
Последний точный счет времени — и вновь по иронии повествователя останавливается на семи неделях, которые Ганс Касторп предполагал провести в Берггофе по предписанию врачей: для нас этот счет ведет повествователь [S. 233-234] (1, с. 262). Немаловажно, что этот последний счет (еще 6 недель до Рождества и семь до знаменитой «ночи») помещен в раздел «Freiheit» [S. 233], «Свобода» (там же)266. Прогресс в воспитании Ганса Касторпа неотделим от победы над этим последним всплеском интереса к датированному времени. И, что еще более важно, наш герой учится отстраняться от своего итальянского учителя мысли по мере того, как он отстраняется от времени267. Но он освободится от него лишь тогда, когда ему удастся избежать нигилизма Ewigkeitssuppe, который в свою очередь постоянно накладывает уродливый отпечаток на любовь, смешанную с болезнью и смертью268.
Отныне воспитание Ганса Касторпа — благодаря «ничтожности времени» [S. 304] (I, с. 339) — приобретает характер освобождения. Другой раздел этой длинной главы, на протяжении которой время отклоняется от своих ориентиров, превышая семь недель, называется «Forschungen» [S. 283], «Изыскания» (I, с. 316 сл.). Он отягощен очевидными отступлениями на темы анатомии, органической жизни, материи, смерти, смешения чувственности с органическим веществом, разложения — с созиданием. Всецело захваченный своими анатомическими штудиями, Ганс Касторп все же совершенно самостоятельно приобретает знания о жизни и ее отношении к чувственности и смерти, символизируемой отпечатком руки на рентгеновском снимке. Ганс Касторп уже стал наблюдателем — как повествователь. За «Изысканиями» следует «Totentanz» [S. 303] — «Пляска смерти» (I, с. 338 сл.), три дня торжеств по случаю рождественских праздников, которые не осветил ни один луч Рождества; они ознаменовались лишь созерцанием останков умершего «Gentleman rider»*. Вновь подчеркивается священный и непристойный характер смерти, который Ганс отметил когда-то у гроба деда. Сколь бы мрачным ни был импульс, ведущий Ганса Касторпа от изголовья одного умирающего к другому, им движет забота воздать почести жизни, а необходимой дорогой к этому представляются ему почести, возданные смерти [S. 313314] (I, с. 347-348). «Трудное дитя жизни», по удачному выражению Сеттембрини, не может не уделить внимания «детям смерти» [S. 326] (I, с. 363). На данном этапе еще невозможно сказать, является ли Ганс
* аристократа-наездника (англ.). Прим. перев.
129
Касторп в этом изменяющем его опыте пленником «здесь наверху», или он на пути к свободе.
В таком неопределенном состоянии, где влечение к мрачному стремится занять место, освобожденное исчезающим временем, незадолго до завершения семи первых месяцев пребывания в Берггофе, во вторник на карнавальной неделе — итак, в связи с карнавалом героя захватывает необычный опыт, который повествователь иронически назвал «Walpurgisnacht» [S. 340 sq.] — «Вальпургиева ночь» (I, с. 378 сл.). Она начинается с того, что полупьяный Ганс Касторп обращается на «ты» к Сеттембрини, сразу же воспринимающему это как знак освобождения своего «воспитанника»: «Прямо какое-то прощание...» [S. 348] (1, с. 387), — а кульминацией ее становится разговор Ганса, похожий на бред, с Клавдией Шоша, посреди танцулек «костюмированных пациентов»269. Из этого любезничанья с обращением на «ты», начатого и законченного игрой с карандашом, который заимствуется и возвращается, — карандашом Хиппе, возникает полуфантастическое видение, где пульсирует чувство вечности, — конечно, очень отличной от Ewigkeitssuppe, и все же вечности приснившейся'. «...Для меня, нужно тебе сказать, все это как сон, вот так сидеть с тобой рядом, как будто я в глубоком сне вижу странные грезы... Ведь надо спать очень глубоко и крепко, чтобы так грезить... Я хочу сказать, мне этот сон хорошо знаком, он снился мне всегда, долгий, вечный... да, сидеть вот так с тобой — это вечность» [S. 355-356] (1, с. 395) (слова, выделенные курсивом, в тексте даны по-французски). Приснившаяся вечность; чтобы поколебать ее, достаточно сообщения Клавдии о ее близком отъезде, воспринятого как весть о катаклизме. Но Клавдия, проповедующая свободу в грехе, в опасности, в потере себя, была ли она для Ганса чем-то иным, нежели сирены для Улисса, когда тот велел привязать себя к мачте корабля, чтобы устоять перед их пением? Тело, любовь и смерть слишком прочно связаны, болезнь и чувственность, красота и разложение также слишком смешаны, чтобы утрата ощущения времени, подвластного счету, могла быть оплачена мужеством жить270. Продолжением Ewigkeitssuppe была только вечность сна, вечность карнавала: Walpurgisnacht!
Композиция главы VI, занимающей более половины второй части «Волшебной горы», — хорошая иллюстрация различия не только между Erzählzeit и erzählte Zeit, но между рассказываемым временем и опытом времени, проецируемым произведением.
В плане рассказываемого времени нарративная структура поддерживается все более редкими и все более драматичными обменами между «здесь наверху» и «там внизу», обменами, отображающими также и атаки нормального времени на детемпорализированную длительность — общий удел обитателей Берггофа. Иоахим, повинуясь военному призванию, покидает санаторий. Нафта, второй наставник — иезуит еврейского происхождения, анархист и реакционер одновременно, вводится в историю, чем прерывает общение с глазу на глаз Сеттембрини и Ганса Касторпа. Дядюшка из Гамбурга, посланник «снизу», тщетно пытается вырвать своего племянника из колдовских чар. Иоахим возвращается в Берггоф, чтобы там умереть.
130
Из всех этих событий выделяется эпизод «Schnee» [S. 493] «Снег» (II, с. 148) единственный, который достоин быть вписанным в череду мгновений сна и грез любви, упомянутых в последних строках романа, «мгновений» (Augenblicke), остающихся отдельными вершинами, где рассказываемое время и временно́й опыт совместно достигают кульминации. Все искусство композиции заключается в том, чтобы совместить в высшей точке рассказываемое время и временно́й опыт.
По эту сторону от вершины и до ее достижения размышления Ганса Касторпа о времени, расширенные размышлениями повествователя, растягивают едва ли не до точки разрыва только что обозначенные рамки повествования, как если бы история духовного ученичества непрерывно освобождалась от материальных условий. Впрочем, именно повествователь занимает первый план, как бы помогая герою привести в порядок его мысли — в такой степени опыт времени, избавляясь от хронологии и углубляясь, распадается на несовместимые перспективы. Утрачивая время, доступное измерению, Ганс Касторп приходит к тем же апориям, которые мы выявили при обсуждении феноменологии времени у Августина, — апориям, связанным с отношениями между временем души и физическим изменением: «Что такое время? Бесплотное и всемогущее, — оно тайна, непременное условие мира явлений, движение, неразрывно связанное и слитое с пребыванием тел в пространстве и их движением» [S. 365] (II, с. 5). Трудность состоит не в собственно внутреннем времени, освобожденном от меры, а в невозможности примирить его с космическими аспектами времени, которые, отнюдь не исчезнув вместе со всяким интересом к течению времени, будут все больше выдвигаться на первый план. Ганса Касторпа занимает как раз двусмысленность времени — его вечное движение по кругу и способность производить изменения: «Время деятельно, для определения его свойств скорее всего подходит глагол: “вынашивать”. Но что же оно вынашивает? Перемены!» (ibid.) (там же). Время есть тайна именно потому, что перцепции, вызываемые им, не поддаются унификации. (Именно это является для меня неразрешимой загадкой. Вот почему я охотно извиняю повествователя за то, что он словно бы нашептывает свои мысли Гансу Касторпу271.) Как далеко ушел роман от простого произведения о размывании времени, доступного измерению! В каком-то смысле это размывание выявило контраст между неподвижной вечностью и произведенными изменениями, идет ли речь о видимых сменах времен года и обновлении растительности (к чему Ганс Касторп обретает новый интерес) или о тех более потаенных изменениях, которые Ганс Касторп пережил в самом себе вопреки Ewigkeitssuppeи благодаря, своему эротическому влечению к Клавдии, затем в кульминационный момент Walpurgisnacht, а теперь в ожидании ее возвращения. Страсть Ганса Касторпа к астрономии, вытесняющая страсть к анатомии, сообщает отныне монотонному опыту времени космические пропорции. Созерцание неба и светил придает бегу времени парадоксальную неподвижность, близкую к ницшеанскому опыту вечного возвращения. Но кто смог бы перебросить мост между приснившейся вечностью Walpurgisnacht и созерцаемой вечностью неподвижного неба?272
131
Отныне ученичество Ганса Касторпа, пребывающего в смятении чувств, именно благодаря этому состоянию пойдет по пути открытия двойственности мыслей273. Такое открытие — немалое продвижение в сравнении с обитателями Берггофа, оцепеневшими в простом безвременье. Неизмеримое предстало для Ганса Касторпа как бесконечно долгое («...шесть бесконечно долгих и, однако, незаметно промелькнувших месяцев») [S. 367] (И, с. 7).
Это глубокое изменение в опыте времени встроено повествователем в цепь событий, составляющих рассказываемое время романа. С одной стороны, ожидание возвращения Клавдии дает возможность научиться другому: способности стойко переносить отсутствие. Ганс Касторп теперь достаточно силен, чтобы сопротивляться искушению покинуть волшебную гору вместе с Иоахимом. Нет, он не уедет с ним, он не дезертирует на равнину (ведь путь «вниз, на равнину... ему одному ввек не отыскать») [S. 438] (II, с. 92). Неподвижная вечность выполнила, по крайней мере, свою отрицательную работу: отучила от жизни. Это прохождение через негативность составляет в прямом смысле слова центральную перипетию как Bildungsroman, так и Zeitroman. В свою очередь, «отбитая атака» (это название эпизода) дядюшки Тинапеля, приехавшего из Гамбурга, чтобы договориться о возвращении беглеца, лишь превращает в упрямство стойкость единственный имеющийся в распоряжении ответ на разрушительное воздействие вечной суеты тщеславия. Начиная с этого момента, является ли Ганс заложником доктора Беренса и его медицинской идеологии, которая лишь усиливает культ болезни и смерти, царящий в Берггофе? Или же он новый герой, ищущий высшего знания (gnose) вечности и времени? Обе эти интерпретации тщательно продуманы повествователем. Ганс Касторп, конечно, отучился от жизни, в чем его опыт безусловно внушает сомнения. Зато его сопротивление атакам равнины означало «полнейшую свободу, мысль о которой уже не заставляла учащенно биться его сердце» [S. 463] (II, с. 1 14)274.
Эту свободу Ганс Касторп демонстрирует преимущественно по отношению к своим наставникам, Сеттембрини и Нафте. Повествователь очень кстати ввел последнего во второй части рассказа, предоставив тем самым своему герою возможность держаться на равной дистанции от двух непримиримых воспитателей и таким путем постепенно достичь высшей позиции, которую сам повествователь открыто занимает начиная с Vorsatz. А Нафта являет собой не меньшее искушение, чем Сеттембрини с его оптимистическим гуманизмом. Его рассуждения, в которых Сеттембрини усматривает лишь мистику смерти и убийства, подспудно сопрягаются с главным уроком, преподанным Клавдией в знаменитую Walpurgisnacht: хотя он и не говорит о спасении через зло, он утверждает, что добродетель и здоровье — не «религиозные» состояния. Это странное христианство ницшеанского — или коммунистического275 — оттенка, согласно которому «быть человеком значит быть больным» [S. 490] (II, с. 144), играет в романе воспитания Ганса Касторпа роль дьявольского искушения, увязания в негативности, символом которой является Ewigkeitssuppe. Но искуситель
* «Духовные упражнения» (лат.). — Прим. перев.
132
добивается не большего успеха, чем посланник равнины, в попытке прервать бесстрашное экспериментирование героя.
Эпизод, к которому мы сейчас подходим, озаглавленный «Schnee» [S. 493 sq.] — «Снег» (II, с. 148 сл.), наиболее важный после Walpurgisnacht, обретает особую выразительность, поскольку следует непосредственно за эпизодом дьявольских измышлений Нафты (этот эпизод носит многозначительное и ироническое название «Operationes spirituales» *)· Кроме того, важно, что его декорацией служит фантасмагория снежного пространства, любопытным образом слившаяся с фантасмагорией морских дюн: «...общим здесь было извечное однообразие природы» [S. 497] (И, с. 152). Заснеженная гора в действительности — не просто декорация для решающей сцены: это пространственный эквивалент самого временно́го опыта. «Das Urschweigen» [S. 501] — «первозданное безмолвие» (II, с. 156) — объединяет пространство и время в единой символике. Кроме того, столкновение человеческого усилия с природой и препятствиями, ею воздвигнутыми, символизирует именно изменение регистра отношений между временем и вечностью вот духовный смысл этого эпизода276. Все теряет устойчивость, когда мужество превращается в вызов — этот «отказ от разумной осторожности» [S. 507] (II, с. 163), а борца, опьяненного усталостью (и портвейном), посещает видение зелени и лазури, поющих птиц и света: «...именно так теперь преображался пейзаж, раскрывался все в большем просветлении (sich öffnete in wachsender Verklärung)» [S. 517] (II, c. 173). Правда, воспоминание о никогда не виденном, но «издавна» известном [von je, ibid.] (там же) Средиземноморье отзывается ужасом (две старухи, разрывающие ребенка над чашей, среди языков пламени...): как если бы безобразное было бесповоротно связано с прекрасным! Как если бы безрассудство и смерть принадлежали жизни без них «жизни бы не было!» [S. 522] (II, с. 179). Но отныне Гансу больше нечего делать со своими наставниками: он знает. Что же он знает? «Во имя любви и добра человек не должен позволять смерти господствовать над его мыслями» [S. 523] (II, с. 180) (выделено курсивом в тексте).
Так вечности, пригрезившейся в Walpurgisnacht, неотличимой от культа болезни и смерти, отвечает другая вечность, — вечность «издавна» — одновременно вознаграждение и источник мужества жить.
Поэтому уже не так важно, что Иоахим возвращается в Берггоф и что его возвращение по видимости вписывается в ту же временную невесомость, что в недавнем прошлом — приезд Ганса. Пусть между Сеттембрини и Нафтой разгораются споры по поводу алхимии и франкмасонства; складывается новое отношение к миру болезни и смерти, возвещающее о потаенном изменении отношения к самому времени. Об этом свидетельствует и эпизод смерти Иоахима. Без отвращения и без притяжения [к смерти] Ганс проводит возле умирающего его последние минуты и закрывает мертвому глаза277. Утраченное чувство протяженности протекшего времени, смешение времен года ускорили эту утрату интереса к мерам времени: «...ибо ты и время — вы потеряли друг друга» [S. 576] (II, с. 240); жизнь постепенно вновь берет верх над зачарованностью болезнью.
На протяжении всей главы VII подвергается испытанию этот новый интерес к жизни, отмеченный главным образом возвращением в Берггоф Клавдии Шоша — против ожидания, в сопровождении мингера
133
Пеперкорна. Экстравагантность царственных приступов ярости, вакхический бред великана-голландца, как ни странно, внушают Гансу Касторпу не столько ревность, сколько робкую почтительность, постепенно сменяющуюся своего рода шутливой любезностью. Итак, несмотря на отказ от Клавдии, вынужденный этим необычным приездом, выгода не так уж мала: прежде всего, два «воспитателя» «незначительного героя» утратили всякое влияние на него, в сравнении с масштабами этого персонажа, которого повествователь наделяет на короткое время необыкновенно яркой индивидуальностью и силой. Именно странный треугольник, образовавшийся между мингером, Клавдией и Гансом, требует от последнего владения эмоциями, в котором лукавство соединяется с покорностью. Под воздействием голландца решения сами принимают бурлескное и бредовое направление. Сопоставление с Клавдией оценить гораздо труднее, настолько ирония повествователя расшатывает здесь внешний смысл. На поверхность всплывает слово «гений»: «эти гениальные области», «гениальный сон», «смерть... это гениальный принцип», «путь гениальности» и т.д. [S. 630] (II, с. 299301, 316). Стал ли наш герой, как говорит ему Клавдия, философом-дуралеем? Поразительная победа над наставниками, если Bildungsroman создает лишь «гения», влюбленного в герметизм и оккультизм278. Но неразумнее всего было бы ожидать от нашего героя линейного роста, на манер того, как Сеттембрини представляет себе Прогресс Человечества! Самоубийство голландца, вызванное им смятение чувств повергают Ганса в состояние, которому повествователь нашел лишь одно название: «Der grosse Stumpfsinn» [S. 661] «Великое отупение»279 (II, с. 335 сл.). Великое отупение: «Дурное, апокалипсическое имя, прямо предназначенное для того, чтобы порождать тревогу... Его охватил страх. Ему чудилось, что “все это” добром не кончится, завершится катастрофой, восстанием долготерпеливой природы, громом и молнией, очистительным ураганом, который разрушит сковавшее мир колдовство, сорвет жизнь с “мертвой точки” и уготовит всякому застою и мертвечине Страшный последний суд» [S. 671] (II, с. 346). Карточные игры, сменившиеся граммофоном, не дают ему хоть отчасти выйти из этого состояния. Даже за арией из оперы Гуно и песней Запретной Любви ему чудится поднимающаяся Смерть. Стало быть, наслаждение и тлен не удалось разделить? Или же отречение и самообладание приобретают те же оттенки, что и мрачные чувства, которые они призваны были побороть? Спиритический сеанс (не случайно названный «Fragwürdigstes» [S. 691] — «Очень сомнительное» (И, с. 370 сл.), достигающий кульминации в явлении призрака кузена Иоахима, подводит экспериментирование со временем к неопределенным границам, разделяющим двусмысленность и обман. «Завораживающая двусмысленность» [S. 738] (II, с. 418) сцены дуэли между Сеттембрини и Нафтой (Сеттембрини стреляет в воздух, а Нафта пускает себе пулю в голову) доводит смятение до апогея. «Время сейчас какое-то странное...» [S. 743] (II, с. 428).
Разражается «удар грома» — «Der Donnerschlag» — «который мы все предчувствовали... раздалась оглушительная детонация давно накоплявшегося губительного отупения и вражды» (это названия двух предшествующих разделов280), исторический удар грома, который «взорвал Вол-
134
шебную гору (здесь она впервые так названа. — П.Р.) и весьма грубо выбросил нашего сонливца за ворота “Берггофа”» [S. 750] (II, с. 435). Так говорит голос повествователя. Одним ударом ликвидируется дистанция и само различие между страной «там наверху» и равниной. Но именно это вторжение исторического времени взрывает снаружи заколдованную тюрьму. Тем самым к нам возвращаются все наши сомнения о реальности ученичества, пройденного Гансом Касторпом: смог бы он освободиться от волшебных чар верха, если бы его не вырвали из заколдованного круга? Был бы когда-нибудь преодолен подавляющий, доминирующий опыт Ewigkeitssuppe? Мог ли герой сделать нечто лучшее, нежели воспринимать поочередно непримиримые опыты, не будучи в силах испытать на деле свою способность объединить их? Или же надо сказать, что ситуация, в которой развернулся его опыт, лучше всего могла раскрыть неустранимую множественность значений времени? И что смятение чувств, из которого его вырвала большая история, была платой за выявление в чистом виде самого парадокса времени?
Эпилог нисколько не разрешает недоумений читателя: в последней вспышке иронии повествователь сливает силуэт Ганса Касторпа с другими тенями великой бойни: «Так, в толчее, под дождем, в сумерках, мы теряем его из виду» [S. 757] (II, с. 442). В самом деле, его солдатская судьба принадлежит другой истории, истории мира. Но повествователь намекает, что между рассказанной историей — «время в ней и не летело и не тянулось, ибо это была повесть герметическая» [ibid.] (там же) — и историей Запада, разыгрывающейся на полях сражений, существует связь по аналогии, которая, в свою очередь, позволяет поставить вопрос: «А из этого всемирного пира смерти... родится ли... когда-нибудь любовь?» [ibid.] (II, с. 443). Книга завершается этим вопросом. Но важно, что ему предшествует менее двусмысленное утверждение, касающееся только рассказанной истории: уверенный тон этого другого вопроса вводит ноту надежды в сам финальный вопрос. Суждение, высказанное повествователем о его истории, принимает здесь риторическую форму обращения к герою: «Приключения твоей плоти и духа, возвысившие твою простоту (die deine Einfachheit steigerten), дали тебе возможность пережить в духе то, что тебе едва ли придется пережить в теле. Бывали минуты, когда из смерти и телесного распутства перед тобою, как “правителем”, полная предчувствий будущего, возникала греза любви» [ibid.] (там же)281. Возвышение (Steigerung), о котором здесь говорится, герою, без сомнения, дано лишь «пережить в духе» (im Geist überleben) и оставлено мало шансов «пережить в теле» (im Fleische). Ему не хватило испытания действием, высшего критерия Bildungsroman. В этом заключена ирония, быть может даже пародия. Но неудача Bildungsroman это всего лишь оборотная сторона успеха Zeitroman. Ученичество Ганса Касторпа сводится к нескольким мгновениям (Augenblicke), которые все вместе обладают реальностью лишь «грезы любви». По крайней мере, снами, из которых возникла эта «греза любви», герой «правил» (в этом плане французский перевод двух ключевых слов ahnungsvoll и regierungsweise282 слишком слаб, чтобы нести груз единственного положительного сообщения, которое повествователь-ироник передает читателю в момент наивысшего замешательства, в которое он сам же его привел). Быть может, поэто-
135
му ирония повествователя и растерянность читателя стали одновременно образом и моделью иронии и растерянности героя в момент грубой остановки его духовного приключения?
Если задаться теперь вопросом, какие возможности для рефигурации времени может открыть роман «Der Zauberberg», становится совершенно ясно, что от него следует ждать не умозрительного решения апорий времени, а в некотором роде их Steigerung, возвышения на одну ступень. Повествователь по своей воле создал предельную ситуацию, где размывание времени, подвластного измерению, уже совершилось, когда он ввел туда своего героя. Ученичество, навязанное герою этим испытанием, представляет собой, в свою очередь, опыт мысли, который не ограничивается пассивным отображением условий временно́й невесомости, а исследует парадоксы предельной ситуации, раскрываемой таким образом в чистом виде. Соединение — с помощью повествовательной техники — романа о времени, романа о болезни и романа о культуре есть средство, созданное воображением поэта, с тем чтобы добиться максимальной ясности, необходимой при подобном исследовании.
Пойдем дальше: глобальное противопоставление обычного времени людей «там внизу» и утраты интереса к временным мерам «здесь наверху» репрезентирует лишь нулевой уровень мысленного опыта, предпринятого Гансом Касторпом. Конфликт между внутренней длительностью и бесповоротно внешним характером времени циферблатов не может, таким образом, стать здесь основной темой, что еще можно было, на худой конец, сказать о «Mrs. Dalloway». По мере ослабления отношений между людьми «здесь наверху» и «там внизу» открывается новое пространство исследования, где становятся явными именно те парадоксы, которые разъедают внутренний опыт времени, когда он утрачивает связь с хронологическим временем.
Самые плодотворные в этом смысле исследования касаются отношения между временем и вечностью. И здесь связи, подсказанные романом, исключительно разнообразны: существенны различия между «супом вечности» середины первого тома, затем «хорошо знакомым сном», который «снился всегда», «долгим, вечным» сном Вальпургиевой ночи в конце первого тома и, наконец, экстатическим опытом — кульминацией эпизода «Снег» во втором томе. Сама вечность развертывает здесь свои парадоксы, которые становятся еще более необычными из-за уникальной ситуации Берггофа. Очарованность болезнью и тленом раскрывает вечность смерти, отпечаток которой во времени — вечное повторение Одного и того же. В свою очередь, созерцание звездного неба изливает благословение и мир на опыт, где сама вечность искажена «дурной бесконечностью» беспрерывного движения. Космическую сторону вечности, которую лучше назвать непрерывностью (perpétuité), трудно примирить с онейрической (onirique)’ стороной двух главных опытов «Вальпургиевой ночи» и «Снега», где вечность балансирует между смертью и жизнью и все же никогда не удается объединить — в духе Августина — вечность, любовь и жизнь. Зато ироническая отрешенность, являющаяся, быть может, самым «возвышен-
* От греч. ôneiros сновидение (прим. перев.).
136
ным» состоянием, которое испытывает герой, символизирует непрочную победу над вечностью смерти, близкую к атараксии стоиков. Но непреодолимая ситуация колдовства, которой созвучно это ироническое равнодушие, не позволяет подвергнуть последнее испытанию действием. Лишь вторжение Большой Истории Der Donnerschlag смогло развеять чары.
Как бы то ни было, ироническое безразличие, роднящее Ганса Касторпа с повествователем, позволило герою представить весь диапазон экзистенциальных возможностей, пусть даже ему и не удалось осуществить их синтез. В этом смысле несогласие в конечном счете берет верх над согласием. Но осознание несогласия было «возвышено» на одну ступень.
3. В поисках утраченного времени: преодоленное время
Правомерно ли искать в книге «В поисках утраченного времени»283 фабулу о времени!
Как ни парадоксально, это различными способами оспаривалось. Я не буду задерживаться на распутанной современными критиками путанице между тем, что якобы было замаскированной автобиографией Марселя Пруста, автора, и вымышленной биографией персонажа, ведущего рассказ от первого лица. Мы знаем теперь, что опыт времени может быть темой романа не в силу совершаемых последним заимствований из опыта его реального автора, а благодаря способности литературного произведения создавать героя-повествователя, осуществляющего некий поиск самого себя, цель которого — именно значимость времени. Остается определить, каким образом это происходит. Как бы ни обстояло дело с частичной омонимией между Марселем, героем-повествователем «Поисков», и Марселем Прустом, автором романа, — не событиям жизни Пруста, возможно, транспонированным в роман, хранящий их отметину, обязан рассказ своим статусом вымысла, а единственно нарративной композиции, проецирующей мир, в котором герой-повествователь пытается воссоздать смысл предшествующей жизни, также полностью вымышленной. Утраченное время и время обретенное, следовательно, нужно понимать как черты вымышленного опыта, развернутого внутри вымышленного мира.
Первой нашей гипотезой прочтения романа будет безоговорочная трактовка героя-повествователя как вымышленного существа, поддерживающего фабулу о времени, которой и являются «Поиски».
Более сильным способом оспаривания показательного значения «Поисков» как фабулы о времени служит утверждение, скажем, Жиля Делёза (см. его работу «Пруст и знаки»284), что основной темой «Поисков» является не время, а истина. Это оспаривание исходит из очень сильного аргумента, что «творчество Пруста опирается не на экспозицию памяти, а на постижение (apprentissage) знаков» (р. 11): знаков светскости, знаков любви, знаков чувств, знаков искусства; и если все же «оно является поиском утраченного времени, то постольку, поскольку истина сущностным образом связана со временем» (р. 23). На это я отвечу, что такое опосредование через постижение знаков и поиск истины не наносит никакого ущерба определению «Поисков» как фабулы о времени. Аргумент Делёза разбивает лишь интерпретации, смешивавшие «Обретенное вре-
137
мя» с опытами непроизвольной памяти и игнорировавшие тем самым долгое обучение разочарованию, придающее «Поискам» тот размах, которого лишены короткие и случайные опыты непроизвольной памяти. Ибо хотя постижение знаков диктует тот долгий путь, который в «Поисках» приходит на смену короткому пути непроизвольной памяти, оно также не исчерпывает смысла «Поисков»: открытие вневременного измерения произведения искусства представляет собой опыт, лежащий вне всякого постижения знаков; из этого следует, что если «Поиски» — это фабула о времени, то именно в той мере, в какой этот роман не отождествляется ни с непроизвольной памятью, ни даже с постижением знаков — которое, действительно, занимает определенное время, — но ставит проблему отношения между двумя этими уровнями опыта и тем уникальным опытом, раскрытие смысла которого повествователь откладывает более чем на три тысячи страниц.
Своеобразие «Поисков» состоит в том, что постижение знаков, как и вторжение непроизвольных воспоминаний, создает впечатление бесконечного блуждания, скорее прерванного, нежели увенчанного, внезапным озарением, которое ретроспективно превращает весь рассказ в незримую историю призвания. Время вновь ставится на карту, как только речь заходит о согласовании безмерной протяженности постижения знаков с внезапностью рассказанного с опозданием события озарения (visitation), которое ретроспективно характеризует весь поиск как утраченное время285.
Отсюда наша вторая гипотеза прочтения: чтобы не давать никакого особого преимущества ни постижению знаков, которое лишило бы финальное откровение его роли герменевтического ключа ко всему произведению, ни финальному откровению, которое лишило бы всякого смысла тысячи предшествующих ему страниц и элиминировало бы саму проблему отношения между поиском и обретением, следует представить цикл «Поисков» в виде эллипса, одним из центров которого являются поиски, а вторым — озарение. Тогда фабулой о времени будет то, что создает отношение между двумя центрами «Поисков». Своеобразие романа состоит в том, что проблема и ее решение скрыты до самого конца пути, пройденного героем, и таким образом понимание произведения в целом приберегается для перечитывания.
Третий, еще более сильный способ оспорить право «Поисков» называться фабулой о времени — поставить под сомнение, как это делает Анн Анри в работе «Пруст-романист, египетская гробница»286, сам примат повествования в «Поисках» и усмотреть в романной форме проекцию в плоскость занимательной истории (anecdote) философского знания, созданного в ином месте, а значит, внешнего по отношению к роману. По мнению автора этого блестящего исследования, «догматический корпус, который призван поддерживать занимательную историю в каждой ее точке» (р. 6), следует искать не где-нибудь, а в немецком романтизме, главным образом в философии искусства, вначале предложенной Шеллингом в «Системе трансцендентального идеализма»287, затем развитой Шопенгауэром в «Мире как воле и представлении» и, наконец, в психологизированной форме изложенной впоследствии в самой Франции философскими учителями Пруста — Сеайем, Дарлю и в особенности Тардом. Произведение, рассматриваемое на его повествовательном уровне, опирается, следова-
138
тельно, на «теоретическую и культурную базу», которая ему предшествует (р. 19). Для нас здесь важно то, что тема этой философии, направляющей извне процесс повествования, — не время, а то, что Шеллинг называл Тождеством, т. е. упразднение различия между духом и материальным миром, их примирение в искусстве и необходимость зафиксировать метафизическую очевидность, чтобы придать ей прочную и конкретную форму в произведении искусства. Поэтому «Поиски» — это не только вымышленная автобиография (сегодня никто с этим не спорит), но и мнимый роман, «роман о Гении» (р. 23 sq.). И это еще не все. К числу теоретических предписаний, которыми руководствуется художественное произведение, относится также психологическая транспозиция, каковой должна была подвергнуться диалектика, чтобы стать романом, — транспозиция, также составляющая часть эпистемологической базы, предшествующей созданию романа. А в глазах Анн Анри перенос диалектики на психологию означает не столько победу, сколько разрушение романтического наследия. Стало быть, хотя переход от Шеллинга к Тарду через Шопенгауэра объясняет, каким образом утраченное единство, о котором писали романтики, могло бы стать утраченным временем, а двоякого рода искупление (искупление мира и субъекта) могло бы превратиться в реабилитацию индивидуального прошлого, — короче, хотя в целом память смогла стать привилегированным посредником рождения гения, следует ясно осознавать, что этот перенос борьбы внутрь сознания в такой же мере выражает разрушение, сколь и продолжение великой философии искусства, унаследованной от немецкого романтизма.
Наше обращение к Прусту в целях иллюстрации понятия вымышленного временно́го опыта подвергается, таким образом, двоякому оспариванию: не только теоретическое ядро, манифестацией которого якобы является роман, подчиняет вопрос о времени высшему вопросу об утраченном и обретенном тождестве, но и переход от утраченного тождества к утраченному времени демонстрирует признаки разрушенной веры. Связывая выдвижение психологического, «я», памяти с разрушением великой метафизики, Анн Анри стремится обесценить все, что относится к романному как таковому: в том факте, что героем поиска является праздный буржуа, увлекаемый скукой от одного любовного разочарования к другому, от одного нелепого салона к другому, — выражается истощение, характеризующее «перенос борьбы внутрь сознания» (р. 46): «Плоская, буржуазная жизнь, не ведающая потрясений... выводит на сцену посредственность, идеально подходящую для рассказа экспериментального типа» (р. 56)288. Эта гипотеза, ставящая под вопрос достоинства повествовательного жанра как такового, влечет за собой замечательно свежее прочтение «Поисков». Коль скоро главной темой романа становится не утраченное единство, а утраченное время, все достоинства романа о гении теряют свою убедительность.
Примем на время тезис, согласно которому «Поиски» родились из «транспозиции системы в роман». От этого проблема повествовательного творчества становится, на мой взгляд, еще загадочнее, а ее решение еще труднее. Парадоксальным образом здесь происходит возврат к объяснению через истоки: мы, разумеется, покончили с наивной теорией заимствований из жизни Пруста, но пришли лишь к более утонченной теории
139
заимствований у мысли Пруста. Но исследование рождения «Поисков» как романа требует, чтобы мы искали принцип восприятия романом «привходящих умозрений» Сеайя, Тарда, а также Шеллинга и Шопенгауэра скорее в самой нарративной композиции. Вопрос заключается уже не в том, как философия утраченного единства смогла выродиться в поиск утраченного времени, а в том, как поиск утраченного времени, взятый в качестве исходной матрицы этого произведения, собственно нарративными средствами воспроизводит романтическую проблематику утраченного единства289.
Каковы же эти средства? Единственный способ включить «привходящие умозрения» автора в повествовательное произведение заключается в том, чтобы приписать герою-повествователю не только вымышленный опыт, но и «мысли», являющиеся самым острым рефлексивным моментом опыта290. Разве мы не знаем со времен «Поэтики» Аристотеля, что dianoia есть главный компонент поэтического mythos? Но нарративная теория предлагает нам здесь неоценимую помощь, что и позволяет сформулировать нашу третью гипотезу прочтения: возможность различения в романе от первого лица нескольких повествовательных голосов.
В «Поисках» слышны по меньшей мере два повествовательных голоса: голос героя и голос рассказчика.
Герой рассказывает о своих светских, любовных, чувственных и эстетических приключениях по мере того, как они происходят. Здесь акт высказывания принимает форму утверждения, ориентированного в будущее, даже когда герой предается воспоминаниям: отсюда форма «будущего в прошедшем», продвигающая «Поиски» к развязке. Именно героя посещает откровение о смысле его предшествовавшей жизни как незримой истории призвания. В этом плане очень важно отличить голос героя от голоса повествователя — не только для того, чтобы вернуть сами эти воспоминания в русло идущего вперед поиска, но чтобы сохранить событийный характер озарения.
Но следует услышать и голос повествователя', он опережает развитие героя, ибо он обозревает это развитие. Ведь это он более ста раз по ходу рассказа замечает: «как мы увидим в дальнейшем». Но главное, именно он придает опыту, рассказанному героем, определенное значение: это время обретенное, время утраченное. До финального откровения голос повествователя так тих, что его с трудом можно отличить от голоса героя (это и позволяет говорить о герое-повествователе)291. Не так обстоит дело с рассказом о великом откровении: голос повествователя набирает здесь такую силу, что в конце концов перекрывает голос героя; именно тогда омонимия автора и нарратора достигает высшей точки, рискуя превратить повествователя в рупор автора в его большом рассуждении об искусстве. Но даже тогда именно воспроизведение повествователем взглядов автора существенно для читателя. Представления автора встраиваются тогда в мысли повествователя. В свою очередь, мысли рассказчика сопутствуют живому опыту героя, освещая его. А тем самым они становятся причастными событию, каким для героя является рождение писательского призвания.
140
Чтобы испытать наши гипотезы, мы предлагаем рассмотреть последовательно три вопроса: 1. Какими были бы знаки обретения времени для того, кто не знает финала «Поисков» в «Обретенном времени» (об этом романе нам, впрочем, известно, что он был написан тогда же, когда и роман «По направлению к Свану»)? 2. С помощью каких повествовательных средств рассуждения об искусстве встраиваются в «Обретенном времени» в незримую историю призвания? 3. Какое отношение между обретенным и утраченным временем устанавливает замысел создания художественного произведения, ставший результатом открытия героем писательского призвания?
Два первых вопроса поочередно вводят нас в каждый из центров эллипса, образуемого «Поисками»; третий же побуждает преодолеть разделяющее их расстояние. Именно этот последний вопрос определяет интерпретацию «Поисков утраченного времени», которую мы, в свою очередь, хотели бы здесь предложить.
1. Утраченное время
Читатель романа «По направлению к Свану», при отсутствии ретроспективной интерпретации, проецируемой концовкой произведения на его начало, не располагает еще каким-либо способом провести параллель между комнатой в Комбре, где сознание в полусне-полуяви испытывает чувство утраты своей идентичности, утраты данного момента и местоположения, и библиотекой в особняке Германтов, где к предельно бодрствующему сознанию приходит решающее озарение. Зато такой читатель обязательно отметил бы некоторые странные черты этой увертюры. С первой же фразы голос повествователя, звучащий ниоткуда, воскрешает прошлое без даты, без места, лишенное какого-либо указания на отдаленность по отношению к настоящему времени акта высказывания, — прошлое, бесконечно возрастающее (многократно комментировалось соединение прошедшего времени с наречием «давно»: «Давно уж я привык укладываться рано. Иной раз...» (с. 33)). Таким образом, для повествователя начало отсылает к прошлому, не имеющему границ (ибо единственно мыслимое хронологическое начало, рождение героя, не может явиться в этом дуэте голосов). Именно это прошлое полупробуждений обрамляет собой воспоминания детства, которые рассказ таким образом удаляет на две ступени от абсолютного настоящего времени повествователя292.
Эти воспоминания сами выстраиваются вокруг своеобразного эпизода, опыта с пирожным «мадлен». У данного эпизода есть свои «по эту сторону» и «по ту сторону». «По эту сторону» — лишь архипелаги бессвязных воспоминаний; среди них на фоне привычного ритуала выделяется воспоминание о вечернем поцелуе293: лишение материнского поцелуя из-за приезда Свана; поцелуй, ожидаемый с тоской; поцелуй, выпрошенный под конец вечера; полученный наконец, но тотчас же обесцененный поцелуй, не принесший ожидаемого счастья294. Впервые голос повествователя слышен отчетливо: вспоминая своего отца, рассказчик замечает: «Этот вечер давно отошел в прошлое. Стены, на которой
141
я увидел поднимающийся отблеск свечи, давно уже не существует... Давно, уже и отец мой перестал говорить маме: “Пойди с малышом”. Такие мгновенья для меня больше не повторятся» (с. 65). Итак, повествователь говорит об утраченном времени как о времени исчезнувшем. Но он говорит и об обретенном времени: «Но с некоторых пор, стоит мне напрячь слух, я отлично улавливаю рыдания, которые я нашел в себе силы сдержать при моем отце и которыми я разразился, как только остался вдвоем с мамой. В сущности, рыдания никогда и не затихали, и если теперь я слышу их вновь, то лишь потому, что жизнь вокруг меня становится все безмолвнее — так монастырские колокола настолько заглушает дневной уличный шум, что кажется, будто они умолкли, но в вечеровой тишине они снова звонят» (там же). Если бы эти же мысли не были повторены в конце «Обретенного времени», смогли бы мы распознать в тихом голосе повествователя диалектику утраченного и обретенного времени?
А вот и центральный эпизод этой увертюры, рассказанный в passé simple: опыт «мадлен» (с. 72). Данный переход вместе с его «этой стороной» подготовлен ремаркой повествователя, заявляющего об ущербности рассудочной памяти и доверяющего случаю заботу о нахождении утраченного предмета. Того, кто не знает финальной сцены в библиотеке особняка Германтов, которая явственным образом связывает восстановление утраченного времени с созданием произведения искусства, опыт «мадлен» может навести на ложный след, поскольку такой читатель не сохранил бы в памяти, в глубине собственных ожиданий, все недомолвки, сопровождающие воспоминание об этом блаженном миге: «На меня внезапно нахлынул беспричинный восторг» (с. 73). Тут же следует вопрос: «Откуда ко мне пришла всемогущая эта радость? Я ощущал связь меж нею и вкусом чая с пирожным, но она была бесконечно выше этого удовольствия, она была иного происхождения. Так откуда же она ко мне пришла? Что она означает? Как ее удержать?» (там же). Но в поставленном таким образом вопросе таится ловушка опасность слишком краткого ответа, просто ответа непроизвольной памяти295. Если бы для ответа, предполагаемого «этим непонятным состоянием», было достаточно внезапного воспоминания о том, как это пирожное впервые предложила герою когда-то тетя Леония, роман «В поисках утраченного времени», едва начавшись, достиг бы своей цели: он свелся бы к поиску подобного рода воспоминаний, о которых во всяком случае можно сказать, что они не требуют трудов какого-либо искусства. То, что это не так, читатель с тонким восприятием поймет по одному-единственному признаку: это скобки, в которые заключено следующее: «(я еще не понимал, почему меня так обрадовало это воспоминание, и вынужден был надолго отложить разгадку)» (с. 75). Лишь при перечитывании, уже после знакомства с «Обретенным временем», эти замечания, отложенные про запас повествователем, обретут смысл и силу296. И все же их можно различить уже при первом чтении, пусть они и оказывают лишь слабое сопротивление поспешной интерпретации, согласно которой вымышленный опыт времени у Пруста состоит в уравнивании времени и непроизвольной памяти, которая спонтанно наслаивает друг на друга различные, но сходные впечатления, выбирая их единственно по воле случая297.
142
Хотя восторг от «мадлен» — не более чем предварительный сигнал о финальном откровении, он уже обладает одним его свойством: он открывает дверь воспоминанию и делает возможным первый набросок «Обретенного времени»: рассказы о Комбре (с. 76-210). Читателю, не знакомому с «Обретенным временем», кажется, что переход к рассказу о Комбре связан с самой наивной повествовательной условностью, если даже не искусствен и риторичен. При повторном чтении, более сведущем, восторг от «мадлен» открывает обретенное время детства, как размышление в библиотеке откроет время испытания наконец-то понятого призвания. Симметрия между началом и концом оказывается, стало быть, руководящим принципом композиции: если Комбре возникает из чашки чая (с. 76), как рассказ о «мадлен» — из полусна-полуяви в спальне, то подобным же образом и размышление в библиотеке повлечет за собой череду последующих испытаний. Это обрамление, упорядочивающее нарративную композицию, не мешает сознанию продвигаться вперед: смутному сознанию первых страниц («Я был беднее пещерного человека», с. 35-36) отвечает состояние сознания, бодрствующего на рассвете дня (с. 210).
Перед тем как оставить раздел «Комбре», я хотел бы сказать о том, что в воспоминаниях о детстве отдаляет от рассуждений по поводу непроизвольной памяти и сразу же ориентирует интерпретацию в сторону постижения знаков, — хотя нельзя сказать, чтобы это постижение, при его раздробленности, легко вписывалось в историю призвания.
Комбре это прежде всего его церковь, «которая вобрала его в себя» (с. 76). С одной стороны, она сообщает всему окружающему, благодаря своему вековечному постоянству298, измерение не исчезнувшего, а преодоленного времени; с другой стороны, персонажами своих витражей и гобеленов, своими надгробными плитами она накладывает отпечаток этой образности, подлежащий расшифровке, на все живые существа, с которыми сближается герой. Наряду с этим усердное чтение молодым героем книг превращает образ в привилегированное средство подхода к реальности (с. 111-112).
Комбре — это еще и встреча с писателем Берготом, который согласно мастерски выстроенной последовательности — вводится в рассказ первым из трех людей искусства: задолго до художника Эльстира и музыканта Вентейля. Эта встреча способствует превращению окружающих предметов в существа из прочитанных книг.
Но время детства главным образом состоит из разрозненных островков, столь же разъединенных, как в пространстве — две стороны: Мезеглиз, оказывающийся стороной Жильберты и Свана, и сторона Германтов, — сторона легендарных имен, принадлежащих недосягаемой аристократии, и в особенности — сторона госпожи де Германт, первого объекта недоступной любви. Жорж Пуле299 справедливо проводит здесь строгую параллель между разъединенностью островков времени и изолированностью ландшафтов, мест, персонажей. Неподвластные измерению расстояния разделяют воскрешенные в памяти мгновения, как и пройденные места.
Комбре — это также300, в противоположность минутам блаженства, напоминание о некоторых событиях, предвестниках разочарований, смысл которых обнаружится при дальнейшем исследовании: к примеру,
143
это подсмотренная героем в Монжувене сцена между мадемуазель де Вентейль и ее подругой, где герой — в качестве подглядывающего впервые входит в мир Гоморры. Для последующего осмысления понятия утраченного времени немаловажно, что данная сцена представлена в отталкивающем виде: мадемуазель де Вентейль плюет на портрет своего отца, стоящий на столике перед канапе. Между этим надругательством и утраченным временем устанавливается тайная связь, но она слишком скрыта, чтобы можно было ее заметить. Внимание читателя направляется скорее на чтение знаков подглядывающим героем и на интерпретацию им внушений желания. Точнее, искусство дешифровки ориентировано в этом необычном эпизоде на то, что Делёз называет вторым кругом знаков, кругом любви301. Воспоминание о «стороне Германтов» в не меньшей мере требует размышления о знаках и их интерпретации. Германты это прежде всего легендарные имена, воплощенные в персонажах гобеленов и фигурах на витражах. Именно с этими грезами об именах повествователь новым, почти незаметным, мазком связывает предвестников призвания, о котором должны рассказать «Поиски». Но эти мечтания, как и чтение Бергота, создают своего рода оппозицию, как если бы искусственные порождения мечты обнажали ничтожность собственного дарования героя302.
Что касается впечатлений, накопленных во время прогулок, они в той мере представляют собой препятствие для призвания художника, в какой материальный внешний мир, похоже, управляет ими, поддерживая «иллюзию оплодотворенности» (с. 202), освобождающей от усилия «уловить скрывавшееся за ними» (с. 203). Эпизод с колокольнями Мартенвиля, подкрепляющий эпизод с пирожным «мадлен», обретает смысл именно в контрасте с чрезмерностью обыденных впечатлений, как и неотступных мечтаний. Обещание чего-то скрытого, что следует искать и найти, тесно связано с «особым наслаждением» (с. 203) от впечатления. Прогулка и направляет этот поиск: «Я не отдавал себе отчета, почему мне доставляло такое наслаждение смотреть на них (колокольни. — Перев.) издалека, — объяснить себе это мне представлялось весьма затруднительным; я стремился лишь удержать в памяти движущиеся в солнечном блеске линии и до времени о них не думать» (с. 204). Однако здесь впервые поиск смысла происходит сначала в словесной форме, а затем выражается на письме303.
Как бы ни обстояло дело с пока еще редкими и всегда отрицательными замечаниями по поводу истории призвания, и в особенности каково бы ни было скрытое отношение между нею и двумя этими эпизодами блаженства, связанными с Комбре, в начальном опыте времени в разделе «Комбре» доминирует, по-видимому, некоординируемое отношение между группами недатированных событий304, которые сравниваются с «самыми глубокими залежами в душевной моей почве» (с. 207)305. Это нерасчлененная масса впечатлений, которые делаются различимыми лишь благодаря «расщелинам... настоящим сдвигам» (с. 209-210). Короче говоря, утраченное время Комбре — это потерянный рай, где «животворную веру» (с. 208) еще нельзя отличить от иллюзии обнаженной и немой реальности внешних вещей.
144
Без сомнения, автор счел нужным поместить «Любовь Свана», то есть рассказ от третьего лица, между «Комбре» и «Именами» рассказами от первого лица, чтобы подчеркнуть этим автобиографический характер, присущий роману в целом. Благодаря этому перенесению повествования в другой персонаж сразу же рассеивается иллюзия непосредственности, которую создавали своим классическим шармом рассказы о детстве. Кроме того, в разделе «Любовь Свана» конструируется адская машина любви, разъедаемой иллюзиями, подозрениями, разочарованием; любви, осужденной пройти через тревогу ожидания, уколы ревности, печаль заката и равнодушие к собственной смерти; а эта конструкция послужит моделью для рассказа о другой любви, главным образом о любви героя к Альбертине. Именно благодаря этой парадигматической роли «Любовь Свана» и может что-то сказать о времени.
Нет смысла подчеркивать тот факт, что рассказ не датирован: непрочной связью он соединен с мечтаниями, отнесенными в неопределенное прошлое с трудом пробуждающегося повествователя, каким он предстает на первых страницах книги306. Таким образом, рассказ о любви Свана обрамляется туманными воспоминаниями о детстве, как нечто, произошедшее до рождения героя. Данного приема достаточно, чтобы бесповоротно разрушить линию хронологии и сообщить повествованию другие свойства прошедшего времени, безразличные к датам. Важнее здесь растяжение связи между этим рассказом и историей призвания, которая, как предполагается, направляет роман в целом. Связь эта устанавливается на уровне «ассоциации воспоминаний», упомянутых в конце раздела «Комбре». Короткая фраза из сонаты Вентейля, без сомнения, служит посредником между опытом «мадлен» (и колоколен Мартенвиля) и откровением в финальной сцене, благодаря ее посдедовательным возвращениям в историю героя, которые подкрепляются в «Пленнице» воспоминанием о септете Вентейля, мощном аналоге этой маленькой фразы307. Такая функция короткой фразы в единстве рассказа может остаться незамеченной, поскольку эта фраза тесно связана с любовью Свана к Одетте. Влюбленный в музыкальную фразу (с. 235), Сван постоянно возвращается к своему воспоминанию. Последнее поэтому слишком растворено в любви к Одетте, чтобы повлечь за собой вопрошание о даруемом фразой обещании счастья. Все пространство занято более властным вопрошанием, доведенным до исступления и вновь и вновь порождаемым ревностью. Постижение знаков любви, смешанное с постижением знаков светской жизни в салоне Вердюренов, — единственное, что сопрягает поиск утраченного времени с поиском истины, а само утраченное время с изменой, разрушающей любовь. Таким образом, ничто не дает оснований интерпретировать утраченное время под углом зрения обретенного времени, ибо само воспоминание о короткой фразе не освободилось от своей любовной оболочки. Что же касается «страсти к истине» (с. 295), которой движет ревность, ничто не позволяет приписать ей качества обретенного времени. Время просто-напросто утрачено в двояком смысле как время минувшее и время растраченное308. Строго говоря, на мысль об обретенном времени могло бы навести придание значимости нескольким редким мгновениям, когда Сван «с помощью памяти связывал эти об-
145
рывки, восстанавливая пробелы» (с. 334) лоскутного времени, или спокойствие тайны, которую он тщетно пытался выведать в минуты ревности и, наконец, постиг во времена умершей любви (с. 395, 397). Постижение знаков завершилось бы в этом контексте с достижением равнодушия.
Заслуживает внимания способ, с помощью которого третья часть романа «По направлению к Свану», «Имена Страны: Имя» (с. 400-444), сочленяется с предшествующими частями в плане сцепления длительностей309. Действительно, те же «бессонные ночи» (с. 400), напоминание о которых послужило обрамлением для рассказов о детстве в Комбре, вновь связывают в грезящем воспоминании комнаты Гранд-Отеля в Бальбеке с комнатами Комбре. Неудивительно, таким образом, что пригрезившийся Бальбек предшествует реальному Бальбеку — в эпоху отрочества героя, когда имена предвосхищают вещи и говорят об их реальности еще до всякого восприятия. Таковы названия «Бальбек», «Венеция», «Флоренция», порождающие образы, а через них желания. Что может создать читатель на данной стадии повествования из этого «воображаемого Времени», где несколько путешествий объединены под одним именем? (с. 409) Он может лишь сохранять его в памяти с того момента, как вполне реальные Елисейские поля — место игр с Жильбертой — начинают заслонять сон: «...в этом городском саду ничто не было связано с моими мечтами» (с. 411). Является ли это несоответствие между воображаемым «двойником» (там же) и реальностью другим образом утраченного времени? Возможно. Сложность присоединения этого и всех последующих образов к главной линии повествования еще усугубляется отсутствием явной идентичности между предшествующими персонажами Сваном и особенно Одеттой, которую по окончании вставного рассказа от третьего лица можно было счесть «исчезнувшей», и Сваном и Одеттой, которые оказались родителями Жильберты в пору игр на Елисейских полях310.
Для читателя, который прервал бы чтение «Поисков» на последней странице романа «По направлению к Свану», утраченное время заключалось бы лишь в бесплодности «попыток отыскать в окружающей действительности картины, написанные памятью, ибо им всегда будет не хватать очарования, которое оно заимствует у памяти, и они будут недоступны для чувственного восприятия» (с. 443). Возникает впечатление, что «Поиски» сводятся к безнадежной борьбе с этим возрастающим расхождением, которое порождает забвение. Могло бы показаться, что даже минуты блаженства в Комбре, где дистанция между настоящим впечатлением и впечатлением прошлым как по волшебству преображается в чудесную современность, унесены тем же разрушительным забвением. За пределами страниц, посвященных Комбре, об этих благодатных мгновениях — за одним исключением — речь уже больше не пойдет. Лишь отзвук короткой фразы из сонаты Вентейля, отзвук, известный нам по рассказу в рассказе, — несет в себе обещание чего-то иного. Но чего? Читателю «Обретенного времени» предстоит разгадать эту загадку, как и загадку блаженных мгновений, пережитых героем в Комбре.
До этого поворота остается открытым лишь путь разочарования, путь долгой дешифровки знаков светского общества, любви, чувственных
146
впечатлений, — который проляжет от романа «Под сенью девушек в цвету» до «Беглянки».
2. Обретенное время
Перенесемся сразу в «Обретенное время» — второй центр большого эллипса, образованного «Поисками», — оставив преодоление безмерно широкого расстояния, разделяющего два центра, для третьего этапа нашего исследования.
Что подразумевает рассказчик под обретенным временем? Чтобы найти ответ на данный вопрос, мы обратимся к симметрии между началом и концом этого огромного повествования. Подобно тому как опыт «мадлен» разграничивает в рамках романа «По направлению к Свану» «до» и «после», — «до» пол у пробуждений и «после» обретенного времени Комбре, большая сцена в библиотеке особняка Германтов тоже разграничивает «по эту сторону», чему повествователь придал существенный объем, и «по ту сторону», где обнаруживается высшее значение «Обретенного времени».
Действительно, повествователь рассказывает о событии, знаменующем рождение писателя, не ex abrupto*. Он подготавливает его вспышку, преодолевая две ступени инициации: первая ступень, которой отведено наибольшее число страниц, представляет собой хаотическое сплетение событий, плохо соотнесенных между собой, — во всяком случае в таком состоянии нам была оставлена незавершенная рукопись «Обретенного времени», — но маркированных знаками разочарования и равнодушия.
Знаменательно, что «Обретенное время» начинается с рассказа о пребывании в Тансонвиле, близком к Комбре детских лет, в городке, который не оживляет воспоминания, а гасит потребность в них311.
Героя поначалу смущает эта утрата любопытства, настолько, кажется ему, она подтверждает ощущение, некогда испытанное в тех же местах: что он никогда не сможет писать (с. 7). Нужно отказаться от стремления вновь пережить прошлое, если утраченное время должно, пока еще неизвестным способом, быть обретено. Этой смерти желания вновь увидеть сопутствует и смерть желания обладать женщинами, которых герой любил когда-то. Примечательно, что, по словам повествователя, от любопытства героя освободило Время (с. 11), персонифицированная сущность, которую никогда нельзя отнести целиком ни к утраченному времени, ни к вечности и которая до конца останется символической, как в древнейших пословицах, благодаря своей разрушительной мощи. Мы вернемся к этому в конце.
Все рассказанные события, все описанные затем встречи помещаются под тем же знаком упадка, смерти: рассказ Жильберты о банальности ее отношений с Сен-Лу, ставшим ее мужем, посещение церкви в Комбре312, вековечная мощь которой подчеркивает бренность смертных людей; в особенности внезапное замечание о долгих годах, проведенных героем в кли-
* внезапно, без подготовки (лат.). Прим. перев.
147
нике, которое, внося реалистическую ноту, способствует чувству отдаления, дистанцирования, необходимого для финального озарения313. Что касается описания Парижа во время войны, оно усиливает впечатление эрозии, разъедающей все вокруг314. Легкомыслие парижских салонов обретает черты деградации; дрейфусарство и анти-дрейфусарство канули в Лету; визит Сен-Лу, вернувшегося с фронта, — это визит призрака; получено известие о смерти Котара, затем — о смерти Вердюрена. Случайная встреча с де Шарлю на парижских улицах накладывает на эту мрачную инициацию печать невыносимой мерзости. От его телесного разложения, его любовных увлечений исходит странная поэтичность (с. 77); повествователь приписывает ее полной отстраненности, которой сам герой еще не смог достичь (с. 85). Сцена в борделе Жюпьена, где по требованию барона отпускники-военные бьют его цепями, превращает картину общества во время войны в квинтэссенцию низости. Пересечение рассказа о последнем визите Сен-Лу (за которым быстро последовало известие о его смерти, напоминающей о другой смерти, смерти Альбертины315), и рассказа о последних гнусностях Шарлю, завершившихся его арестом, создает впечатление зловещего вихря, который пронесется снова, но будет нести в себе совсем иное значение, в симметричной сцене, следующей за великим откровением, сценой «обеда мертвецов» (dîner de têtes de morts), первого испытания героя, принявшего посвящение в вечность.
Чтобы еще раз подчеркнуть, из какого небытия является это откровение, повествователь вводит в свой рассказ внезапный разрыв: «Я поселился в другой клинике, но лечение в ней шло ничуть не более успешно, чем в первой; прошло много лет, прежде чем я уехал оттуда» (с. 156). В последний раз, возвращаясь в Париж, герой подводит неутешительный итог своего положения: «лживость литературы», «невозможность осуществления идеала, в который верил», «несостоявшееся вдохновение» и «непробиваемое безразличие»...
За первой ступенью инициации сквозь туман воспоминания следует вторая ступень, гораздо более короткая, отмеченная знаками-предвестниками316. Тон рассказа действительно меняется с того момента, когда герой, как в свое время в Комбре, поддается соблазну имени Германтов, прочитанного на приглашении на утренник у принца. Но на сей раз поездка в экипаже кажется полетом: «И, как авиатор, который только что тяжело катил по земле, внезапно “оторвавшись”, я медленно вознесся к молчащим вершинам воспоминаний» (с. 159). Встречи с символом упадка де Шарлю, оправлявшимся после апоплексического удара, который придал «старому отверженному принцу шекспировскую величественность короля Лира» (с. 160), недостаточно, чтобы прервать это вознесение. Герой скорее усматривает в этой унылой фигуре «какую-то квазифизическую мягкость, равнодушие к жизненным реалиям, разительные в людях, осененных уже крылом смерти» (с. 161). Именно тогда героя настигает, как «предуведомление», несущее в себе спасение, серия опытов, совершенно схожих, по даруемому ими блаженству, с теми опытами в Комбре, которые воплотились в последних работах Вентейля (с. 166): неровные булыжники на мостовой, о которые споткнулся герой, позвякивание ложки о тарелку, жесткость сложенной накрахмаленной салфетки. Но если некогда повествователю пришлось отложить на потом выяснение причин этого
148
блаженства, на сей раз он полон решимости разгадать его загадку. Это не значит, что повествователь не понял со времен Комбре, что испытанная тогда сильная радость была результатом случайного совпадения двух схожих впечатлений вопреки их разделенности во времени; к тому же, герой и в этот раз, находясь под впечатлением от неровных парижских булыжников, тут же вспомнил Венецию и две неровные плиты баптистерия Сан-Марко. Загадка, которую надо решить, заключается не в том, что временная дистанция может быть таким образом «случайно», «как по волшебству», устранена в тождественности одного и того же момента: она состоит в том, почему испытанной радости, и «в чем-то очень определенной», «без всяких объяснений... хватало, чтобы смерть стала мне безразлична» (с. 167). Иначе говоря, загадка, которую надлежит разрешить, это загадка отношения между минутами блаженства, дарованными случаем и непроизвольной памятью, и «незримой историей призвания».
Таким образом, между огромной массой рассказов, растянувшихся на тысячи страниц, и сценой в библиотеке повествователь создал нарративный переход, благодаря которому смысл Bildungsroman балансирует между постижением знаков и озарением. Взятые вместе, обе стороны этого нарративного перехода имеют одновременно значение разрыва и связующей нити между двумя центрами «Поисков»: они означают разрыв — из-за знаков смерти, которые обусловливают неудачу постижения знаков, лишенных принципов их дешифровки; они служат связующей нитью — благодаря знакам, предвещающим великое откровение.
Теперь мы находимся в центре большой сцены озарения, определяющей первый — но не последний — смысл самого понятия обретенного времени. Нарративный статус того, что может быть прочитано как большое рассуждение об искусстве — даже как «Поэтическое искусство» Марселя Пруста317, насильственно вставленное в его рассказ, — обеспечивается тонкой диегетической связью, которую повествователь установил между этой главной сценой и предшествующим рассказом о событиях, имеющих значение инициатического перехода. Эта связь действует одновременно в двух планах. Прежде всего, в плане событийном (anecdotique): повествователь позаботился о том, чтобы разместить рассказ о последних предуведомляющих знаках там же, где и рассказ о великом откровении: «в маленькой гостиной-библиотеке, смежной с буфетной» (с. 167). Затем — в плане тематическом: именно к этим минутам блаженства и знакам-предвестникам повествователь прививает свое размышление о времени, которое таким образом включается в круг его раздумий о том, что некогда даровал ему случай318. Наконец, в более глубоком рефлексивном плане, размышление о времени закрепляется в рассказе как событие, ключевое с точки зрения призвания писателя. Таким образом, тот факт, что истоки истории призвания усматриваются в умозрении, обусловливает неустранимо нарративный характер самого этого умозрения.
Создается впечатление, что это размышление отдаляется от рассказа в силу того, что время, открываемое размышлением, — это скорее не обретенное время (в смысле времени утраченного и обретенного), а сама остановка времени, вечность, или, говоря словами повествователя, «вне-вре-
* с точки зрения вечности (лат.). — Прим. перев.
149
менное существо» (с. 170)319. И так будет до тех пор, покуда решение стать писателем, восстанавливающее в мысли нацеленность на произведение, которое надлежит создать, вновь не возьмет под свой контроль умозрение. В том, что вневременное — это лишь преддверие обретенного времени, нас убеждают некоторые замечания повествователя: прежде всего, о мимолетном характере самого созерцания; затем, о том, что в основе сделанного героем открытия о том вневременном существе, каковым он является, должна лежать «небесная пища» сущности вещей; наконец, об имманентном, а не трансцендентном характере вечности, чудодейственным образом циркулирующей между настоящим и прошлым, единство которых она составляет. Значит, вневременное существо не исчерпывает полностью смысла «Обретенного времени». Конечно, именно sub specie aetemitatis* непроизвольная память творит свое чудо во времени320, а интеллект может охватывать единым взглядом разделенность разнородного и одновременность аналогичного. И именно вневременное существо, когда оно ставит себе на службу аналогии, даваемые случаем и непроизвольной памятью, как и работой постижения знаков, возвращает преходящие вещи к их сущности «вне времени» (с. 170). Однако вневременному существу еще недостает силы, чтобы «обрести былые дни» (там же). Именно в этот переломный момент открывается смысл повествовательного процесса, конституирующего фабулу о времени. Остается совместить обе характеристики, разом приписанные обретенному времени321. Это выражение обозначает то вневременное, то акт обретения утраченного времени. Лишь решение стать писателем положит конец смысловой двойственности обретенного времени. До решения двойственность эта кажется непреодолимой. Действительно, вневременное связано с размышлением о самих истоках эстетического творчества, в момент созерцания, никак не встроенного в реальное произведение и не имеющего отношения к труду писателя. Во вневременной сфере произведение искусства, рассмотренное в его истоках, не является продуктом творца слов; оно существует до нас, его только надо открыть. На этом уровне творить значит выражать.
Обретенное время во втором смысле слова — в смысле воскрешенного утраченного времени — есть результат фиксации этого мимолетного момента созерцания в длящемся произведении. Вопрос теперь состоит в том как говорил Платон о статуях Дедала, всегда готовых убежать321а, чтобы удержать это созерцание, введя его в длительность: «Итак, теперь я решил заняться им, созерцанием сущности вещей, уловить его — но как? посредством чего?» (с. 174). Именно здесь художественное творчество, принимая эстафету у эстетического размышления, предлагает свое посредничество: «Разве может это, судя по всему, единственное средство быть чем-либо еще, помимо произведения искусства?» (с. 177). Поэтому ошибкой Свана было уподобление счастья, даруемого маленькой фразой сонаты, утехам любви: он «так и не сумел обрести его в художественном созидании» (с. 176). И здесь тоже дешифровка знаков приходит на помощь мимолетному созерцанию — не для того, чтобы его заменить, еще менее чтобы его обогнать, но чтобы прояснить его под своим контролем.
Таким образом, решение стать писателем обладает тем свойством, что переносит вневременное из первоначального видения в темпоральность
150
воскрешения утраченного времени. Поэтому можно сказать, что «Поиски» на самом деле повествуют о переходе от одного значения обретенного времени к другому его значению: именно в таком смысле этот роман и является фабулой о времени.
Остается сказать о том, каким образом испытание, следующее за откровением об истинности искусства, и начало работы героя над произведением обусловливают повествовательный характер рождения призвания. Это испытание проходит через шествие смерти. Не будет даже преувеличением сказать, что именно отношение к смерти составляет суть различия между двумя значениями обретенного времени: вневременным, преодолевающим «мысли о смерти» и вселяющим равнодушие к «превратностям грядущего» (с. 170), и воскрешением утраченного времени в произведении искусства. Если ответственность за судьбу воскрешения в конечном счете возлагается на писательский труд, угроза смерти не менее велика в обретенном времени, чем в утраченном322.
Это и хотел подчеркнуть повествователь, когда за рассказом об обращении в писательство последовал удивительный спектакль, исполненный гостями на обеде у принца Германта. Этот ужин, на котором каждый из приглашенных словно бы «нацепил личину» (с. 216), — собственно говоря, предстал в виде мертвеца (tête de mort), — со всей очевидностью интерпретирован повествователем именно как перелом (coup de théâtre), вследствие чего, по его словам, «против моего начинания обнаружилось сильнейшее возражение» (с. 215-216). Какое же? Не иначе как напоминание о смерти, которая, не имея власти над вневременным, угрожает его временно́му выражению, самому произведению искусства.
Действительно, кто участники этой пляски смерти? То были «куклы; но чтобы отождествить их с людьми, которых мы знали, следовало прочесть их разом в нескольких плоскостях, — эти плоскости были расположены за ними и придавали им глубину, они вынуждали нас, когда мы видели перед собой старых марионеток, проделать мыслительную работу; и мы должны были смотреть и памятью, и глазами на кукол, купающихся в невещественных цветах лет, манифестирующих Время, Время, обычно невидимое, но, чтобы проявиться, ищущее тел, и везде, где находит, завладевающее ими, дабы осветить их своим волшебным фонарем» (с. 2 1 9) 323. И что возвещают эти мертвецы, если не приближение смерти самого героя (с. 222)? Вот угроза: «Я открыл разрушающее действие Времени только тогда, когда готов уже был в произведении искусства приняться за прояснение, осмысление вневременной реальности» (с. 225). Важное признание: может ли старый миф о разрушительном Времени быть более сильным, чем видение обретенного времени через посредство произведения искусства? Да, если отделить второе значение обретенного времени от первого. И до конца рассказа герой — жертва именно этого искушения. Искушение же сильно постольку, поскольку труд писателя осуществляется в том же самом — утраченном — времени. Хуже того: постольку, поскольку предшествующий рассказ в известном смысле именно в качестве такового подчеркнул мимолетный характер события, связанный с открытием его упразднения в сверхвременном. Но это все же не последнее слово; художнику, спо-
151
собному сберечь отношение воскрешенного времени к вневременно́му, Время открывает свой другой, мифический лик: глубокая тождественность, которую сохраняют существа наперекор собственной деградации, свидетельствует о «неповторимой обновляющей» силе Времени, «которое, щадя еще единство человека и законов жизни, умело меняло декор, вводило смелые контрасты в два следующих друг за другом лика того же персонажа» (с. 228). Когда мы позже будем говорить об узнавании как ключевом понятии, которое обеспечивает единство между двумя центрами эллипса, образуемого «Поисками», мы вспомним, что именно «художник — Время» (там же) делает существа узнаваемыми. «Впрочем, этот художник, отмечает повествователь, работает очень медленно» (с. 229).
Знак того, что этот договор между двумя образами «Обретенного времени» может быть заключен и сохранен, повествователь усматривает во встрече, которую не предвещало ничто предшествующее: это появление дочери Жильберты Сван и Робера де Сен-Лу, символизирующее примирение двух «сторон» стороны Свана (по материнской линии) и стороны Германтов (по линии отца): «Она мне показалась прекрасной: еще полная надежд, смеясь, погруженная в те годы, что были утрачены мною, она олицетворяла собой мою Юность» (с. 315). Должно ли это появление, конкретизирующее примирение, которое многократно возвещалось или предвосхищалось в романе, навести на мысль, что у творчества существует договор с молодостью со «способностью к порождению» (natalité), как сказала бы Ханна Арендт, который делает искусство, в отличие от любви, более сильным, чем смерть?323а
Этот знак уже не является, как предшествующие, предвестником или предуведомлением; это «стрекало»: «Наконец, мысль о Времени приобрела для меня последнюю ценность, она стала стрекалом, она говорила мне, что пора начать, если я хотел достигнуть предчувствованное мною несколько раз в коротких озарениях, в стороне Германтов, в коляске на моих прогулках с г-жой Вильпаризи, благодаря которым я считал жизнь достойной того, чтобы ее проживать. Сколь же более достойной она предстала мне теперь, когда, казалось, видимую лишь в потемках, стало возможным прояснить ее, беспрерывно искажаемую, привести к истине, одним словом осуществить в книге!» (с. 315).
3. От обретенного времени к времени утраченному
В конце этого исследования, посвященного «Поискам» как фабуле о времени, остается охарактеризовать отношение, которое рассказ устанавливает между двумя центрами эллипса: постижением знаков — с их утраченным временем — и откровением об искусстве с его возвеличиванием вневременно́го. Именно это отношение характеризует время как обретенное, точнее, как утраченное-обретенное. Для того чтобы понять это прилагательное, нужно истолковать соответствующий глагол: что же значит обрести утраченное время?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы, повторяем, хотим узнать только мысли повествователя, обдумывающего не написанное еще произведе-
152
ние (в области вымысла это не то произведение, которое мы только что прочитали). Из этого следует, что именно трудности, ожидаемые от произведения, которое еще нужно создать, лучше всего указывают на смысл, который необходимо придать акту обретения времени.
Эти трудности концентрируются в суждении, каким повествователь пытается охарактеризовать смысл своей прошлой жизни под углом зрения задуманного им произведения: «Так что вся моя жизнь, вплоть до этого дня, проходила под знаком Призвания и, вместе с тем, в какой-то мере это было не так» (с. 196).
Стоит поразмыслить над искусно созданной двойственностью между «да» и «нет»: нет, «литература не играла в моей жизни никакой роли» (там же); да, вся эта жизнь «образовала запас» (почти как у растения), которым будет питаться зародившийся организм: «Так что вся моя жизнь была в отношении (подчеркнуто нами. — П. Р.) с тем, что приведет к ее вызреванию» (там же)324.
Какие же трудности должен преодолеть акт обретения утраченного времени? И почему их разрешение несет на себе эту печать двойственности?
Мы предлагаем первую гипотезу: не экстраполируется ли отношение, лежащее в основе акта обретения времени на уровне романа в целом, на отношение, выявляемое рефлексией в канонических примерах проясненного, освещенного воспоминания? А с другой стороны, не представляют ли собой эти незначительные опыты лабораторию в миниатюре, где изобретается отношение, сообщающее свое единство всему роману?
Подобная экстраполяция прочитывается в следующем заявлении: «То, что мы называем реальностью, есть определенное отношение между ощущениями и воспоминаниями, окружающими нас в одно и то же мгновение — а это отношение не предполагает возможности какого-то простого кинематографического видения, тем паче далекого от истины, что подразумевается, будто она ограничивается одной реальностью, — отношение неповторимое, писатель обязан найти его, чтобы навеки связать одной фразой два разных предела» (с. 187)325. Все здесь имеет значение: «неповторимое отношение», как в минуты блаженства и во всех аналогичных опытах воспоминания, однажды проясненных, — отношение, которое надо «обрести», в котором два разных предела «навеки связаны одной фразой».
Так открывается первый путь, ведущий к поиску фигур стиля, чья функция заключается именно в установлении отношения между двумя различными объектами. Фигурация такого рода есть метафора. Повествователь подтверждает это в заявлении326, в котором я готов усмотреть, вслед за Роджером Шаттаком327, один из герменевтических ключей к «Поискам»: это метафорическое отношение, выявленное в результате прояснения минут блаженства, становится матрицей всех отношений, где два разных объекта, вопреки их различию, возводятся в сущности и освобождаются от превратностей времени. Постижение знаков на всем протяжении «Поисков» подпадает таким образом под закон, рассмотренный на особом примере предупреждающих знаков, уже несущих в себе раздвоенный смысл, который пониманию надлежит лишь прояснить.
153
Метафора царит там, где чисто последовательное кинематографическое видение терпит фиаско, ибо не может сопоставить ощущения и воспоминания. Повествователь понял, какое общее приложение может иметь это метафорическое отношение: он заявляет, что в искусстве оно схоже в чем-то «с уникальным отношением каузального закона в мире науки» (с. 187). Поэтому можно без преувеличения сказать, что ощущения и воспоминания, в масштабе «Поисков» в целом, пойманы в «крепкие сети изящного стиля» (там же). Стиль здесь обозначает вовсе не декоративность, а особую сущность, возникшую в результате сопряжения в уникальном произведении искусства вопросов, из которых оно исходит, и ответов, которые оно дает. В этом первом смысле обретенное время есть время утраченное, увековеченное в метафоре.
Но первый путь — не единственный: стилистическое решение, размещенное под знаком метафоры, требует дополнения решения, которое можно назвать оптическим328. Повествователь сам приглашает нас следовать этим вторым путем, если даже затем найдется точка, где обе дороги пересекаются; по его словам, «стиль для писателя, подобно цвету для живописца, это дело не столько техники, сколько видения» (с. 192).
Под видением следует понимать нечто совсем иное, чем возрождение непосредственного: это чтение знаков, которое, как нам известно, требует обучения. Если повествователь называет видением опыт обретенного времени, то в той мере, в какой это ученичество увенчивается узнаванием, являющим собой знак, оставленный вневременным на утраченном времени329. Повторяем, именно минуты блаженства представляют собой иллюстрацию — в миниатюре —этого стереоскопического видения, возвышенного до узнавания. Но идея «оптического видения» прилагается к постижению знаков в целом. Это постижение в действительности изобилует оптическими ошибками, которые ретроспективно приобретают смысл незнания. Поэтому своего рода пляска смерти обед мертвецов, следующая за главной медитацией героя, маркирована не только знаком смерти, но и знаком не-узнавания (с. 279, 225, 236 и т.д.). Герой не смог даже узнать Жильберту (с. 268-269). Эта сцена является ключевой, поскольку ретроспективно помещает весь предшествующий поиск одновременно под знак комедии ошибок (оптических) и на траекторию проекта глобального узнавания. Такая общая интерпретация «Поисков» в контексте узнавания позволяет считать встречу героя с дочерью Жильберты последней сценой узнавания, в той мере, в какой (мы говорили об этом выше) девушка воплощает собой примирение двух сторон, стороны Свана и стороны Германтов.
Два пути, по которым мы проследовали, где-то пересекаются: метафору и узнавание роднит то, что они возводят два впечатления на уровень сущностей, не упраздняя их различия: «И действительно, “узнать” коголибо, особенно после того, как не удавалось его отождествить, — значит помыслить под единым наименованием два несовместимых предмета» (с. 233). Этот важнейший текст устанавливает равнозначность между метафорой и узнаванием, делая из первой логический эквивалент второго («мыслить под единым наименованием два несовместимых предмета»), а из второго — временно́й эквивалент первой («... допустить, что находящегося здесь человека, которого мы помним, — больше не существует и что
154
он же присутствует здесь, но мы с ним больше не знакомы») (там же). Итак, можно сказать, что метафора в области стиля представляет собой то же, что узнавание в сфере стереоскопического видения.
Но затруднение возникает вновь в этой же точке: в чем заключается отношение между стилем и видением? Ставя этот вопрос, мы затрагиваем проблему, занимающую центральное положение в романе, — проблему отношения между письмом (écriture) и впечатлением, т. е., в конечном счете, между литературой и жизнью.
На этом новом пути откроется третий смысл понятия обретенного времени: обретенное время, скажем мы теперь, — это обретенное впечатление. Но что такое обретенное впечатление? Нужно, повторяем, начав с истолкования минут блаженства, распространить его на постижение знаков в целом, происходящее на всем протяжении «Поисков». Чтобы можно было обрести впечатление, его необходимо вначале утратить в качестве непосредственного наслаждения, пленника своего внешнего объекта. Эта первая стадия пере-открытия знаменует собой полную интериоризацию впечатления330. Вторая стадия есть транспозиция впечатления в закон, в идею331. На третьей стадии этот духовный эквивалент встраивается в произведение искусства. Имеется и четвертая стадия — она лишь однажды упоминается в «Поисках», когда рассказчик говорит о своих будущих читателях: «Мне кажется, они будут не моими читателями, а читателями самих себя, потому что моя книга лишь что-то вроде увеличительного стекла, вроде тех, что выдает покупателю комбрейский оптик; своей книгой я открою им средство читать в самих себе» (с. 316)332.
Эта алхимия обретенного впечатления прекрасно подчеркивает трудность, с которой сталкивается повествователь, приступая к произведению: как сочинять, чтобы не подменить жизнь литературой или — под водительством законов и идей не растворить впечатление в психологии или в абстрактной социологии, начисто лишенной нарративного характера? Повествователь отвечает на эту угрозу заботой о сохранении неустойчивого равновесия между впечатлениями, «первым свойством» которых, говорит он, «было то, что они не оставляли мне свободы выбора, ибо были даны в исконном виде» (с. 177), а с другой стороны, дешифровкой знаков, направляющей нитью которой является превращение впечатления в произведение искусства. Итак, литературное творчество, по-видимому, устремляется в двух противоположных направлениях.
С одной стороны, впечатление должно контролировать «истинность всей картины» (там же)333. В том же плане повествователь говорит о жизни как о «внутренней книге с ее неведомыми знаками» (там же). Не мы ее написали, но «книга с иносказательными образами, вписанными не нами, — наша единственная книга» (с. 178)334. Или, лучше сказать, это «наша настоящая жизнь, реальность, как мы почувствуем ее, до такой степени несхожая савсем тем, что мы считаем ею, что нас переполняет счастье, когда подвернется случай встретиться с подлинным воспоминанием» (с. 179). Таким образом, написание произведения основано на «подчинении внутренней реальности»335.
С другой стороны, чтение книги жизни состоит в «акте творения, в пределах которого нас некому заменить и нам некому даже помочь»
155
(с. 177). Теперь, по-видимому, все склоняется в сторону литературы. Вспомним знаменитый текст: «Настоящая жизнь, в конце концов открытая и проясненная, следовательно, единственная реально прожитая жизнь, это литература. В определенном смысле эта жизнь непреходяща, присуща всем людям, не только художнику, но она попадает в их поле зрения, потому что другие люди не пытаются ее прояснить» (с. 192). Это заявление не должно вводить в заблуждение. Оно ни в коей мере не влечет за собою апологию Книги, как у Малларме. Оно строит между жизнью и литературой уравнение, которое, по завершении произведения, должно было бы быть полностью обратимым; в конечном счете, это уравнение между впечатлением, сохраненным в его следе, и произведением искусства, выражающим смысл впечатления. Но эта обратимость нигде не дана: она должна стать плодом самого письма. В этом смысле «Поиски» могли бы называться «В поисках утраченного впечатления», поскольку литература есть не что иное, как обретенное впечатление — «радость от обретения реальности» (с. 177).
Таким образом, нашему размышлению предлагается третья версия обретенного времени. Она не столько добавляется к двум предшествующим, сколько включает их в себя. В обретенном впечатлении пересекаются оба пути, которыми мы следовали, и находит примирение то, что можно было бы назвать двумя «сторонами» «Поисков»: в сфере стиля — сторона метафоры, в сфере видения — сторона узнавания336. В то же время метафора и узнавание проясняют отношение, на котором строится само обретенное впечатление, — отношение между жизнью и литературой. И всякий раз это отношение предполагает забвение и смерть.
Таково богатство смысла обретенного времени, или, скорее, операции обретения утраченного времени. Этот смысл объемлет собой все три версии, которые мы только что исследовали. Обретенное время, скажем мы, это метафора, замыкающая различия в «крепкие кольца изящного стиля»; это еще и узнавание, венчающее собой стереоскопическое видение; наконец, это обретенное впечатление, примиряющее жизнь и литературу. Поскольку в действительности жизнь выражает сторону утраченного времени, а литература — сторону вневременно́го, мы вправе сказать, что обретенное время отображает воссоздание утраченного времени во вневременно́м, подобно тому как обретенное впечатление отображает воссоздание жизни в произведении искусства.
Два центра эллипса, образуемого «Поисками», не сливаются: между утраченным временем постижения знаков и созерцанием вневременно́го остается расстояние. Но это — расстояние преодоленное.
Этим последним выражением мы и подведем итог. На самом деле оно обозначает переход от вневременно́го, постигнутого в созерцании, к тому, что повествователь называет «вобранным в себя временем» (temps incorporé)337. Вневременно́е — лишь промежуточный пункт: его заслуга состоит в превращении «закрытых сосудов прерывистых эпох» в непрерывную длительность. Значит, «Поиски» отнюдь не приводят к бергсоновскому видению длительности, лишенной протяженности, они подтверждают наличие у времени измерений. Маршрут «Поисков» пролегает от идеи раз-
156
деляющего расстояния к идее расстояния связывающего. Подтверждением тому служит последний образ времени, предложенный в «Поисках», образ накопления длительности в известном смысле под нами. Так, повествователь-герой видит, что люди словно бы «стоят на постоянно растущих, подчас выше колоколен, живых ходулях, отчего, в конце концов, передвижение становится трудным и опасным, и они падают» (с. 329). Что же касается самого автора, то он, вобрав в свое настоящее «такое долгое время», видит себя «взгромоздившимся на головокружительную вершину [Времени]» (там же). Этот последний образ обретенного времени говорит о двух вещах: о том, что утраченное время содержится во времени обретенном, но также и о том, что в конечном счете все мы пребываем во Времени. И вправду, «Поиски» завершаются не возгласом триумфа, а «чувством усталости и ужаса»338. Ибо обретенное время — это также и обретенная смерть. «Поиски» породили, по выражению Х. Р. Яусса, только врéменное время (temps intérim), — время произведения, которое еще предстоит создать и которое смерть может разрушить.
С самого начала мы знали о том, что, как говорилось в старых мифах, время нас окутывает: в начале повествования странным было то, что оно отсылало нас к неопределенному предшествующему времени. Завершение повествования таково же: рассказ прекращается, когда писатель принимается за работу. Отныне все глагольные времена переходят из будущего вре-
157
мени в условное наклонение: «Я все-таки должен был написать что-то другое, более долговечное, — это могло послужить не одному мне. Такое произведение нужно писать долго. Днем, самое большее, я попытался бы уснуть. Если бы я и работал, то лишь ночью. Но мне нужно было много ночей, может сто, может, тысячу. И я жил бы, тревожась, не зная утром, когда прерывал бы свой рассказ, отложит ли повелитель моей судьбы, не столь снисходительный, как султан Шахияр, мой последний вздох, и позволит ли он продолжить рассказ следующим вечером» (с. 325)339.
Не потому ли последние слова романа возвращают «я» и всех людей на их место во Времени? Место, конечно, «значительное... наряду со столь ограниченным отведенным им пространством» (с. 329) — но все же место «во Времени».
Заключение
В конце третьей части моего исследования я хотел бы подвести итог, подобно тому как я сделал это, завершая вторую часть (т. 1, с. 259-263).
Мои выводы будут касаться прежде всего повествовательной модели, разработанной в первой части «Времени и рассказа» и получившей название «тройственный мимесис». Действительно, в третьей части исследования было высказано намерение строго держаться в рамках мимесис-II, т.е. миметического отношения, которое Аристотель отождествляет с упорядоченной композицией фабулы. Придерживался ли я на самом деле этого главного отождествления между mimēsisи mythos?
Я хотел бы поделиться некоторыми сомнениями, не покидавшими меня в ходе всей работы над данным томом.
На те из них, которые легче всего сформулировать, также можно найти ответ в «Поэтике» Аристотеля: не страдает ли наше употребление существительного рассказ, прилагательного повествовательный и глагола рассказывать (которые, на мой взгляд, полностью взаимозаменяемы, если отвлечься от грамматического различия) серьезной двусмысленностью, поскольку оно, по-видимому, охватывает то все поле мимесиса действия, то лишь диегетический модус, исключая модус драмы? Более того, не перенесли ли мы тайком, в силу этой двусмысленности, на диегетический модус категории, свойственные драматическому модусу?
158
Право использовать термин «рассказ» как родовой, постоянно учитывая в соответствующих контекстах специфическое различие между диетическим и драматическим модусами, как мне кажется, обосновывается самим выбором в качестве основной категории понятия мимесиса действия. В самом деле, mythos, от которого производно наше понятие построения интриги, — это категория того же масштаба, что и мимесис действия. Из этого выбора следует, что различие между диегетическим и драматическим модусами отходит на второй план: оно отвечает на вопрос «как» мимесиса, а не на вопрос «что»; вот почему как у Гомера, так у Софокла можно найти хорошо выстроенные интриги.
Однако то же сомнение возрождается в другой форме при рассмотрели последовательности четырех глав данного тома. С нами, вероятно, огласятся в том, что, расширяя и углубляя понятие интриги, как это было заявлено в преамбуле к двум первым главам, мы подтвердили и крепили приоритет родового смысла вымышленного рассказа по отношению к видовому смыслу диегетического модуса. В то же время нас можно упрекнуть в том, что, исследуя игры со временем, мы постепенно ограничили свой анализ диегетическим модусом. Различение акта высказывания и самого высказывания, затем подчеркивание диалектики между дискуром повествователя и дискурсом персонажа, наконец, финальное обращение к проблеме точки зрения и повествовательного голоса — разве они не характеризуют преимущественно диегетический модус? Предупреждая то возражение, скажу, что в этих играх со временем меня интересовал только их вклад в композицию литературного произведения, в свете уроов Бахтина, Женетта, Лотмана и Успенского. Думаю, что таким образом «обогатил» понятие интриги, как и обещал во введении, и удержал его [а том же уровне обобщения, что и мимесис действия, который остается, таким образом, центральным понятием. Я охотно допускаю, что мой ответ был бы убедительнее, если бы исследования в духе тех, которые Анри Гуйе посвятил драматическому искусству, могли показать, что одни [ те же категории, среди прочего — категории точки зрения и голоса, применяются и в области драмы; в этом случае было бы доказано, что наш выбор для анализа именно романа представляет лишь фактическое ограничение, обратное тому, которое проводит Аристотель, исследуя трагический mythos. Такого доказательства и в самом деле недостает нашей работе.
К сожалению, напоминание о романе оживляет изначальное сомнение, и это обусловлено самой природой данного жанра. Является ли роман просто одним из примеров вымышленного рассказа? Похоже, именно это предполагается выбором трех фабул о времени, которым посвящена последняя глава тома. Но у нас есть основания сомневаться в том, что роман можно включить в однородную таксономию повествовательных жанров. Не является ли роман анти-жанровым жанром, который тем самым делает невозможным воссоединение диегетического и драматического модусов под общим понятием «вымышленный рассказ»? Этот аргумент находит серьезное подкрепление в очерке Бахтина, посвященном эпосу и роману, [з его сборника работ о «диалогическом Воображении»340. Роман, согласно Бахтину, не поддается какой-либо однородной классификации, поскольку нельзя объединить в одно целое уже исчерпавшие себя жанры
159
(прекрасным примером здесь является эпос) и единственный жанр, зародившийся после возникновения письменности и книги, единственный, который не только продолжает развиваться, но и непрерывно перестраивает сам себя. До появления романа жанры с устойчивыми формами имели тенденцию усиливать друг друга и таким образом создавать гармоническое целое, связный литературный ансамбль, доступный, следовательно, анализу в общей теории литературной композиции. Роман, нарушая порядок в других жанрах, лишает их глобальной связности.
Три особенности, согласно Бахтину, препятствуют подведению эпоса и романа под одну общую категорию. Прежде всего, эпос помещает историю своего героя в «абсолютное прошлое», если воспользоваться выражением Гегеля, в прошлое, не связанное со временем повествователя (или рассказчика) и его аудитории. Далее, это абсолютное прошлое связано со временем чтения лишь через посредство национальных традиций, которые являются объектом почитания, исключающего любую критику, а значит, всякое нарушение порядка. Наконец и это главное, — традиция отделяет эпический мир и его героизированных персонажей от сферы коллективного и личного опыта современных людей. Но именно разрушение этой эпической дистанции и породило роман. И главным образом под воздействием смеха, смешного, «карнавального» и, в более общем плане, форм серьезно-смехового, достигшего кульминации в творчестве Рабле, столь блестяще воспетом тем же Бахтиным, — эпическая дистанция уступает место современности, чьей опорой является причастность к одному идеологическому и лингвистическому универсуму, характеризующему отношение между писателем, его персонажами и его аудиторией в эпоху романа. Короче, именно устранение эпической дистанции решающим образом противопоставляет «низкую» литературу всей остальной — «высокой» — литературе.
Делает ли эта глобальная оппозиция эпоса и романа бесполезным анализ, подобный нашему, который стремится объединить под общим названием вымышленного рассказа все произведения, так или иначе нацеленные на создание мимесиса действия! Я так не считаю. Как бы далеко ни заходило противопоставление «высокой» и «низкой» литературы, сколь бы ни углубляли пропасть, разделяющую эпическую дистанцию и современность, общие черты вымысла не исчезли. Античный эпос в не меньшей мере, чем нынешний роман, был критикой границ современной ему культуры, как показал Джеймс Редфилд на примере «Илиады». И напротив, современный роман принадлежит своей эпохе лишь благодаря другого рода дистанции, дистанции самого вымысла. Вот почему теперешние критики могут, не отрицая оригинальности романа, по-прежнему, подобно Гёте и Шиллеру в их знаменитом совместном труде и Гегелю в «Феноменологии духа» и «Эстетике», характеризовать роман как форму (если угодно, «низкую») эпического и разделять литературу — Dichtung — на эпическую, драматическую и лирическую. Устранение эпической дистанции, конечно, знаменует собой разрыв между «высокой» и «низкой» миметикой; но мы научились, с помощью Нортропа Фрая, сохранять это различение внутри мира вымысла. Являются ли персонажи «высшими» или «низшими», чем мы, либо «равными» нам, замечал Аристотель, они тем не менее остаются равноправными действующими лицами подражаемой исто-
160
рии. Вот почему роман только бесконечно усложнил проблемы построения интриги. Можно даже сказать, не боясь парадокса — и к тому же опираясь на Бахтина, — что репрезентация реальности в процессе изменения, изображение незавершенных личностей и референция к неопределенному настоящему, настоящее «без заключения» требуют больше формальной дисциплины от создателя фабул, чем от рассказчика, использующего героический модус, который несет в себе свое внутреннее завершение. Я не ограничиваюсь этим оборонительным аргументом, а утверждаю, что современный роман требует от литературной критики чего-то гораздо большего, нежели утонченной формулировки принципа синтеза разнородного, с помощью которого мы формальным образом определяли построение интриги; он влечет за собой, помимо того, обогащение самого понятия действия пропорционально обогащению понятия интриги. Хотя две последние главы данного тома, казалось, отдалились от мимесиса действия в узком смысле слова в сторону мимесиса персонажа, что завершилось, по выражению Доррит Кон, «мимесисом сознания», это отклонение в нашем анализе носит лишь чисто внешний характер. Роман способствует подлинному обогащению понятия действия. В конечном счете, «рассказанный монолог», к которому сводится эпизод «Пенелопа», завершающий роман Джойса «Улисс», является лучшей иллюстрацией того, что говорить — тоже означает действовать, даже когда говорение замыкается в безмолвном дискурсе немой мысли, которую романист без колебаний рассказывает.
Остается дополнить этот первый вывод, сопоставив итоги нашего исследования конфигурации времени в вымышленном рассказе с теми заключениями о конфигурации времени в историческом рассказе, которые мы сделали в конце первого тома.
Скажу прежде всего, что два исследования, посвященных соответственно конфигурации в историческом рассказе и конфигурации в рассказе вымышленном, оказались строго параллельными и составляют две стороны одного и того же анализа искусства композиции: этот анализ мы провели в первой части под рубрикой мимесис-II. Одно из ограничений, сковывавших наше исследование исторического рассказа, было таким образом снято; отныне повествовательное поле полностью открыто нашей рефлексии. Тем самым заполняется серьезный пробел в исследованиях, обычно посвящаемых нарративности: историография и литературная критика приглашаются вместе воссоздавать великую нарратологию, где за историческим рассказом и рассказом вымышленным будут признаны равные права.
По ряду причин нас не должно удивлять соответствие исторического и вымышленного рассказа в плане конфигурации. Мы не будем останавливаться на первой из этих причин, состоящей в том, что обоим нарративным модусам предшествует использование рассказа в повседневной жизни. Наибольшей частью своей информации о событиях в мире мы на самом деле обязаны молве. Таким образом, акт если не искусство рассказывания составляет часть символических опосредований действия, которые мы отнесли к предпониманию нарративного поля и разместили под рубрикой мимесис-Ι. В этом смысле можно сказать, что все повествовательные искусства, и особенно те, что вышли из письменности,
161
представляют собой подражания рассказу, каким он уже практиковался в обменах информацией, характерных для обыденной речи.
Но это общее происхождение исторического и вымышленного рассказа само по себе не смогло бы служить объяснением родства двух видов повествования, — родства, очевидного даже в их наиболее разработанных формах: историографии и литературе. Следует выдвинуть другую причину этого устойчивого соответствия: воссоединение нарративного поля возможно лишь постольку, поскольку конфигурирующие операции, применяемые в обеих областях, могут быть измерены одной мерой. Такой общей мерой было для нас построение интриги. Поэтому не удивительно, что в вымышленном рассказе мы обнаружили конфигурирующую операцию, с которой и сопоставили историческое объяснение, поскольку нарративистские теории, изложенные во второй части, основывались на переносе литературных категорий построения интриги в поле исторического рассказа. В этом смысле мы лишь вернули литературе то, что у нее позаимствовала история.
Эта вторая причина, в свою очередь, значима лишь в том случае, если трансформации простой модели построения интриги, взятой у Аристотеля, сохраняют отчетливое родство даже в самых своих расходящихся формах. Читатель заметит в этом плане большое сходство между попытками (предпринятыми по отдельности в каждом из двух повествовательных полей) придать понятию построения интриги более широкое значение и более фундаментальное осмысление, чем у аристотелевского mythos, чьи корни лежат в интерпретации греческой трагедии. Путеводной нитью в этих раздельных попытках мы избрали те же понятия временно́го синтеза разнородного и несогласного согласия, которые выводят формальный принцип аристотелевского mythos за пределы его частных приложений в литературных жанрах и типах, слишком определенных, чтобы их можно было безо всяких предосторожностей перенести из литературы в историю.
Наиболее глубокая причина, обусловливающая единство понятия нарративной конфигурации, связана в конечном счете с родством между методами деривации, к которым прибегают обе стороны, учитывая специфику новых нарративных практик, появившихся как в поле историографии, так и в поле вымышленного рассказа. В связи с историографией напомним, как сдержанно мы встретили нарративистские тезисы, превращавшие историю в один из видов рода story, и то, что мы предпочли им долгий путь «возвратного вопрошания», в духе гуссерлевского «Кризиса». Таким образом мы смогли оценить по справедливости рождение новой рациональности в поле исторического объяснения, постоянно сохраняя, посредством этого генезиса смысла, подчинение исторической рациональности нарративному пониманию. Напомним также понятия квази-интриги, квази-персонажа и квази-события, с помощью которых мы попытались согласовать новые способы исторической конфигурации с формальным понятием интриги, взятым в широком смысле временно́го синтеза разнородного.
Первая и вторая главы третьей части книги также вносят свой вклад в расширение понятия интриги под эгидой идеи временно́́го синтеза разнородного. Рассмотрев в начале стиль традиционности, характеризующий
162
развитие литературных жанров, которые относятся к сфере повествования, мы проанализировали возможности отклонения от нормы, допускаемые формальным принципом нарративной конфигурации, и в заключение предложили пари, что вопреки предвестникам раскола, ставящего под угрозу сам принцип повествовательного оформления, этому принципу всегда удалось бы воскреснуть в новых литературных жанрах, способных обеспечить незыблемость старинного акта рассказывания. Но самый строгий параллелизм между эпистемологией исторического объяснения и эпистемологией нарративной грамматики можно было наблюдать при рассмотрении попыток нарративной семиотики переформулировать поверхностные структуры рассказа сообразно глубинным его структурам. Наш тезис в обоих случаях был одним и тем же: мы неизменно защищали первенство нарративного понимания по отношению к нарратологической рациональности. Универсальный характер формального принципа нарративной конфигурации находил таким образом подтверждение в той мере, в какой понимание противостоит именно построению интриги, взятому в предельно формальном плане, — как временно́й синтез разнородного.
Я только что подчеркнул гомологию, существующую — с эпистемологической точки зрения между проведенным нами анализом операций конфигурации в плане исторического рассказа и в плане рассказа вымышленного. Теперь можно обратиться к асимметриям, которые найдут полное объяснение лишь в четвертой части, когда мы откроем скобки, в которые заключили вопрос об истине. Если именно этот вопрос в конечном счете отделяет историю, как истинный рассказ, от вымысла, то асимметрия, затрагивающая способность повествования рефигурировать время, — т. е., согласно принятой нами терминологии, третье миметическое отношение рассказа к действию, — заявляет о себе уже в том плане, где, как мы только что напомнили, вымышленный рассказ и рассказ исторический демонстрируют наибольшую симметрию, то есть в плане конфигурации.
Напоминая о самых существенных результатах наших параллельных исследований исторического и вымышленного рассказа, мы смогли отвлечься от этой асимметрии, поскольку при анализе конфигурации времени повествованием основной акцент был сделан скорее на форме интеллигибельности, на которую может претендовать конфигурирующая способность рассказа, а не на времени, являющемся его ставкой.
Но по причинам, которые выяснятся лишь впоследствии, вымышленный рассказ — в плане самого искусства композиции несет в себе более богатую информацию о времени, чем рассказ исторический. Это не значит, что исторический рассказ крайне беден в данном отношении: наше обсуждение [в 1 томе] проблемы события, а точнее, финальные наблюдения о возвращении события окольным путем «большой длительности», показали, что время истории представляет собой достаточно широкое поле вариаций, чтобы мы могли ввести понятие квази-события. Тем не менее, в силу ограничений, которые мы сможем пояснить лишь в четвертой части, различные длительности, рассматриваемые историками, подчиняются законам обрамления (enchâssement), которые, невзирая на
163
неоспоримые качественные различия в ритме и темпе событий, делают эти длительности и соответствующие им скорости весьма однородными. Вот почему организация глав второй части не свидетельствовала о заметном продвижении в изучении времени. По-иному обстояло дело с конфигурацией времени вымышленным рассказом. Расположение четырех глав отображает все более четкое понимание времени повествования.
В первой главе речь шла только о временны х аспектах, связанных со стилем традиционности, который характеризует историю литературных жанров, восходящих к повествованию. Таким образом мы смогли охарактеризовать своего рода трансисторическую — но не временную — идентичность операции конфигурации путем последовательного рассмотрения трех понятий новации, постоянства и упадка, временны́е импликации которых вполне очевидны. Во второй главе глубже проанализирована проблематика времени в связи с дискуссией между нарративным пониманием и нарратологической рациональностью — в свете того, что последняя требует для моделей глубинной грамматики рассказа принципиальной ахронии, в отношении которой диахрония трансформаций, демонстрируемых на поверхности рассказа, приобретает производный и несущественный характер. Этому мы противопоставили изначальный характер временно́го процесса, свойственный построению интриги с точки зрения нарративного понимания, которое, как мы видели, имитирует нарратологическая рациональность. Но только благодаря исследованию «игр со временем» в третьей главе вымышленный рассказ впервые развернул перед нами свои возможности, каковые исторический рассказ, как представляется, не может использовать — по причинам, которые, повторяем, нельзя разъяснить на данной стадии нашего анализа. Только при помощи вымышленного рассказа создатель интриг умножает отклонения, к которым приводит разграничение времени, затрачиваемого на рассказ, и времени рассказываемых событий; само это разграничение обусловлено игрой между актом высказывания и высказыванием в ходе повествования. Все происходит так, как если бы вымысел, создавая воображаемые миры, предоставил безграничные возможности манифестации времени.
Последний шаг к выявлению специфики вымышленного времени мы сделали в заключительной главе, посвященной понятию вымышленного опыта времени. Под вымышленным опытом мы подразумевали виртуальный способ существования в мире, проецируемом литературным произведением благодаря его способности к само-трансцендированию. Эта глава в точности соответствует той главе второй части, которая посвящена исторической интенциональности. Стало быть, асимметрия, о которой мы теперь ведем речь, в точности соответствует симметрии между историческим и вымышленным рассказом в плане нарративной структуры.
Означает ли это, что мы как в плане вымысла, так и в плане истории — пересекли границу, прочерченную в самом начале между вопросом о смысле и вопросом о референции, или, как мы предпочитаем говорить, между вопросом о конфигурации и вопросом о рефигурации? Думается, это не так. Даже если мы должны признать, что на данной стадии проблематика конфигурации подвергается существенному воздей-
164
ствию проблематики рефигурации — в силу общего закона языка, согласно которому то, что мы говорим, управляется тем, о чем мы это говорим, мы с равным основанием утверждаем, что граница между конфигурацией и рефигурацией не пересечена, коль скоро мир произведения остается трансцендентностью, имманентной тексту.
Это намеренное сужение анализа находит соответствие в сходном ограничении, которое мы ввели во второй части, отделив эпистемологические характеристики исторического события от его онтологических характеристик, о которых речь пойдет только в четвертой части в связи с вопросом о «реальности» исторического прошлого. Стало быть, точно так же как мы воздержались от решения вопроса о референции исторического события к реальному прошлому, мы оставляем здесь неразрешенным вопрос о способности вымышленного рассказа открывать и трансформировать реальный мир действия. В этом смысле наши исследования трех фабул о времени подготавливают, не осуществляя его, переход от проблем нарративной конфигурации к проблемам рефигурации времени рассказом, которые станут объектом исследования в четвертой части книги. Граница между двумя сферами проблем на самом деле пересекается лишь тогда, когда мир текста сопоставляется с миром читателя. Только тогда литературное произведение в полном смысле слова обретает значение — на пересечении мира, проецируемого текстом, и жизненного мира читателя. Это сопоставление, в свою очередь, требует перехода через теорию чтения, поскольку именно в последней пересекаются воображаемый и реальный миры. Стало быть, лишь за пределами теории чтения, представленной в одной из последних глав четвертой части, вымышленный рассказ сможет утвердить свои права на истинность благодаря радикальной переформулировке проблемы истины в свете способности произведения искусства открывать и преобразовывать человеческое действие; точно так же лишь за пределами теории чтения вклад вымышленного рассказа в рефигурацию времени будет поставлен в оппозицию и в соответствие со способностью исторического рассказа говорить о реальном прошлом. Если наш тезис, касающийся столь спорной проблемы референции в сфере вымысла, в какой-то мере оригинален, то лишь постольку, поскольку он не отделяет претензию вымышленного рассказа на истинность от таковой же претензии исторического рассказа и пытается понять первую под углом зрения второй.
Проблема рефигурации времени рассказом будет разрешена лишь тогда, когда мы сможем скрестить соответствующие референциальные устремления исторического и вымышленного рассказа. Как бы то ни было, анализ вымышленного опыта времени обозначает важный поворот в ходе решения проблемы, составляющей горизонт всего нашего исследования, ибо дает возможность осмыслить мир текста в ожидании его дополнения, жизненного мира читателя, без которого не может быть полным значение литературного произведения.
165
Примечания
1 См. «Время и рассказ», т. 1, гл. III, в частности, с. 79-86.
2 Ц. Тодоров определяет понятия литературы, дискурса и жанра одно через другое; см:. «La notion de littérature». In: «Genres du discours», Paris, Ed. du Seuil, 1978, p. 13-26. Послужит ли возражением тот факт, что отдельные произведения нарушают любые категоризации? Как бы то ни было, «нарушение, чтобы существовать в качестве такового, нуждается в законе, который как раз и будет нарушен» («L’origine des genres». Ibid., p. 45). Этот закон состоит в кодификации первичных дискурсивных качеств, а именно, во введении «трансформаций, которым подвергают определенные речевые акты, чтобы создать конкретный литературный жанр» (ibid., р. 54). Таким образом одновременно сохраняется и родство между литературными жанрами и повседневной речью, и автономия литературы. Первые исследования предложенного Тодоровым понятия литературного жанра можно найти в его работе «Introduction à la littérature fantastique», Paris, Ed. du Seuil, 1970 (рус. перевод: Цв. Тодоров. Введение в фантастическую литературу. М., 1997. Перевод Б. Нарумова Перев.).
3 См. т. 1, с. 79-80.
4 Строго говоря, следовало бы назвать нарратологию наукой о повествовательных структурах, без учета различия между историческим рассказом и рассказом вымышленным. Но, согласно современному употреблению этого термина, нарратология концентрирует свое внимание на вымышленном рассказе, что не исключает и некоторых экскурсов в область историографии. Именно исходя из этого фактического разделения ролей я сравниваю здесь нарратологию и историографию.
5 Мы решили посвятить ему три исследования литературных текстов: «Mrs. Dalloway» Вирджинии Вульф, «Der Zauberberg» Томаса Манна и «В поисках утраченного времени» Марселя Пруста (см. ниже. гл. IV).
6 Моя интерпретация роли чтения в литературном опыте близка к интерпретации, предложенной Марио Вальдесом в работе «Shadows in the Cave. A Phenomenological Approach to Literary Criticism Based on Hispanic Texts», Toronto, University of Toronto Press, 1982: «In this theory, structure is completely subordinated to function and ... the discussion of function shall lead us back ultimately into the reintegration of expression and experience in the intersubjective participation of readers across time and space» [«В этой теории структура полностью подчинена функции и ... обсуждение проблемы функции приведет нас в конечном счете к реинтеграции выражения и опыта в интерсубъективном участии читателей в времени и пространства»] (р. 15). В равной мере мне близка центральная тема работы Жака Гарелли «Le Recel et la Dispersion. Essai sur le champ de lecture poétique», Paris, Gallimard, 1978.
7Термин «парадигма» выступает здесь как концепт, относящийся к сфере нарративного понимания, которым обладает компетентный читатель. Он практически синонимичен понятию правила композиции. Я избрал его в качестве общего термина, охватывающего три уровня уровень наиболее формальных принципов композиции, уровень родовых принципов (жанры трагедии, комедии и др.), наконец, уровень более специфицированных типов (греческая трагедия, кельтский эпос и пр.). Противоположностью его является единичное произведение, рассматриваемое с точки зрения его способности к инновации и к отклонению от нормы. Термин «парадигма» в этом смысле не следует смешивать с парными
166
терминами «парадигматический»/»синтагматический», которые принадлежат к области семиотической рациональности, имитирующей нарративное понимание.
8 «Время и рассказ», т. 1, с. 79-86.
9 Мы опирались здесь на работу: R.Scholes, R.Kellogg. The Nature of Narrative (Oxford University Press, 1966); авторы предварили свое исследование повествовательных категорий, в том числе понятия интриги (plot), обзором архаических, античных, средневековых и прочих повествовательных традиций, доведя свой анализ до Нового времени.
10 Курсив наш. — Перев.
11 Особенно примечателен здесь случай английского романа. См.: J. Watt. The Rise of the Novel. Studies in Defoe, Richardson and Fielding. L., Chatto and Windus, 1957, University of California Press, 1957, 1959. Автор описывает отношение между развитием романа и появлением новой читательской аудитории, а также возникновение новой потребности в выражении частного опыта. В четвертой части, оценивая место чтения в движении смысла повествовательного произведения, мы вновь вернемся к этим проблемам.
12 A. A. Mendilow. Time and the Novel. L.-N.Y., Peter Nevill, 1952; N.Y., Humanities Press, 1972.
13См.: Гегель. Феноменология духа. СПб., 1992, с. 281 (прим. перев.).
14 Робинзон Крузо, уступающий по масштабу таким персонажам, как Дон Кихот, Фауст или Дон Жуан — мифические герои современного западного человека, — может считаться предтечей героя романа воспитания: помещенный в ситуацию одиночества, не имеющую параллелей в реальной жизни, движимый только лишь заботой о пользе и критерием полезности, он становится героем исканий, в которых его постоянное одиночество действует как скрытый nemêsis (справедливая кара, греч. — Перев.) за его очевидный триумф над превратностями судьбы. Он возводит одиночество в ранг парадигмы, считая его универсальным состоянием человека. Но можно сказать, что характер здесь вовсе не освобождается от интриги; он порождает ее. Тема романа искания героя вновь вводит принцип более тонкого свойства, чем условные интриги прошлого. В этом отношении все, что отличает шедевр Дефо от простого рассказа о путешествии и приключении и вводит его в новое пространство романа, может быть приписано возникновению конфигурации, где «фабулой» неявным образом управляет ее «тема» (сошлемся здесь на перевод аристотелевского mythosкак «fable and theme» у Нортропа Фрая).
15 Такое синхронное развертывание спиралей характера и действия не является абсолютно новым подходом. Фрэнк Кермоуд в работе «The Genesis of Secrecy: On the Interpretation of Narrative» (Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1979) демонстрирует это, показывая, как усложняется — от одного Евангелия к другому характер Иуды и в соответствии с этим обогащаются деталями рассказываемые события. До него Ауэрбах уже показал в «Мимесисе», чем библейские персонажи — Авраам и апостол Петр — отличаются от персонажей Гомера: последние описаны плоско, без глубины, описание первых имеет богатый задний план, дает возможность для развития повествования.
16 Роман «В поисках утраченного времени», произведение, которое мы также исследуем ниже, может рассматриваться одновременно как роман воспитания и как роман потока сознания. См. ниже, с. 137-157.
17 От «Памелы» к «Клариссе» эпистолярные приемы становятся все изощреннее: вместо простой переписки героини с отцом, как в первом романе, в «Клариссе» происходит двойной обмен письмами: между героиней и ее подругой и героем и его другом. Параллельное развитие переписки смягчает благодаря умножению точек зрения — недостатки этого жанра. Такую тонкую эпистолярную комбинацию можно назвать интригой: здесь происходит чередование женского и мужского видения, сдержанности и словоохотливости, медленного разви-
167
тия сюжета и внезапности захватывающих эпизодов. Автор, знающий толк в своем искусстве, мог похвастаться тем, что в его произведении нет отклонений, не вытекающих из сюжета и не способствующих ему, формально это и определяет интригу.
18 Не случайно английский роман получил название novel(новый, необычный, англ. — Перев.). Мендилоу и Уотт цитируют поразительные заявления Дефо, Ричардсона и Филдинга, свидетельствующие об их уверенности в том, что они в полном смысле слова изобрели новый литературный жанр. Таким же образом и слово «оригинальное», означавшее в Средние века то, что существовало изначально, приобретает значение чего-то непроизводного, независимого, полученного из первых рук, короче, «novel or fresh in character or style» [«необычного или нового в плане характера или стиля»] (Джон Уотт).
Рассказываемая история должна стать оригинальной, с частными персонажами в частных обстоятельствах. Не будет преувеличением утверждать, что с этим доверием к простому и непосредственному языку связан упомянутый выше выбор персонажей низкого происхождения, которые, по словам Аристотеля, не хуже и не лучше нас, а похожи на нас. Следствием стремления к верности опыту можно считать отказ от традиционных интриг, черпавшийся из сокровищниц мифологии, истории и древней литературы, а также и создание персонажей без легендарного прошлого, историй вне предшествующей традиции.
19 Об этом коротком замыкании между интимным и напечатанным и проистекающей из этого поразительной иллюзии отождествления между героем и читателем см.: J.Watt. The Rise of the Novel, p. 196-197.
20В истории английского романа «Том Джонс» Филдинга занимает особое место. Долгое время ему предпочитали «Памелу» или «Клариссу» Ричардсона, поскольку в них находили более разработанную картину характеров в ущерб интриге в узком смысле слова. Современная критика признает за «Томом Джонсом» известное преимущество, поскольку в нем хорошо разработана трактовка нарративной структуры с точки зрения игры между временем, затрачиваемым на рассказ, и рассказываемым временем. Основное действие здесь относительно просто, но подразделяется на серию сравнительно независимых и разных по размеру нарративных единиц, посвященных отдельным, разделенным более или менее длинными временными интервалами эпизодам, которые сами охватывают очень разные промежутки времени: в итоге три группы, образованные из шести подгрупп, составляют восемь книг и двадцать глав. В этом романе были поставлены существенные проблемы композиции, требующие разнообразных подходов, постоянных изменений, неожиданных контрапунктов. Не случайно Филдинг проявлял больше внимания к преемственности между романом и прежними формами повествовательной традиции, чем Дефо и Ричардсон, пренебрегавшие эпосом, восходящим к Гомеру, и уподобил роман «комическому эпосу в прозе». Джон Уотт, цитирующий эту формулировку, сопоставляет ее со словами Гегеля в «Эстетике» о том, что роман является выражением духа эпоса, попавшего под влияние современного прозаического понятия реальности («The Rise of the Novel», p. 239) (см.: Гегель. Эстетика. T. 3. Μ., 1971, с. 474-475. Прим. перев.).
21 В этом смысле ни куновское понятие изменения парадигмы, ни понятие эпистемологического разрыва по Фуко не противоречат радикальным образом анализу традиции, проведенному Гадамером. Эпистемологические разрывы стали бы в прямом смысле слова незначительными (insignifiantes), если бы они не характеризовали сам стиль традиционности, уникальный способ ее самоструктурирования. Именно благодаря разрыву мы еще подвластны действенности истории (efficace de l’histoire) — Wirkungsgeschichte, по сильному выражению Гадамера, которое будет обсуждаться в четвертой части. (Этот термин Гадамера означает скорее «история влияния произведения (текста)». Прим. ред.)
168
22 N. Frye. The Anatomy of Criticism. Four Essays. Princeton University Press, 1957.Французскийперевод осуществленГи Дюраном: «L’anatomie de la Critique». Paris, Gallimard, 1977. (Перевод фрагмента из этой работы см.: Н. Фрай. Анатомия критики. В кн.: «Зарубежная эстетика и теория литературы XIX-XXвв.» М., 1987, перевод А. С. Козлова и В. Т. Олейника. Прим. перев.)
23 «Anatomy of Criticism or the order of Paradigms». In: «Center and Labyrinth. Essays in Honour of Northrop Frye». Toronto, Buffalo, London. University of Toronto Press, 983, p. 1-13.
24Параллелизммежду модусамивымысла и тематическими модусамиобеспечиваетсясвязью между mythos и dianoia в «Поэтике» Аристотеля, дополненнойтрактатомЛонгина «О возвышенном». «Fable and theme», взятые вместе, составляют рассказанную историю (story), a dianoia означает «the point of the story» «суть рассказанной истории»].
25 Н. Фрай. Анатомия критики, с. 248-249 (прим. перев.).
26 Там же, с. 241-242, 246. Прим. перев.
27 В связи с этим реалистический роман можно обвинить в смешении символа и знака. Романная иллюзия, по крайней мере вначале, рождается из слияния двух исходно разнородных намерений: создания автономной вербальной структуры и изображения реальной жизни.
28 H. de Lubac. Exégèse médiévale. Les quatres sens de l’Ecriture. Paris, Aubier, 5 vol., 1959-1962.
29Моя попытка лишь абстрактно разделить конфигурацию и рефигурацию основана на концепции, близкой концепции фаз развития символа, предложенной Нортропом Фраем. Действительно, рефигурация во многих отношениях это воссоздание на уровне мимесис-III особенностей мира действия, предпонятых на уровне мимесис-Ι, посредством их нарративной конфигурации (мимесис-II), 1наче говоря, посредством «модусов вымысла» и «тематических модусов» Нортропа Фрая.
30 «Поэмы создаются на основе других поэм, романы — на основе других романов. Литератураконфигурируетсаму себя» («Poetry can only be made out of other poems, novels out of other novels. Literature shapes itself...») (p. 97, фр. пер., p. 100).
31В этом смысле архетипическая критика в принципе не отличается от критики, которая представлена Башляром в теории «материального» воображения, согласующегося с «элементами» природы водой, воздухом, землей, огнем, — метаморфозу которых в языковой среде прослеживает Фрай; она сходна и с методом, каким Мирча Элиаде располагает священнодействия в определенном порядке сообразно космическим измерениям неба, воды, жизни и т.д., с которыми неизменно связаны вербальные или запечатленные в письменной форме ритуалы. Для Нортропа Фрая поэма в ее архетипической фазе тоже подражает природе как циклическому процессу, нашедшему выражение в ритуалах (р. 178). Но в таком случае именно цивилизация осознает себя в этой попытке извлечь из природы «целостную человеческую форму».
32 Рассмотренная под углом зрения главного символа символа Апокалипсиса, мифика четырех времен года, в которую без труда встраивается этот символ, окончательно утрачивает всякий натуралистический характер. В архетипической фазе символа природа еще предстает как то, что содержит в себе человека. В анагогической фазе уже именно человек включает в себя природу под знаком бесконечно Желанного.
33 В процитированном выше эссе я обсуждаю попытку Нортропа Фрая сопоставить нарративные модусы с мифами о Весне, Лете, Осени и Зиме.
34 «Когда искусство Данте или Шекспира достигает своих вершин, как в “Буре”, у нас создается впечатление, что мы вот-вот постигнем предмет и основание всего нашего опыта, что мы проникли в абсолютно спокойный центр вербального порядка (into the still center of the order of words)» [p. 117] (p. 146).
169
35Нортроп Фрай пишет: «The conception of a total Word is the postulate that there is such a thing as an order of words...» [«Концепция тотального Слова — это постулат, согласно которому существует нечто такое, как вербальный порядок»] [р. 126] (р. 156), но было бы большим заблуждением услышать в этой формуле отголосок теологии. Сточки зрения Нортропа Фрая, религия слишком обращена к тому, что существует, а литература — к тому, что может существовать, а потому смешение литературы и религии невозможно. Культура и литература, которая служит ее выражением, обретают автономию именно в модусе воображаемого. Это напряжение между возможным и действительным не позволяет Нортропу Фраю придать понятию вымысла ту широту и всеобъемлющую власть, какие приписал ему Фрэнк Кермоуд в произведении, которое мы вскоре обсудим и где Апокалипсис занимает место, сопоставимое с тем, какое отвел ему Нортроп Фрай в своей архетипической критике (третий очерк).
36 J. Kucich. Action in the Dickens Ending: Bleak House and Breat Expectation. «Narrative Endings», специальныйномер «XIXth Century Fiction», University of California Press, 1978, p. 88. «Ударными» автор называет концовки, где произведенный разрыв влечет за собой особого рода деятельность, которую Жорж Батай характеризует как «затраты» (dépense). Кроме того, автор ссылается на работы Кеннета Бёрка, главным образом на «А Grammar of Motives» (New York, Brasilier, 1955; Berkeley, University of California Press, 1969) и «Language as Symbolic Action. Essays of Life, Literature and Method» (Berkeley, University of California Press, 1966). ЗапомнимпоследнеезамечаниеКасича: «In all crucials endings, the means of causing that gap to appear is the end» [«Во всех ударныхконцовкахсредством, с помощью которогосоздаетсяэтот разрыв, являетсясам конец»] (op. cit, р. 109).
37 J. Hillis Miller. The Problematic of Ending in Narrative. — «Narrative Endings». Здесь автор заявляет: «No narration can show either its beginning nor its ending» [«Ни в одном из повествований нет явных признаков начала и конца»] (р. 4). И еще: «The aporia of ending arises from the fact that it is impossible even to tell whether a given narrative is complete» [«Апория конца вытекаетиз того, что невозможно сказать, завершенлирассказ»] (р. 5). Правда, автор ссылается на отношение между завязкой (dësis) и развязкой (lusis) в «Поэтике» Аристотеля и с блеском умножает число апорий, связанных с завязкой интриги. Но место этого текста в «Поэтике» Аристотеля вызывает споры, поскольку операции завязки и развязки не подчиняются критерию начала и конца, четко определенному в канонической главе «Поэтики», где речь идет об интриге. Рассказанные эпизоды (incidents) могут не иметь конца, и в жизни действительно так бывает; но рассказ как mythos конечен. То, что происходит после финала, несущественно для конфигурации поэмы. Поэтому и возникает проблема удачного окончания и, как мы скажем далее, анти-окончания.
38 Одно из многочисленных достоинств работы Барбары Хернистейн Смит «Poetic Closure. A Study of How Poems End» (The University of Chicago Press, 1968) заключается в том, что она дает теории повествования не только замечательную модель анализа, но и точные указания по распространению на «poetic closure» [«завершение литературного произведения»] в целом ее замечаний, касающихся «lyric closure» [«завершения стихотворения»]. Этот перенос легко оправдывается: и там и тут имеются в виду произведения, которые выделяются на фоне информационных обменов (transactions) обыденной речи, прерывая их. Кроме того, в обоих случаях имеются в виду произведения миметические — в том особом смысле, что они подражают повседневным «актам высказывания»: аргументу, заявлению, плачу и т.д., то есть литературный рассказ имитирует не только действие, но и обычный рассказ, рассматриваемый с точки зрения обмена информацией в повседневной жизни.
39 Барбара Херннстейн Смит говорит в связи с этим о «self-closural reference» [«самозавершающей референции»] («Poetic Closure», p. 172), поскольку произведение
170
своим способом завершения или не-завершения производит референцию к самому себе.
40 Барбара Хернистейн Смит различает anti-closure [анти-окончание], которое еще сохраняет связь с необходимостью завершения, благодаря тому, что прилагает рефлексивные средства языка к тематической незавершенности произведения и использует все более изощренные формы окончания, и beyond closure [по ту сторону окончания]. Anti-closure и его техники языкового «саботажа» позволяют сказать: «Если предатель язык — не может быть изгнан, его можно разоружить и взять в плен» (р 254). В случае beyond closure следует сказать: «Предатель-язык был здесь поставлен на колени: он был не только обезоружен, но и обезглавлен» (р. 266). От этого шага автора удерживает убеждение, что поэтический язык, как подражание utterance [высказыванию, говорению], не может избежать напряжения между языком литературным и не-литературным. Когда, например, случайность замещает обдуманную неожиданность, когда конкретное стихотворение предназначается не для прочтения, а лишь для разглядывания, тогда критик сталкивается с устрашающим сообщением, гласящим: «Здесь нужно оставить весь лингвистический багаж» (р. 267). Но искусство не может порвать с ужасным институтом языка. Вот почему последнее его слово гласит: «Yet... however» (мы прочтем это у Фрэнка Кермоуда, размышляющего о сопротивлении парадигм разрушению): «poetry ends in many ways, but poetry, I think, has not yet ended» [«стихотворение можно закончить по-разному, но говорить о конце поэзии, я думаю, пока еще рано»] (р. 271).
41 Аллюзия на пари, предложенное Паскалем в «Мыслях» по поводу веры и неверия (прим. перев.).
42 F. Kermode. The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction. London, Oxford, New York, Oxford University Press, 1966.
43 Я отсылаюкпоясняющимзамечаниямФрэнка Кермоудаоб Aevum, вечном, всегдашнем. Автор усматривает в трагическом времени «третий род длительности» («The Sense of an Ending», p. 70) — между временем и вечностью: в нем средневековая теория размещала ангелов. В четвертой части книги я сопоставлю эти временны́е качества с другими чертами повествовательного времени, свидетельствующими о его освобождении от простой линейной последовательности.
44 «...так чтоб одним ударом / Все завершалось и кончалось здесь, / Вот здесь, на этой отмели времен». В. Шекспир. Макбет, пер. М.Л. Лозинского (прим. перев.) Фрэнк Кермоуд правомерно сближает этот ужасный разрыв времен в «Макбете» с августиновским distentio, каким пережил его автор «Исповеди» в опыте постоянно отсрочиваемого обращения: «Когда? Когда? Завтра, вечно завтра» (Quamdiu, Quamdiu, «eras et eras», VIII, 12, 28). Но в «Макбете» эта квази-вечность откладываемого решения являет собой антитезу терпению Христа, ожидающего в Гефсиманском саду своего kairos— «a significant season» [«решающего момента»] (р. 46). Эта оппозиция chronos линейного времени и kairos времени вечности отсылает к теме четвертой части нашей книги.
45 «Меж совершеньем столь ужасных дел / И помышленьем первым промежуток / Ужасен, как виденье иль кошмар...» В. Шекспир. Юлий Цезарь. Акт II, сцена 1. Перевод А. Величанского (прим. перев).
46 Показательно, что автор так настойчиво подчеркивает этот момент (р. 25, 27, 28, 30, 38, 42, 49, 55, 61 и особенно 82 и 89).
47 В четвертом очерке Кермоуда, «The Modem Apocalypse», описывается и обсуждается претензия нашей эпохи на исключительность, свойственное ей убеждение в том, что мы вступили в пору постоянного кризиса. Обсуждается и парадокс, связанный с так называемой «традицией Нового» (Харольд Розенберг). По поводу современного романа я могу заметить, что проблема конца парадигм ставится в нем с позиции, противоположной той, которая была характерна для начального этапа романа. Поначалу убедительность реалистического воспроизведения
171
маскировала неубедительность романной композиции. В современном романе неубедительность, разоблачаемая уверенностью в бесформенности реального, обращается против самой идеи упорядоченной композиции. Письмо становится проблемой для самого себя и выявляет собственную невозможность.
48 «Crisis, however facile the conception, is inescapably a central element in our endeavors towards making sense of our world» [«Понятие кризиса, сколь бы упрощенной ни была эта концепция, с необходимостью является основным элементом в нашем стремлении осмыслить мир»] (р. 94).
49 Я сошлюсь здесь на страницы работы Фрэнка Кермоуда, посвященные Роб-Грийе и лабиринтному письму (р. 19-24). Кермоуд справедливо подчеркивает, что повествовательная техника Сартра и Камю, продемонстрированная в «Тошноте» и «Постороннем», сыграла роль посредника на пути раскола, за который ратовал Роб-Грийе.
50 Выражение «the consoling plot» [«утешающая интрига»] (р. 31) становится квази-плеоназмом. Здесь не менее важно, чем влияние Ницше, влияние поэта Уоллеса Стивенса, особенно последнего раздела его «Notes toward a Supreme Fiction».
51 Отсюда и многозначность самого понятия Ending, окончание. Конец — это и конец мира, Апокалипсис; конец Книги книга Апокалипсиса; бесконечный конец Кризиса: миф о конце века; конец традиции парадигм: раскол; невозможность завершить произведение: неоконченное произведение; наконец, смерть: конец желания. Эта многозначность объясняет иронический оттенок неопределенного артикля в «The Sense of an Ending». С концом невозможно покончить: «The imagination, — говорит поэт Уоллес Стивенс, is always at the end of an era» [«Фантазия всегда разыгрывается под конец какой-либо эпохи»] (р. 31).
52 Возможен и другой путь изучения отношения между расколотым мифом и вымыслом; он связан с функцией замещения, осуществляемого литературным вымыслом в отношении сказаний, столь авторитетных в прошлом в нашей культуре. Тогда возникает подозрение иного рода, подозрение в том, что вымысел узурпировал авторитет основополагающих сказаний и это злоупотребление властью приводит, в свою очередь, по выражению Эдварда У. Сейда, к эффекту самобичевания (molestation), если понимать под этим травму, которую наносит себе писатель, осознавая иллюзорный и узурпированный характер своего авторского (auctor) авторитета, способного не только влиять, но и подчинять себе читателя («Beginnings: Intention and Method». Baltimore. London, The Johns Hopkins University Press, 1975, p. 83-84 и сл.); детальный анализпарыавторитет-самобичеваниесм. в: «Molestation and Authority in Narrative Fiction». — «Aspects of Narrative». J.Hillis Miller, New York, Columbia University Press, 1971, p. 47-68.
53Следует подчеркнуть, что здесь потерпело фиаско чисто биологическое или психологическое оправдание стремления к согласию, хотя это стремление и находит опору в гештальт-теории, как мы видели у Барбары Херннстейн Смит; Фрэнк Кермоуд тоже наводит на эту мысль своими словами о тиканье часов: «Мы спрашиваем, что они говорят, и соглашаемся, что они говорят “тик-так”. Этим вымыслом мы их очеловечиваем, заставляем их говорить на нашем языке... “тик” это неприметное бытие, “так” это слабый апокалипсис, а “тик-так” — это, во всяком случае, уже почти интрига». Биологические и перцептивные ритмы безжалостно отсылают нас к языку: как только мы заставляем часы говорить, тут же появляется дополнение в виде интриги и вымысла, а с этим дополнением приходит и «время романиста» (р. 46).
54 «И все же, ясное дело, это преувеличение. В действительности парадигмы так или иначе продолжают существовать. Если было время, когда, по выражению Стивенса, “была воздвигнута декорация”, следует признать, что она еще не убрана окончательно и бесповоротно. Сохранение парадигм в той же мере есть наше дело, что и их разрушение».
172
55 I. Lotman. La Structure du texte artistique. P., Gallimard, 1973. (Мы далее приводим цитаты по изданию: Ю. Лотман. Структура художественного текста. М., 1970. Перев.). Автор дает чисто структурное решение проблемы постоянства форм согласия. Нарисуем вместе с ним серию концентрических кругов, последовательно охватывающих круг «сюжета», т. е. интриги, центром которого является, в свою очередь, понятие события. Мы исходим из самого общего определения языка: под ним следует понимать «всякую коммуникационную систему, пользующуюся знаками, упорядоченными особым образом» (с. 14). Таким образом мы получаем понятие текста как последовательности знаков, трансформируемых в единый знак посредством специальных правил; мы переходим затем к понятию искусства как «вторичной моделирующей системы» и вербального искусства, или литературы, как одной из этих вторичных систем, надстраивающихся над системой естественных языков. Прослеживая эту цепочку определений, мы видим, как постепенно уточняется принцип разграничения, то есть включений и невключений, присущий понятию текста. Маркированный границей, текст трансформируется в некое целостное единство сигналов. Отсюда недалеко до понятия конца: оно вводится понятием рамки, общим для живописи, театра (огни рампы, занавес), архитектуры и скульптуры. В известном смысле начало и конец интриги лишь уточняют понятие рамки применительно к понятию текста: нет интриги без рамки, то есть «границы, отделяющей художественный текст от нетекста» (с. 255). Благодаря понятию рамки, рассматриваемой с точки зрения скорее пространственной, чем временно́й, создается представление о художественном тексте как о «некоторым образом отграниченном пространстве, отображающем в своей конечности бесконечный объект — внешний по отношению к произведению мир» (с. 265). (Мы вспомним это понятие конечной модели бесконечного мира (с. 256), когда займемся в главе IV понятием мира текста.) Понятие события представляет собой, таким образом, центр этой игры в кольца (с. 280 сл.). Ключевое определение, делающее из события точное понятие и одновременно четко выделяющее «сюжет» (интригу) среди всевозможных временных рамок, достаточно неожиданно и не имеет аналогов в литературной теории. Лотман рисует вначале картину того, чем был бы текст без интриги и событий: это была бы чисто классификационная система, простой перечень (к примеру, перечень мест, как на географической карте); с точки зрения культуры это была бы застывшая система семантических полей (упорядоченных поразительным образом бинарно: богатый-бедный, благородный-низкий и т.д.). Когда же там появляется событие? «Событием в тексте является перемещение персонажа через границу семантического поля» (с. 282). Значит, необходим застывший образ мира, чтобы кто-то мог преодолеть его барьеры и внутренние запреты: событие и есть это пересечение, это преодоление. Поэтому «сюжетный текст строится на основе бессюжетного текста как его отрицание» (с. 287). Разве это не превосходный комментарий к peripeteia Аристотеля и несогласию Кермоуда? И можно ли представить себе культуру без четко определенного семантического поля и пересечения границы?
56 W. Benjamin. Der Erzähler. Betrachtungen zum Werk Nicolaj Lesskows (1936). In: «Illuminationen». Frankfurt a/M., Suhrkamp, 1969, S. 409-436; фр. пер. Мориса де Гандийяка: «Le Narrateur». In: «Poésie et Révolution». Paris, Denoël,
1971, p. 139-169.
57БарбараХерннстейнСмит и ФрэнкКермоудпридерживаютсяединого мнения поэтомувопросу: «Poetry ends in many ways, but poetry, I think, has not yet ended», — пишет ХеррнстейнСмит (op. cit., p. 271). «The paradigms survive, somehow... The survival of paradigms is as much our business as their erosion», — пишет Кермоуд (op. cit., p. 43).
58 R. Barthes. Introduction à l’analyse structurale des récits. «Communications», 8, 1966; перепечатанов: «Poétique du récit». Paris, Ed. du Seuil, 1977. (Мы опираем-
173
ся далее на издание: Р. Барт. Введение в структурный анализ повествовательных текстов. В кн.: «Зарубежная эстетика и теория литературы ΧΙΧ-ΧΧ вв.» М., 1987, перевод Г.К. Косикова. — Прим. перев.)
59 R. Barthes. Les niveaux de sens. — «Poétique du récit», p. 14. Говоря о предполагаемой гомологии между языком и литературой, Тодоров цитирует фразу Валери: «Литература является и не может быть ничем иным, как своего рода расширением и приложением определенных свойств языка» («Langage et Littérature. «Poétique de la prose», Paris, Seuil, 1971, p. 32). Поэтому стилистические средства (среди прочего — риторические фигуры) и средства организации рассказа, кардинальная роль понятий смысла и интерпретации также представляют собой формы проявления лингвистических категорий в литературном повествовании (ibid., р. 32-41). Гомология уточняется, когда мы пытаемся приложить к рассказу грамматические категории имени собственного, глагола и прилагательного, чтобы описать агента-субъекта и действие-предикат, как и состояние равновесия или неравновесия. Таким образом, грамматика рассказа возможна. Но мы запомним на будущее, что эти грамматические категории легче будет понять, если нам известны их проявления в повествовании. См.: Todorov. La grammaire du récit. — «Poétique de la prose», p. 118-128). Подчеркну, что грамматика рассказа проявляет свою оригинальность по отношению к грамматике языка, когда мы переходим от предложения (или фразы) к высшему синтаксическому единству (или последовательности) (ibid., р. 126). Именно на этом уровне грамматика рассказа могла бы стать вровень с операцией построения интриги.
60 «Les catégories du récit littéraire». «Poétique de la prose», p. 131-157. Мне показалось, что это различение лучше обсудить в следующей главе.
61 См. ниже. с. 41 и далее.
62 Ролан Барт вновь обнаруживает здесь проведенное Бенвенистом различение между формой, продуцирующей единицы путем сегментации, и смыслом, сочетающим эти единицы в единицы высшего порядка.
63 Это требование удовлетворил, дойдя до его отдаленных последствий, Клод Леви-Стросс в «Мифологиках». Читатели «Структурной антропологии» не забыли предложенный в этой работе очерк о «структуре мифов» и структурный анализ мифа об Эдипе («The Structural Study of Myth». — «Journal of American Folklore», vol. LXVHI, № 270, Х-ХII, p. 418-444; перепечатано в сб.: «Myth. A symposium». Bloomington, 1958, p. 50-66; см. французский вариант (с некоторыми добавлениями) под названием «Структура мифа» («La structure des mythes». — «Anthropologie structurale», Paris, Plon, 1958, p. 227-255); см. того же автора, «La Geste d’Asdiwal», Paris, EPHE, p. 2-43. Как известно, событийное развитие мифа там упраздняется ради комбинаторного закона, объединяющего друг с другом не временны́е фазы, а то, что автор называет связками отношений, таких как переоценка кровнородственных отношений, противопоставленная их недооценке, отношение зависимости от почвы (автохтонность), поставленное в оппозицию освобождению от земли. Структурный закон мифа станет логической матрицей решения этих противоречий. Мы воздерживаемся здесь от всякого вторжения в область мифологии и возводим начало вымышленного рассказа к эпосу, отвлекаясь от преемственности и зависимости эпоса по отношению к мифу. Мы сохраним то же ограничение, когда коснемся в четвертой части — в связи с календарем — проблемы отношений между историческим и мифологическим временем.
64 Моника Шнайдер, у которой я позаимствовал это важное замечание («Le temps du conte». «Narrativité», Paris, Ed. du CNRS, 1979, p. 85-87), указывает на трансформацию во всецело умопостигаемый объект качеств «волшебного», которыми сказка обязана своему встраиванию в предшествующую практику инициации, и намеревается «пробудить силы, позволяющие сказке сопротивляться пленению логикой» (ibid.). Я же буду ориентироваться не на эти возмож-
174
ности, связанные с «волшебным» характером сказки, а на средства интеллигибельности, которыми сказка уже располагает как предшествующее творение культуры.
65 В работе «Введение в структурный анализ повествовательных текстов» Ролан Барт заявлял: «Современные аналитики стремятся “дехронологизировать” и взамен этого “догизировать” повествовательный континуум, пронизать его “первородными молниями логики”, как выражался Малларме применительно к французскому языку» (с. 402). Он добавляет по поводу времени: «Задача должна состоять в том, чтобы дать структурное описание хронологической иллюзии; повествовательное время должно быть выведено из повествовательной логики» (там же). Для Барта периода «Введения» повествовательное время в той же мере становится «хронологической иллюзией», в какой аналитическая рациональность занимает место нарративного понимания. Собственно говоря, обсуждение этого тезиса заставляет нас выйти за рамки мимесис-ΙI: «Время принадлежит не дискурсу как таковому, а плану рефереции; повествование, как и язык, знает только семиологическое время: как показывает работа Проппа, “подлинное” время это всего лишь референтная, “реалистическая”, иллюзия, и именно в таком качестве оно должно быть предметом структурного описания» (там же). Мы обсудим эту так называемую референтную (référentielle) иллюзию в четвертой части. Все наши рассуждения в данной главе касаются того, что сам Ролан Барт называет семиологическим временем.
66 Напомним о проиллюстрированных нами на примере Ле Гоффа сомнениях историка по поводу принятия словаря синхронии и диахронии: см.: т. 1, с. 250-251.
67 В. Я. Пропп. Морфология сказки. — «Вопросы поэтики», вып. XII, Ленинград, Государственный институт истории искусства, 1928; англ, пер.: «Morphology of the Folktale». 1-е изд.: Indiana University Research Center in Anthropology, Folklore, and Linguistics, Publ. 10, Bloomington, 1958; второе, переработанное издание выпущено с предисловием Lois A.Wagner, новое введение: A. Dundes; Austin-London, University of Texas Press, 1968. Французский перевод (Paris, Ed. du Seuil, 1965 и 1970) сделан по второму русскому изданию, исправленному и дополненному: М., Наука, 1969 (далее цитаты даются по этому изданию. — Прим. перев.); сюда вошел также перевод статьи Проппа 1928 года «Трансформация волшебных сказок», который можно также прочесть в сборнике текстов русских формалистов, собранных Цветаном Тодоровым: «Théorie de la littérature. Textes des formalistes russes». Paris, Ed. du Seuil, 1966. Труд Проппа, который мы принимаем здесь за исходный пункт своего собственного движения, представляет собой один из ключевых моментов в литературоведческом течении, известном под названием русского формализма (1915-1930). Цветан Тодоров обобщает основные методологические достижения русских формалистов и сравнивает их с достижениями лингвистики шестидесятых годов; см.: «L’héritage méthodologique du formalisme». — «Poétique de la prose», p. 9-29. Сохраним в памяти на будущее понятия литературности, имманентной системы, уровня организации, различительной черты (или знака), мотива и функции, типологической классификации, а главное — понятие трансформации, к которому мы вернемся далее.
Клод Леви-Стросс в работе «La structure et la forme, réflexions sur un ouvrage de Vladimir Propp» («Cahiers de l’Institut de science économique appliquée», série M, № 7, 1960, p. 1-36; перепечатано в: «International journal of Slavic Poetics and Linguistics», vol. 3, La Haye, 1960, p. 122-149, под названием: «L’analyse morphologique des contes russes»), проводит четкое различение между формалистским подходом Проппа и своим собственным структуралистским подходом: «Форма, говорит он, — определяется через внешнее ей содержание; но у структуры нет содержания: она и есть само содержание, схваченное в логической организации как свойство реальности». Леви-Стросс находит подтверждение этого
175
основного различения в абстрактности единой формы русской сказки, которая вынуждает реинтегрировать разнообразные содержания в качестве видов и подвидов функций, как мы видели в случае функции измены и двух десятков ее подразделений; содержание, конечно, реинтегрируется, но как внешнее для формы, которая единственно и определяется по чисто морфологическим критериям. «Формализм, — уверяет Леви-Стросс, — уничтожает свой объект». В работе «Жест Асдиваля», напротив, логическим путем реконструируются сами содержания, о которых идет речь. Но за это приходится платить огромную цену: хронологическая последовательность поглощается вневременной матричной структурой; и перестановка функций является теперь только одним из способов их перемещения (посредством вертикальных колонок или их групп). Упразднение хронологии становится, таким образом, важнейшим симптомом перехода от анализа просто морфологического к анализу структурному.
68 Стремление Проппа стать Линнеем волшебной сказки выражено вполне отчетливо (с. 14, 17). Оба ученых действительно преследуют одну и ту же цель: открыть «чудесное единообразие», таящееся «в лабиринте сказочного многообразия» (Предисловие, с. 7-8). Метод у обоих также один и тот же: подчинение исторического подхода структурному (с. 21-22), «мотивов», то есть тематического содержания, формальным чертам (с. 12).
69 В книге имеется не менее пяти эпиграфов из Гёте.
70 Во французском переводе: «в развертывании интриги» («dans le déroulement de l’intrigue». — Прим. перев.
71Это число полностью сопоставимо с числом фонем в фонологической системе.
72 Такое ограничение поля исследования объясняет крайнюю осторожность Проппа по отношению ко всякой экстраполяции за пределы русской сказки. Внутри самой этой области свобода творчества строго ограничена необходимостью последовательности функций в однолинейной серии. Рассказчик волен опускать функции, выбирать ту или иную разновидность внутри рода действий, определенного функцией, приписывать тот или другой атрибут своим персонажам, наконец, выбирать в сокровищнице языка собственные средства выражения.
73См. в кн.: М.Mauss. Sociologie et anthropologie. Paris, 1950 (прим. перев.).
74Схема может служить единицей измерения для отдельных сказок, безусловно, потому, что волшебная сказка не ставит проблемы отклонения от нормы, как это делает современный роман. Если воспользоваться словарем предыдущей главы, где речь шла о традиционности, то можно сказать, что в народной сказке наблюдается тенденция к совпадению между парадигмой и единичным произведением. Возможно, именно поэтому волшебная сказка предоставляет столь плодотворную почву для изучения нарративных ограничений, ведь проблема «правилосообразных деформаций» сводится здесь к пропуску некоторых функций или к спецификации родовых черт, которыми определяется функция.
75 Фактически Пропп ставит во главу угла в определении всякой функции повествовательное предложение, выводящее на сцену по крайней мере один персонаж. Эта особенность, как мы увидим, приведет Клода Бремона к его определению «роли» как соединения актанта и действия. Но Пропп уже в начале своей работы написал: «Под функцией понимается поступок действующего лица, определяемый с точки зрения его значимости для хода действия» (с. 25).
76 Фрэнк Кермоуд продемонстрировал это в работе «The Genesis of Secrecy. On the Interpretation of Narrative», p. 75-99: при переходе от одного Евангелия к другому видно, как персонажи Петр и Иуда уточняются по мере того, как обрастают подробностями связанные с ними эпизоды в последовательных повествованиях о Страстях Господних.
176
77 Годится ли французский термин séquenceдля перевода русского термина ход?
Отмечу, что английский переводчик пишет: «This type of development is termed by us a move (ход): each new act of villainy, each new lack creates a new move и т.д.» (англ. пер. Х р. 92). Английский переводчик приберег термин sequence для обозначения того, что во французском переводе названо «порядком» (ordre), то есть единообразной последовательности функций (франц. перев., р. 31, англ. — р. 21). \
78 Продолжение главы посвящено различным способам, которыми сказка связывает между собой ходы, приемам сложения, прерывания, переплетения и др. (с. 84-85).
79 Мы исключали из критического анализа все, что касается вклада «Морфологии сказки» в Историю жанра «волшебной сказки». Выше было показано, сколь тщательно Пропп (будучи близок в этом вопросе к соссюровской лингвистике) подчиняет историю описанию. Пропп не изменяет своей исходной установке и в заключительной главе. Он решается, самое большее, намекнуть на родственную связь между религией и сказками: «...умирает быт, умирает религия, а содержание ее превращается в сказку» (с. 96). Поиски, столь характерные для сказки, могут отражать собой «представления о странствовании души в загробном мире» (с. 96-97). Это замечание может пригодиться, если принять во внимание, что сказка, в свою очередь, форма угасающая: «Сейчас новообразований нет» (с. 104). Если это действительно так, не является ли благоприятным для структурного анализа тот момент, когда определенный творческий процесс иссякает?
80С. Bremond. Le message narratif. «Communications», 4, 1964; перепечатанов: «Logique du récit», Paris, Seuil, 1973, p. 11-47 и 131-134.
81См. об этом также: К. Бремон. Логика повествовательных возможностей. В кн.: «Семиотика и искусствометрия». М., 1972. Перевод Н. Л. Разгон. — Прим. перев.
82 Так, последовательная связь осуществляется путем простого «присоединения» (недоброжелательность, вредительство и т.д.), или «вставки» (как испытание в поиске), или параллелизма между двумя независимыми рядами. Что касается синтаксических связей, лежащих в основе этих сложных цепей, они очень разнообразны: чистая последовательность, каузальная связь, влияние, отношение средства и цели.
83 О корреляции агенс-пациенс см.: «Logique du récit», p. 145.
84Отметим сразу, что эта первая дихотомия, как представляется, аналитически заключена в понятии роли, поскольку роль связывает субъект-существительное и глагол-предикат. Этого не наблюдается в дальнейших спецификациях.
85 A. Danto. Analytical Philosophy of Action. Cambridge University Press, 1973. A. I. Goldman. A Theory of Human Action. Englewood Cliffs, N.J., Prentice-Hall, 1970.
86Бремон прилагает понятие «правильной формы» к типической последовательности Проппа (р. 38).
87См.: Tz. Todorov. La grammaire du récit. In: «Poétique de la prose». Paris, Ed. du Seuil,
1971, p. 118-128. Повествовательное предложение образуется путем соединения имени собственного (грамматический субъект, лишенный внутренних свойств) и двух типов предикатов: один из них описывает состояние равновесия или неравновесия (прилагательное), другой переход от одного состояния к другому (глагол). Формальные единицы рассказа соответствуют, таким образом, частям речи (существительному, прилагательному, глаголу). Правда, за пределами предложения синтаксические единицы, соответствующие последовательности, свидетельствуют, «что не существует лингвистической теории дискурса» (р. 125). Тем самым признается, что минимальная полная интрига, состоящая в высказывании о равновесии, затем о преобразующем действии и, наконец, в высказывании о возможном новом равновесии, связана с особой грамматикой, прилагаемой к правилам нарративных трансформаций (см.: «Les transformations narratives», ibid., p. 225-240).
177
88 «...После того, как наш анализ разложил интригу на ее составные элементы, роли, остается применить противоположный и дополняющий подход, осуществляющий их синтез в интригу» (р. 136).
89 На вопрос: «Возможна ли другая, столь же удовлетворительная или лучшая система ролей?» — автор отвечает: «Мы должны доказать, что логика ролей, которую мы используем, необходима всегда и везде как единственный принцип связной организации событий в интриге» (р. 327). Говоря о метафизике способностей человеческого существа, на которой базируется эта система, он добавляет: «Быть может, сама повествовательная деятельность навязывает нам категории как условия оформления рассказываемого опыта» (р. 327).
90 Автор предпочитает другое выражение: «Опора на метафизику человеческих способностей с целью организации мира ролей ... — самое существенное в нашем подходе» (р. 314). Действительно, именно метафизика руководила конституированием элементарной последовательности: возможность, актуализация, достигнутая цель. Именно она учит нас, что мы можем быть пациентом или агенсом всякого изменения. Поэтому не удивительно, что она и определяет понятия оценки, влияния, инициативы, воздаяния. Помимо того, она управляет последующим конституированием синтаксических связей, мимоходом упомянутых выше: это отношение простой координации между последовательными движениями, отношение причины к следствию, средства к цели, отношение импликации (ухудшение предполагает возможность защиты, провинность возможность наказания). Автор отстаивает, впрочем, право обращения к естественному языку с целью «передать интуитивное ощущение логической организации ролей в рассказе» (р. 30).
91 A. J. Greimas. Du Sens. Paris, Seuil, 1970. Теоретическое ядро этой работы образуют два очерка: «Игры семиотических ограничений» (он написан в соавторстве с Франсуа Растье, вышел вначале на английском языке в «Yale French Studies», 1968, № 41, под названием «The Interaction of Semiotic Constraints»), и «Элементы нарративной грамматики» (опубликован в «L’Homme», 1969, IX, 3). Обеработы перепечатаны в «Du Sens», р. 135-186.
92 «Maupassant: la sémiotique du texte, exercices pratiques». Paris, Seuil, 1976. Cm., кроме того: «Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du language», всоавторствес Ж. Курте (Paris, Hachette, 1979). (См. русский перевод: А. Греймас, Ж.Курте. Семиотический объяснительный словарь. Веб.: «Семиотика». М., 1983. Перевод В.П. Мурат. Прим. перев.) Когда наша работа была завершена, вышла в свет книга: A.J. Greimas. Du Sens II. Paris, Ed. du Seuil, 1983.
93 A. J. Greimas. Sémantique structurale. Paris, Larousse, 1966.
94«Испытание может рассматриваться как неразложимое ядро, дающее объяснение определению рассказа в диахронии» (р. 205).
95 Греймас направляет это рассуждение против трактовки Проппом всей цепи как жесткой последовательности, тогда как испытание представляет собой определенное проявление свободы. Но разве нельзя повернуть тот же аргумент против любого конструирования парадигматической модели без исходного диахронического измерения? Греймас охотно с этим соглашается: «Любой рассказ можно было бы свести к этой простой структуре, если бы не оставалось диахронического осадка в форме функциональной пары: состязание-успех, — осадка, не поддающегося трансформации в элементарную семическую категорию» (р. 205).
96 В этом же смысле: «Альтернатива, которую вводит рассказ, это выбор между свободой индивида (то есть отсутствием договора) и принятым социальным договором» (р. 210).
97 «Следовательно, именно борьба — единственная функциональная пара, не поддающаяся анализу с точки зрения ахронических структур, ... должна объяснить саму трансформацию» (р. 211).
178
98 Этот тезис находит определенную опору в употреблении Тодоровым понятия нарративной трансформации («Les transformations narratives». — In: «Poétique de la prose»). Его преимущество состоит в комбинировании парадигматической точки зрения Леви-Стросса и Греймаса с синтагматической точкой зрения Проппа: помимо других последствий, нарративная трансформация усиливает предикаты действия (действовать), идя от модальностей (долженствовать, быть способным действовать) к отношениям (действовать с удовольствием). Кроме того, она делает возможным рассказ, осуществляя переход от предиката действия к последовательности как синтезу различия и сходства. Короче, «она соединяет два факта, не отождествляя их» (ibid., р. 239). Этот синтез, на мой взгляд, есть не что иное, как синтез, который был уже произведен и понят как синтез разнородного в плане нарративного понимания. Я согласен с Тодоровым также и тогда, когда он противопоставляет трансформацию следованию («Les deux principes du récit». In: «Genres du discours»). Конечно, понятие трансформации, как представляется, должно быть отнесено к нарратологической рациональности, в отличие от моего понятия конфигурации, которое, мне кажется, принадлежит сфере нарративного понимания. В строгом смысле слова о трансформации можно говорить лишь тогда, когда ей дается логическая формулировка. Но в той мере, в какой рассказ отводит место другим трансформациям, помимо отрицания (от которого зависят дизъюнкция и конъюнкция), например переходу от незнания к узнаванию, новой интерпретации уже происшедших событий, подчинению идеологическим императивам (ibid., р. 67 sq.), сложно, думается, найти логический эквивалент для всех форм организации повествования, понимания которых мы достигаем благодаря знакомству с типами интриг, воспринятыми в нашей культуре.
99 «Les jeux des contraintes sémiotiques». In: «Du Sens», p. 136.
100Вопросо логической структуре семиотическогоквадратая обсуждаю вдвухпространныхпримечаниях 4 и 11 в моей статье «La grammaire narrative de Greimas». — «Documents de recherches sémio-linguistiques de l’Institut de la langue française». Ecole des hautes études en sciences sociales. Paris, CNRS, № 15, 1980.
101На этой стадии повествовательные фразы и фразы, выражающие действия, неразличимы. Различительный критерий для повествовательного предложения, предложенный А. Данто в работе «Analytical Philosophy of History» описание предшествующего действия А в зависимости от последующего действия В, с точки зрения наблюдателя, чья временная позиция более поздняя в сравнении с А и В, здесь еще не может быть применен. Вот почему пока можно говорить только о высказывании-программе.
102 Performance — термин, введенный Н. Хомским и обозначающий «употребление», использование языка в речевой деятельности (прим. перев.).
103 Заключительное высказывание перформации, названное присвоением, является «в поверхностном плане эквивалентом логического суждения в фундаментальной грамматике» («Du Sens», p. 175). В своей статье, цитированной выше, я оспариваю логическую релевантность этой эквивалентности («La grammaire narrative de Greimas», p. 391).
104«Дело в том, что синтаксис операторов должен строиться независимо от синтаксиса операций: необходимо сохранить метасемиотический уровень, чтобы обосновать переносы ценностей» («Du Sens», p. 178).
105 В беседе, записанной.Фредериком Нефом (F.Nef et al. Structures élémentaires de la signification. Bruxelles, Ed. Complexe, 1976), Греймас заявляет: «Если рассмотреть теперь повествование в его синтагматической перспективе, где каждая нарративная программа выступает как завершенный процесс приобретений и утрат ценностей, обогащения и обеднения субъекта, мы заметим, что каждый шаг вперед по синтагматической оси соответствует “и определяется через” топологическое перемещение по парадигматической оси» (р. 25).
179
106 Пара отправитель-получатель продолжает собой пару полномочия у Проппа или начального договора в первой актантной модели Греймаса, — договора, благодаря которому герой обретает право действовать. Но пара отправитель—получатель размещается теперь в плоскости более радикальной формализации. В самом деле, существуют отправители индивидуальные, социальные и даже космические.
107См.: J. Escande. Le Récepteur face à l’Acte persuasif. Contribution à fa théorie de l’interpretation (à partir de l’analyse de textes évangéliques), thèse de 3-e cycle en sémantique générale dirigée par A. J. Greimas. EHESS, 1979.
108В «Мопассане» предлагаются другие, все более утонченные различения, касающиеся действия. Термин «действие» в index rerum (предметном указателе, лат. Перев.), помещенном в конце «Мопассана» (р. 273), дает представление о тех подразделениях, проводить которые вынуждают теорию значительно более искусные тексты, нежели народные сказки. Различение между действием и бытием, на мой взгляд, труднее всего сохранять в рамках повествовательности в той мере, в какой оно больше не встраивается вовнутрь действия. Но бытие, о котором идет речь, связано с действием посредством понятия состояния, устойчивой диспозиции. Например, радость, знаменующая вхождение в эйфорическое состояние, или свобода, когда два друга, лишенные после их пленения всякой способности действовать, осуществляют свою способность не хотеть действовать, то есть свой отказ, и утверждаются таким образом в собственно бытии-свободным (être-libre), которое выражается в конце рассказа в их способности умереть стоя.
109 Нам могли бы возразить, что мы смешиваем антропоморфные категории поверхностного уровня с присущими человеку категориями предметного уровня (которые характеризуются существованием целей, мотивов, выбора), короче, с практическими категориями, описанными в первой части нашей книги в рамках мимесис-1. Но я сомневаюсь в том, что возможно определить действие без референции к человеческому действию, — разве только через посредство категорий квази-персонажа, квази-интриги и квази-события («Время и рассказ», т. 1, с. 203 сл.).
1,0 В частности, я ссылаюсь там на работы Энтони Кенни (A. Kenny. Action, Emotion and Will. London, Routledge and Kegan Paul, 1963).
111В этом отношении ситуация не отличается от той, что была описана при анализе «Логики повествования» Клода Бремона. Там тоже логика рассказа опиралась на феноменологию и семантику действия, которые автор называл метафизикой.
112 М. Weber. Wirtschaft und Gesellschaft, пятое переработанное издание: Studienausgabe, Tübingen, J. С. В. Mohr (Paul Siebeck), 1972, первая часть, гл. 1, § 8 «Begriff des Kampfs» (S. 20). Предшествующие категории — социальное действие, социальное отношение, ориентация действия (обычаи, нравы), законный порядок (договор, право), основание законности (традиции, вера, признание действительным в силу закона).
113 См. в: И. Кант. Сочинения в двух томах. T. II. М., 1940. Перевод Б.А. Фохта. Прим. перев.
114 В работе «Беседа с Греймасом» Ф. Неф (J. Nef. Structures élémentaires de la signification, p. 25) утверждает, что именно полемическая структура повествования позволяет распространить исходное парадигматическое членение таксономической модели на все синтагматическое развертывание повествования. Противопоставляя анти-субъект субъекту, анти-программу программе, даже умножая квадраты актантов путем расщепления каждого актанта на актанта и негактанта, антактанта (entactant) и негантактанта, полемическая структура обеспечивает проникновение парадигматического порядка во всякий синтагматический порядок: «Поэтому нет ничего удивительного в том, что анализ сколько-нибудь сложных текстов заставляет умножать число актантных позиций,
180
открывая таким образом наряду с синтагматическим развертыванием повествовательности и ее парадигматическое членение» (ibid., р. 24). Но можно сказать обратное: именно потому, что происходит нечто вроде конфликта двух субъектов, его можно спроецировать на квадрат. А эта проекция, в свою очередь, возможна потому, что сам квадрат был истолкован как «место, где осуществляются логические операции» (ibid., р. 26), короче, был предварительно наративизирован. Всякий прогресс «квадратизации» от уровня к уровню может представать то как продвижение парадигматического вглубь синтагматики, то как прибавление новых синтагматических измерений (поиск, борьба и т.д.), в неявной форме финализированных двойной — парадигматической и синтагматической структурой завершенного рассказа.
5 По поводу когерентности топологического синтаксиса как такового и роли, приписываемой отношению пресуппозиции, которое завершает маршрут, проходящий между полюсами семиотического квадрата, см. мою работу в «La grammaire narrative de Greimas», p. 22-24.
6Автор близок к признанию этого, о чем свидетельствует продолжение цитированной выше «Беседы»: «Тем не менее речь здесь идет лишь о синтаксисе, манипулирующем при помощи дизъюнкций и конъюнкций высказываниями о состоянии и делающем рассказ только статической репрезентацией последовательности повествовательных состояний. Совершенно так же, как таксономический квадрат должен рассматриваться лишь в качестве места, где осуществляются логические операции, последовательности высказываний о состояниях организуются и подвергаются влиянию высказываний о действии и включенных них субъектов, совершающих трансформацию» («Structures élémentaires de la ignification», p. 26).
7Уже yсредневековых авторов можно встретить общее утверждение о рефлекивности суждения. Но Кант вводит плодотворное различение определяющего суждения и суждения рефлектирующего. Определяющее суждение всецело встраивается в продуцируемую им объективность. Рефлектирующее суждение обращается к операциям, посредством которых оно возводит эстетические и органические формы над каузальной цепью событий мира. (См.: И. Кант. Критика способности суждения. Собр. соч. в 8 томах. Т. 5. М., 1994, с. 106. — Прим. перев.) Повествовательные формы составляют в этом плане третий класс рефлектирующего суждения; это суждение, способное сделать своим объектом сами операции, носящие телеологический характер, благодаря которым обретают форму эстетические и органические сущности.
8Е. Benveniste. Les relations du temps dans le verbe français. — «Problèmes de gnostique générale». Paris, Gallimard, 1966, p. 237-250.
9 K. Hamburger. Die Logik der Dichtung. Stuttgart, Ernst Klett Verlag, 1957; англ, перевод: «The Logic of literature». Ann Arbor, Indiana University Press, 1973.
10 H. Weinrich. Tempus, Besprochene und erzählte Welt. Stuttgart, W. Kohlhammer Verlag, 1964. Французскийперевод: «Temps». Paris, Ed. du Seuil, 1973. Я цитирую французский перевод, фактически представляющий собой оригинальное авторское произведение, структура и содержание которого часто отличаются от немецкого варианта.
!1 Колебания Бенвениста в этом вопросе весьма поучительны. Повторив вновь: Чтобы эти факты можно было зафиксировать как произошедшие, они должны принадлежать прошлому» (р. 239), автор добавляет: «Вероятно, лучше было бы казать: коль скоро они зафиксированы и высказаны в историческом временно́м суждении, они могут быть охарактеризованы как прошлое» (ibid). Критерий немешательства говорящего в повествование позволяет оставить нерешенным вопрос о том, время ли рассказа создает эффект прошлого, или же квази-прошлое вымышленного рассказа имеет какое-то родство с реальным прошлым — в том смысле, который придает этому слову историк.
181
122 Собственно говоря, разграничение глагольных времен и времени реальной жизни Бенвенист проводит с известной осторожностью: «В одном понятии времени мы не находим критерия, который может определить положение или даже возможность данной формы в рамках системы глаголов» (р. 237). Анализ сложных форм, которому посвящена большая часть статьи, ставит аналогичные проблемы, касающиеся либо понятий завершенного и незавершенного, либо предшествования какого-либо факта по отношению к другому сообщаемому факту. Остается вопрос о том, можно ли полностью лишить эти грамматические формы их связи со временем.
123 Здесь к Бенвенисту присоединяется Ролан Барт (см. его работу «Нулевая степень письма» [русский перевод этой работы см.: «Семиотика», М., 1983. Перевод Г. К. Косикова. Перев.]), для которого употребление passé simpleскорее коннотирует литературность рассказа, нежели денотирует прошедшее время действия (см.: G. Genette. Nouveau Discours du récit. Paris, Ed. du Seuil, 1983, p. 53).
Предметом интересного исследования мог бы стать анализ существенных для нарративной теории импликаций, содержащихся в лингвистике Гюстава Гийома (см.: G. Guillaume. Temps et Verbe. Paris, Champion, 1929 и 1965). Такая возможность открывается благодаря тому, что автор за любой архитектоникой времени усматривает операции мысли. Так, в плане наклонений он различает переход от времени in posse (инфинитив и причастие) ко времени in fieri (сослагательному наклонению) и затем ко времени in esse(изъявительному наклонению). Центральный момент этого хроногенеза составляет различение внутри плана времен in esse двух видов настоящего, двух «хронотипов» (р. 52), один из которых — реальный и декадентный (décadent), другой виртуальный и инцидентный (incident). Андре Жакоб движется по подсказанному мною пути исследования, разрабатывая операционную концепцию языка, ориентированную на общую антропологию, где пересекаются временная структура человеческой Жизни и структура говорящего субъекта (A. Jacob. Temps et langage. Essai sur les structures du sujet parlant. Paris, Armand Colin, 1967).
124Кэте Хамбургер обозначает общим термином Dichtung (который я перевожу как «литература», по образцу английского перевода) три жанра: эпический, драматический и лирический. Эпический жанр охватывает всю нарративную область, драматический — сферу действия, перенесенного на сцену персонажами, ведущими диалог перед зрителем, а лирический — область выражения в поэзии мыслей и чувств, испытанных писателем. К вымыслу относятся только эпический жанр (он же миметический, согласно Платону) и жанр драматический. В таком широком смысле слова применение термина «эпическое» близко к употреблению этого термина Гёте и Шиллером в дискуссии о сравнительных достоинствах двух жанров («Ueber epische und dramatische Dichtung», 1797, in: Goethe. Sämtliche Werke. Stuttgart, Berlin, Jubiläums-Ausgabe, 1902-1907, vol. 36, S. 149-152). Отметим, что в этой дискуссии «абсолютно прошедшее» (vollkommen vergangen) время эпоса противопоставляется «абсолютно настоящему» (vollkommen gegenwärtig) времени драмы. Роман здесь обсуждается лишь как современная разновидность эпического, что и объясняет терминологию Кэте Хамбургер.
125 «Отсутствие реального я-начала и функциональный характер вымышленного рассказа представляют собой один и тот же феномен» (ор. cit., S. 113). Введение вымышленного персонифицированного повествователя сделало бы, по мнению Кэте Хамбургер, менее существенным разрыв между рассказом и утверждением. Необходимо также подчеркнуть, что «поле вымысла является не подзем повествователя, а продуктом нарративной функции» (ibid., S. 185). Меокду писателем и его вымышленными персонажами нет места для другого Ich-Origo(«я-начала». Перев.).
182
126 Я не могу здесь объяснить, почему следует считать повествователя вымышленным субъектом дискурса, несводимым к простой нейтральной функции (das Erzählen). Я вернусь к этой проблеме при обсуждении понятий точки зрения и голоса.
127 Другая проблема, исследованная Кэте Хамбургер, проблема глагольных времен несобственно-прямой речи (erlebte Rede), также требует дополнительного разъяснения. В erlebte Redeслова персонажа соотносятся с третьим лицом и прошедшим временем, в отличие от цитируемого монолога, где персонаж высказывается от первого лица и в настоящем времени (так, в «Mrs. Dalloway» мы читаем: «Since she had left him, he, Septimus, was alone»). Кэте Хамбургер видит в этом подтверждение своего тезиса, что грамматическое прошедшее время не обозначает никакого прошлого, поскольку эти слова относятся к вымышленному настоящему времени персонажа — причем, к настоящему timeless [не имеющему свяи с каким-то определенным временем]. Кэте Хамбургер права, если под прошлым понимать только «реальное» прошлое, имеющее отношение к памяти ши некой исторической связи. Erlebte Rede можно объяснить полнее, если интерпретировать ее как отображение дискурса персонажа в дискурсе повествователя, который навязывает свое личное местоимение и свое глагольное время. Тогда субъектом дискурса в вымысле надо считать повествователя. К этой проблеме мы тоже вернемся далее, исследуя диалектику нарратора и персонажа в вымысле, излагаемом от первого лица, равно как и от третьего.
128 Моя аргументация станет полной лишь тогда, когда я введу понятия точки зрения и голоса; эпический претерит можно будет в таком случае интерпретировать как вымышленное прошлое повествовательного голоса.
129 Харальд Вайнрих понимает под текстом «значимую последовательность лингвистических знаков между двумя ясно выраженными разрывами коммуникации» (S. 13), такими как паузы в ходе устной коммуникации, две стороны обложки книги в письменной коммуникации или, наконец, те «намеренно вводимые паузы, которые в квази-металингвистическом смысле обеспечивают очевидные разрывы в коммуникации» (ibid.). Модальности открытия и закрытия, свойственные рассказу, являются в этом отношении примерами «намеренно вводимых пауз».
130 Я с трудом решаюсь следовать за французским переводчиком «Tempus», который переводит Besprechung как «комментарий». Данный термин не передает «позицию напряженности», характерную для этой модальности коммуникации. На слух французов в восприятии комментария больше отстраненности, чем в восприятии рассказа. Но термин обсуждение (débat), который кажется мне более предпочтительным в переводе, вносит ненужную полемическую ноту. Правда, обсуждать что-то можно и без оппонента.
131 Здесь имеется и другое перечисление: применительно к обсуждению — «поэзия, драма, диалог в целом, газета, эссе в литературной критике, научное описание» (S. 39). Применительно к рассказу новелла, роман и разного рода повествовательные тексты (кроме диалогов) (ibid.). Существенно то, что это разделение не имеет ничего общего с классификацией дискурсов по «жанрам».
132 Автор отмечает: «Идея напряжения... проникла в поэтику совсем недавно, под влиянием информационной эстетики, через посредство таких понятий, как напряженное ожидание» (S. 35). В этой связи он отсылает к «Поэтике прозы» Цветана Тодорова.
133 «Граница между поэзией и правдой не совпадает с границей между рассказываемым и комментируемым миром. У комментируемого мира своя правда (ее противоположностями являются ошибка и ложь), у рассказываемого своя (ей противоположен вымысел). Точно так же у того и у другого есть своя поэзия: у первого это лирика и драма, у второго — эпопея» (S. 104). Драма и эпопея вновь разделяются здесь, как в «Поэтике» Аристотеля.
183
134 В этой связи я предлагаю сблизить понятие большой длительности у Броделя с предложенным Вайнрихом понятием заднего плана; распределение временности по трем планам это всецело дело подчеркивания.
135 Я ничего не говорю здесь о дополнительном управлении, осуществляемом другими синтаксическими сигналами, имеющими временно́е значение, такими как местоимения, наречия и т.д. По мнению Вайнриха, общая комбинаторика должна установить, проявляются ли дистрибутивные закономерности в форме особого рода комбинаций. Со дня выхода в свет знаменитой статьи Бенвениста хорошо известна связь простого прошедшего времени с третьим лицом. Связь некоторых наречий времени, таких как «вчера», «в данный момент», «завтра» и т.д. с временами комментария, а других, таких как «накануне», «тогда», «на следующий день» и т.д., с временами рассказа столь же примечательна. Еще более показательна, на мой взгляд, связь многочисленных наречий из адвербиальных выражений с временами подчеркивания: их изобилие особенно поразительно. Вайнрих насчитывает их более сорока в одной главе из «Госпожи Бовари» (S. 268) и почти столько же в главе из «Королевской дороги» Мальро. Столько наречий всего лишь для двух времен! А к этому следует еще прибавить наречия, маркирующие темп повествования: «порой», «иногда», «время от времени», «всегда» и т.д., чаще всего в комбинации с имперфектом; «наконец», «вдруг», «внезапно», «неожиданно» и т.д. в основном в комбинации с простым прошедшим временем; сюда прибавляются и все те наречия, что отвечают на вопрос «когда?» или на «аналогичный вопрос, связанный со Временем» (S. 270): «иногда», «часто», «наконец», «затем», «тогда», «всегда», «снова», «уже», «теперь», «на этот раз», «еще раз», «постепенно», «внезапно», «один за другим», «непрерывно» и т.д. Это изобилие наводит на мысль, что с точки зрения схематизации рассказываемого мира наречия и адвербиальные выражения образуют сеть с гораздо более мелкими ячейками, чем времена, с которыми они комбинируются.
136 Временные переходы тоже находят подкрепление в сочетании времен и наречий. То, что справедливо для парадигматического аспекта проблемы, в еще большей мере является таковым для синтагматического аспекта. Наречия, упомянутые выше, лучше описываются как сопровождающие, усиливающие и уточняющие временны́е переходы: так, наречия «и тут», «однажды», «как-то утром», «как-то вечером» подчеркивают гетерогенный переход от заднего плана (несовершенное прошедшее время) к переднему плану (простое прошедшее), тогда как «а затем» — наречие временно́й последовательности повествования — больше соответствует гомогенным переходам внутри рассказываемого мира. Далее мы скажем о тоМ, какие возможности предоставляет этот синтаксис нарративных переходов акту высказывания нарративных конфигураций.
137 В связи с этим мы отметим также суждения Вайнриха о понятиях начала, окончания, ложного конца (который, например, у Мопассана так искусно маркируется тем, что получило название имперфекта разрыва). Здесь выразительность (relief) рассказа неотделима от самой нарративной структуры.
138 Е. Husserl. Idées directrices pour une phénoménologie, trad. Paul Ricoeur, Paris, Gallimard, 1952, p. 109. (См.: Э. Гуссерль. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. М., 1999, с. 235-237. Перевод А. В. Михайлова. — Прим. перев.)
139 Е. Fink. De la Phénoménologie, trad. Didier Franck, Paris, Ed. de Minuit, 1974, p. 15-93.
140Понятие повествовательного голоса позволит далее (см. ниже, с. 102) дать более полный ответ на этот вопрос.
141 Здесь напрашивается сопоставление с семиотикой Греймаса, а именно с тем, что он называет видовыми характеристиками (aspectualité) трансформаций и размещает (как мы помним) на полпути от логико-семантического плана к плану чисто дискурсивному. Для выражения этих видовых характеристик язык имеет в
184
своем распоряжении дуративные (и фреквентативные) формы, а также выражения, обозначающие события. Кроме того, язык маркирует переходы от перманентности к эпизодичности при помощи характеристик инкоативности и терминативности.
142 Другие синтаксические знаки, такие как наречия и адвербиальные выражения, об изобилии и разнообразии которых говорилось выше, усиливают здесь экспрессивную мощь глагольных времен.
143 Последующие замечания полностью созвучны моей интерпретации в «Живой метафоре» метафорического дискурса как «переописания» реальности (см. седьмой и восьмой очерки).
144 Я пытаюсь далее на свой страх и риск интерпретировать «Der Zauberberg» с точки зрения опыта времени, который этот Zeitroman проецирует за свои пределы, оставаясь при этом вымыслом.
145 «Morphologische Poetik» это название серии очерков, датированных 19641968 годами (Tübingen, 1968).
146 Интересно, что Пропп, как было отмечено выше, тоже испытал влияние Гёте.
147 Сам Гёте стоит у истоков этого двойственного отношения между искусством и природой. С одной стороны, он пишет: «Kunst ist eine andere Natur» («Искусство — это другая природа». Перев.), но он говорит также: «Kunst... ist eine eigene Weltgegend» (особая область мира) (цит. по: ор. cit., S. 289). Эта вторая концепция открывает дорогу формальным исследованиям, предпринятым Гёте в сфере повествования, которым мы обязаны знаменитой «схемой» «Илиады». Гюнтер Мюллер ссылается на нее как на модель своих собственных исследований (см. «Erzählzeit, erzählte Zeit», op. cit., S. 270, 280, 409; см. также «Goethes Morphologie in ihrer Bedeutung für die Dichtungskunde», op. cit., S. 287 sq.).
148Термин Aussparungстоль же хорошо подчеркивает то, что выпущено, это, как мы увидим, сама жизнь, как и то, что удержано, выбрано, избрано. Французское слово «сбережение» («épargne») имеет порой оба эти смысла: сберегают именно то, чем располагают; это также и то, чего не трогают; так, об одном городке говорили, что его сберегли во время бомбардировок. Сбережение как раз и разделяет то, что откладывают (on met de coté), для того чтобы этим пользоваться, и то, что оставляют в стороне (on laisse de coté), чтобы защитить.
149 Гюнтер Мюллер испытывает некоторое стеснение, когда говорит об этом времени рассказа-в-себе, не рассказанного и не прочитанного, времени в каком-то смысле бесплотном, измеренном числом страниц, отличая его от живого времени чтения, в которое каждый читатель привносит свой собственный Lesetempo[темп чтения] (S. 275).
150 Так, изучение «Lehrjahre» начинается со сравнения 650 страниц, принятых за «меру физического времени, необходимого повествователю для того, чтобы рассказать свою историю» (S. 270), и восьми лет, в течение которых происходят рассказываемые события. Но именно непрерывные вариации в относительных промежутках времени создают темп произведения. Я не упоминаю здесь об исследовании «Mrs. Dalloway», поскольку в последней главе я предлагаю ее интерпретацию, где принимается во внимание этот тщательный анализ вставок и, скажем так, «отступлений вовнутрь», благодаря которым глубина воскрешаемого в памяти времени может выйти на поверхность рассказываемого времени. Изучение «Forsyte Saga», типичного примера «романа поколений», также начинается с подробного количественного анализа; из широкого интервала в сорок лет, которые охватывает действие этого 1100-страничного романа, автор выбрал пять эпизодов, занимающих по времени от нескольких дней до нескольких месяцев или двух лет. По примеру Гёте с его знаменитым планом «Илиады», автор реконструирует временную схему второго тома романа с его точными датами и отсылками ко дням недели.
185
151 В очерках «Zeitgerüst des Erzählens» (о «временно́м каркасе повествования» у Юрга Йенача; op. cit., S. 388-418) и «Zeitgerüst des Fortunatus-Volksbuch» (op. cit., S. 570-589) мы находим детальный анализ этих чрезвычайно сложных в техническом отношении многочисленных приемов, используемых в оформлении повествования.
152 Это видение времени реальной жизни сквозь рассказываемое время и является в конечном счете темой каждой из упомянутых выше коротких монографий: об отношении в «Lehrjahre» между двумя временными порядками сказано, что оно «прилаживается» (fugt sich) к собственно теме повествования метаморфозе человека и его Obergänglichkeit [свойству человеческого существа, заключающемуся в его способности к переходам в другие состояния] (S. 271). Именно поэтому Gestaltsinn [смысл оформления] поэтического произведения не является произвольным и делает воспитание Bildung аналогичным биологическому процессу порождения живых форм. Так же обстоит дело и в «романе поколений»: в отличие от «романа воспитания» у Лессинга и Гёте, где подъем жизненных сил направляет изменение живого существа, «роман поколений» у Голсуорси показывает процесс старения, неизбежное возвращение в ночь и, поверх индивидуальной судьбы, восхождение новой жизни, в силу чего время являет себя столь же спасительным, сколь и разрушающим. В трех упомянутых примерах «оформление рассказанного времени имеет дело с областью действительности, которая выражается в Gestalt [форме] повествовательного творчества (eirfer erzählenden Dichtung)» (S. 286). Отношение и напряжение между временем, затрачиваемым на рассказ, и рассказываемым временем соотносится, таким образом, с тем, что по ту сторону повествования является не рассказом, а жизнью. Само рассказываемое время определяется как Raffungпо отношению к тому фону, на котором оно очерчивается, т.е. к незначимой или, точнее, нейтральной в плане значения «природе».
153 В другом очерке того же сборника Гюнтер Мюллер вводит парные термины «Zeiterlebnis» и «Zeitgerüst» (S. 299 sq.). Этот временно́й каркас и есть сама игра времени, затрачиваемого на рассказ, и рассказываемого времени. Что же касается переживания времени, то это, если воспользоваться терминологией Гуссерля, фон жизни, безразличный к смыслу; никакая интуиция не постигает смысла этого времени, который всегда лишь интерпретируется; на него косвенным образом направлен анализ Zeitgerüst. Г. Мюллер демонстрирует это на новых примерах, взятых у авторов, которых столь же интересует ставка, сколь и игра. Для одного из них, Андреаса Грифиуса, время лишь череда разрозненных моментов, уберегаемых от небытия только благодаря соотнесенности с вечностью. Для других, таких как Шиллер и Гёте, само течение времени мира и есть вечность. Для третьего, Гофмансталя, время это сама неповторимость (étrangeté), всепоглощающая безмерность. Для четвертого Томаса Манна — оно в полном смысле слова нуминозно (от лат. numinosumбожественное как некая непостижимая сила, возбуждающая в человеке одновременно чувство доверия и ужаса. Этот термин используется Рудольфом Отто в книге «Священное». Прим. ред.). И каждый из них позволяет нам прикоснуться к «poetische Dimension» [«поэтическому измерению»] (S. 303) переживания времени.
154 Французское слово enjeu означает и «ставка», и «цель». Поэтому здесь возможен вариант перевода «игра может стать самоцелью». Мы остановились на первом варианте, поскольку именно значение времени как ставки в игре существенно в контексте работы П. Рикёра (прим. перев.). В другом очерке, «Über die Zeitgerüst des Erzählens» (S. 388-418), читаем: «Начиная с Джозефа Конрада, Джойса, Вирджинии Вульф, Пруста, Вулфа, Фолкнера трактовка эволюции времени стала центральной проблемой эпической репрезентации, полем нарративного экспериментирования, где речь идет в первую очередь не о спекуляциях по поводу времени, но об “искусстве рассказывать”» (S. 392). Такое признание не
186
значает, что «переживание» времени перестает быть ставкой в игре; но игра берет верх над ставкой. Из этого переворачивания Женетт выведет еще более радикальное следствие. Гюнтер Мюллер не склонен, по-видимому, сводить ставку игре: фокусирование на искусстве рассказа вытекает из того, что повествователю нет нужды пускаться в спекуляции о времени, чтобы сделать своим предметом поэтическое время: он делает это, конфигурируя рассказываемое время.
155 G. Genette. Frontières du Récit. In: «Figures II», Paris, Ed. du Seuil, 1969, p. 49-69; Le discours du récit. — In: «Figures III», Paris, Ed. du Seuil, 1972, p. 65-273; Jouveau Discours du récit, op. cit. (Далее мы опираемся на издание: Ж. Женетт. Границы повествовательности. В кн.: его же. Фигуры. T. 1, М., 1998, с. 283-299. Пep. С. Зенкина; Повествовательный дискурс. там же, т. II, с. 60-280. Пер. Н. Перцова. — Прим. перев.)
156 Термин «диегезис» (diégèse) позаимствован у Этьена Сурио, который ввел его в 1948 году, чтобы противопоставить место означаемого в фильме экранному универсуму как месту означающего. Жерар Женетт уточняет в «Новом повествовательном дискурсе», что прилагательное «диегетический» образовано от существительного «диегезис», безотносительно к «диегесису» Платона: «Диегесис, — уверяет нас Женетт в 1983 году, не имеет ничего общего с диегезисом» (р. 13). На деле сам Женетт в работе «Границы повествовательности» ссылается на знаменитый тезис Платона. Но его интенция тогда была полемической. Речь шла об элиминации аристотелевской проблемы мимесиса, отождествляемого с иллюзий реальности, которая создается репрезентацией действия. «Изображение в литературе, античный мимесис... это, стало быть, повествование, и только одно повествование...». А потому «мимесис есть диегесис» («Границы повествовательности», с. 288). В более общей форме этот вопрос вновь рассмотрен в работе «Повествовательный дискурс» (с. 181-184): «...Язык обозначает без подражания» р. 182). Следует ли напомнить, чтобы рассеять всякую двусмысленность, что в Государстве» 392с сл. Платон никоим образом не противопоставляет диегесис и мимесис? Диегесис это единственный предложенный им родовой термин. Он разделяется только на «простой» диегесис, когда поэт передает события или речь т своего имени, и диегесис «путем подражания» (dia mimëseôs), когда он говорит «как будто другой», имитируя, насколько возможно, голос другого, что и озачает подражание. У Аристотеля отношение между этими терминами обратное: limësis praxeôsявляется для него родовым термином, a diëgësisподчиненным модусом». Стало быть, следует остерегаться взаимоналожения двух этих терминологий, соотносящихся с двумя различными способами применения данных ерминов (см. «Время и рассказ», т. 1, с. 45 и прим. 101). (См.: «Повествовательный дискурс», с. 64, где переводчик объясняет выбор для передачи французского термина «diégèse» формы «диегезис», практически совпадающей с платоновким «диегесисом», традицией перевода, принятой в русском киноведении. — Прим. перев.)
157 В переводе, на который мы далее опираемся, принята следующая терминолоия: термин «повествование» (récit) обозначает здесь повествовательный дискурс, в частности повествовательный текст; термин «наррация» (narration) — акт повествования, а в более широком смысле всю ту реальную или вымышленную ситуацию, в которой имеет место данный акт. См.: Ж. Женетт. Повествовательный дискурс, с. 64. — Прим. перев.
158 В действительности нарративная теория непрерывно балансировала между двух- и трехчастным делением. Русским формалистам было известно различение сюжета и фабулы. У Шкловского фабула обозначает материал для создания сюжета; например, сюжет «Евгения Онегина» является разработкой фабулы, то есть онструированием (см.: «Théorie de la littérature, textes des formalistes russes», р. 54-55). Томашевский уточняет: развитие фабулы может быть охарактеризовано как «переход от одной ситуации к другой» (ibid., р. 273). Сюжет есть то, что
187
читатель воспринимает как равнодействующую способов композиции (р. 208). В сходном смысле сам Тодоров проводит различие между дискурсом и историей («Les catégories du récit littéraire», 1966). Бремон использует термины «рассказывающее повествование» (récit racontant) и «рассказываемое повествование» (récit raconté) («Logique du récit», p. 321, прим. 1). Со своей стороны, Чезаре Сегре (Cesare Segre) («Le Strutture e il Tempo», Turin, G. Einaudi, 1974 [«Structure et Temps»]) предлагает триаду: дискурс (означающее), интрига (означаемое в сфере литературной композиции), фабула (означаемое в логическом и хронологическом строе событий). Тогда именно время, понятое как необратимый порядок следования, служит различителем: время дискурса есть время чтения, время интриги время литературной композиции, время фабулы время излагаемых событий. В целом, пары сюжет-фабула (Шкловский, Томашевский), дискурс-история (Тодоров), повествование—история (Женетт) в существенной мере перекрывают друг друга. Различие между русскими и французскими формалистами обусловлено реинтерпретацией [проблемы] в соссюровских терминах. Следует ли в таком случае сказать, что возобновление трехчастного деления (Чезаре Сегре, сам Женетт) свидетельствует о возврате к триаде стоиков: означающее, означаемое, происходящее?
159 «Границы повествовательности»: «Одной из задач такого исследования могла бы стать инвентаризация и классификация тех средств, с помощью которых повествовательная литература (особенно роман) пыталась приемлемым образом оформить в пределах своего собственного lexis’aтонкие взаимоотношения между требованиями повествования и законами дискурса» (с. 297). В работе «Новый повествовательный дискурс» об этом говорится совершенно ясно: повествование без повествователя просто-напросто невозможно; это было бы высказывание без акта высказывания, то есть без акта коммуникации (р. 68), отсюда и само название — «повествовательный дискурс».
160 См. работы Сеймура Чатмена в «Story and Discourse: Narrative Structure in Fiction», Ithaca, Cornell University Press, 1978; Джеральда Принса в «Narratology: The Form and Function of Narrative», La Haye, Mounton, 1982; Шломит Риммон-Кенан в «Contemporary Poetics», London, New York, Methuen, 1983; здесь были предложены различные попытки упорядочения этих сложных отношений.
161 Можно в связи с этим задаться вопросом, не принадлежит ли по праву время чтения, у которого, таким образом, заимствуется время повествования, плану акта высказывания и не скрывает ли эту филиацию тот перенос, который осуществляет метонимия, проецируя в план высказывания то, что относится к плану акта высказывания. Кроме того, я назвал бы его не псевдовременем, а именно вымышленным временем — в такой степени оно связано в нарративном понимании с временными конфигурациями вымысла. Я сказал бы, что здесь вымышленное транспонируют в «псевдо», подставляя на место нарративного понимания рационализирующую имитацию, которая характеризует эпистемологический уровень нарратологии; это операция, чью законность и одновременно производный характер мы постоянно подчеркиваем. В «Новом повествовательном дискурсе» вносится уточнение: «...время (письменного) повествования является “псевдовременем” в том смысле, что для читателя оно эмпирически заключено в пространстве текста, которое лишь чтение может вновь превратить в длительность» (р. 16).
162 Изучение типов анахроний (пролепсиса, аналепсиса и их комбинаций) может быть соотнесено с исследованием «перспективы» (антиципации, ретроспекции, нулевой степени) у Харальда Вайнриха.
163 Я отсылаю к той прекрасной странице «Повествовательного дискурса», где автор говорит о том, как Марсель Пруст «воспроизводит» основные эпизоды своей жизни, «до тех пор рассеивавшиеся в незначительности, а теперь неожиданно проступившие в памяти, ставшие значительными благодаря своей взаимосвязи... слу-
188
чайность, совпадения, произвол внезапно исчезают, биография внезапно “захвачена” в сеть структуры, являя собой связный смысл» (с. 91).
164 Читатель, конечно, уловит сходство этого замечания Жерара Женетта с предложенным Гюнтером Мюллером способом употребления понятия Sinndeutung, усмотренного выше, а также с оппозицией значимого и незначимого (или нейтрального в плане значения), воспринятой у Гёте. Эта оппозиция, на мой взгляд, совершенно отлична от противопоставления означающего и означаемого у Ф. де Соссюра.
165Е. Auerbach. Mimesis: Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur. Berne, èçâ. Francke, 1946; фр. пер.: «Mimesis: représentation de la réalité dans la littérature occidentale». Paris, Gallimard, 1968, p. 539 (рус. перевод: Э.Ауэрбах. Мимесис. Μ., 1976, с. 536. Перевод Α.Β. Михайлова. Прим. перев.); цитируется Жераром Женеттом в работе «Le discours du récit», p. 108 (c. 103. Перев).
166Автор с легкостью признает, что «в той мере, в какой эти антиципации в настоящем времени вовлекают сам момент наррации, они не сводятся только к фактам нарративной темпоральности, а затрагивают также факты залога, к чему мы еще вернемся ниже» («Повествовательный дискурс», с. 103).
167 Введенное Гюнтером Мюллером понятие Raffung находит таким образом эквивалент в понятии ускорения.
168 «Подобные созерцательные остановки своей длительностью обычно не превосходят длительность чтения (даже весьма медленного) того текста, который их “излагает”» (с. 131).
169 В «Мопассане» Греймас вводит сходные категории повторяющегося и единичного и принимает для их определения грамматическую категорию вида. Чередование повторяющегося и единичного можно также сопоставить с категорией подчеркивания, предложенной Вайнрихом.
170 Жерар Женетт цитирует в связи с этим прекрасную страницу из «Пленницы»: «Это идеальное утро насыщало мое сознание непрерывной реальностью, тождественной всем другим похожим утрам, и полнило весельем...» («Повествовательный дискурс», с. 150).
171 Впрочем, Жерар Женетт первым же высказывает сожаление о том, что «проблемы нарративной темпоральности исследуются в столь раздробленном виде» (перевод дан по французскому тексту. — Перев.). Но правомерно ли утверждение: «Любое другое разделение может привести к недооценке роли и специфики нарративной инстанции» («Повествовательный дискурс», с. 177)?
172 Но если темпоральность наррации руководит те мп орал ьн остью повествования, то нельзя — как это делает Женетт в важнейшей части работы (с. 175-179), о которой я скажу ниже, — рассматривать «игру со Временем» в произведении Пруста до анализа акта высказывания и времени, которое ему соответствует и тем самым позволяет преодолеть раздробленность, свойственную анализу темпоральности.
173 Например, Е. Вандриес (Е. Vendryès) определяет его так: «аспект глагольного действия в его отношении к субъекту» (цитируется Женеттом, там же, с. 68). «Новый повествовательный дискурс» не сообщает ничего нового по поводу времени акта высказывания и отношения между залогом и актом высказывания. Зато данный текст богат замечаниями о различии между вопросом о залоге (кто говорит?) и вопросом о перспективе (кто видит?). При этом последний вопрос переформулируется в терминах фокализации (где источник восприятия?) (р. 43-52). Далее мы вернемся к этому.
174 Выше мы сказали, что Женетт в своем анализе времени повествования в «Поисках» основное внимание уделяет отношению повествования и диегезиса, которое исследуется в трех первых главах (с. 68-180) под рубриками «Порядок», «Длительность» и «Повторяемость», тогда как проблема залога с запозданием рассматривается на страницах, посвященных времени наррации (с. 224-237). Такую
189
диспропорцию частично можно объяснить прибавлением к трехчастному делению «акт высказывания-высказывание-объект» триады «время-модальность-залог», взятой из сферы грамматики глагола. В конечном счете три эти класса и определяют расположение глав в «Повествовательном дискурсе»: «...первые три главы (“Порядок”, “Длительность”, “Повторяемость”) посвящены времени, четвертая модальности, пятая и последняя — залогу» (с. 69, прим. 2). Таким образом, здесь наблюдается известная конкуренция двух схем, в силу которой «время и модальность проявляются на уровне отношений между историей и повествованием, тогда как залог обозначает одновременно отношения между наррацией и повествованием и отношения между наррацией и историей» (с. 76). Именно этой конкуренцией объясняется, что главный акцент ставится на отношении между временем повествования и временем истории и что время акта высказывания трактуется как второстепенное в последней главе, где речь идет о залоге.
175 «...Происходит просто остановка повествования в тот момент, когда герой обретает истину и смысл своей жизни и тем самым завершается “история призвания”, которая, напомним, и есть осознанный предмет прустовского повествования... Таким образом, необходимо, чтобы повествование прервалось до соединения героя и повествователя; совершенно немыслимо представить, что они вместе пишут слово “конец”» (с. 237).
176 Подобно тому как, по словам Жерара Женетта, «я» героя «Поисков» не совпадает полностью ни с самим Прустом, ни с кем-то другим, метафизический опыт времени в «Поисках», можно сказать, не есть всецело ни опыт Пруста, ни чей-либо еще. Любое «возвращение к себе», любое «присутствие в себе» постулируются не опытом, выраженным в форме вымысла, а «полуомонимией» реального опыта и опыта вымышленного, полуомонимией, подобной той, которую нарратология усматривает между героем-повествователем и автором, подписавшим свое произведение (с. 258).
177 Выше мы видели, как Жерар Женетт окольным путем грамматики вводит эти понятия в «Повествовательном дискурсе». В дальнейшем мы учтем дополнения, внесенные им в работе «Новый повествовательный дискурс».
178 Я не даю здесь подробного анализа понятия имплицитного автора, введенного В. Бутом в работе «The Rhetoric of Fiction», поскольку я отличаю функцию понятий голоса и точки зрения в композиции произведения (внутренний аспект) от функции, выполняемой ими в коммуникации (внешний аспект). Не случайно В. Бут отнес свой анализ имплицитного автора к сфере риторики, а не поэтики вымысла. Однако все наше исследование речи повествователя, безусловно, останется неполным без посредствующего звена — риторики вымысла, которое мы включим в теорию чтения в четвертой части этой книги.
179 О триаде интрига-персонаж-мысль в «Поэтике» Аристотеля см. «Время и рассказ», т. 1, с. 47-49.
180 Выше мы показали, что нового внесла Кэте Хамбургер в теорию глагольных времен. Но эпический (а значит, диегетический) претерит утрачивает, по ее мнению, способность обозначать реальное время именно вследствие своей близости к ментальным глаголам, которые обозначают действие субъектов-начал (Ich-Origo), также вымышленных.
181 «Именно эпические герои (epische Personen), говорит Кэте Хамбургер, — делают повествовательную литературу тем, что она есть» (S. 58). И еще: «...эпическое произведение — это единственное гносеологическое место, где Ich-Originität(или субъективность) третьего лица может быть представлена (dargestellt) как третье лицо» (S. 73).
182 D. Cohn. Transparent Minds. Princeton, NJ, Princeton University Press, 1978; фр. пер.: «La Transparence intérieure», Paris, Ed. du Seuil, 1979.
183В повествовательном произведении, написанном от первого лица, рассказчик и главный персонаж совпадают; но только в автобиографии совпадают автор,
190
повествователь и главный персонаж. См.: Ph. Lejeune. Le Pacte autobiographique, Pairis, Ed. du Seuil, 1975. Поэтому мы не будем говорить здесь об автобиографии, о ней речь может идти в контексте рефигурации времени, производимой современной историей и художественным вымыслом. Это самое подходящее место, которое можно отвести автобиографии в стратегии «Времени и рассказа».
184 Два текста, которые мы рассмотрим в четвертой главе, «Mrs. Dalloway» и Der Zauberberg», — это вымышленные рассказы от третьего лица. Третий текст «В поисках утраченного времени» это вымышленный рассказ от первого лица, в который вставлен рассказ от третьего лица: «Любовь Свана». Равно вымышленный характер первого и третьего лица является мощным фактором интеграции вставного рассказа в обрамляющий рассказ. «Жан Сантёй» же служит показательным примером перестановки местами между первым и третьим лицом. Эта замена личных местоимений не означает, что выбор той или другой техники не имеет собственно нарративных причин и следствий. Но в наши намерения не входит анализ преимуществ и недостатков той или иной нарративной стратегии.
185 J. Pouillon. Temps et Roman. Paris, Gallimard, 1946. «Всякое понимание есть возражение» (р. 45).
186 R. Alter. Partial Magic: The Novel as a Self-Conscious Genre. Berkeley, University of California Press, 1975.
87Об этом обычно сигнализируют кавычки, в которые заключена цитата, но в современном романе любые знаки такого рода могут отсутствовать. Тем не менее в цитируемом (или автоцитируемом) монологе, когда рассказ прерывается персонажем, берущим слово, соблюдается грамматическое время (как правило, настоящее) и лицо (первое). Когда оба эти признака отсутствуют, как у последователей Джойса, текст становится нечитабельным.
188 В книге «Время и роман» Жан Пуйон предвосхищает типологию нарративных ситуаций, различая видение с, видение сзади и видение извне. Однако, в противоположность более поздним исследователям, он опирается здесь не на различие, а на глубокое родство между повествовательным произведением и «реальным психологическим пониманием» (р. 69). В обоих случаях понимание является делом воображения. Значит, необходимо поочередно двигаться то от психологии к роману, то от романа к психологии (р. 71). Тем не менее преимущество остается за самопониманием в той мере, в какой «автор романа стремится передать читателю свое собственное понимание персонажей» (р. 69). Это преимущество составляет центральный момент предложенной категоризации. Так, поскольку всякое понимание состоит в схватывании внутреннего во внешнем, видение «извне» страдает теми же недостатками, что и бихевиористская психология, которая пытается вывести все внутреннее из внешнего, даже оспаривая существенность первого. Что же касается видения «с» и видения «сзади», они соответствуют двум способам использования воображения в понимания: в одном случае оно разделяет «с» персонажем его нерефлексивное самосознание (р. 80), в другом же — видение «смещается», но не как в видении извне, а так, что рефлексия объективирует нерефлексивное сознание (р. 85). Итак, у Пуйона различение между точкой зрения повествователя и точкой зрения персонажа, прямо выведенное из романной техники, остается связанным с восходящим к Сартру различением нерефлексивного и рефлексивного сознания. Однако самым существенным достижением Жана Пуйона мне представляется вторая часть его работы «Выражение времени». Предложенное здесь различение романов о длительности и романов о судьбе непосредственно связано с тем, что я называю вымышленным опытом времени (см. ниже, глава IV).
189 F. K. Stanzei. Die typischen Erzähl Situationen im Roman, 1955. Менее систематичнуюи более динамичнуюверсию можно прочестьв «Theorie des Erzählens», Göttingen, Van den Hoeck & Ruprecht, 1979. Первая монография посвящена про-
191
блеме, которую исследует и Кэте Фридеманн в работе «Die Rolle des Erzählers in der Epik», Leipzig, 1910.
190Понятие опосредования (Mittelbarkeit) сохраняет двоякий смысл: предлагая посредника для репрезентации персонажа, литература передает читателю содержание произведения.
191 Автор здесь всегда рассматривается как повествователь: это внутренний говорящий, тот, кто отвечает за композицию произведения. Термины «аукториальный/фигуральный» (auctorial/figural) употребляются во французском языке как эквиваленты немецкого auktorial/personal. Более удачным, чем «аукториальный», был бы термин «нарраториальный» (narratorial); Ален Бони, переводчик «Прозрачности внутреннего мира», перенял этот термин у Р. Паскаля (см. J Jenette. Nouveau Discours du récit, p. 81).
192 J. Culler. Defining Narrative Units. ïn: «Style and Structure in Literature. Essays in the New Stylistics», Roger Fowler (изд.), Ithaca, Cornell University Press, 1975, p. 123-142.
193Сеймур Чатмен в работе «The Structure of Narrative Transmission» (ibid., p. 213257) стремится дать представление о компетентности читателя повествовательных текстов путем открытого перечисления изолированных «дискурсивных черт» по образу перечней типов иллокутивной силы в речевых актах у Остина и Сёрля. В этом состоит приемлемая альтернатива стремлению к таксономиям, которые обладали бы одновременно чертами систематичности и динамичности.
194 Удачная попытка сочетания систематичности типологии с ее способностью порождать все более дифференцированные «нарративные модусы» продемонстрирована Людомиром Долежелом в работе «The Typology of the Narrator: Point of View in Fiction» (см.: «To Honor R. Jakobson», La Haye, Mouton, 1967, t. 1, p. 541-552). В отличие от подхода, предложенного Штанцелем (у которого три типические повествовательные ситуации остаются просто согласованными), подход Долежела основывается на серии дихотомий, исходящей из самой общей дихотомии: тексты с говорящим или без него. Тексты первого рода выделяются по некоторому числу «признаков» (употребление соответствующих личных местоимений, глагольных времен и указательных слов, отношение обращения, субъективная импликация, личный стиль). Вторые не «маркированы» во всех этих отношениях: к этой категории относятся так называемые «объективные» повествования. Тексты с рассказчиками различаются по тому, характеризуют ли перечисленные признаки говорящего как повествователя или как персонажа (narrator’s speech vs characters’speech). Затем следует отличие между областями активности (или пассивности) повествователя. Наконец, все эти дихотомии пересекает дихотомия между Er- и Ich-Erzählung. ТипологияДолежеланаходит развитиев работе «Narrative Modes in Czech Literature», Toronto, University of Toronto Press, 1973. Здесь к предшествующей типологии добавляется структурный анализ нарративных модусов, приписываемых речи повествователя или речи персонажа. Эти модусы различаются на текстуальной основе, максимально независимой по отношению к антропологической терминологии («всеведущий» повествователь и т.д.): так, повествователь осуществляет функции «репрезентации» событий, «овладения» структурой текста, «интерпретации» и «действия», в корреляции с персонажем, осуществляющим те же функции в обратном соотношении. Комбинируя эти черты с основным разделением между Er- и Ich-Erzählung и дополняя функциональную модель вербальной, мы получаем модель, бинарные членения которой выступают как продолжение исходной дихотомии речи повествователя и речи персонажа. Детальное изучение повествовательной прозы в современной чешской литературе (в частности, у Кундеры) позволяет развить динамизм этой модели, приспосабливая ее к многообразию стилей, встречающихся в различных произведениях. Таким образом, понятие точки зрения отождествляется со схемой, полученной в результате этих последовательных дихотомий. К этому анализу, продолжающему традиции русского и пражского структурализма, я отнес бы
192
ту же характеристику, какую применил к структурным исследованиям, рассмотренным в главе II: он восходит к рациональности второго порядка, которая эксплицирует глубинную логику, присущую нарративному пониманию первого порядка. Но зависимость первой от второй и от компетентности, приобретенной выражающим ее читателем, на мой взгляд, более очевидна в типологии вроде пропповской — основанной на действиях, репрезентируемых в произведении, — в силу неупразднимой антропоморфичности ролей повествователя и персонажа: первый это тот, кто рассказывает, второй — тот, кто действует, мыслит, чувствует и говорит.
195В. Uspensky. A Poetics of Composition. The Structure of the Artistic Text and Typology of a Compositional Form. Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1973. (Мы далее цитируемпоизданию: Б.Успенский. Поэтика композиции. В кн.: его же. Семиотика искусства. М., 1995. — Прим. перев.) Автор определяет свое произведение как «типологию композиционных возможностей в связи с проблемой точки зрения» (с. 15). Это типология, а не таксономия, ибо она не претендует на исчерпывающую полноту и завершенность. Точка зрения лишь один из подходов к вычленению структуры произведения искусства. Это понятие — общее для всех искусств, нацеленных на репрезентацию какой-либо сферы реальности (фильм, театр, живопись и т.д.), т. е. для всех видов искусства, демонстрирующих дуальность планов содержание—форма. Понятие произведения искусства у Успенского родственно этому понятию у Лотмана, о котором говорилось выше. Для него, как и для Лотмана, текст это «любая семантически организованная последовательность знаков» (с. 13). Лотман и Успенский ссылаются на пионерскую работу Михаила Бахтина «Поэтика Достоевского», к которой мы обратимся позже.
196 Ю. Лотман («Структура художественного текста», с. 78-92) подчеркивает многоплановый характер художественного текста. Эта слоистая структура сближает моделирующую деятельность, осуществляемую произведением искусства в отношении реальности, с игровой деятельностью, которая тоже вовлекает в действия, осуществляемые одновременно по меньшей мере в двух планах: в плане повседневной практики и в плане условностей игры. Соединяя таким образом процессы системные и случайные, произведение искусства предлагает «более богатое» или *«более бедное» отражение жизни (оба они одинаково истинны) (с. 85). В IV части мы вернемся к этому «эффекту игры» (с. 113); в слове «jeu» («игра») во французском языке сливаются значения, которые имеют в английском языке термины game и play.
197 С точки зрения игры с глагольными временами самая примечательная нарративная техника, известная под названием erlebte Rede(несобственно-прямая речь), является результатом контаминации речи повествователя и речи персонажа, причем речь повествователя навязывает взамен свое грамматическое лицо и глагольное время. Успенский отмечает все нюансы разнообразия ролей, исполняемых повествователем, смотря по тому, записывает он, издает или переписывает речь персонажа.
198 Сравним с исследованием Женеттом анизохроний в «Поисках утраченного времени» и с проведенным Доррит Кон анализом двух противоположных друг другу моделей, доминирующих в рассказе от первого лица: открыто ретроспективное и диссонирующее повествование Пруста, где дистанция между рассказчиком и героем предельно велика, и синхронное и консонирующее повествование Генри Джеймса, где рассказчик становится современником своего героя.
199 Для выражения итеративного или дуративного характера поведения или ситуации в русском языке существуют, кроме того, грамматические возможности вида. 200 Прекрасный обзор исследований по этой проблеме (до 1970 г.) мы находим в статье Франсуазы ван Россум-Гийон «Point de vue ou perspective narrative». «Poétique», 4, 1970, p. 476-497.
193
201 Ж. Женетт в «Новом повествовательном дискурсе» предлагает заменить термин «точка зрения» термином «фокализация» (р. 43-52). Персонализация, обязательно предполагаемая категорией повествователя, переносится тогда на понятие голоса (р. 52-55).
202 Поэтому у многих немецких или англоязычных авторов мы находим прилагательное auktorial (Штанцель) или authorial (Доррит Кон). Это прилагательное, которое мы выше перевели как «аукториальный» или «нарраториальный», имеет то преимущество, что устанавливает отношения другого рода: отношения между автором и авторитетом, причем связь между двумя смысловыми констелляциями осуществляет прилагательное «авторитативный». Об отношении автора и авторитета см.: E.W. Said. Beginnings: Intentions and Method, p. 16, 23, 83-84. Эта тема связана с упомянутой выше темой «самобичевания» (см. прим. 52).
203М. Bakhtine. La Poétique de Dostoïevski. Paris, Ed. du Seuil, 1970. Первое издание на русском языке вышло в Ленинграде в 1929 г. под названием «Проблемы творчества Достоевского». Второе, расширенное издание вышло в Москве в 1963 г. под названием «Проблемы поэтики Достоевского». Третье издание появилось в 1972, а четвертое в 1979 г. Французский перевод Изабель Количефф с предисловием Юлии Кристевой был выполнен на основе второго русского издания. См.: Tz. Todorov. Mikhaïl Bakhtine. Le principe dialogique. «Ecrits du Cercle de Bakhtine», Paris, Ed. du Seuil, 1981. (Далее цитаты из Бахтина даны по изданию: М.М. Бахтин. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. Прим. перев.)
204 Страницы, которые Бахтин посвятил диалогу как «транслингвистическому» принципу, общему для языка во всех его речевых актах, заслуживают такого же внимания, как и анализ частной формы полифонического романа (там же, с. 293-311).
205 Там же, с. 33. Подчеркивая быстроту изменений, произошедших в ходе развития повествования, Бахтин отмечает: «Катастрофическая быстрота действия, “вихревое” движение, динамика... здесь (как, впрочем, и всюду) не торжество времени, а преодоление его, ибо быстрота единственный способ преодолеть время во времени» (с. 34).
206 Михаил Бахтин выделяет четырнадцать отличительных черт карнавальной литературы (сократический диалог, мениппова сатира) (с. 26-136). Он прямо говорит о «внутренней логике», с необходимостью определяющей сцепление всех элементов (с. 76). Кроме того, мощный фактор композиции составляет тайная связь, соединяющая речь, сокрытую в глубинах персонажа, с речью, высказанной другим персонажем.
207 О понятии «последующей» наррации см. у Жерара Женетта: «Повествовательный дискурс», с. 231. В «Новом повествовательном дискурсе» вносится уточнение: повествователь, который заранее сообщает о дальнейшем развитии излагаемого им действия, «тем самым недвусмысленно утверждает свой нарративный акт как последующий по отношению к рассказываемой им истории или, по крайней мере, по отношению к тому моменту этой истории, который он таким образом предвосхищает» (р. 54). В последней главе четвертой части нашей работы мы покажем, каким образом эта позиция следования повествовательного голоса в вымышленном рассказе способствует историзации вымысла, восполняющей фикционализацию истории.
208 В заключительной главе четвертой части я вернусь к этой роли квази-интуиции в фикционализации истории.
209 О чтении как отклике на повествовательный голос текста см.: М. Valdés. Shadows in the Cave, p. 23: текст достоин доверия в той мере, в какой его достоин вымышленный голос (р. 25). Этот вопрос становится особенно настоятельным в случае пародии. Пародия, содержащаяся в «Дон Кихоте», должна быть в конечном счете идентифицирована по точным признакам. Этот «адрес» текста, названный повествовательным голосом, составляет саму интенциональность текста
194
(р. 26-32). См. по этому поводу предложенную Марио Вальдесом интерпретацию «Дон Кихота» (р. 141-162).
210 См. выше, с. 13.
211 Е. Fink. De Phénoménologie. В сходном смысле Лотман видит в «рамке», замыкающей всякое произведение искусства, средство композиции, превращающее ее в «конечную модель бесконечной вселенной» («Структура художественного текста», с. 256).
212 Это понятие имманентной трансцендентности полностью совпадает с понятием интенциональности, которое Марио Вальдес относит к тексту как к целому. Именно в акте чтения осуществляется интенциональность текста (op. cit., р. 45-76). Этот анализ стоило бы сравнить с анализом повествовательного голоса как того, что презентирует текст. Повествовательный голос есть носитель интенциональности текста, которая реализуется лишь в интерсубъективном отношении, развертывающемся между обращением, исходящим от повествовательного голоса, и ответом со стороны чтения. Подробнее мы рассмотрим это в четвертой части.
213 «фабулами времени» и «фабулами о времени» (англ.). — Прим. перев. А.А. Mendilow. Time and the Novel, p. 16.
214 Мы цитируемпо: T. Манн. Волшебная гора. Перевод В. Курелла и В. Станевич. Т. 2, M.-СПб., с. 234. Перевод дается с изменениями (прим. перев.).
215 Выражение «имагинативные вариации» обретет свой полный смысл лишь тогда, когда мы сможем противопоставить совокупность достигаемых с их помощью способов решения апорий времени тому решению, которое предлагается структурой исторического времени (четвертая часть, раздел II, гл. 2).
216 V. Woolf. Mrs. Dalloway. London, The Hogarth Press, 1925 (французский перевод: V. Woolf. L’oeuvre romanesque. Paris, Stock, 1973, t. I, p. 166-321). В квадратных скобкахмыцитируемкарманноеиздание этого произведения: New York and London Harcourt Brace Jovanovitch, 1925. (В дальнейшем мы опираемся на следующее издание: В. Вулф. Миссис Дэллоуэй. Перевод Е. Суриц. В кн.: ее же. Избранное. М., 1996. В круглых скобках в тексте указываются страницы по этому изданию. — Прим. перев.)
217 В тексте здесь, вероятно, описка: врач назван Холмсом (прим. перев.).
218 Джеймс Хэфли в работе «The Glass Roof», p. 73, противопоставляя «Mrs. Dalloway» «Улиссу» Джойса, пишет: «(Virginia Woolf) used the single day as a unity (...) to show that there is no such thing as a single day» [«(Вирджиния Вульф) взяла в качестве единицы измерения один день... чтобы показать, что такой вещи, как один день, не существует»], — цит. по: J.Guiguet. Virginia Woolf et son oeuvre; Part et la quête du réel». Paris, Didier, «Etudes anglaises 13», 1962; англ, пер.: «Virginia Woolf and Her Works». London, The Hogarth Press, 1965, p. 389.
219 ВирджинияВульф очень гордиласьоткрытиеми применением этойповествовательнойтехники, которую она называетв своем «Дневнике» «the tunnelling process» [«прокладываниемподземныхходов»]: «It took me a year’s groping to discover what I call my tunnelling process, by which I tell the past by instalments, as I have need of it» [«Мне пришлосьгодами продвигатьсяощупью, чтобы открыть то, что я называю прокладыванием подземных ходов; такимспособомя по меренеобходимостирассказываюпрошлое по частям»] («А writer’s Diary». London, The Hogarth Press, 1959, p. 60, цитируетсяЖаном Гиге, op. cit., p. 229). В ту пору, когданабросокромана еще носил название «The Hours», она пишет в «Дневнике»: «I should say a good deal about “The Hours” and my discovery: how I dig out beautiful caves behind my characters; I think that gives exactly what 1 want: humanity, humour, depth. The idea is that the caves shall connect and each comes to daylight at the present moment» [«Можно былобымногое рассказатьо “The Hours” и моемоткрытии: как я выкапываю замечательные пещерыпозадисвоих героев; думаю, это дает именно то, чего я хочу: человечность, юмор, глубину. Идея состоит в том, что эти пещеры будут сообщаться, а в настоящий момент каждая из них выходит на по-
195
верхность»] («A Writer»s Diary», р. 60; цитируется Жаном Гиге, op. cit., р. 233-234). Таким образом, чередование действия и воспоминания становится чередованием поверхностного и глубинного. Две судьбы Септимуса и Клариссы сообщаются главным образом благодаря близости подземных «пещер», посещаемых повествователем; на поверхности они соотносятся через посредство доктора Брэдшоу, принадлежащего двум под-интригам: новость о смерти Септимуса, принесенная доктором Брэдшоу, подтверждает таким образом на поверхности единство интриги.
220 Именно исследованию характеров главным образом посвящена работа Жана Александера «The Venture of Form in the Novels of Virginia Woolf». Port Washington, N.Y., London, Kennikat Press, 1974, ch. Ill, «Mrs. Dalloway and To the Lighthouse», p. 85-104. Этот критик видит в «Mrs. Dalloway» единственный роман Вирджинии Вульф, который «evolves from a character» [«развивается исходя из характера»] (р. 85). Выделяя таким образом персонаж Клариссы, Жан Александер имеет возможность подчеркнуть суетность ее светского лоска, компромиссы с социальным миром, который в ее глазах никогда не утрачивает своей прочности и славы. Так Кларисса становится «class symbol» [«символом класса»], в котором Питер Уолш точно подметил одновременно твердость дерева и пустоту. Но тайное отношение с Септимусом Уорреном Смитом меняет перспективу, выявляя опасности, которые жизнь Клариссы должна была обезвредить, а именно возможное разрушение личности в игре человеческих отношений. Этот психологический подход создает предпосылки адекватного анализа той гаммы чувств страха и ужаса, которая исследуется в романе. В этом плане мне кажется совершенно оправданным параллель с «Тошнотой» Сартра (р. 97).
221Дэвид Дейче (D. Daiches. The Novel and the Modem World. University of Chicago Press, 1939; переработанное издание: 1960, ch. X, «Virginia Woolf») считает этот прием наиболее новаторским в литературном искусстве Вирджинии Вульф: он позволяет объединить модус действия и модус интроспекции. Такое объединение влечет за собой «twilight mood of receptive reverie» [«смутное настроение мечтательной восприимчивости»] (р. 189), которое предлагается разделить читателю. Вирджиния Вульф сама высказалась об этом «mood», столь характерном для всего ее творчества, в своем эссе «On Modem Fiction» («The Common Reader», 1923): «Life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end» [«Жизнь — это светящийся ореол, полупрозрачная оболочка, окружающая нас с момента появления сознания до конца»] (цит. по: D. Daiches, op. cit., p. 192). Дейче предлагает простую схему, которая хорошо поясняет эту изощренную, но легко поддающуюся анализу технику. Либо мы сохраняем неподвижность во времени и охватываем взглядом события различные, но происходящие в пространстве одновременно, либо же мы застываем в пространстве, или, скорее, в характере, превращенном в неподвижное «место», и спускаемся или поднимаемся во времени сознания одного и того же персонажа. Нарративная техника заключается тогда в чередовании множества характеров в одной точке времени и множества воспоминаний в рамках одного характера. См. диаграмму, предложенную Дейчсом: op. cit., р. 204-205. Вирджиния Вульф более тщательно, нежели Джойс, размещает точные ориентиры, направляющие этот процесс. См. у Дейчса сравнение с «Улиссом», где также разматывается за один день бесконечно более запутанный клубок отступлений и возвращений (op. cit., р. 190, 193, 198, 199); он связывает различие в техниках двух авторов с различием в их замыслах: «Joyce^s aim was to isolate reality from all human attitudes an attempt to remove the normative element from fiction completely, to create a selfcontained world independent of all values in the observer, independent even (as though it is possible) of all values in the creator. But Virginia Woolf refines on values rather than eliminates them. Her reaction to crumbling norms is not agnosticism but sophistication» [«Джойс стремилсяотделитьреальностьото всех человеческихотношений — это
196
была попытка полностью устранить из произведения элемент нормативности, создать замкнутый мир, не зависящий от всех ценностей наблюдателя и даже (если это возможно) от всех ценностей, разделяемых автором. А Вирджиния Вульф скорее усовершенствует ценности, чем элиминирует их. Ее реакция на разрушение норм — не агностицизм, а утонченность»] (op. cit., р. 199). Д. Дейче вернулся к своей интерпретации «Mrs. Dalloway» и развил ее в книге «Virginia Woolf. New Directions». Norfolk, Conn, 1942, London, Nicholson and Watson, 1945, p. 61-78; переработанноеиздание 1963, p. 187-217. Мы цитируем здесь это издание. Жан Гиге в цитированной выше работе возвращается, опираясь в основном на «Дневник» Вирджинии Вульф, опубликованный лишь в 1953 г., к вопросу об отношении между «Улиссом» и «Миссис Дэллоуэй» (р. 241-245).
222 Цитируется с изменениями (прим. перев.).
223 «Злого зноя не страшись / И зимы свирепой бурь» [р. 13] (с. 15). Кларисса прочла эти слова, остановившись у витрины книжного магазина; они образуют в то же время один из мостиков, переброшенных нарративной техникой между судьбами Клариссы и Септимуса, столь влюбленного, как мы увидим, в Шекспира.
224 Незримое лицо Власти: промелькнувший на улице экипаж принца Уэльского (и королева, если то была она, разве это не «прочный символ Государства», «the enduring symbol of the State»)? И даже витрины антикварных магазинов напоминают о своей роли: «sifting the ruins of time» [«просеивания обломков времени»] (р. 23). Или еще аэроплан и тянущийся за ним шлейф рекламы из огромных заглавных букв. Лики Власти, Лорды и Леди вечных «приемов», и даже честный Ричард Дэллоуэй, верный служитель Государства.
225 Здесь и ранее перевод дан по французскому тексту (прим. перев.).
226 «Вот моя Элизабет», — произносит Кларисса со всеми подразумеваемыми оттенками этого притяжательного местоимения, которые найдут отклик лишь в последнем появлении Элизабет, подходящей к отцу в тот момент, когда на вечер миссис Дэллоуэй должен опуститься занавес: «И вдруг он понял, что это его Элизабет» [р. 295] (с. 134).
227 Перевод Е. Суриц с изменениями (прим. перев.).
228 Перевод Е. Суриц с изменениями (прим. перев.).
229 Перевод Е. Суриц с изменениями (прим. перев.).
230ВирджинияВульф не могла неподуматьоб игре словуШекспирав «As you like it»: «(Rosalind) 1 pray you, what is’t o’clock? — (Orlando) You should ask me, what time o’day; there’s no clock in the forest. — (Ros.) Then there is no true lover in the forest; else sighing every minute and groaning every hour would detect the lazy foot of Time as well as a clock. — (Orl.) And why not the swift foot of Time? Had not that been as proper? — (Ros.) By no means, sir. Time travels in divers paces with divers persons. I’ll tell you who Time ambles withal, who Time trots withal, who Time gallops withal, and who he stands still withal...» (акт III, сцена II, стих 301 и далее). [«Розалинда: Скажите, пожалуйста, который час? Орландо: Вам следовало спросить меня — какое время дня: в лесу часов нет. Р.: Значит, в лесу нет ни одного настоящего влюбленного: иначе ежеминутные вздохи и ежечасные стоны отмечали бы ленивый ход времени не хуже часов. О.: А почему не быстрый ход времени? Разве не все равно, как сказать? Р.: Никоим образом, сударь: время идет различным шагом с различными людьми. Я могу сказать вам, с кем оно идет иноходью, с кем рысью, с кем — галопом, а с кем — стоит на месте...». В. Шекспир. Как вам это понравится. Собр. соч. в 8 томах. Т. 5. М., 1959.]
231 J. Graham. Time in the Nowels of Virginia Woolf. University of Toronto Quaterly, vol. XVIII, 1949, p. 186-201, перепечатанов: «Critics on Virginia Woolf», Jacqueline E.M. Latham, изд. Corail Gables Florida University of Miami Press, 1970, p. 28-35. Критикзаводит здесь очень далеко эту интерпретациюсамоубийстваСептимуса. Именно «complete vision» [«совершенное видение»] (р. 32) Септимуса даетКлариссе «the power to conquer time» [«силу победитьвремя»] (ibid.). Такая трак-
197
товка подтверждается размышлениями Клариссы о смерти молодого человека, к которым мы обратимся далее. Она интуитивно поняла, говорит Джон Грэхем, значение видения Септимуса, которое он мог выразить только своей смертью. Поэтому возвращение к ее «рапу» будет означать для Клариссы «the transfiguration of time» [«преображение времени»] (р. 33). Не знаю, стоит ли следовать до конца этой интерпретации смерти Септимуса: «In order to penetrate to the center like Septimus, one must either die, or go mad, or in some other way lose one's humanity in order to exist independently of time» [«Для того чтобы, подобно Септимусу, проникнуть в суть, нужно или умереть, или сойти с ума, или каким-то иным образом утратить человеческую природу, дабы существовать независимо от времени»] (р. 31). Впрочем, критик очень верно отмечает, что «the true terror of his vision is that it destroys him as a creature of the time-world» [«подлинный ужас этого видения состоит в том, что оно разрушает его как творение временно́го мира»] (р. 30). В таком случае уже не время смертельно: убивает вечность. Но как отделить это «complete vision» — это высшее знание (gnose) — от безумия, обладающего всеми чертами паранойи? Я позволю себе добавить, что трактовка откровений Септимуса Джоном Грэхемом дает возможность перебросить мостик от интерпретации «Mrs. Dalloway», которую я предприму далее, к интерпретации «Der Zauberberg», где тема вечности и ее отношения ко времени выходит на первый план.
232 Заметка Вирджинии Вульф в «Дневнике» предостерегает от проведения резкого различия между безумием и здоровьем: «I adumbrate here a study of insanity and suicide; the world seen by the sane and the insane stay side by side something like that» [«Я в общих чертах исследую здесь безумие и самоубийство; мир, увиденный человеком в здравом уме, и тот, который видит душевнобольной, существуют рядом, — что-нибудь в таком духе»] («А writer’s Diary», op. cit., p. 52). Видение, свойственное безумцу, не обесценивается «нездоровьем». В конечном счете важен тот отклик, который оно находит в душе Клариссы.
233 «Время и рассказ», т. 1, с. 15-41.
234 A.D. Moody («“Mrs. Dalloway” as a Comedy». In: «Critics on Virginia Woolf», p. 48-50) видит в миссис Дэллоуэй яркий образ той пустой жизни, которую ведет «the British ruling dass» [«британский правящий класс»], как названо лондонское общество в самой книге. Правда, она в то же время олицетворяет и критику своего общества, но она не в силах отделиться от него. Вот почему «комическое», питаемое жестокой иронией повествователя, берет верх даже в финальной сцене вечера, ознаменованной присутствием премьер-министра. Мне кажется, эта интерпретация страдает упрощением, обратным тому, согласно которому, как мы только что показали, в смерти Септимуса, транспонированной Клариссой, выражается способность трансфигурировать время. Фабула о времени находится в «Mrs. Dalloway» на полпути между комедией и высшим знанием (gnose). Как справедливо отмечает Жан Гиге (ор. cit., р. 235), «социальная критика, входящая в намерения автора, прививается к психо-метафизической теме романа». Жан Гиге намекает здесь на замечание Вирджинии Вульф в «Дневнике» «I want to give life and death, sanity and insanity; I want to criticize the social system, and show it at work at its most intense» [«Я хочу показать жизнь и смерть, душевное здоровье и помешательство; я хочу подвергнуть критике социальную систему и показать ее в действии в наивысшем напряжении»] («А Writer's Diary», p. 57, цит. у Гиге на р. 228). Этот примат психологического исследования по отношению к социальной критике превосходно выявлен в книге: J. О. Love. Worlds in Consciousness, Mythopoetic Thought in the Novels of Virginia Woolf. Berkeley, University of California Press, 1970.
235 Перевод данпофранцузскомутексту (прим. перев.).
236 Это выражение самой Вирджинии Вульф из ее предисловия к американскому изданию «Mrs. Dalloway»: Септимус «is intended to be her double» [«задумывался какеедвойник»]; см.: I.Gamble. Clarissa Dalloway’s double, in: «Critics on Virginia
198
Woolf», p. 52-55. Кларисса становится «двойником» Септимуса, когда она представляет себе, «that there is a core of integrity in the ego that must be kept intact at all costs» [«что в “я” существует ядро целостности, которое нужно во что бы то ни стало сохранить в неприкосновенности»] (ibid., р. 55).
237 Из «Предисловия», написанного Вирджинией Вульф, нам известно, что в первом варианте Кларисса должна была покончить с собой. Введя в действие Септимуса и заставив его совершить самоубийство, автор позволил повествователю повествовательному голосу, который рассказывает эту историю читателю, провести линию судьбы миссис Дэллоуэй совсем рядом с линией самоубийства, но продолжить ее за пределами искушения смерти.
238 Перевод дан по французскому тексту (прим. перев.).
239 J. Graham, in «Critics on Virginia Woolf», p. 32-33.
240Конечно, не следует приписывать этому дару присутствия значимость искупительной вести. Кларисса останется светской женщиной, и монументальное время для нее — это величина, с которой надо иметь мужество договориться. В этом смысле Кларисса остается символом компромисса. Небольшая фраза «there she was», отмечает Жан Гиге, «contains everything and states nothing precisely» [«содержит в себе все самое важное и не утверждает ничего с определенностью»] (ор. cit., р. 240). Это несколько суровое суждение оправданно, если оставить Клариссу одну перед лицом социального престижа. Родство между судьбой Септимуса и судьбой Клариссы находится на иной глубине, глубине «caves», которые повествователь «connects»; это родство управляет не только интригой, но и психометафизической тематикой романа. Уверенный тон этого утверждения звучит громче, чем удары Биг Бена и всех башенных часов, сильнее, чем ужас и восторг, которые с начала рассказа борются за душу Клариссы. Отказ Септимуса от монументального времени смог вернуть миссис Дэллоуэй к преходящей жизни и ее непрочным радостям, ибо поставил ее на путь взятого под свою ответственность времени [бытия к] смерти.
241 Моя интерпретация близка в этом вопросе интерпретации Ховарда Бэкера (см.: Н.Baker. Between Language and Silence. The Novals of Virginia Woolf. Baton Rouge, London, Louisiana State University, 1982, p. 109-131). «Нарративное сознание», говорит Бэкер, циркулирует между интимными опытами персонажей; оно выражается «множеством антифонических голосов, представленных в произведении» (р. 131). В то же время невозможно преодолеть дистанцию между сознаниями, разве что ценой смерти («Death was attempt to communicate...» [«Смерть была попыткой общения...»], заявляет Кларисса при известии о смерти молодого человека). Эта дистанция санкционируется самой дистанцией нарратора по отношению к его персонажам. Бэкер усматривает в решающем прославлении характера Клариссы «for there she was» выражение столь же решающего отстранения повествовательного голоса. Добавлю, что было бы серьезной ошибкой считать этот опыт, при всей его скрупулезности, иллюстрацией какой-либо философии, созданной вне романа, например философии Бергсона. Монументальное время, которому противостоят Септимус и Кларисса, не имеет ничего общего с опространствленным временем, описанным Бергсоном. Оно, если можно так сказать, обладает собственными правами и не является результатом какого-либо смешения пространства и длительности. Поэтому я и сблизил его с монументальной историей по Ницше. Что же касается внутреннего времени, явленного на свет путешествиями повествователя по подземным пещерам, оно имеет больше сходства с фонтанированием момента, чем с мелодической континуальностью длительности по Бергсону. Сам бой часов один из таких моментов, всякий раз оцениваемых по-иному соответственно настроению в данное мгновение (см.: J. Guiguet, ор. cit., р. 388-392). Каковы бы ни были сходства и различия между временем у Вирджинии Вульф и Бергсона, главная ошибка здесь — не признавать за вымыслом как таковым способности исследовать мо-
199
дальности временно́го опыта, не поддающиеся философской концептуализации именно в силу его апоретичности. Это станет главной темой четвертой части нашей книги.
242 Т· Marin. Der Zauberberg. Roman. Ges. Werke. Bd. Ill, Oldenburg. Изд. S. Fischer, 1960. Комментарии, вышедшие до 1960 г., относятся к изданию 1924 г. (Berlin, изд. S. Fischer) в 2-х томах. (Мы опираемся далее на перевод В. Курелла и В. Станевич; цитаты даны по изданию: Т. Манн. Волшебная гора. Издательство «Крус» (Москва) и издательство АО «Комплект» (СПб.), 1994. В случаях, когда в русском переводе отсутствуют смысловые оттенки, важные для П. Рикёра, мы используем французский перевод, цитируемый автором по изданию: «La Montagne magique». Paris, Arthème Fayard, 1931, 2 vol. Прим. пер.) Нумерация страниц в квадратных скобках отсылает к карманному изданию на немецком языке (Fischer Taschenbuch Verlag, 1967). (Нумерация в круглых скобках отсылает к вышеупомянутому русскому изданию. Прим. перев.)
243 Об этом отношении см.: H.J.Weigand. The Magic Mountain. 1-еиздание, D. Appleton-Century Co., 1933; 2-е идентичное издание: Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1964.
244Соответствующие цифры в русском переводе: гл. I — 18 с., гл. III — 61 с., гл. IV 99 с., гл. V 187 с., гл. VI 228 с., гл. VII 210 с.
245 См. выше, гл. III.
246 Перевод дан по французскому тексту. Прим. перев.
247 Повествователь вернется к этой теме времени чтения — в нескольких отступлениях, в Том числе в ключевом эпизоде Ewigskeitssuppe [S. 145] («Суп вечности и внезапное прояснение», I, с. 220). В начале главы VII он задается более конкретным вопросом: можно ли рассказать само время [S. 365] (II, с. 233): если, заявляет повествователь, мы не можем рассказать время, по крайней мере «попытка рассказать о времени («von der Zeit erzählen zu wollen» [S.750]), видимо, не так уж бессмысленна» (II, с. 234). Выражение Zeitroman приобретает тогда двойной смысл: это роман, протяженный во времени, а значит, требующий времени для изложения, и роман о времени. Повествователь настойчиво возвращается к этой двойственности (II, р. 327) в эпизодах «Мингер Пеперкорн» и в начале «Великого отупения» [S. 661] (II, с. 335).
248 Эта намеренно введенная двойственность несет в себе предупреждение: «Волшебная гора» будет не только символической историей, повествующей (перед «ударом грома» 1914 годом) о болезни и смерти культурной Европы; она не будет и просто рассказом о духовном поиске. Нет нужды делать выбор между социологическим символизмом и символизмом герметическим.
249-250 В описании Т. Манна мингер Пеперкорн «рослый, широкоплечий человек, в нимбе белых волос, полыхавших, точно пламя» (И, с. 249). Прим. перев.
251 «Годах учения Вильгельма Мейстера» (нем.) Прим. перев.
252 Положительная оценка ученичества героя была предложена в 1933 г. Германом И. Вайгандом в цитированной выше работе. Он первым назвал «Волшебную гору» «педагогическим романом», но увидел в этом «novel of self-development» [«романе о самовоспитании»] (р. 4) «а quest for Bildung that transcends any specific practical aims» [«искания воспитания, выходящего за рамки какой-либо конкретной практической цели»] (ibid.), где главный акцент делается на постепенной интеграции совокупного опыта, из которого возникает положительная установка в отношении жизни в целом. Даже в ключевые моменты первой части (искушение побега, приглашение доктора Беренса, сделавшее Ганса обитателем «Берггофа», Вальпургиева ночь) герой всегда оказывается способным к выбору и к «возвышению» (Steigerung). Конечно, автор охотно признает, что конец первой части знаменует собой кульминацию симпатии к смерти: он называет «Der Zauberberg» «the epic of disease» [«эпической поэмой о болезни»] (р. 39). Но вторая часть обозначит победу тяги к жизни над очаро-
200
ванностью смертью (р. 49). Об этом свидетельствует эпизод «Снег»: «spiritual climax of clarity that marks the acme of his capacity to span the poles of cosmic experience... that he owes the resource which enables him ultimately to sublimate even his passion for Clawdia into this interested friendship» [«духовный апогей ясности, который маркирует высшую точку его способности соединить полюса космического опыта... и в конечном счете дает ему возможность сублимировать даже его страсть к Клавдии в пристрастную дружбу»]. В спиритическом сеансе Г. Вайганд усматривает соприкосновение опыта героя с мистицизмом (последняя глава книги Вайганда прямо посвящена мистицизму); но, по мнению автора, сеанс оккультизма нисколько не заставляет Ганса Касторпа утратить контроль над его волей к жизни; сверх того, исследование неизвестного, запрещенного доходит вплоть до обнаружения «the essential ethos of sin for Thomas Mann» [«существенного для Томаса Манна взгляда на грех»] (р. 154). Именно в этом проявляется «русская» сторона Касторпа — сторона Клавдии. Благодаря ей он понимает, что не бывает любопытства без известной извращенности. И все же вопрос заключается в том, действительно ли герой интегрировал, как утверждает Вайганд, этот хаос опытов и «synthesis is the principle that governs the pattern of the Zauberberg from first to last» [«синтез — это принцип, от начала до конца пронизывающий всю структуру “Волшебной горы”»] (р. 157). В книге «Thomas Mann» Ганса Майера (Frankfurt, Suhrkamp, 1980) читатель найдет более отрицательную оценку ученичества Ганса Касторпа в Берггофе. Обходя молчанием Zeitroman, Ганс Майер прямо ставит акцент на «эпопее жизни и смерти» (S. 114). Цель воспитания героя — безусловно, формирование нового отношения к болезни, смерти, упадку как Faktumжизни; это отношение контрастирует с ностальгией по смерти, унаследованной от Новалиса и доминирующей в «Смерти в Венеции» непосредственно предшествующем «Волшебной горе» произведении Томаса Манна. Сам Томас Манн подтверждает это в своей речи в Любеке: «Я хотел написать гротескную историю и в комическом аспекте дать ту одержимость идеей смерти, которая составляет содержание венецианской новеллы; я хотел создать как бы комическую “драму сатиров”, которая следовала бы за трагедией “Смерти в Венеции”» (Т. Манн. Любек как форма духовной жизни. — Собр. соч., т. 9. М., 1960, с. 89. Перевод Е.Эткинда. Прим. перев.). Согласно Гансу Майеру, иронический тон этого педагогического романа создает дополнительный контраст не только с романтическим наследием, но и с романом воспитания в духе Гёте: «Zauberberg» описывает не героя, находящегося в непрерывном развитии, но героя, по сути своей пассивного (S. 122), восприимчивого к крайностям, но пребывающего всегда на равном расстоянии от них, «посередине», как сама Германия, разрывавшаяся между гуманизмом и анти-гуманизмом, между идеологией прогресса и идеологией декаданса. Единственное, чему научился герой, — отворачиваться (Abwendung, S. 127) от всех впечатлений, лекций, бесед, которые он должен претерпеть. Из этого следует, что акцент нужно поставить равным образом на педагогическом воздействии других протагонистов — Сеттембрини, Нафты, мадам Шоша и Пеперкорна, если мы хотим оценить подлинный масштаб этого широкого социального полотна, позволяющий поместить «Волшебную гору» рядом с произведениями Бальзака и отдаляющий ее от творений Гёте и тем более Новалиса. Ганс Майер, конечно, принимает в расчет оппозицию времени низа и времени верха, он даже явным образом сближает ее с бергсоновской аппозицией плана действия и плана грезы. Но он полагает, что Ганс Касторп ничему не мог научиться у обреченных на смерть бездельников-буржуа из Берггофа, потому что у них нечему было учиться (S. 137). Здесь моя интерпретация отличается от интерпретации Ганса Майера, как, впрочем, и от интерпретации Германа Вайганда. Ганс Касторп должен был научиться в Берггофе новому отношению ко времени и к его исчезновению, отношению, модель которого обнаруживается в ироническом отношении пове-
201
ствователя к его собственному рассказу. Здесь я нахожу опору в замечательном исследовании Ганса Майера, посвященном переходу иронии в пародию у Томаса Манна (S. 171-183).
253 Р. Тибергер (R. Thieberger) в работе «Der Begriff der Zeit bei Thomas Mann, vom Zauberberg zum Joseph», Baden-Baden, Verlag für Kunst und Wissenschaft, 1962 («Die Zeitaspekte im Zauberberg», S. 25-65) собрал все высказывания о времени из бесед и мыслей (другими словами, внутренней речи) персонажей рассказа и из комментариев повествователя. Ему я обязан выбором наиболее типичных упоминаний такого рода.
254 В главе II происходит погружение в прошлое. Это возвращение — впрочем, весьма обычное для романа XIX начала XX в., связано с созданием эффекта перспективы, о котором говорилось выше. В этой главе вводятся Urerlebnisse, говоря словами Вайганда (op. cit., р. 25-39), которые будут подспудно направлять духовный рост, способствующий снижению интереса к измеряемому времени: чувство преемственности поколений, символизируемое передачей крестильной купели; впервые постигнутый у гроба деда двойственный смысл смерти, одновременно освященной и непристойной; неукротимое чувство свободы, выражавшееся во вкусе к экспериментированию и приключениям; эротическое влечение, тонко воссозданное в эпизоде заимствования карандаша у Пшибыслава Хиппе, — того самого карандаша, который в Walpurgisnacht Клавдия Шоша попросит вернуть ей. (О Хиппе речь идет не здесь, а в разделе «Хиппе», I, с. 143 сл. Прим. перев.) Помимо того, что эти Urerlebnisse заключают в себе стойкую энергию, превращающую негативный опыт времени в опыт внутреннего Steigerung, их воссоздание после сцены «приезда» и перед возбужденным рассказом о первом дне выполняет определенную функцию: они приводят в действие главный опыт — опыт размывания времени; необходимо было сообщить времени эту давность, эту плотность и насыщенность, чтобы дать представление о масштабе утраты, ощущаемой при исчезновении именно мер времени.
255 «Но вот недавно (neulich)... постой, примерно месяца два тому назад... Тогда не говори недавно... сухо и настороженно поправил его Ганс Касторп. Что? Ну тогда не недавно. А ты не придирайся. Я ведь сказал просто так, наугад. Значит, некоторое время тому назад...» [S. 57] (I, с. 75).
256 «О dio! Три недели! Вы слышали, лейтенант? Разве не чудится вам даже нечто дерзостное, когда человек заявляет: “Я приехал сюда на три недели, а потом снова уеду”? Мы, сударь, если мне будет позволено просветить вас, свое пребывание здесь неделями не мерим. Наша самая малая мера месяц. В наших исчислениях мы придерживаемся высокого стиля (im grossen Stil), больших масштабов, это привилегия теней» [S. 63] (I, с. 81).
257 Сам Иоахим, с тем чувством превосходства, которое ему придает более длительное пребывание в санатории, усиливает недоумение кузена: «Да, когда за ним следишь, за временем, оно идет очень медленно. Ия ничего не имею против того, чтобы мерить температуру четыре раза в день. Тут только и замечаешь, какая, в сущности, разница — одна минута и целых семь, при том, что семь дней недели проносятся здесь просто мгновенно» [S. 70] (I, с. 89). Повествователь продолжает: «Он не привык философствовать, но сейчас испытывал потребность порассуждать» [S. 71] (там же).
258 «У меня сегодня мысль работает необычайно остро. Что же такое время? спросил Ганс Касторп» [S. 71] (I, с. 90). Забавно наблюдать, как наш герой пародирует Августина, которого он не должен бы знать. Он — да, но не повествователь!
259 «У меня в голове еще пропасть мыслей о времени, могу сказать целый комплекс» [S. 72] (I, с. 90). «Боже мой! неужели все еще первый день! У меня такое ощущение, точно я у вас здесь уже давным-давно. Только не начинай опять мудрствовать насчет времени! — сказал Иоахим. Ты меня сегодня утром совсем сбил с толку. — Не беспокойся, я все начисто забыл, возразил Ганс Касторп. —
202
Весь комплекс. И вся острота мысли исчезла, это прошло...» [S. 88] (I, с. 108). «С другой стороны, мне кажется, точно я здесь не один день, а уже давно, и даже как будто стал старше и умнее, вот какое у меня ощущение. — Умнее тоже? спросил Сеттембрини...» [S. 91] (I, с. 111).
260 Беззастенчиво вмешиваясь в рассказ, повествователь заявляет: «Мы приводим эти соображения лишь потому, что примерно таковы были мысли Ганса Касторпа...» (I, с. 132).
261 Перевод дан по французскому тексту (прим. перев.).
262 Гансу Касторпу «приходилось на каждом шагу учиться, замеченное мимоходом рассматривать внимательно и вбирать в себя новое с юношеской восприимчивостью» [S. 112] (I, с. 133). В этом же смысле повествователь говорит о духе предприимчивости (Unternehmungsgeist), свойственном Гансу Касторпу. Тибергер сближает этот Exkurs с произнесенной Иоахимом апологией музыке, которая, по крайней мере, сохраняет порядок, точность членений. Сеттембрини добавляет: «Музыка пробуждает в нас чувство времени, пробуждает способность утонченно наслаждаться временем, пробуждает... и в этом отношении она моральна. Поскольку искусство пробуждает оно морально» [S. 121] (I, с. 143). Но Ганс Касторп противопоставляет свою рассеянность этой морализирующей диатрибе наставника.
263 В числе лейтмотивов и чаша для крещения «эта неподвижная и все странствующая семейная реликвия» (1, с. 187), — и дрожание дедушкиной головы (1, с. 147, 165).
264 Голоса повествователя и героя сливаются в замечании: «Да, время, загадочная штука, и что оно такое — понять очень трудно!» [S. 150] (с. 173). Острота мысли сводится здесь к неопределенности этого вопроса.
265 По истечении двух недель режим живущих «здесь наверху» «начал приобретать в глазах приезжего отпечаток какой-то само собой разумеющейся святости и нерушимости, причем жизнь внизу, на равнине, казалась отсюда странной и нелепой» [S. 157] (с. 180).
266 Здесь неточность: о шести неделях до Рождества речь идет в разделах «Изыскания» (1, с. 318-319) и «Пляска смерти» (в переводе В. Курелла и В. Станевич «Хоровод мертвецов», 1, с. 339). — Прим. перев.
267 Примечательно, что в своем презрении к русским и их чудовищной небрежности в отношении времени итальянский наставник произносит хвалу Времени: «Дар богов, данный человеку, чтобы он использовал его, использовал ради человеческого прогресса» [S. 258] (I, с. 288). Вайганд не упустил случая подчеркнуть здесь тонкую игру немецкого, итальянского и славянского духа. Такая игра — одно из многочисленных переопределений этой легенды о времени.
268 Автор еще раз берет читателя за руку: «Развивая нашу повесть, мы, как и любой человек, считаем себя вправе иметь собственные домыслы и высказываем предположение, что Ганс Касторп едва ли продлил бы свое пребывание здесь наверху сверх намеченного срока даже на один день, если бы его скромной душе открылся в глубинах времени хоть какой-то удовлетворительный ответ на вопрос о смысле и целях его служения жизни» [S. 244] (с. 274).
269 Не наводит ли это на мысль об обеде мертвецов (têtes de mort) в романе «В поисках утраченного времени» после решающего озарения, пережитого героем в библиотеке герцога Германтского?
270 Ирония последних слов — «И вышла из комнаты» оставляет читателя в неведении относительно того, что Клавдия и Ганс делали остаток этой карнавальной ночи. Позже признание бедному Везалю раздразнит наше любопытство, но не удовлетворит его. Автор-ироник заметит тогда: «...У нас имеются основания избавить и его (читателя. Перев.) и нас от изложения» [S. 451] (II, с. 100). Позже, по возвращении Клавдии, Ганс еще скажет, что смотрит на ту ночь «как на сон» [S. 631] (II, с. 302). Любопытству мингера Пеперкорна также не удастся приподнять занавес.
203
271 «Эти и подобные вопросы занимали ум Ганса Касторпа... себе он задавал все эти вопросы лишь потому, что не знал, как на них ответить» [S. 365] (II, с. 6).
272 Тибергер, конечно, прав, напоминая здесь о библейском повествовании об Иосифе, которое связывает страсть к наблюдению неба с архаикой мифов и с мудростью древних.
273 «Если вникнуть хорошенько, то, говоря по правде, ложе, то есть шезлонг... принесло мне больше пользы и меня научило большему, чем мельница на равнине за все прошедшие годы, вместе взятые, этого отрицать нельзя» [S. 398] (II, с. 42).
274 Его долгие лыжные прогулки связаны с этим обретением свободы. Они даже помогают ему в активном использовании времени, чем и подготавливается ключевой эпизод «Снег».
275 Иногда темой его рассуждений становится время. Нафта выступает против «греховной эксплуатации» времени, этого «общего, данного богом установления» [S. 425] (II, с. 72). См. также его апологию коммунистического времени, «на котором никто не должен будет наживаться» [S. 430] (перевод дан по французскому тексту. — Перев.).
276 «Короче говоря, Ганс Касторп набрался мужества здесь наверху, если мужество перед стихиями является не тупым рационализмом по отношению к ним, а сознательным самопожертвованием и подавлением в себе, из симпатии, страха смерти» [S. 502] (И, с. 157).
277 Обратим внимание на иронию, заключенную в названии этого эпизода: «Als Soldat und brav» [S. 525] «Храбро, по-солдатски» (II, с. 182). Иоахим был оторван от воинского ремесла и закончил свои дни в санатории; но его могила это могила солдата: это предвестник всех могил, вырытых Великой войной, той самой войной, которая в конце главы VII как удар грома обрушится на Берггоф.
278 Поцелуй в губы, по-русски, который повествователь сближает с «несколько двусмысленной» манерой [S. 633] (перевод дан по французскому тексту. — Прим. перев.), в какой доктор Кроковский читал лекции о любви, вызывавшие всеобщее возбуждение, знаменует он поражение или победу, или же тоньше ироническое напоминание о расплывчатом смысле слова «любовь», колеблющемся между благоговением и чувственностью?
279 (Перевод дан по французскому тексту. В переводе Курелла и Станевич «Демон тупоумия». — Прим. перев.) «Он видел только страшное и злое и понимал, что он видит: это была жизнь без времени, жизнь без забот и без надежды, загнивающее и суетливое распутство, словом, мертвая жизнь» (II, с. 338).
280 Перевод названий разделов дан по французскому тексту. В переводе В. Курелла и В. Станевич «Демон тупоумия» и «Ссоры и обиды» (прим. перев.).
281 Перевод дается с изменениями (прим. перев.).
282 «Augenblicke kamen, wo dir aus Tode und Körperunsucht ahnungsvoll und regierungsweise ein Traum von Liebe erwuchs» [S. 757]. (Французский перевод: «Des instants sont venus où dans les rêves que tu gouvernais un songe d’amour a surgi pour toi, de la mort, de la luxure, du corps» (p. 243 y П. Рикёра. Прим. перев.).)
283 M. Proust. A la recherche du temps perdu (текст подготовлен и изданПьером Клараком и АндреФерре), Paris, Gallimard, coll. «La Pléiade», 3 vol., 1954.
284 G. Deleuze. Proust et les Signes. Paris, PUF, 1964, 1983. (Рус. изд.: Ж. Делёз. Марсель Пруст и знаки. СПб., 1999. Пер. Е.Г. Соколова. Прим. перев.)
285 Представленная в работе Делёза квази-синхроническая таблица знаков и иерархия временных конфигураций, соответствующая этой большой парадигме знаков, не должны позволить забыть ни историчность их постижения, ни в особенности — своеобразную историчность самого события откровения, которое задним числом изменяет смысл предыдущего постижения, и в первую очередь его временно́е значение. Именно уникальный характер знаков искусства в сравнении со всеми другими знаками порождает эту особую историчность.
286А. Henry. Proust romancier, le tombeau égyptien. Paris, Flammarion, 1983.
204
287 Анн Анри приводит два важных отрывка из VI части «Системы трансцендентального идеализма» (op. cit., р. 33, 40).
288 «Местом окончательного осуществления Тождества должно было стать сознание художника, но в качестве метафизической сущности, а не психологического субъекта — вот особенность, которую в конечном счете зафиксирует роман» (р. 44). И далее: «Пруст думал лишь о том, чтобы расположиться в той промежуточной зоне между системой и конкретным, которую предполагает жанр романа» (р. 55).
289 Анн Анри не прошла мимо этой проблемы: «Пока мы не осветили особое представление Пруста о Тождестве, о его осуществлении в недрах воспоминания, — мы ничего еще не сделали» (р. 43). Но данный ею ответ не разрешает эту трудность, поскольку ключ к процессу психологизации, пережитому эстетикой гения, вновь ищется за пределами романа, в изменении интеллектуальной культуры в конце XIX века. Эта инверсия отношения между теоретическим основанием и повествовательным процессом подводит к вопросу о том, какую революцию совершают «Поиски» в традиции Bildungsroman, направление которой, как говорилось выше, изменил роман Томаса Манна «Der Zauberberg». Осуществленное «Поисками» перемещение центра искупительного события по отношению к долгому постижению знаков скорее показывает, что, встраивая свое произведение в традицию Bildungsroman, Марсель Пруст ниспровергает — иначе, чем Томас Манн, закон романа воспитания. Он порывает с оптимистическим видением непрерывного и поступательного развития героя, пребывающего в поисках самого себя. В сравнении с традицией Bildungsroman, творчество Пруста-романиста состоит в изобретении интриги, соединяющей с помощью чисто повествовательных средств постижение знаков и пришествие призвания. Анн Анри сама говорит об этом родстве с Bildungsroman, но для нее выбор данной романной формулы является частью общей деградации, которая поражает философию утраченного тождества, превращая ее в психологию утраченного времени.
290 Данная проблема аналогична той, что поставил перед нами структурный анализ, проведенный Женеттом. Он тоже усматривал в «Поэтическом искусстве», включенном в размышление героя о вечности произведения искусства, вторжение автора в произведение. Возражая ему, мы ввели понятие мира художественного произведения и опыта, приобретаемого героем в горизонте этого мира. А это значило признать за произведением способность проецировать себя в воображаемой трансцендентности. То же возражение можно отнести и к объяснению, предложенному Анн Анри: именно в той мере, в какой произведение проецирует героя-повествователя, осмысливающего свой опыт, оно может объединить в своей трансцендентной имманентности остатки философского умозрения.
291 Тем не менее его легко распознать в афоризмах и максимах, выявляющих показательный характер рассказанного опыта: его также без труда можно различить в скрытой иронии, доминирующей в рассказе об открытиях, сделанных героем в светском мире. Норпуа, Бришо, мадам де Вердюрен и прочие буржуа и аристократы один за другим падают жертвой безжалостной детали, доступной средне-тренированному восприятию. Зато лишь при повторном чтении читатель, знающий развязку произведения, замечает то, что в дешифровке знаков любви эквивалентно иронии в дешифровке знаков светскости: искушенный тон, который усиливает оттенок разочарования и в скрытой форме придает значение «утраченного времени» всякому любовному опыту. Можно сказать, что повествовательный голос несет ответственность за общий уничижительный тон, превалирующий в дешифровке знаков любви; этот голос становится еле слышным при дешифровке знаков чувств. Однако именно он среди потока впечатлений подсказывает вопрос, требование смысла, и этим рассеивает их очарование и развеивает колдовство. Таким образом, повествователь непрерывно превращает героя в разочарованное сознание.
205
292 Моменты полупробуждения служат первым элементом этого обрамления: «Памяти моей был дан толчок» (с. 39). (Цитаты даются по изданию: М. Пруст. По направлению к Свану. М., 1973. Перевод Н. Любимова. Прим. перев.) Второй элемент — соединение в воспоминании одной комнаты с другой: Комбре, Бальбек, Париж, Донсьер, Венеция и т.д. (там же). Повествователь не преминет напомнить в надлежащем месте об этой структуре обрамления: «Так вот на протяжении долгого времени, когда я просыпался по ночам и вновь и вновь вспоминал Комбре, передо мной на фоне полной темноты возникало нечто вроде освещенного вертикального разреза» (с. 71). Так будет до конца этой своего рода «прелюдии» (так называет ее Х. Р. Яусс: H. R. Jauss. Zeit und Erinnerung in Marcel Proust «A la recherche du temps perdu». Heidelberg, Carl Winter, 1955), в которую включены все рассказы о детстве и сама история любви Свана.
293 Об этом ритуале рассказывается, как и подобает, в имперфекте: «Я вынужден был уносить с собой из столовой в спальню тот драгоценный, хрупкий поцелуй, который мама имела обыкновение дарить мне, когда я лежал в постели, перед тем как мне заснуть, и, пока я раздевался, беречь его...» (с. 52).
294 «Я должен был бы быть счастлив, но счастливым я себя не чувствовал» (с. 66).
295 Ловушка заключена в промежуточном вопросе: «Достигнет ли это воспоминание, этот миг былого, притянутый подобным ему мигом из такой дальней дали, всколыхнутый, поднятый со дна моей души, достигнет ли он светлого поля моего сознания? Не ведаю» (с. 74).
296 Все «Обретенное время» заявляет о себе в этом замечании повествователя, размышляющего о стараниях героя вернуть восторг: «Затем, уже во второй раз, я убираю от него все лишнее, сызнова приближаю к нему еще не выдохшийся вкус первого глотка и чувствую, как что-то во мне вздрагивает, сдвигается с места, хочет вынырнуть, хочет сняться с якоря на большой глубине; я не знаю, что это такое, но оно медленно поднимается; я ощущаю сопротивление и слышу гул преодоленных пространств» (с. 74). Это выражение: «преодоленные пространства» — станет, как мы увидим, нашим последним словом.
297 Х.Р. Яусс интерпретирует опыт «мадлен» как первое совпадение между рассказывающим «я» и рассказываемым «я»; кроме того, он видит в этом опыте исходное nunc(теперь, лат. — Перев.), которому всегда уже предшествует глубинное «прежде», способное дать герою продвигаться вперед. Итак, здесь мы видим двойной парадокс: с начала повествования я, которое рассказывает, — это «я», вспоминающее то, что ему предшествовало; но, ведя рассказ в возвратном направлении, оно позволяет герою возможность начать его путешествие вперед: благодаря этому и сохраняется до конца романа стиль «будущего в прошедшем». Проблема отношений между направленностью к будущему и ностальгическим стремлением к прошлому рассматривается в книге Жоржа Пуле «Etudes sur le temps humain» (Paris, Plon et Ed. du Rochet, 1952-1961) в главах, посвященных Прусту (t. 1, р. 400-438; t. IV, р. 299-335).
298 «...здание, которое занимало пространство, имевшее, если можно так выразиться, четыре измерения, — четвертым было Время, и двигало сквозь века свой корабль, который, устремляясь от пролета к пролету, от придела к приделу, казалось, побеждал и преодолевал не просто столько-то метров, но эпоху за эпохой, и всякий раз выходил победителем» (с. 88). Не случайно «Обретенное время» закончится последним упоминанием церкви Комбре: отныне колокольня Сент-Илер один из символов времени; по словам Яусса, один из его фигуративов (figuratifs).
299 G. Poulet. L’Espace proiïstien. Paris, Gallimard, 1963, p. 52-74.
300Время здесь никогда не датируется: «В тот год...» (с. 169), «в ту осень...» (с. 179), «и в это самое мгновенье...» (с. 180) и т.д.
301 «Быть может, на основе впечатления, которое явилось у меня тоже неподалеку от Монжевена, но только несколько лет спустя, — впечатления, тогда еще смутного, я гораздо позже составил себе представление о садизме. Дальше будет
206
видно, что в силу совсем других причин воспоминание об этом впечатлении сыграет важную роль в моей жизни» (с. 183). Это «дальше будет видно», за которым следует «сыграет», способствует выправлению в проспективном плане направления, в целом ретроспективного. Сцена вспоминается, одновременно проецируется на собственное будущее, и таким образом откладывается на определенном расстоянии. Об отношении между темпоральностью и желанием у Пруста см.: Ch. Florival. Le Désir chez Proust. Louvain-Paris, Nauvtlaerts, 1971, p. 107-173.
302«И эти мечты напоминали мне, что раз я хочу быть писателем, то пора решить, о чем писать. Однако стоило мне задать себе этот вопрос, как только я пытался выбрать тему, в которую я мог бы вложить глубочайший философский смысл, мой ум переставал работать, мысленный взор уходил в пустоту, мне казалось, что у меня нет таланта или что какая-то болезнь мозга не дает ему развиться» (с. 197). И ниже: «Я падал духом и навсегда отрекался от литературы, несмотря на то, что Блок пытался воодушевить меня» (там же).
303 «Я был далек от мысли, что таившееся за мартенвильскиими колокольнями может найти себе некое соответствие в изящной фразе, но так как оно явилось передо мной в форме слов, доставлявших мне наслаждение, то, попросив у доктора карандаш и бумагу, я, не обращая внимания на тряску, для очистки совести и под влиянием охватившего меня восторга сочинил следующий отрывок, который я впоследствии разыскал и в котором почти ничего не изменил...» (с. 204).
304 «...Потому, что давние мои впечатления живут в теперешних, с которыми у них есть какая-то связь, они служат им опорой, придают глубину, какое-то особое измерение» (с. 209).
305 Перевод Н. Любимова с изменениями. — Прим. перев.
306 «Вот так я часто думал до утра о временах Комбре... и, по ассоциации воспоминаний, о том, что спустя много лет после моего расставания с этим городком я узнал про любовь Свана, которая была у него еще до моего появления на свет...» (с. 209; перевод дается с изменениями. Прим. перев.).
307 Для читателя «Обретенного времени» отрывок, подобный следующему, говорит сам за себя: «...Сван в самом себе, в воспоминании об услышанной фразе, в сонатах, какие он, надеясь отыскать эту фразу, просил сыграть ему, обнаруживал присутствие одной из невидимых реальностей; он уже не верил в них, но музыка по-особенному действовала на его духовную одеревенелость, и он вновь ощущал в себе не только желание, но даже, пожалуй, силы посвятить этим реальностям жизнь» (с. 234). И еще: «В ее ненавязчивом обаянии было нечто завершенное, в ней угадывалось то безразличие, которым сменяется скорбь» (с. 241).
308 Немаловажно, что Сван остается неудавшимся писателем: он так и не напишет свое исследование о Вермеере. Как уже можно было догадаться по его отношению к короткой фразе из сонаты Вентейля, он умрет, так и не изведав откровения, даруемого искусством. «Обретенное время» ясно говорит об этом (с. 176; здесь и далее мы опираемся на издание: М. Пруст. Обретенное время. М., 1999, перевод А. И. Кондратьева).
309 Дабы связать свой рассказ о любви Свана с основным повествованием, нарратор, один и тот же в рассказе от первого и от третьего лица, позаботился о том, чтобы Одетта (по крайней мере первая Одетта, относительно которой у читателя не может быть сомнений, что она станет матерью Жильберты в вымышленной автобиографии героя) появилась в последний раз «в сумерках сновидения» (с. 396), а затем в размышлениях героя после пробуждения. Таким образом «Любовь Свана» завершается в той же области полусна-полуяви, что и повествование в «Комбре». 3,0 Автор, как и повествователь, не испытывает никакого смущения, сводя вместе на Елисейских Полях юного Марселя и Жильберту с тропинок Комбре, тогдашний непристойный жест которой (с. 166) останется загадкой вплоть до «Обретенного времени» (с. 9-10). Романные совпадения не заботят Пруста, как и
207
повествователя, который, вначале превращая их в перипетии своего рассказа, затем придавая случайности встреч почти сверхъестественный смысл, успешно преломляет все совпадения в судьбы. «Поиски» полны этих неправдоподобных встреч, идущих на пользу рассказу. Последней, самой значительной из них, как мы увидим позже, станет встреча героя с дочерью Жильберты и Сен-Лу, описанная на заключительных страницах романа; в этой встрече соединятся «сторона Свана» и «сторона Германтов».
311 «Когда я заметил, сколь мало меня занимает Комбре» (с. 8). «Но, расставшись с местами, которые мне вновь довелось посетить уже в совсем другой жизни, я не ощущал с ними того сопряжения, из которого рождается, прежде чем успеешь это понять, мгновенная, восхитительная и всеохватная вспышка воспоминания» (с. 8).
312 Герой «так и не добрался до комбрейской церкви» (с. 21), которую он хотел посетить (прим. перев.).
313 Даже знаменитая пародия на Гонкуров (с. 24-30), служащая для повествователя предлогом, чтобы заклеймить мемуарную литературу, опирающуюся на непосредственно используемую способность «смотреть и слушать» (с. 31), усиливает общую тональность рассказа, в который она интерполирована, из-за отвращения к литературе, которое внушает герою чтение страниц, приписываемых Гонкурам, и из-за препятствий, создаваемых ею продвижению его призвания (с. 24, 32-33).
314 Правда, преображение парижского неба огнем прожекторов и сравнение летчиков с вагнеровскими валькириями (с. 68-69) накладывают на картину военного Парижа оттенок эстетизма, причем трудно сказать, усиливает ли он призрачный характер всех смежных сцен, или он относится уже к литературной транспозиции, равносущной обретенному времени. В любом случае, легкомыслие постоянно соседствует со смертью: «Празднества наводнили то, что можно назвать последними днями, — если немцы еще продвинутся — наших Помпей. Только крах избавит их от легкомыслия» (с. 114).
315 «И потом я узнал, что их жизни таили схожую тайну, о которой я и не подозревал» (с. 150). Сближение двух этих уходов дает повествователю повод для размышления о смерти, которое встроится затем в перспективу обретенного времени: «Однако похоже, что смерть все-таки подпадает под действие некоторых законов» (с. 152). Точнее, случайная смерть, которая на свой лад связывает случай и судьбу, чтобы не сказать предопределение (там же).
316 «Но подчас именно в те минуты, когда нам кажется, что все пропало, мы получаем сигнал, который только и может нас спасти. Мы ломились во все двери, но они никуда не вели, и вот, не подозревая об этом, толкаем ту единственную, через которую можно войти и которую тщетно искали бы еще сотню лет; она открывается» (с. 166).
317 Аллюзия на работу Буало «L’art poétique». — Прим. перев.
318 Отметим, что это нарративизированное умозрение передается в имперфекте согласно Харальду Вайнриху, времени заднего плана, — по контрасту с простым прошедшим временем, временем последовательности событий (incidence), с точки зрения подчеркивания рассказа (см. выше. с. 73). Размышление о времени действительно образует задний план, на фоне которого очерчивается решение стать писателем. Для того чтобы прервать размышление, вновь требуется простое прошедшее время последовательности событий: «В эту минуту вошел дворецкий, он сказал мне, что первая часть концерта закончилась, я могу оставить библиотеку и войти в гостиную. Я вспомнил, где нахожусь» (с. 213).
319 И еще: «Минута, свободная от временно́го порядка, воссоздает в нас, чтобы мы ощутили ее, свободного от времени человека» (с. 171).
320 Говоря об этом вневременном существе, которым был, сам того не подозревая, герой в эпизоде с «мадлен», повествователь уточняет: «Только это чудо [чудо аналогии, в связи с которой возникало это вневременное существо. — Перев.] было в силах помочь мне обрести былые дни, утраченное время, тог-
208
да как перед этим были совершенно бессильны и память, и интеллект» (с. 170).
321 Повествователь предвосхищает эту роль посредника между двумя качествами обретенного времени, когда признает: «Заодно я отметил, что при создании произведения искусства, для которого, казалось, я уже созрел, хоть это произошло подсознательно, я встречу большие трудности» (с. 170). Следует отметить, вслед за Жоржем Пуле, что слияние во времени — это также и слияние в пространстве: «Каждый раз в этих воскресениях далекое место, нарождавшееся вокруг всеобщего ощущения, на мгновение сплеталось, как в схватке борцов, с действительностью» (с. 173).
321а См. Платон, Менон, 97d. — Прим. перев.
322 «Универсальный язык» (с. 200), на котором должно быть выражено впечатление, тоже имеет отношение к смерти: как для Фукидида история, так для повествователя в «Поисках» произведение искусства может сделать «из... больше не существующих, из самого их подлинного естества, вечное достояние для всех душ» (с. 200) (перевод дается с изменениями. Прим. перев.). Вечное? Эти амбиции прикрывают собой отношение к смерти: «Горести это мрачные, ненавистные слуги, с которыми мы сражаемся, под гнетом которых все больше изнемогаем, ужасные слуги, которых никак нельзя заменить, они ведут нас тайными дорогами к истине и смерти. Блажен тот, кто встретил первую раньше второй, для кого, сколь бы близко они ни были одна к другой, час истины пробил прежде смерти» (с. 206).
323 Я вернусь в заключении к этой зримости «экстериоризированного» времени, освещающего смертных своим волшебным фонарем. В том же смысле немного далее: «...не только то, чем стали былые юноши, но и то, чем станут сегодняшние, отпечатляло во мне с глубокой силой ощущение Времени» (с. 238). Речь идет также об «ощущении протекшего времени» (перевод дан по оригиналу. — Прим. перев.) и об искажении существ, которое было «действием (в последнем случае приложимым к индивиду, а не к социальной прослойке) Времени» (с. 255). Это изображение времени в пляске смерти следовало бы включить в галерею «символических образов» (Jauss, op. cit., S. 152-168), которые на всем протяжении «Поисков» в той же мере представляют собой изображение незримого времени: Привычка, Печаль, Ревность, Забвение, а теперь Старость. Эта символика, я бы сказал, делает видимым «художника Время».
323а «Бесцветное и неощутимое время материализовалось в ней, чтобы я мог увидеть ее, как бы прикоснуться к ней; оно вылепило ее, как скульптуру, тогда как параллельно, надо мной, оно лишь проделало свою работу» (с. 314).
324 Перевод дан с изменениями (прим. перев.).
325 Перевод дан с изменениями (прим. перев.).
326 Этот текст, следующий за тем, который мы только что привели, необходимо процитировать целиком: «Можно вводить по одному бесконечный ряд предметов, фигурировавших в описываемом месте; но правдивым описание станет лишь тогда, когда писатель определит два предмета, установит их отношение, в искусстве схожее в чем-то с уникальным отношением каузального закона в мире науки, и поймает его в крепкие сети изящного стиля; когда, подобно жизни, он сопоставит свойство, общее для двух ощущений, и высвободит их единую сущность, увязав одно и другое, чтобы уберечь от превратностей времени» (с. 187).
327 R. Shattuk. Proust’s binoculars; a study of memory, time, and recognicion. In: «А la recherche du temps perdu» (New York, Random House, 1963). Этим замечательным текстом открывается исследование, о достоинствах которого я скажу далее.
328 Нижеследующими замечаниями я обязан цитированной выше работе Шаттака. Он не ограничивается перечнем оптических образов, которыми, как вехами, размечены «Поиски» (волшебный фонарь, калейдоскоп, телескоп, микроскоп,
209
увеличительные стекла и др.), а стремится выделить правила прустовской диоптрики, основанной на бинокулярном контрасте. Прустовская оптика не прямая, а раздвоенная, что позволяет Шаттаку охарактеризовать «Поиски» в целом как «stereo-optics of Time». Канонический в этом отношении текст звучит так: «Связь между настоящим и прошлым (с особой силой пережитая героем на утреннике. Перев.) ... была в чем-то схожа с тем, что называлось некогда оптическим видением, но оптическим видением лет, а не одного момента, одного лица, затерянного в искаженной перспективе Времени» (с. 220).
329 Роджер Шаттак прекрасно это подчеркивает: высший момент книги это не «блаженный миг», а «узнавание» (р. 37): «After the supreme rite of recognition at the end, the provisional nature of life disappears in the discovery of the straigth path of art» [«После верховного обряда узнавания, описанного в конце книги, временный характер жизни растворяется в открытии прямой дороги искусства»] (р. 38).
330 «...Поскольку всякое впечатление удвоено, заключено отчасти в самом предмете, а также в той части, которая единственно доступна нашему разумению, продолжено в нас самих; мы решительно пренебрегаем этой второй — ею, за которую только и можем уцепиться...» (с. 189).
331 «Но в целом, идет ли речь о впечатлениях, вроде испытанного мною при виде мартенвильской колокольни, или о реминисценциях, подобных тем, что таятся в неровности двух ступеней, во вкусе печенья, — ощущения следует истолковывать как знаки законов и идей, и надо попытаться мыслить, то есть — вывести из мрака то, что я чувствую, претворить в духовный эквивалент» (с. 177).
332 Мы вернемся к этой последней фазе алхимии письма в четвертой части нашей книги, когда речь пойдет о завершении произведения в акте чтения.
333 «Я не искал двух неровных плиток во дворе, где споткнулся. Но случайность и неизбежность, с которой было встречено ощущение, свидетельствовали о подлинности воскрешенного ими прошлого и всплывших образов; мы чувствуем, что приближаемся к свету, и испытываем радость от обретения реальности» (с. 177; перевод дается с изменениями. Перев.).
334 Здесь содержится вся проблематика следа: «Только эту единую книгу, труднее всего поддающуюся дешифровке, диктует нам реальность, она единственная, которую сама реальность вдохновила. О какой бы идее, порожденной в нас жизнью, ни шла речь, ее материальный облик, след впечатления, произведенного ею, еще один залог ее непреложной истинности» (с. 177-178). К этой проблематике следа мы вернемся в четвертой части.
335 Перевод дан по французскому тексту (прим. перев.). Поэтому художник в не меньшей мере, чем историк, является должником по отношению к чему-то ему предшествующему. К этому мы вернемся в четвертой части. В этом же смысле: «...я полагал, что эту, самую важную книгу, единственно правдивую книгу настоящий писатель должен, в расхожем смысле, не выдумывать (поскольку она уже написана в каждом из нас), но переводить. Долг и задача писателя — суть долг и задача переводчика» (с. 188).
336 Размышляя о том, что в мадемуазель де Сен-Лу находят свое завершение две «стороны», где герой столько раз гулял и мечтал, повествователь замечает, что его произведение будет состоять из всех «поперечных линий», объединяющих впечатления, эпохи и места (см. с. 312-313). Сколько сторон столько поперечных линий, столько и преодоленных расстояний.
337 Фигурация, соответствующая этому включенному времени, повторение в конце «Поисков» того же воспоминания о церкви Сент-Илер в Комбре, которое упоминается в начале романа: «Тут я неожиданно понял, что если бы у меня еще были силы воплотить мое произведение, этот утренник, который внушил мне разом и его идею, и боязнь не успеть его осуществить, прежде всего, несомненно, запечатлит для меня форму, некогда предчувствованную в комбрейской церкви, остающуюся обычно невидимой» (с. 326); для этого последне-
210
го ретроспективного озарения повествователь приберег простое прошедшее время, соединенное с наречием «неожиданно». В последний раз комбрейская церковь воссоздает близость в расстоянии, которая с самого начала «Поисков» знаменовала собой воспоминания о Комбре. В таком случае «Обретенное время» — это повторение: «Если у меня и было теперь твердое намерение вывести именно это представление о набежавшем времени, неотделимых от нас истекших годах, то все дело в том, что даже в эти минуты, в гостях у принца де Германта, шум шагов моих родителей, провожающих Свана, мерцающий, металлический, неистощимый, заливистый и бодрый звон колокольчика, возвестивший наконец, что Сван ушел, что мама сейчас поднимется, я все еще слышал их, я слышал, какими они были, их, покоившихся, однако, в таком далеком прошлом» (с. 327-328).
338 Перевод дан по французскому тексту (прим. перев.).
339 По поводу вопроса о письме, даже о невозможности писать, см.: J. Jenette. La question de l’écriture и L.Bersani. Dequisement du moi et art fragmentaire. In: «Recherche de Prouste». Paris, Ed. du Seuil, 1980, p. 7-33.
340См.: M. M. Бахтин. Эпос и роман (О методологии исследования романа). В кн.: его же. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с. 447-483. Прим. перев.
211
Указатель имен
|
Августин Александер Ж. Анри А. Арендт X. Аристотель |
13, 55, 106, 108, 116, 131, 136, 202 196 138, 139, 204, 205 152 13, 15-17, 20, 22, 23, 31, 32, 43, 55, 61, 62, 72, 75, 76, 96, 140, 158-160, 162, 169, 170, 173, 183, 187, 190 |
|
Аристофан Ауэрбах Э. |
24 91, 167, 189 |
|
Бальзак О. де Барт Р. Батай Ж. Бахтин М. Башляр Г. Беккет С. Бенвенист Э. Беньямин В. Бергсон А. Бёрк К. Блейк У. Бони А. Бремон К. Бродель Ф. Буало Н. Бультманн Р. Бут В. Бэкер X. |
17, 71, 201 29, 38, 39, 173-175, 182 170 103, 106, 159, 160, 193, 194, 211 118, 169 18, 34 70-72, 74-77, 79, 89, 93, 174, 181, 182, 184 36, 173 199 170 27 192 39, 46-50, 176, 177, 180, 188 86, 184 208 34 103, 190 199 |
|
Вайганд Г.И. Вайль Э. Вайнрих X. Валери П. Вальдес М. Вандриес Е. Вебер М. Вейн П. Величанский А. Вольтер Вульф В. Вулф Т. |
200-203 36 70, 72-84, 89, 95, 101, 105, 181, 183, 184, 188, 189, 208 174 166, 194, 195 189 66, 180 16 171 78 17, 86, 87, 104, 108, 166, 186, 195-199 -186 |
|
Гадамер Г. Г. Гандийяк М. де Гарелли Ж. Гегель Г.В.Ф. |
168 173 166 17, 159, 160, 167, 168 |
212
|
Гёте И. В. |
17, 42, 45, 46, 80, 83, 86, 87, 95, 123, 160, 176, 182 |
|
Гиге Ж. Гийом Г. Голсуорси Дж. Гомбрих Э.Х. Гомер Гораций Гофмансталь Г. фон Греймас А.Ж. Грифиус А. Грэхем Дж. Гуйе А. Гуссерль Э. |
185, 186, 189, 201 195, 196, 198, 199 182 86, 186 34 16, 76, 158, 167, 168 75 186 39, 44, 52, 54-57, 59-61, 63, 65, 67, 68, 178-181, 184 186 197-199 159 81, 184, 186 |
|
Данте А. Данто А. Дарлю А. Дедал Дейче Д. Декарт Р. Делёз Ж. Дефо Д. Джеймс Г. Джойс Дж. Долежел Л. Достоевский Ф.М. Дюран Ги |
115, 169 51, 177, 179 138 150 196 78 137, 143, 204 19, 167, 168 21, 98, 99, 193 34, 98, 161, 186, 191, 195, 196 192 103, 104, 193, 194 169 |
|
Жакоб А. Женегг Ж. |
182 68, 84, 87-95, 159, 182, 187-190, 193, 194, 205, 211 |
|
Зенкин С. |
187 |
|
Йитс У.Б. Йенач Ю. |
34 186 |
|
Камю А. Кант И. Касич Дж. Кафка Ф. Кенни Э. Кермоуд Ф. Кларак П. Козлов А.С. Количефф И. Кон Д. Конрад Дж. Кондратьев А.И. Косиков Г. К. Кристе ва Ю. Кундера М. Курелла В. Курте Ж. |
172 22, 66, 180, 181 170 18, 24, 96 180 29-36, 167, 170-173, 176 204 169 194 96, 98, 101, 161, 190, 193, 194 88, 186 207 174, 182 194 192 195, 200, 203, 204 178 |
213
|
Леви-Стросс К. Ле Гофф Ж. Лейбниц Г.В. Лессинг Г.Э. Линней К. Лозинский М.Л. Локк Дж. Лонгин Лотман Ю.М. Льюис У. Любак А. де Любимов Н. |
42, 43, 174-176, 179 175 122 186 41, 42, 45, 46, 176 171 19, 20 169 100, 106, 159, 173, 193, 195 34 26, 169 206, 207 |
|
Майер Г. Малларме С. Мальро А. Манн Т. |
201, 202 27, 155, 175 184 83, 85, 88, 108, 120, 123, 124, 166, 186, 195, 200-202, 205 |
|
Менандр Мендилоу А.А. Миллер Дж. X. Минк Л. Минковский Э. Михайлов А. В. Мопассан Ги де Мосс М. Мурат В.П. Мюллер Г. |
24 108, 167, 168, 195 29, 170, 172 51 118 184, 189 60, 63, 184 43, 176 178 68, 84, 86-91, 95, 185-187, 189 |
|
Нарумов Б. Неф Ф. Ницше Ф. Новалис |
166 179, 180 35, 36, 1 13, 172, 199 201 |
|
Олейник В.Т. Остин Дж. Отто Р. |
169 97, 192 186 |
|
Паскаль Б. Паскаль Р. Паунд Э. Перцов Н. Платон Плотин Принс Дж. Пропп В.Я. Пруст М. |
171 192 34 187 150, 182, 187, 209 55 188 39, 41-54, 67, 175-178, 185 88, 90, 92, 94, 96, 108, 126, 137-139, 149, 166, 186, 188, 189, 190, 193, 204-207 |
|
Пуйон Ж. Пуле Ж. |
97, 191 143, 206, 209 |
|
Рабле Ф. Разгон Н.Л. |
160 , 177 |
214
|
Растье Ф. Редфилд Дж. Рид Т. Рикёр П. Риммон-Кенан Ш. Ричардсон С. Роб-Грийе А. Розенберг X. Россум-Гийон Ф. ван |
178 160 19 184, 186, 200, 204 188 19, 168 172 171 193 |
|
Сартр Ж.П. Сеай Сегре Ч. Сейд Э.У. Серль Дж. Соколов Е.Г. Соссюр Ф.де Софокл Станевич В. Стерн Л. Стивенс У. Сурио Э. Суриц Е. |
172, 196 138, 139 188 172, 194 192 204 38, 189 76, 158 195, 200, 203, 204 88 172 53, 187 195, 197 |
|
Тард Г. Теньер Л. Тибергер Р. Тиллих П. Тодоров Ц. Толстой Л. Н. Томашевский Б.В. |
138, 139 52, 53 127, 202-204 34 39, 51, 166, 174, 175, 177, 179, 183, 188, 194 17, 103 187, 188 |
|
Уайльд О. Уотт Дж. Успенский Б. |
35 167, 168 100-102, 106, 159, 193 |
|
Ферре А. Финк О. Филдинг Г. Флобер Г. Фолкнер У. Фохт Б.А. Фрай Н. Фридеманн К. Фукидид Фуко М. |
204 81, 184, 195 85, 168 97 186 180 23-27, 30, 31, 35, 49, 160, 167, 169, 170 192 209 168 |
|
Хамбургер К. Херрнстейн Смит Б. Хомский Н. Хэфли Дж. |
70, 72, 73, 96, 105, 181-183, 190 29, 30, 170-173 179 195 |
|
Чатмен С. |
188, 192 |
215
|
Шаттак P. |
153, 209, 210 |
|
Шекспир В. |
32, 115, 118, 169, 171, 197 |
|
Шеллинг Ф. В. |
138, 139 |
|
Шиллер И. Ф. |
17, 73, 83, 160, 182, 186 |
|
Шкловский В. Б. |
187, 188 |
|
Шлегель А. В. |
83 |
|
Шнайдер М. |
174 |
|
Шопенгауэр А. |
138, 139 |
|
Штанцель Ф. К. |
98, 99, 102, 191, 192, 194 |
|
Элиаде М. |
115, 169 |
|
Элиот Т. С. |
34 |
|
Эсхил |
115 |
|
Эткинд Е. |
201 |
|
Юм Д. |
20 |
|
Яусс Х. Р. |
157, 206 |
216
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
