13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Рикёр Поль
Рикёр П. Время и рассказ. Том I.
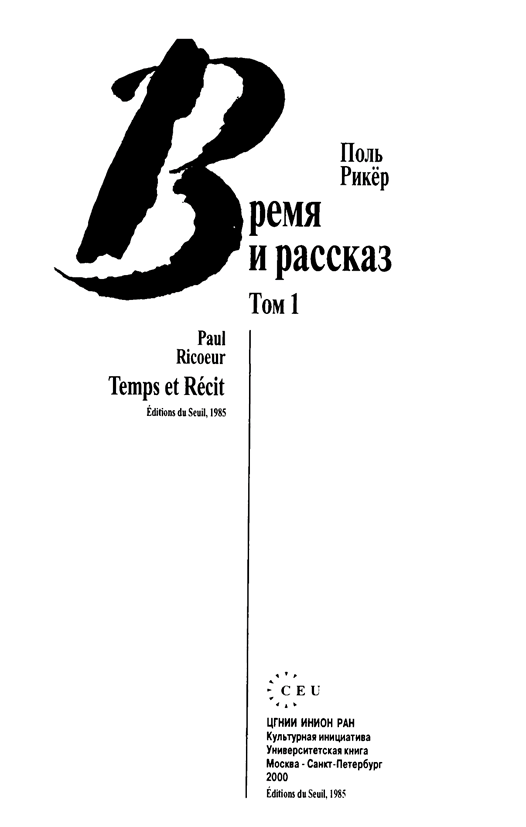
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
Оглавление размещено в начале.
Поль Рикёр
ВРЕМЯ И РАССКАЗ
Том I.
Москва-Санкт-Петербург
2000
СОДЕРЖАНИЕ
Часть первая. Круг между рассказом и временностью 11
Книга XI «Исповеди» Августина 15
1. Апория бытия и небытия времени 17
4. Противоположность вечности 33
1. Мелодическая основа: пара mimēsis — mythos 44
2. Интрига: модель согласия 49
4. Верховье и низовье поэтической конфигурации 57
1. Мимесис-I 68
2. Конфигурация, рефигурация и чтение 93
3. Нарративность и референция 95
Часть вторая. История и рассказ 107
1. Кризис события во французской историографии 114
2. Кризис понимания: «помологическая» модель в англоязычной аналитической философии 131
1. Взрыв помологической модели 141
1. Без-законное объяснение: Уильям Дрей 141
2. Историческое объяснение согласно Георгу Хенрику фон Вригту 153
2. Нарративистские аргументы 165
1. «Повествовательное предложение» согласно Артуру Данто 166
4. Объяснение посредством построения интриги 187
III. Историческая интенциональность 203
Введение 203
1. Единичное причиновменение 212
2. Сущности первого порядка в историографии 223
3. Время истории и судьба события 238
Заключение 259
Примечания 264
Указатель имен (Составители М. Я. Кротов, И. А. Осиновская) 303
ПРЕДИСЛОВИЕ
Памяти Анри-Ирене Марру
Живая метафора»1 и «Время и рассказ» — произведения-близнецы: задуманные как единое целое, они явились на свет одно за другим. Хотя метафору традиционно относят по ведомству теории «тропов» (или фигур речи), а рассказ — теории литературных «жанров»2, смысловые эффекты, создаваемые и метафорой, и рассказом, связаны с одним и тем же основным феноменом — семантической инновацией. В обоих случаях эта инновация возникает исключительно на уровне дискурса, то есть на уровне речевых актов, равных фразе или превосходящих ее.
В случае метафоры инновация состоит в создании нового семантического соответствия путем приписывания необычного атрибута: «Природа— это храм, где от живых колонн...»3 Метафора остается живой до тех пор, пока в новом семантическом соответствии, а отчасти и в самой его насыщенности, мы ощущаем сопротивление слов в их общеупотребительных значениях и, стало быть, их несовместимость на уровне буквального прочтения фразы. Смещение смысла, которое претерпевают слова в метафорическом высказывании и к которому античная риторика сводила метафору, не исчерпывает ее: оно — всего лишь средство, содействующее процессу, происходящему на уровне фразы в целом, и нацелено оно на то, чтобы сохранить новое, «странное» предикативное соответствие, которому грозит опасность неуместной буквальной атрибуции.
В случае рассказа семантическая инновация заключается в придумывании интриги, которая также является результатом синтеза: посредством интриги цели, причины, случайности сопрягаются во временно́м единстве целостного, завершенного действия. Именно этот синтез разнородного сближает рассказ и метафору. И там, и тут новое — еще не высказанное, неизвестное — возникает в языке: в одном случае это живая метафора, то есть новое предикативное соответствие, в другом — вымышленная интрига, то есть новое соответствие в строе событий.
7
В обоих случаях семантическая инновация может быть соотнесена с продуктивным воображением, точнее, схематизмом, который является его означающей матрицей. В новых метафорах рождение нового семантического соответствия прекрасно показывает, чем может быть воображение, действующее согласно правилам: создавать хорошие метафоры, говорил Аристотель, значит подмечать подобное 4. Но что значит «подмечать подобное», как не устанавливать сходство, сопоставляя термины, сначала «далекие» друг от друга, но внезапно оказывающиеся «близкими»? Именно это изменение расстояния в логическом пространстве является делом продуктивного воображения. Продуктивное воображение схематизирует операцию синтеза, формирует (figure) предикативную ассимиляцию, что и приводит к семантической инновации. Продуктивное воображение, участвующее в процессе создания метафоры, способно, стало быть, путем предикативной ассимиляции порождать новые логические роды, преодолевая сопротивление общеупотребительных категоризаций языка. Но интригу в рассказе также можно сравнить с этой предикативной ассимиляцией: она «сводит вместе» (prend ensemble) и объединяет в целостную законченную историю разнообразные разрозненные события, схематизируя таким образом интеллигибельное значение, которое приписывается рассказу, взятому как целое.
Наконец, и там и тут интеллигибельность, демонстрируемая этим процессом схематизации, отличается как от комбинирующей рациональности, которую в случае метафоры использует структурная семантика, так и от собственно рациональности, на которую — в случае рассказа— опираются нарратология или научная историография. Эта рациональность имеет целью, скорее, имитировать на высшем уровне метаязыка укорененное в схематизме понимание.
Следовательно, идет ли речь о метафоре или об интриге, чем больше мы объясняем, тем лучше понимаем. В первом случае понимать — значит постигать динамизм, благодаря которому метафорическое высказывание, то есть новое семантическое соответствие, восстает из руин семантического соответствия, возникшего при буквальном прочтении фразы. Во втором случае понимать — значит постигать операцию, которая объединяет в целостном и завершенном действии многообразие, созданное обстоятельствами, целями и средствами, начинаниями и взаимодействиями, превратностями судьбы и всеми непредвиденными последствиями человеческой деятельности. Эпистемологическая проблема — возникает ли она в связи с метафорой или в связи с рассказом — по большей части состоит в соединении объяснения, осуществляемого семиотико-лингвистическими науками, с предварительным пониманием, которое относится к области усвоения языковой практики — как поэтической, так и повествовательной. В обоих случаях речь идет об объяснении — исходя из поэтического понимания — как автономии этих рациональных дисциплин, так и их родства — прямого или косвенного, близкого или далекого.
8
Параллелизм между метафорой и рассказом можно проследить и дальше: изучение живой метафоры вынудило нас выйти за рамки проблемы структуры или смысла и обратиться к проблеме референции, или претензии на истину. В «Живой метафоре» я защищал тезис о том, что поэтическая функция языка не сводится к демонстрации возможностей языка самого по себе в ущерб его референциальной функции, которая главенствует в языке дескриптивном. Я утверждал, что временно́е отвлечение от непосредственно референциальной и дескриптивной функции является лишь оборотной стороной, негативным условием выявления более скрытой референциальной функции дискурса, которая как бы высвобождается благодаря отвлечению от дескриптивного значения высказываний. Так, например, поэтический дискурс привносит в язык аспекты, свойства, значения реальности, которые недоступны для непосредственно дескриптивного языка и могут быть переданы лишь в процессе сложного взаимодействия между метафорическим способом высказывания и нарушением общеупотребительных значений слов, подчиненным определенным правилам. Я, следовательно, отважился говорить не только о метафорическом смысле, но и о метафорической референции, чтобы подчеркнуть способность метафорического высказывания пере-описывать реальность, недоступную непосредственному описанию. Я даже высказал мысль о том, что «видеть-как» (Voir-comme), к чему, собственно, и сводится сила метафоры, способно выразить «быть-как» (être-comme) на самом глубинном онтологическом уровне.
Миметическая функция рассказа ставит проблему, в точности соответствующую проблеме метафорической референции. Эта функция является лишь частным приложением метафорической референции к сфере человеческой деятельности. Интрига, говорит Аристотель, это mimēsis действия. Далее я буду различать по крайней мере три смысла термина мимесис: это отсылка к обыденному предпониманию, которое мы имеем о сфере действия, вхождение в царство поэтического вымысла и, наконец, новая конфигурация 5 предпонятой сферы действия при помощи вымысла. Именно в последнем смысле миметическая функция интриги сближается с метафорической референцией. Тогда как метафорическое переописание доминирует, скорее, в области сенсорных, эмоциональных, эстетических и аксиологических значений, которые делают мир пригодным для жизни, миметическая функция рассказов проявляется преимущественно в поле деятельности и ее временны́х значений.
Эту последнюю особенность я и проанализирую в своей книге. В сочиняемых нами интригах я вижу особый способ, посредством которого мы ре-фигурируем наш смутный, неоформленный и в известной мере бессловесный временно́й опыт. «Что же такое время? — задается вопросом Августин. — Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю» 6. Именно в способности вымысла ре-фигурировать этот вре-
9
менной опыт под воздействием апорий философского умозрения и заключается референциальная функция интриги.
Но граница между двумя этими функциями может меняться. Прежде всего, интриги, которые конфигурируют и трансфигурируют практическую сферу, включают в себя не только действие, но и страдание, а также персонажей — как деятелей, так и жертв. Так лирическая поэзия соприкасается с поэзией драматической. Кроме того, обстоятельства, которые, как указывает само это слово, окружают действие со всех сторон 7, и непредвиденные последствия, составляющие трагическую сторону действия, содержат в себе также некое пассивное измерение, доступное и поэтическому дискурсу, в частности элегии и плачу. Таким образом, метафорическое переописание и нарративный мимесис столь тесно переплетены, что можно поменять местами оба термина и говорить о миметическом значении поэтического дискурса и о способности нарративного вымысла к переописанию.
Итак, здесь очерчивается обширная поэтическая сфера, включающая в себя метафорическое высказывание и нарративный дискурс.
В основу книги положены «Brick Lectures», прочитанные мною в 1978 году в университете Миссури-Колумбия. По-французски они впервые были опубликованы (в качестве первых трех глав) в работе «Повествовательность» (Paris, éd. du C.N.R.S., 1980). К этому надо прибавить«Zaharoff Lecture», прочитанную в Институте Тейлора (Сент-Жиль в Оксфорде) в 1979 г.: «The contribution of French Historiography to the Theory of History» (Oxford, Clarendon Press, 1980). Отдельные части этой книги были разработаны в обобщенной форме при подготовке двух семинаров, проводившихся в университете Торонто на кафедре Нортропа Фрая, и в рамках «Программы сравнительного литературоведения». Многочисленные наброски к книге составили материал моих семинаров в Центре по изучению феноменологии и герменевтики в Париже и в Чикагском университете на кафедре Джона Навина.
Мне хотелось бы поблагодарить профессоров Джона Байена и Нобля Каннингема из университета Миссури-Колумбия, Г.П.В. Колльера из Института Тейлора (Сент-Жиль в Оксфорде), Нортропа Фрая и Марио Вальдеса из университета Торонто за их любезное приглашение, а моих коллег и студентов из Чикагского университета — за теплый прием, за энтузиазм и строгую критику. Глубокую признательность я выражаю и всем членам парижского Центра по изучению феноменологии и герменевтики, которые дружески поддерживали меня в ходе исследовательской работы, приняв участие в коллективном труде «Повествовательность».
Приношу особую благодарность Франсуа Валю из издательства «Seuil», чье внимательное и строгое чтение рукописи помогло улучшить аргументацию и стиль книги.
10
Часть первая
Круг между рассказом
и временностью
В первой части данной работы мы проясним основные допущения, которые в дальнейшем будут подвергнуты испытанию со стороны различных дисциплин, относящихся либо к историографии, либо к художественной литературе. У этих допущений имеется общее ядро. Идет ли речь об утверждении структурной тождественности историографии и художественной литературы (что мы попытаемся доказать во второй и третьей частях книги) или об утверждении глубокого родства между претензиями на истинность, присущими обоим способам повествования (чему будет посвящена четвертая часть), — одно допущение берет верх надо всеми остальными: в конечном счете в исследованиях структурной идентичности нарративной функции или истинностных притязаний всякого повествовательного произведения на карту ставится временно́й характер человеческого опыта. Мир, создаваемый в любом повествовательном произведении, — это всегда временно́й мир, или, как мы постоянно будем повторять в этой книге, время становится человеческим временем в той мере, в какой оно артикулируется нарративным способом, и, наоборот, повествование значимо в той мере, в какой оно очерчивает особенности временно́го опыта. Этому главному допущению и посвящена первая часть нашей книги.
Бесспорно, этот тезис носит круговой характер. В конце концов, это свойственно любому герменевтическому утверждению. В первой части работы как раз и сделана попытка ответить на подобные возражения. В третьей главе я намереваюсь доказать, что круг между нарративностью и временностью — круг не порочный, но вполне правомерный, и обе половины его взаимно подкрепляют друг друга. Чтобы подготовить обсуждение этой проблемы, я решил предпослать тезису о соответствии между нарративностью и временностью два независимых друг от друга исторических введения. Первое (глава I) посвящено теории времени у Августина, второе (глава II) — теории интриги у Аристотеля.
Этих авторов мы избрали по двум причинам.
Во-первых, они предлагают нам два независимых подступа к нашей
13
проблеме: один — со стороны парадоксов времени, другой со стороны интеллигибельной организации рассказа. Независимости эта выражается не только в том, что «Исповедь» Августина и «Поэтика» Аристотеля принадлежат двум глубоко различным культурным мирам, которые отделены друг от друга многими столетиями и существенно отличной проблематикой. Для нас очень важно, что один из авторов анализирует природу времени, не намереваясь, по-видимому, положить это исследование в основание нарративной структуры духовной автобиографии, изложенной в первых девяти книгах «Исповеди». Другой строит теорию драматической интриги, не задумываясь о временны́х импликациях своего анализа: заботу об исследовании времени он оставляет «Физике». Именно в этом смысле «Исповедь» и «Поэтика» являют собой два независимых друг от друга подступа к сформулированной выше проблеме круга.
Однако не эта независимость двух исследований окажется в центре нашего внимания. Они не только рассматривают один и тот же вопрос в двух радикально различных философских перспективах, но и порождают прямо противоположные образы. В самом деле, августиновский анализ дает представление о времени, в котором несогласие постоянно изобличает волю к согласию, конституирующую animus*. Напротив, аристотелевский анализ устанавливает преобладание согласия над несогласием в конфигурации интриги. Эта противоположность соотношения между согласием и несогласием и была наиболее важна для меня в сопоставлении «Исповеди» и «Поэтики», — сопоставлении, которое может показаться тем более неуместным, что, презрев хронологию, движется от Августина к Аристотелю. Но я подумал, что встреча «Исповеди» и «Поэтики» в сознании самого читателя будет более драматичной, если мы пойдем от произведения, где преобладающим чувством является недоумение, вызванное парадоксами времени, к тому, где, напротив, торжествует вера в способность поэта и поэтического произведения заставить порядок одержать верх над беспорядком.
Во второй главе первой части читатель найдет мелодическую основу, которая будет развиваться, порой в обратном направлении, на протяжении последующей части книги. Не заботясь об исторической экзегезе, проследим за той разнонаправленной игрой согласия и несогласия, которую мы встречаем в глубочайших исследованиях Августина и Аристотеля 8.
* Дух (лат.). -Прим. перев.
14
I. Апории временно́го опыта
Книга XI «Исповеди» Августина
Главная антитеза, которую мы поставим в центр наших размышлений, в наиболее резкой форме выражена в конце XI книги «Исповеди» Августина 9. Здесь противопоставляются два состояния человеческой души; автор, склонный к звучным антитезам, дает им названия intentio и distentio animi *. Эту противоположность я в дальнейшем сравню с противоположностью mythos и peripeteia **, о которой говорит Аристотель.
Но прежде необходимо сделать два предварительных замечания. Первое: чтение XI книги «Исповеди» я начинаю с главы 14,17, с вопроса «Что же такое время?» Известно, что анализ времени ведется здесь в контексте размышлений об отношении между временем и вечностью 10, навеянных первым стихом Книги Бытия: «In principio fecit Deus...»*** С такой точки зрения отделить анализ времени от этих размышлений означало бы совершить определенное насилие над текстом, оправданием чему не может быть намерение поместить в одно и то же мыслительное пространство августиновскую антитезу intentio и distentio и аристотелевскую антитезу mythos и peripeteia. И все же это насилие находит известное оправдание в самой аргументации Августина, который, говоря о времени, ссылается на вечность лишь для того, чтобы сильнее подчеркнуть онтологическую недостаточность, характерную для человеческого времени, и пытается непосредственно разрешить апории, которыми чревата концепция времени. Дабы восполнить, хотя бы отчасти, ущерб, нанесенный тексту Августина, я в дальнейшем вернусь к размышлению о вечности и попробую показать, как происходит наращивание временно́го опыта.
Второе предварительное замечание: августиновский анализ времени, отделенный от размышлений о вечности с помощью методологиче-
* Intentio— напряжение, усилие; distentio animi — растяжение души (лат). — Прим. иерее
** Mythos — миф, сказание; peripeteia — перелом (греч.). В дальнейшем автор разъяснит свою трактовку термина mythos. — Прим. иерее.
*** «В начале сотворил Бог...» (лат.). — Прим. перев.
15
ской уловки, в которой я только что признался, предстает в высшей степени спорным и даже противоречивым, что не свойственно в такой мере ни одной из древних теорий времени от Платона до Плотина. Августин (как и Аристотель) не только всегда начинает с апорий, завещанных традицией, — его решение каждой апории порождает новые трудности, которые неотступно сопровождают исследование. Это приводит к тому, что всякое продвижение мысли вперед влечет за собой новые затруднения и ставит Августина в один ряд то со скептиками, которые ничего не знают, то с платониками и неоплатониками, которые знают всё. Августин ищет (глагол quaerere, как мы увидим, настойчиво повторяется на протяжении всего текста). Быть может, следует даже признать: то, что мы называем августиновским тезисом о времени (определяя его как психологический, чтобы противопоставить его тезисам Аристотеля и даже Плотина), само по себе более апоретично, чем полагал Августин. Во всяком случае, именно это я и попытаюсь показать.
Эти два предварительных замечания следует объединить: изучение времени в контексте размышлений о вечности придает августиновскому анализу своеобразный характер «сетования», исполненного надежды, который исчезает в ходе исследования, ограничивающегося обсуждением аргументов по поводу времени. Но как раз вырывая анализ времени из контекста проблемы вечности, мы и можем подчеркнуть его апоретические черты. Конечно, апоретический способ анализа отличается от анализа скептиков тем, что не препятствует достижению некоей прочной достоверности, но он отличен и от изысканий неоплатоников, поскольку с его помощью ядро утверждения никогда не выявляется в чистом виде, вне новых апорий, которые порождает этот способ 11.
Этот апоретический характер чистой рефлексии о времени чрезвычайно важен для дальнейшего исследования. Тому есть две причины.
Во-первых, надо признать, что у Августина нет чистой феноменологии времени. Возможно, ее никогда не будет и после него 12. Таким образом, августиновская «теория» времени неотделима от операции аргументирования, с помощью которой мыслитель отсекает одну за другой постоянно оживающие головы гидры скептицизма. А значит, любое описание сопровождается выдвижением все новых и новых доводов. Вот почему исключительно трудно, а, пожалуй, и невозможно, извлечь феноменологическое ядро из-под оболочки аргументации. «Психологическое решение», приписываемое Августину, не является, очевидно, ни «психологией», которую можно отделить от риторики аргументации, ни даже «решением», которое можно окончательно избавить от апоретичности.
Более того, апоретический стиль обретает особое значение в общей стратегии данной работы. Лейтмотивом нашей книги станет идея о том, что спекуляция по поводу времени — это бесконечно длящееся размышление, которому может противостоять разве что нарративная деятель-
16
ность. Речь не о том, что эта деятельность, подменяя собой апории, способна решить их. Если она их и решает, то в поэтическом, а не теоретическом смысле слова. Построение интриги, скажем мы далее, отвечает на умозрительную апорию поэтическим действием, с помощью которого, безусловно, можно прояснить апорию (в этом состоит основной смысл аристотелевского catharsis*), но не разрешить ее теоретически. В известном смысле и сам Августин склонен к подобному решению: слияние аргументации и гимна в первой части XI книги (эту проблему мы пока вынесем за скобки) свидетельствует о том, что только поэтическая трансфигурация и решения, и самого вопроса не позволяет апории перейти границу, отделяющую ее от бессмыслицы.
1. Апория бытия и небытия времени
Понятие distentio animi, парное с intentio, лишь постепенно и с большим трудом освобождается от основной апории, занимающей мысль Августина, — апории меры времени. Но сама эта апория вписывается в круг еще более фундаментальной апории — апории бытия или небытия времени. Ибо измерено может быть только то, что каким-то образом существует. Можно, если угодно, сожалеть об этом, но феноменология времени родилась в недрах онтологического вопроса: «Что же такое время?», quidest enim tempus? (XI, 14, 17) 13. Стоит только сформулировать этот вопрос, как немедленно дают о себе знать все старые трудности, связанные с проблемой бытия и небытия времени. Но примечательно, что с самого начала стиль Августина— пытливо-вопрошающий: с одной стороны, аргументация скептиков ведет к небытию, тогда как уверенность, подкрепленная повседневным языковым опытом, вынуждает признать, что время существует, хотя мы и не в состоянии пока понять, каким образом оно существует. Аргумент скептиков хорошо известен: времени не существует, поскольку будущего еще не существует, прошлого уже не существует, настоящее же не пребывает. И все же мы говорим о времени как о том, что существует; мы говорим: что-то будет, что-то было, что-то есть в настоящем. Даже прошлое не есть ничто. Примечательно, что именно языковой опыт в известной мере противился тезису о небытии. Мы говорим о времени, причем говорим осмысленным образом, и в этом находит обоснование всякое утверждение о бытии времени: «И когда говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое; и когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова» (там же) 14.
Но если верно, что о времени мы говорим осмысленно и в позитивных терминах («будет», «было», «есть»), то неспособность объяснить,
* Очищение (греч.). — Прим. перев.
17
как именно происходит это словоупотребление, рождается как раз из, этой достоверности. Конечно, высказывание о времени противостоит аргументу скептиков, но сам язык ставится под вопрос этим расхождением между «что» и «как». Мы уже помним наизусть слова, вырвавшиеся из уст Августина в начале второго размышления: «Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему — нет, не знаю» (там же). Таким образом, онтологический парадокс не только противопоставляет язык аргументу скептиков; он противопоставляет язык и ему самому: как примирить позитивность глаголов «пройти», «происходить», «быть» — и негативность наречий «больше не», «еще не», «не всегда»? Вопрос все более сужается: как время может существовать, если прошлого уже нет, будущего еще нет, а настоящего никогда нет?
Из этого исходного парадокса вырастает основной парадокс, дающий начало теме растяжения (distension). Как можно измерить то, что не существует? Парадокс меры непосредственно порождается парадоксом бытия и небытия времени. Здесь язык еще является относительно надежным гидом; мы говорим: «долгое время», «короткое время» и определенным образом замечаем продолжительность и измеряем ее (см. в 15,19 обращение души к себе самой: «Тебе ведь дано видеть сроки (moras) и измерять их. Что ты ответишь мне?»). Более того, только о прошлом и будущем мы можем сказать, долги они или кратки; предвосхитим «решение» апории: именно о будущем говорят, что оно приближается, а о прошлом — что удаляется. Но язык удостоверяет лишь сам факт измерения; повторяем, он избегает вопроса как?: «как возможно, что...», «на каком основании» (sed quo pacto, 15, 18).
По всей видимости, Августин поначалу игнорирует тот достоверный факт, что мы измеряем именно прошлое и будущее. В дальнейшем, помещая прошлое и будущее в настоящее и используя память и ожидание, он сможет спасти эту первоначальную достоверность от мнимого краха, перенеся на память и ожидание идею долгого прошлого и долгого будущего. Но эта достоверность языка, опыта и действия будет вновь обретена лишь после ее утраты и глубокого преобразования. В этом отношении характерной особенностью августиновских исканий является то, что конечный результат предвосхищается в различных модальностях, которые сначала должны быть подвергнуты критике, пока не прояснится их подлинный смысл 15. В самом деле, Августин, очевидно, прежде всего отвергает недостаточно аргументированную «достоверность»: «Боже мой, Свет мой, не посмеется ли истина Твоя и здесь над человеком?» (там же) 16. Вначале необходимо обратиться именно к настоящему. «Долгое прошлое стало долгим, когда уже прошло, или раньше, когда было еще настоящим?» (там же). В этом вопросе также отчасти предвосхищается окончательный ответ— ведь память и ожидание появятся как модальности настоящего. Но на нынешней стадии аргументации на-
18
стоящее еще противостоит прошлому и будущему. Идея тройственного настоящего еще не родилась. Вот почему решение, основанное только на одном настоящем, должно потерпеть фиаско. Несостоятельность этого решения обусловлена прояснением понятия настоящего, которое характеризуется теперь не как то, что не пребывает, но как то, что не имеет протяженности.
Это прояснение, доводящее парадокс до апогея, родственно хорошо известному аргументу скептиков: могут ли сто лет быть представлены одновременно? (15, 19) 17. (Аргумент, как видим, направлен единственно против приписывания длительности настоящему.) Продолжение также известно: можно представить один (текущий) год, в году — текущий месяц, в месяце — день, в дне — час: «И самый этот единый час слагается из убегающих частиц: улетевшие — в прошлом, оставшиеся — в будущем» (15, 20) 18.
Итак, вслед за скептиками нужно сделать вывод: «Если представить (intelligitur) момент времени (quid ... temporis), который нельзя уже разделить на части, как бы малы они ни были, то он может называться настоящим... но настоящее не имеет протяженности (spatium)» (там же) 19. На следующей стадии обсуждения проблемы определение настоящего будет прояснено с помощью идеи точечного мгновения. Августин придает драматический поворот беспощадному выводу из системы аргументации: «Настоящее время кричит о том, что оно не может быть долгим» (там же) 20.
Но что же может устоять под напором скептицизма? Опыт и еще раз опыт, артикулированный с помощью языка и освещенный разумом: «И, однако, Господи, мы чувствуем (sentimus), что такое промежутки времени, сравниваем (comparamus) их между собой и говорим, что одни длиннее, а другие короче. Мы даже измеряем (metimur), насколько одно время длиннее или короче другого» (16, 21) 21. Сами глаголы sentimus, comparamus, metimur свидетельствуют о нашей чувственной, мыслительной и практической деятельности по измерению времени. Но это упорство того, что следует называть опытом, не позволяет нам, однако, продвинуться ни на шаг вперед в вопросе «как?». Ложные достоверности постоянно примешиваются к подлинной очевидности.
Думается, мы сделаем решительный шаг, если заменим — следуя предыдущему рассуждению, — понятие настоящего понятием прохождения. «Мы измеряем... время только пока оно проходит (praetereuntia), так как, измеряя, мы это чувствуем» (там же) 22. Здесь, по-видимому, умозрительная формулировка подкрепляется практической достоверностью; и все же ее придется подвергнуть критике, прежде чем она вернется как distentio благодаря диалектике тройственного настоящего. Но так как идея отношения, растянутого между ожиданием, памятью и вниманием, еще не сформулирована, мы не понимаем самих себя, когда вновь повторяем: «Пока время проходит, его можно чувствовать и измерять»
19
(там же) 23. Эта формулировка и предвосхищает решение, и временно заводит в тупик. Не случайно Августин останавливается в тот самый момент, когда, как кажется, он испытывает наибольшую уверенность: «Я ищу, Отец, не утверждаю...» (17, 22) 24. Более того, он продолжает свой поиск, не развивая идею прохождения, но возвращаясь к выводу аргумента, выдвинутого скептиками: «Настоящее не имеет протяженности». Итак, чтобы проложить путь идее, согласно которой то, что мы измеряем, — это будущее (понятое впоследствии как ожидание) и прошлое (понятое как память), нужно выступить в защиту слишком рано отвергнутого бытия прошлого и будущего, но в том смысле, который мы не можем еще артикулировать 25.
Во имя чего необходимо провозгласить законное право прошлого и будущего на известного рода существование? Повторим еще раз: во имя того, что мы говорим и делаем в отношении них. А что мы говорим и делаем в этом отношении? Мы рассказываем о вещах, которые считаем истинными, и предсказываем события, которые происходят так, как мы их предвосхитили 26. Всякий раз именно язык, а также опыт и деятельность, которые он артикулирует, надежно противостоят натиску скептиков. Но предсказывать — значит предвидеть, а рассказывать — значит «распознавать при помощи духа» (cernere). В работе Августина «De Trinitate» (15, 12, 21) в этом смысле говорится о двойном «свидетельстве» (Майеринг, ор. cit., S. 67) — со стороны истории и со стороны предвидения. Вопреки аргументу скептиков Августин заключает: «Следовательно, и вещи будущие, и прошедшие существуют (sunt ergo)» (17, 22) 27.
Этот вывод не является простым повторением утверждения, которое было отвергнуто еще на первых страницах, а именно, что прошлое и будущее существуют. Отныне прошлое и будущее фигурируют как прилагательные: futura и praeterita. В действительности этот едва заметный сдвиг открывает путь к разрешению первоначального парадокса бытия и небытия и, следовательно, центрального парадокса меры. В самом деле, мы готовы считать существующими не прошлое и будущее как таковые, но временны́е свойства, которые могут существовать в настоящем независимо от того, существуют ли еще или уже вещи, о которых мы говорим, когда рассказываем о них или предсказываем их. Итак, проследим как можно внимательнее за ходом мысли Августина.
Прежде чем дать ответ на онтологический парадокс, он вновь останавливается: «Позволь мне, Господи, Надежда моя, продолжить мои искания (amplius quaerere)» (18,23) 28. Это не привычная риторика и не благоговейная мольба. За паузой последует дерзкий шаг, который приведет к утверждению тезиса о тройственности настоящего. И шаг этот, как всегда, принимает форму вопроса: «Если будущие и прошедшие вещи действительно существуют, то я хочу знать, где они существуют» (там же). Мы начали с вопроса «как». Следующим будет вопрос «где». Вопрос этот не такой бесхитростный, и нацелен он на поиск местопребы-
20
вания вещей будущих и прошедших, поскольку о них было рассказано и они были предсказаны. Вся последующая аргументация будет развиваться в рамках этого вопроса, и в конце концов приведет к выводу о том, что именно «в» душе пребывают временны́е свойства, содержащиеся в повествовании и предвидении. Этот переход к вопросу «где» существен для правильного понимания первого ответа: «Где бы они ни были, какими бы они ни были, [будущие или прошедшие вещи] существуют только как настоящие» (там же) 29. Создается впечатление, что мы отступили от предыдущего утверждения, согласно которому то, что мы измеряем, — это лишь прошлое или будущее; более того, мы вроде бы отрицаем вывод о том, что настоящее лишено протяженности. Но речь идет совсем о другом настоящем, которое также выражено множественным числом прилагательного (praesentia), приспособлено к praeterita и futura и готово принять внутреннюю множественность. Кажется также, что мы забыли утверждение: «Мы измеряем вещи, пока они проходят». Но мы вернемся к нему позже, когда снова займемся вопросом о мере.
Именно в рамках вопроса «где» мы берем, чтобы изучить их глубже, понятия повествования и предвидения. Повествование, скажем мы, предполагает память, предвидение — ожидание. Что значит «помнить»? Это значит иметь образ прошлого. Но разве это возможно? Возможно, потому что образ — это отпечаток, оставленный событиями и закрепленный в сознании 30.
Бывает так, что после долгих предварительных размышлений дело вдруг движется очень быстро.
Предвидение Августин объясняет едва ли более сложным способом, чем повествование: именно благодаря настоящему ожиданию будущие события представляются нам как те, что должны произойти. У нас есть «пред-восприятие» (praenuntio), позволяющее нам «предвещать их заранее» (praesentio). Ожидание, таким образом, аналогично памяти. Это образ, который уже существует, — в том смысле, что он предшествует событию, которое еще не произошло (nondum); но образ этот не является отпечатком, оставленным прошедшими вещами; он есть «знак» и «причина» будущих вещей, которые предвосхищаются, предчувствуются, предвещаются, предсказываются, провозглашаются заранее (отметим богатство обыденной лексики, связанной со словом «ожидание»).
Решение изящно — но сколь же оно трудоемко, дорогостояще и малоубедительно!
И в самом деле, изящное решение: доверяя памяти судьбу прошлых событий, а ожиданию — судьбу событий будущих, можно включить память и ожидание в расширенное, диалектически трактуемое настоящее, которое не является ни одним из отвергнутых прежде элементов: ни прошлым, ни будущим, ни точечным настоящим, ни даже прохождением настоящего. Известна замечательная формула, о чьей связи с апорией, которую она призвана решить, слишком легко забывают: «Прави-
21
льнее было бы, пожалуй, говорить так: есть три времени — настоящее (de) прошлого, настоящее (de) настоящего и настоящее (de) будущего. Некие три времени эти существуют в (in) нашей душе, и нигде в другом месте (alibi) я их не вижу» (20, 26).
Говоря это, Августин сознает, что несколько удаляется от обыденного языка, на который он опирался, правда, осторожно, в своей борьбе с аргументом скептиков: «Пусть даже говорят, как принято, хотя это и неправильно, что есть три времени: прошлое, настоящее и будущее» (там же). И добавляет, как бы на полях: «Редко ведь слова употребляются в их собственном (proprie) смысле; в большинстве случаев мы выражаемся неточно, но нас понимают» (там же). Ничто, однако, не мешает и впредь говорить таким же образом о настоящем, прошедшем, будущем: «Не об этом сейчас моя забота, не спорю с этим и не возражаю; пусть только люди понимают то, что они говорят...» (там же). Итак, обыденный язык лишь более строго переформулируется.
Объясняя смысл этого уточнения, Августин опирается на тройственную эквивалентность, которая кажется сама собой разумеющейся: «Настоящее прошедшего — это память; настоящее настоящего — его непосредственное созерцание (contuitus) [далее будет attentio*, термин, который лучше подчеркивает контраст с distentio], настоящее будущего — его ожидание» (там же). Как мы узнаём об этом? Августин отвечает лаконично: «Если мне позволено будет говорить так, то я вижу (video), что есть три времени, признаю (fateorque), что их три» (там же) 31. Это видение и это признание составляют феноменологическое ядро всего анализа; но fateor, прибавленное к video, — свидетельство того, результатом какого спора стало это видение.
Решение изящное, но трудоемкое.
Возьмем, к примеру, память: нужно наделить некоторые образы свойством соотноситься с прошедшими вещами (см. латинский предлог de); действительно, странное свойство! С одной стороны, отпечаток существует теперь, с другой — он пригоден и для прошедших вещей, которые на этом основании «еще» (adhuc) (18, 23) существуют в памяти. В этом словечке «еще» (adhuc) одновременно содержится и решение апории, и источник новой загадки: как возможно, чтобы образы-отпечатки, vestigia, которые представляют собой настоящие вещи, запечатленные в душе, существовали бы в то же время и «в связи» с прошедшим? И образ будущего влечет за собой подобную же трудность: об образах-знаках также говорится как об «уже существующих» (jamsunt) (18, 24). Но «уже» имеет двоякое значение: «то, что уже есть, — это не будущее, но настоящее» (там же) 32, и в этом смысле мы не видим самих будущих вещей, которые «еще не существуют» (nondum). И в то же время «уже», указывая на существование знака в настоящем, свидетельствует и о его
* Напряжение, внимание (лат.). — Прим. перев.
22
предвосхищающем характере: сказать, что вещи «уже существуют», — значит сказать, что посредством знака я возвещаю будущие вещи, что я могу их предсказывать; таким образом, будущее — это «сказанное заранее» (ante dicatur). Предвосхищающий образ не менее загадочен, чем образ-отпечаток 33.
Загадку порождает сама структура образа, который предстает то как отпечаток прошлого, то как знак будущего. Создается впечатление, что для Августина эта структура просто-напросто такова, какой она себя выказывает.
Но что еще более загадочно, так это квазипространственный язык, в котором содержится и вопрос, и ответ: «Если будущие и прошедшие вещи действительно существуют, то я хочу знать, где они существуют» (18, 23) 34. На что следует ответ: «Некие три времени эти существуют в (in) нашей душе, и нигде в другом месте (alibi) я их не вижу» (20,26). Не потому ли вопрос поставлен в терминах «места» (где существуют прошедшие и будущие вещи?), что этим достигается и ответ в терминах «места» (в душе, в памяти)? Или иначе: не эта ли квазипространственность образа-отпечатка и образа-знака, запечатленная в душе, порождает вопрос о местопребывании будущих и прошедших вещей? 35 На данной стадии анализа мы еще не можем этого сказать.
Хотя решение апории бытия и небытия времени при помощи понятия тройственного настоящего и дается дорогой ценой, оно все же остается неубедительным, коль скоро не решена загадка меры времени. Тройственное настоящее еще не скреплено окончательно печатью distentio animi, поскольку в самой этой троичности не распознан разрыв, позволяющий приписать душе протяженность иного рода, нежели та, в которой было отказано точечному настоящему. Со своей стороны, и сам квазипространственный язык также останется в неопределенном положении до тех пор, пока протяженность человеческой души, эта основа любого измерения времени, не лишится всякой космологической опоры. Присущность времени душе обретает весь свой смысл только при условии, что тезис, ставящий время в зависимость от физического движения, отвергается путем аргументации. Поэтому высказывание: «я вижу, я признаю» (там же) — так и останется сомнительным до тех пор, пока не будет сформулировано понятие distentio animi.
2. Мера времени
К этой основополагающей характеристике человеческого времени Августин вплотную подходит, решая загадку меры (21-31).
Вопрос о мере ставится в той же самой форме, в какой он уже был поставлен в 16, 21: «Итак, ранее я сказал, что мы измеряем время, пока оно
23
проходит (praetereuntia)» (21, 27). Это утверждение, решительно повторенное вновь («Я знаю это, потому что мы его измеряем, а мы не можем измерять то, чего не существует» (там же)), тут же преобразуется в апорию. В самом деле, то, что проходит, — это настоящее. Но мы признали, что настоящее не имеет протяженности. Аргумент, который вновь отбрасывает нас к скептикам, заслуживает подробного анализа. Во-первых, он пренебрегает различием между «проходить» и «быть настоящим» в том смысле, в каком настоящее есть неделимое мгновение (или, как будет сказано дальше, «точка»). Только диалектика тройственного настоящего, истолкованная как растяжение, сможет спасти утверждение, которому вначале пришлось затеряться в лабиринте апории. Но главное, обратный аргумент строится с использованием все тех же средств квазипространственной образности, которые послужили пониманию времени как тройственного настоящего. В самом деле, проходить — значит переходить. Тогда вполне оправдан вопрос: «из чего (unde), через что (qua) и во что (quo) оно переходит?» (там же). Очевидно, что именно термин «переходить» (transire) влечет за собой это пленение квазипространственностью. Но если следовать этому фигуральному выражению, надо сказать, что переходить — это значит идти из (ех) будущего через (per) настоящее в (in) прошлое. Этот переход подтверждает, таким образом, что измерение времени совершается «в определенном промежутке» (in aliquo spatio) и что все отношения между временны́ми интервалами касаются «протяженности времени» (spatia temporum) (там же). Мы, кажется, снова попали в безвыходное положение: время не имеет протяженности, а «то, что не имеет протяженности, мы не можем измерить» (там же)36.
Как и всегда в критические моменты, Августин делает здесь паузу. Он даже произносит слово «загадка»: «Горит душа моя понять эту запутаннейшую загадку (aenigma)» (22,28). И вправду, наиболее привычные понятия являются и наиболее неясными, в чем мы нередко убеждались с самого начала исследования. Но и на этот раз у Августина, в отличие от скептиков, возникает жгучее желание завладеть этой тайной, являющееся для него выражением любви: «Дай мне то, что я люблю; да, я люблю, и это дал мне Ты» (там же)37. Здесь проявляется гимническая образность, которой исследование времени обязано своему обрамлению — размышлению о Вечном Слове. Позже мы еще вернемся к этому. Пока же только обратим внимание на то, с каким спокойным доверием Августин относится к обыденному языку: «Мы говорим... на протяжении какого времени? (quam diu)... как долго! (quam longo tempere)... вот что мы говорим, вот что мы слышим. И нас понимают, и мы понимаем» (там же)38. Вот почему, скажем мы от себя, речь здесь идет о загадке, а не о неведении.
Чтобы разгадать эту загадку, надо отказаться от космологического решения и искать основание протяженности и меры только в душе, то
24
есть в сложной структуре тройственного настоящего. Рассуждения, связанные с отношением времени к движению звезд и движению в целом, не являются здесь, таким образом, ни искусственным дополнением, ни обходным маневром.
Менее чем когда-либо точка зрения Августина связана здесь с полемикой, долгая история которой тянется от «Тимея» Платона и «Физики» Аристотеля до «Эннеады» III, 7 Плотина. Distentio animi обретается с большим трудом в процессе скрупулезной аргументации, прибегающей к суровой риторике reductio ad absurdum *.
Аргумент первый: если движение звезд это и есть время, то почему нельзя сказать того же о движении любого другого тела? (23, 29). Этим аргументом предваряется тезис о том, что движение звезд могло меняться, ускоряться и замедляться, — тезис, немыслимый для Аристотеля. Таким образом, звезды низводятся до уровня других движущихся тел, будь то гончарный круг или звуки человеческой речи.
Аргумент второй: если бы небесные светила остановились, а гончарный круг продолжал вращаться, нужно было бы измерять время не движением, а чем-то другим (там же). Таким образом, тезис о неизменности небесного движения вновь признается несостоятельным. Вариант этого аргумента: разговор о движении гончарного круга охватывает время, не измеряемое движением звезд, которое, как предполагается, может меняться или вообще остановиться.
Аргумент третий: в основе предыдущих рассуждений лежит убеждение, внушенное Священным Писанием, что звезды — это только светила, чье предназначение — указывать время (там же). Развенчанные таким образом, звезды не могут конституировать время своим движением.
Аргумент четвертый: если задаться вопросом, что составляет меру, называемую «день», то сразу же приходит на ум, что это двадцать четыре часа, которые измеряются полным оборотом Солнца вокруг Земли. Но если бы Солнце вращалось быстрее и совершало оборот за час, «день» больше не измерялся бы движением Солнца (23, 30). Майеринг подчеркивает, что Августин в своей гипотезе о непостоянстве скорости Солнца отдаляется от традиции: ни Аристотель, ни Плотин, различавшие время и движение, не пользовались этим аргументом. Для Августина Бог, владыка тварного мира, может изменить скорость звезд, подобно тому как гончар меняет скорость своего круга или чтец — темп речи. (Идея об остановке Солнца Иисусом имеет тот же смысл, что и гипотеза об ускорении его движения, которая сама по себе не зависит от признания чуда.) Лишь Августин решается допустить, что о промежутках времени — дне, часе — можно говорить вне всяких ссылок на космологию. Понятие distentio animi отныне послужит заменой этой космологической подпорки протяженности времени 39.
* Сведение к нелепости (лат.). — Прим. перев.
25
Действительно, важно отметить, что именно в заключение аргументации, которая напрочь разъединяет понятие «день» и понятие небесного движения, Августин впервые вводит понятие distentio, не прибегая, однако, ни к каким определениям: «Итак, я вижу, что время есть некое растяжение. Но вижу ли я? Или мне только кажется, что я вижу? Ты покажешь мне это, о Свет, о Истина» (там же)40.
К чему эти колебания, причем в тот самый момент, когда, похоже, забрезжил свет? В сущности, несмотря на предшествующие аргументы, с космологией еще не покончено. Устранен только крайний тезис: «время — это движение тела» (24,31). Но и Аристотель это также опровергает, утверждая, что, не будучи движением, время есть «нечто движущееся». Не может ли время быть мерой движения, если само оно не является движением? Чтобы время существовало, разве недостаточно, чтобы движение было потенциально измеряемым? На первый взгляд кажется, что Августин делает значительную уступку Аристотелю, когда пишет: «Раз движение тела — это одно, а то, чем измеряется длительность этого движения — другое, то не ясно ли, чему скорее следует дать название времени?» (там же)41. Когда Августин говорит, что время — это скорее мера движения, нежели само движение, он думает не о равномерном движении небесных тел, а о мере движения человеческой души. Действительно, если допустить, что измерение времени происходит путем сравнения времени более долгого и времени более краткого, то такое сравнение потребует постоянного элемента; но это не может быть круговое движение звезд, поскольку известно, что оно может изменяться. Движение может остановиться, время — нет. Не измеряем ли мы на самом деле остановки так же, как и движения? (Там же.)
Не уяснив этих колебаний Августина, мы не поймем, почему столь убедительная с виду аргументация, направленная против отождествления времени и движения, вновь завершается признанием в полном неведении: я знаю, что моя речь о времени ведется во времени, стало быть, я знаю, что время существует и что его измеряют. Но я не знаю ни того, что такое время, ни того, как его измеряют. «Горе мне! Я не знаю даже, чего я не знаю» (25, 32).
Однако уже на следующей странице появляется решающая формулировка: «Поэтому (inde) мне и кажется, что время есть не что иное, как растяжение, но чего? не знаю; но странно было бы, если бы это не была сама душа» (26, 33)42. Откуда это следует? И к чему эта витиеватая формулировка (странно было бы, если бы... не...) для утверждения тезиса? Повторим еще раз: если в этом утверждении имеется хоть какое-то феноменологическое ядро, то оно неотделимо от reductio ad absurdum, исключающего все другие гипотезы: поскольку я измеряю движение тела временем, а не наоборот, поскольку измерить долгое время можно только коротким временем и поскольку никакое физическое движение не дает постоянной меры сравнения (ибо движение звезд предполагается
26
изменчивым), остается одно: протяженность времени — следствие растяжения души. Конечно, еще до Августина это сказал Плотин; но он имел в виду душу мира, а не человеческую душу 43. Вот почему все решено — и все остается нерешенным, даже когда произнесены главные слова: distentio animi. До тех пор пока мы не свяжем distentio animi с диалектикой тройственного настоящего, мы не сможем понять самих себя.
Продолжение книги XI (26, 33 — 28, 37) имеет целью упрочить эту связь между двумя главными темами исследования: между тезисом о тройственности настоящего, который разрешил первую загадку о бытии, лишенном бытия, и тезисом о растяжении души, призванным решить загадку протяженности того, что не имеет протяженности. Остается рассмотреть тройственное настоящее как растяжение и растяжение как растяжение тройственного настоящего. В этом и состоит гениальная идея XI книги «Исповеди» Августина, по стопам которого пойдут Гуссерль, Хайдеггер и Мерло-Понти.
3. Intentio и distentio
Чтобы сделать этот последний шаг, Августин возвращается к предыдущему утверждению (16,21 и 21,27), которое не только осталось недоказанным, но и было, похоже, сметено под натиском скептицизма, — к утверждению о том, что мы измеряем время, только пока оно проходит (passe); не будущее, которого еще не существует, не прошлое, которого больше не существует, не настоящее, не имеющее протяженности, но — «время, которое проходит». Именно в самом переходе, прохождении времени нужно искать одновременно .множественность настоящего и его прерывность.
Три знаменитых примера — о звуке, который звучит, о звуке, который только что отзвучал, и о двух звуках, которые звучат один за другим, — служат выявлению этой прерывности, этого разрыва тройственного настоящего.
Приведенные примеры требуют особого внимания, ибо их отличие друг от друга едва уловимо.
Первый пример (27, 34): звук, который начинает звучать, звучит и умолкает. Как мы говорим об этом? Для понимания данного перехода важно отметить, что он целиком описывается в прошедшем времени: о звуке говорят только тогда, когда он уже отзвучал; о «еще не» (nondum) будущего сказано в прошедшем времени (futura erat); о моменте, когда он звучал, то есть о его настоящем, мы говорим как об исчезнувшем: только когда звук звучал, он мог быть измерен; «но ведь и тогда (sed et tunc) он не застывал в неподвижности (non stabat): он приходил (ibat) и уходил (praeteribat)» (там же). Именно в прошедшем времени говорят о
27
прохождении настоящего. Первый пример отнюдь не дает удовлетворительного ответа на загадку, но еще более усложняет ее. Однако, как всегда, направление решения задается самой загадкой, а загадка, в свою очередь, раскрывается в решении. Сам пример указывает направление, в котором необходимо следовать: «Действительно (enim), проходя, он растягивался (tendebatur) в своего рода промежуток времени (in aliquod spatium temporis), которым его можно было бы измерить, ибо настоящее не имеет протяженности» (там же)44. Ключ нужно искать в направлении того, что проходит, и оно отлично от точечного настоящего 45.
Второй пример ведет в том же направлении, но изменяется сама гипотеза (там же, продолжение). О прохождении говорится не в прошедшем, а в настоящем времени. Вот другой звучащий звук: допустим, он еще (adhuc) звучит: «Измерим его, пока (dum) он звучит». Но теперь о его прекращении как о будущем прошедшем (futur passé) говорится в предбудущем времени (futur antérieur): «Когда он перестанет (cessaverit) звучать, будет уже (jam) прошлым и не будет больше (non erit) ничего, что может быть измерено» (там же)46. Вопрос «как долго» (quanta sit) ставится теперь в настоящем времени. В чем же состоит затруднение? Оно связано с невозможностью измерить переход, когда он продолжается в своем «еще» (adhuc). В самом деле, для того чтобы вещь имела начало и конец, то есть промежуток, который можно измерить, нужно, чтобы она прекратила свое существование.
Но, измеряя только то, что прекратило свое существование, мы оказываемся в плену предыдущей апории. Она даже усугубляется, если нельзя измерять время, которое проходит, — ни когда оно кончилось, ни когда продолжается. Сама идея проходящего времени, взятая в качестве аргумента, кажется столь же неясной, что и идея будущего, прошлого и точечного настоящего: «Мы измеряем, следовательно, не будущее время, не прошедшее, не настоящее, не проходящее...» (там же)47.
Откуда же тогда берется наша уверенность в том, что мы измеряем (заверение: «и все же мы измеряем» дважды встречается в этом драматическом параграфе), если мы не знаем, как мы измеряем? Существует ли способ измерить время, которое проходит, разом и когда оно кончилось, и когда продолжается? Третий пример направляет исследование по этому пути.
Данный пример (27, 35), чтение стиха наизусть (здесь это Deus creator omnium из гимна Амвросия Медиоланского), влечет за собой еще большее затруднение, нежели пример продолжающегося звука, что связано с чередованием четырех долгих и четырех кратких слогов в пределах единого выражения, стиха (versus). Это усложнение принуждает вернуться к памяти и ретроспекции, которые остались за рамками анализа, приведенного в двух предыдущих примерах. Только в третьем примере объединяются вопрос о мере и вопрос о тройственном настоящем. Чередование четырех кратких и четырех долгих слогов вводит элемент сравне-
28
ния, сопряженный с непосредственным обращением к чувству: «Я утверждаю это, произнося их: поскольку это ясно воспринимается чувством, то так оно и есть» (quantum sensitur sensu manifesto)48. Но Августин прибегает к чувству только для того, чтобы заострить апорию и направить ее к разрешению, а не для того, чтобы набросить на нее покров интуиции. Ведь если краткие и долгие слоги являются таковыми только в сравнении, мы не имеем возможности прикладывать их друг к другу, как две меры длины к одной. И тем не менее нужно суметь удержать (tenere) краткий слог и приложить (applicare) его к долгому. Но что значит удержать то, что уже прошло? Апория, стало быть, сохраняется, если мы говорим о самих слогах, как ранее — о звуке, то есть о прошедших и будущих вещах. И все-таки она может быть разрешена, если иметь в виду не слоги, которых уже нет или еще нет, но их отпечатки в памяти или их знаки, продуцируемые ожиданием: «Я, следовательно, измеряю не их самих (ipsas), — их уже нет, — а что-то в (in) моей памяти, что прочно закреплено в ней (in-fixum manet)» (там же).
И вновь мы вернулись к настоящему прошедшего, унаследованному от анализа первой загадки, — ас этим выражением опять возникли и все трудности, сопряженные с образом-отпечатком, vestigium. И все же мы существенно продвинулись вперед: теперь мы знаем, что мера времени никак не связана с мерой внешнего движения. Кроме того, в самом духе мы нашли постоянный элемент, который позволяет сравнивать долгое и короткое время; это — образ-отпечаток, и основной глагол, с ним связанный, уже не «проходить» (transire), а «оставаться, пребывать» (manet). В этом смысле обе загадки — бытия/небытия и измерения того, что не имеет протяженности, — решаются одновременно: с одной стороны, мы вновь погружаемся в самих себя: «В тебе (in te), душа моя, измеряю я время» (27, 36). Но почему? Ибо только там пребывает впечатление (affectio), оставленное в духе тем, что прошло: «Впечатление от проходящего мимо остается (manet) в тебе, и его-то, сейчас существующее, я измеряю, а не то, что прошло и его оставило» (там же).
Однако не стоит думать, что этим обращением к впечатлению завершается исследование 49. Понятие distentio animi не было должным образом понято до тех пор, пока пассивность впечатления не была сопоставлена с активностью духа, напрягающегося, устремляющегося 50 в противоположных направлениях — к ожиданию, памяти и вниманию. Только дух, напрягающийся в различных направлениях, может быть растянут.
Эта активная сторона процесса побуждает нас снова вернуться к предыдущему примеру чтения наизусть и рассмотреть его в динамике; заранее сочинять, вверять памяти, начинать, пробегать глазами — вот сколько активных операций образы-отпечатки и образы-знаки замещают в своей пассивности. Но мы верно истолкуем роль этих образов, только если подчеркнем, что чтение есть акт, направляемый ожиданием, обращенным к поэме в целом, а по мере чтения — к тому, что от нее остается,
29
вплоть до того как (donec) действие будет окончательно исчерпано. В этом новом описании акта декламации настоящее меняет свой смысл: это уже не точка, и даже не точка перехода, это — «внимание, существующее в настоящем (praesens intentio)» (там же). Если, таким образом, внимание удостаивается названия интенции, то только в той мере, в какой переход через настоящее стал активным: настоящее больше не является только тем, что пересекают: «внимание (intention), существующее в настоящем, переправляет (traicit) 51 будущее в прошлое; уменьшается будущее — растет прошлое; исчезает совсем будущее — и все становится прошлым» (там же). Конечно, квазипространственный образ движения от будущего к прошлому через настоящее не упраздняется. Вероятно, свое последнее оправдание он находит в пассивности, замещающей весь процесс. Но нас больше не может ввести в заблуждение изображение двух мест, одно из которых наполняется по мере того, как другое пустеет, — с тех пор как мы сделали это изображение динамическим и различили скрытую в нем игру активности и пассивности. Здесь на самом деле нет места будущему, которое уменьшается, прошлому, которое увеличивается, если нет «души, которая совершает это действие (animus qui illud agit)» (28, 37)52. Пассивность, как тень, сопровождает три действия, выраженные теперь тремя глаголами: душа «и ждет (expectat), и внимает (adtendit) [этот глагол отсылает к intentio praesens], и помнит (meminit)» (там же). В результате — «то, чего она ждет, проходит (transeat) через то, чему она внимает, и уходит туда, о чем она вспоминает» (там же). Переводить — это тоже значит проходить 53. Употребляемые здесь глагольные формы постоянно колеблются между активностью и пассивностью. Дух ожидает и вспоминает, однако и ожидание, и память — образ-отпечаток и образ-знак — пребывают «в» душе. Их противоположность сосредоточена в настоящем. С одной стороны, поскольку оно проходит (passe), оно сводится к точке (in puncto praeterit): в этом в крайней форме выражается отсутствие у настоящего протяженности. Но поскольку настоящее проводит, поскольку внимание «переводит (pergat) в небытие то, что станет настоящим» 54, следует сказать, что «внимание длительно» (perdurat attentio).
Нужно уметь различать эту игру действия и его претерпевания в сложном выражении «долгое ожидание будущего», которым Августин заменяет нелепое выражение «долгое будущее», как и в выражении «долгая память о прошлом», занимающем место «долгого прошлого». Именно в душе в качестве впечатлений ожидание и память обретают протяженность. Но впечатление существует в душе, лишь пока она действует, то есть ожидает, внимает и вспоминает.
В чем же тогда состоит растяжение? В самой противоположности между тремя устремлениями (tensions). Если параграфы 26, 33 — 30, 40 — сокровищница XI книги, то параграф 28, 38 — безусловно, самая яркая ее жемчужина. Пример с пением, охватывающий и пение звука,
30
который длится и умолкает, и распевание долгих и кратких слогов, является здесь не просто конкретным приложением: он указывает точку сочленения теории distentio с теорией тройственного настоящего. Теория тройственного настоящего, переформулированная в терминах тройственной интенции, взрывает intentio, и в результате distentio изливается наружу. Процитируем целиком этот параграф: «Я собираюсь пропеть знакомую песню; пока я не начал, ожидание мое устремлено (tenditur) на нее в целом; когда я начну, то по мере того как это ожидание обрывается и уходит в прошлое, туда устремляется (tenditur) и память моя. Сила, вложенная в мое действие (actionis), растянута (distenditur) между памятью о том, что я сказал, и ожиданием того, что я скажу. Внимание же (attentio) мое сосредоточено на настоящем, через которое проходит (traicitur) будущее, чтобы стать прошлым. Чем дальше и дальше движется это действие (agitur et agitur), тем короче становится ожидание и длительнее воспоминание, пока, наконец, ожидание не исчезнет вовсе: действие закончено, оно теперь все в памяти» (28, 38)55.
Весь этот параграф посвящен диалектике ожидания, памяти и внимания, взятых уже не по отдельности, а во взаимодействии. Теперь речь идет не об образах-отпечатках и не о предвосхищающих образах, но о действии, которое сокращает ожидание и продлевает воспоминание. Существительное actio и глагол agitur (которые Августин намеренно употребляет вместе) выражают импульс, управляющий целым. Об ожидании и памяти тоже говорится, что они «устремлены» (tendues): первое — к поэме в целом, пока не началось ее исполнение, вторая — к уже исполненной части поэмы; что касается внимания, то напряженная сосредоточенность (tension) его полностью определяется активностью «перехода» от того, что было будущим, к тому, что становится прошлым. Именно это действие, составленное из ожидания, памяти и внимания, «движется дальше и дальше». Тогда distentio — не что иное, как разрыв, несовпадение трех модальностей действия: «сила, вложенная в мое действие, растянута между памятью о том, что я сказал, и ожиданием того, что я скажу».
Связано ли distentio с пассивностью впечатления? Так в самом деле можно подумать, если вновь сопоставить этот прекрасный текст, откуда, по видимости, исчезло affectio, с первым наброском анализа акта декламации (27, 36). Впечатление предстает здесь еще как пассивная оборотная сторона самого «напряжения» акта декламации, пусть безмолвного: нечто пребывает (manet) в той мере, в какой мы «произносим в уме стихотворения, отдельные стихи, любую речь». Именно «внимание, существующее в настоящем, переправляет (traicit) будущее в прошлое» (там же).
Если же сопоставить пассивность affectio с distentio animi (а я полагаю, что это возможно), то нужно будет признать: три временны́х направления разделяются в той мере, в какой интенциональная активность противополагает себя пассивности, порождаемой самой этой активностью, — за неимением лучшего мы обозначаем их как образ-отпечаток и
31
образ-знак. Это не только три действия, которые не перекрывают друг друга, это еще активность и пассивность, которые противятся одна другой, не говоря уж о несогласии между обеими пассивностями, связанными — одна с ожиданием, другая с памятью. Чем больше дух становится intentio, тем больше он претерпевает distentio.
Разрешима ли апория долгого и короткого времени? Да, если допустить следующее: 1) то, что мы измеряем, не является ни будущим, ни прошлым, но их ожиданием или воспоминанием о них; 2) это и есть чувства, представляющие однородное доступное измерению пространство; 3) чувства эти являются оборотной стороной активности духа, который движется дальше и дальше; 4) само же это действие троично и, таким образом, растягивается в той же мере, в какой и напрягается.
Собственно говоря, на каждой из этих стадий решения возникает своя загадка:
1) Как измерить ожидание и воспоминание, не опираясь на «метки», разграничивающие пространство, пробегаемое движущимся телом, то есть не принимая во внимание физическое изменение, которое пролагает движущемуся телу путь в пространстве?
2) Какой доступ имеем мы к протяженности отпечатка, коль скоро он существует исключительно «в» душе?
3) Имеется ли у нас какой-то иной способ выразить связь между affectio и intentio, помимо постепенной динамизации метафоры локальных пространств, пересекаемых ожиданием, вниманием и воспоминанием? В этом отношении метафора прохождения событий через настоящее кажется непревзойденной; это удачная метафора, живая метафора: идея «прохождения» (passer) в смысле «прекращения» сопряжена в ней с идеей «проведения» (faire passer) в смысле «сопровождения». Вряд ли какое-то понятие могло бы «снять» (aufhebt)56 эту живую метафору 57.
4) Последний тезис (если здесь еще можно употребить это слово) составляет самую непостижимую загадку, ценой которой апория меры, скажем так, «разрешается» Августином: душа «растягивается» по мере того, как она «напрягается», — вот наивысшая загадка.
Но именно в качестве загадки решение апории меры неоценимо. Бесценная находка Августина, сводящего протяженность времени к растяжению души, — в том, что это растяжение связывается с разрывом, который постоянно осуществляется внутри тройственного настоящего: между настоящим будущего, настоящим прошлого и настоящим настоящего. Таким образом, несогласие вновь и вновь порождается самим согласием устремлений ожидания, внимания и памяти.
Ответом на эту умозрительную загадку, касающуюся времени, и служит поэтический акт построения интриги. Аристотель в «Поэтике» не решает загадку умозрительно. Он ее вообще никак не решает. Он заставляет ее работать... поэтически — создавая противоположный образ несогласия и согласия. Это уже новый подход к проблеме, но и здесь Авгу-
32
стин говорит нам слова ободрения: не очень, казалось бы, существенный пример canticus*, произнесенного наизусть, к концу исследования становится вдруг сильной парадигмой для других actiones, в которых душа, напрягаясь, претерпевает растяжение: «То, что происходит с целой песней, то происходит и с каждой ее частицей и с каждым слогом; то же происходит и с длительным действием (in actione longiore), частицей которого является, может быть, эта песня; то же и со всей человеческой жизнью, которая складывается, как из частей, из человеческих действий (actiones); то же и со всеми веками, прожитыми “сынами человеческими”, которые складываются, как из частей, из всех человеческих жизней» (28, 38). Здесь виртуально представлено все царство нарратива: от простой поэмы через историю отдельной жизни до всеобщей истории. Этим экстраполяциям, подсказанным Августином, и посвящена наша работа.
4. Противоположность вечности
Остается вернуться к высказанному в начале нашего исследования возражению против такого прочтения книги XI «Исповеди», которое искусственно отделяет части 14, 17-28,37 от обрамляющих их размышлений о вечности. На это возражение мы дали лишь частичный ответ, подчеркнув, что своей автономией это исследование обязано непрестанной борьбе с аргументами скептиков в понимании времени. В этом отношении тезис, что время существует «в» душе и «в» душе находит принцип своего измерения, самодостаточен, поскольку дает ответ на внутренние апории понятия времени. Чтобы осмыслить понятие distentio animi, его необходимо только противопоставить intentio, которое имманентно «действию» духа 58.
И все же для полноты смысла distentio animi здесь явно чего-то не хватает, и это что-то может быть дано только сопоставлением с вечностью. Нехватка эта не имеет, однако, никакого отношения к тому, что я буду называть достаточным смыслом distentio animi, то есть смыслом, дающим основание для решения апорий небытия и меры. Здесь речь идет о другом. В этой медитации о вечности я выделяю три основных следствия, касающихся проблемы времени.
Первая функция этой медитации — рассмотрение проблемы времени в горизонте идеи-границы, которая побуждает мыслить совместно время и иное времени (l’autre du temps). Вторая функция — наращивание самого опыта distentio в экзистенциальном плане. Третья функция — содействие тому, чтобы этот опыт превзошел самого себя, устремившись к
* Canticum — чтение нараспев, речитатив (лат.). — Прим. перев.
33
вечности, и, стало быть, внутренне иерархизировал себя наперекор гипнотически завораживающему представлению о прямолинейности времени.
а) Бесспорно, что медитация Августина нераздельна, и обращена она к вечности и ко времени. Книга XI «Исповеди» открывается первым стихом Книги Бытия (в одной из латинских версий, известных в Африке в то время, когда писалась «Исповедь»): «In principio fecit Deus...» Кроме того, в размышлениях, заполняющих первые четырнадцать глав XI книги «Исповеди», хвала псалмописца неразрывно связана с умозрением платонического и неоплатонического типа 59. Существуя в этом двойном регистре, размышление не оставляет места никакому другому способу выведения вечности из времени. Противоположность вечности и времени положена, признана, помыслена с самого начала. Работа ума обращена вовсе не на вопрос, существует ли вечность. Предшествование вечности по отношению ко времени — в том смысле предшествования, который остается определить, — явлено в противоположности между «бытием, которое не было сотворено и, однако, существует» и бытием, которое имеет «до» и «после», которое «меняется» и принимает разнообразные формы (4, 6)60. Эта противоположность выражена в восклицании: «Вот земля и небо; они кричат о том, что они созданы; ибо они меняются и облик их различен» (там же). И Августин подчеркивает: «Мы знаем это» (там же)61. Это значит, что работа ума — результат преодоления трудностей, вызванных самим этим признанием вечности: «Дай мне услышать и понять, каким образом (quomodo) Ты сотворил в начале небо и землю» (3, 5) (вопрос повторяется в начале 5, 7). В этом смысле с вечностью дело обстоит так же, как и со временем: проблема не в том, что она существует; каким образом она существует — вот что ставит нас в тупик. Именно с этим и связана первая функция утверждения о вечности по отношению к утверждению о времени: функция идеи-границы.
Эта функция обусловлена самой связью исповеди и вопрошания на всем протяжении первых четырнадцати глав XI книги «Исповеди». На первый вопрос: «Как же (quomodo) создал Ты небо и землю?..» (5,7) следует ответ в том же духе хвалы, восхваления, что и ранее: «Создал Ты это Словом Твоим» (там же). Но ответ порождает новый вопрос: «А каким образом Ты сказал?» (6, 8). На что с той же уверенностью дается ответ, использующий вечность Verbum: «Чтобы произнести все (omnia), не надо говорить одно вслед за другим: все извечно (sempiterne) и одновременно (simul). Иначе существовало бы время и изменяемость — не настоящая вечность и не настоящее бессмертие» (7,9). И Августин исповедуется: «Знаю это, Господи, и благодарю Тебя» (там же).
Поразмыслим об этой вечности Слова. Двойная противоположность углубляется, и прежде чем стать источником новых затруднений, она предстает источником негативности в отношении ко времени.
34
Во-первых, говорить, что вещи были созданы Словом, значит отрицать, что Бог творит их как художник, начиная с чего-то: «...не во вселенной создал Ты вселенную, ибо не было ей (quia non erat), где возникнуть, до того (antequam), как возникло, где ей быть» (5, 7). Здесь предвосхищается творение ex nihilo, и отныне это начальное небытие сообщает времени онтологическую недостаточность.
Но решающая оппозиция, порождающая новые отрицания — и новые затруднения, — та, что противополагает божественный Verbum и человеческий vox: творящее Слово не есть человеческий голос, который «заговорил» и «умолк», подобно тому как слоги «прозвучали» и «исчезли» (6, 8). Божественное Слово и человеческий голос так же несводимы друг к другу и так же нераздельны, как внутренний слух, который слушает Слово и принимает наставление внутреннего господина, и слух внешний, который воспринимает verba и передает их зоркому мышлению. Verbum пребывает, verba исчезают. Эта противоположность (и сопутствующее ей «сравнение») вновь придают времени негативный оттенок: если Verbum пребывает, то verba не существуют, потому что они «бегут и исчезают» (там же)62. В этом смысле обе функции небытия перекрывают друг друга.
Отныне нарастающее отрицание неотступно следует за нарастающим вопрошанием, которое само сопутствует признанию вечности. Действительно, вопрошание возникает из предшествующего ответа: «Ты создаешь только Словом, и, однако (nec tamen), не одновременно и не от века возникает все, что Ты создаешь Словом» (7, 9). Иначе говоря, как временно́е творение может быть создано посредством и внутри вечного Слова? «Почему же, спрашиваю я, Господи Боже мой? Я как-то это вижу, но не знаю, как выразить» (8, 10). И в этом смысле вечность таит в себе не меньше загадок, чем время.
Августин, чтобы преодолеть эту трудность, приписывает Слову «вечный разум», кладущий бытию сотворенных вещей начало и конец 63. Но и этот ответ содержит в зародыше главную проблему, которая долго будет подвергать испытанию проницательность Августина: речь идет о моменте, предшествовавшем творению. В самом деле, это установление начала и конца вечным разумом предполагает, что разум знает «момент, когда» (quando) данная вещь должна начаться или закончиться. Это quando снова отбрасывает нас в открытое море.
Прежде всего, Августин считает допустимым и достойным внимания вопрос манихейцев и ряда платоников, который другие христианские мыслители находили нелепым и обсуждали разве что в шутку.
Итак, Августин сталкивается с настойчивыми возражениями противников, имеющими форму тройного вопроса: «Что делал Бог до того (antequam), как создал небо и землю?» «Если Он ничем не был занят... и ни над чем не трудился, почему на все время и впредь не остался Он в состоянии покоя, в каком все время пребывал и раньше?» «Если вечной
35
была воля Бога творить, почему не вечно его творение?» (10, 12). В ответах Августина нас будет интересовать возрастание онтологической негативности, затрагивающей опыт distentio animi, который и сам является негативным в психологическом плане.
Прежде чем предложить свой ответ на эти затруднения, вытекающие из признания вечности, Августин в последний раз проясняет свое понимание вечности: вечность «всегда недвижна» (semper stans) в противоположность вещам, которые «никогда не останавливаются». Эта неизменность заключается в том, что «в вечности ничто не преходит, но пребывает как настоящее во всей полноте (totum esse praesens); время, как настоящее, в полноте своей пребывать не может» (11, 13). Негативность достигает здесь наивысшей полноты: чтобы помыслить до конца distentio animi, то есть чтобы понять разрыв тройственного настоящего, его нужно «сравнить» с настоящим без прошлого и без будущего 64. Именно эта крайняя негативность лежит в основе ответа на аргумент о пустой видимости.
Августин прилагает столько усилий для того, чтобы опровергнуть этот аргумент, ибо он являет собой апорию, порожденную самим тезисом о вечности 65.
Ответ на первую формулировку возражения решителен и ясен: «...до создания неба и земли Бог ничего не делал» (12, 14). Конечно, ответ не затрагивает предположения о том, что было «до того», но важно, что это «до того» поражено небытием: «ничто» «ничегонеделания» — то, что было «до» творения. Итак, нужно помыслить «ничто», чтобы помыслить время как имеющее начало и конец. А значит, время как бы обрамлено небытием.
Ответ на вторую формулировку возражения еще более примечателен: не было никакого «до того» по отношению к творению, ибо Бог создал время, когда создавал мир. «Делатель всякого времени — Ты». «Это самое время создал Ты, и не могло проходить время, пока Ты не создал времени». Одним махом ответ упраздняет вопрос: «Когда не было времени, не было и “тогда” (non erat tunc)» (13,15). Это «не-тогда» находится на том же негативном уровне, что и «ничто» ничегонеделания. Разуму надлежит сформулировать идею отсутствия времени, чтобы помыслить до конца время как прохождение. Время должно быть мыслимо как преходящее, чтобы его можно было полностью пережить как переход.
Но тезис, согласно которому время было создано вместе с миром (тезис, уже присутствующий у Платона в «Тимее» 38 d), оставляет открытым вопрос о возможности существования до этого времени других времен (в «Исповеди», XI, 30,40, конец, упоминается эта возможность — то ли как умозрительная гипотеза, то ли для сохранения временно́го измерения, присущего ангелам). Как бы то ни было, чтобы противостоять этой возможности, Августин и пытается доказать свой тезис с помощью reductio ad absurdum: даже если бы и существовало время до времени,
36
оно все равно было бы сотворенным, поскольку Бог — «делатель всякого времени». Стало быть, время, предшествующее всякому сотворению, — немыслимо. Этого аргумента достаточно, чтобы отвести предположение о праздности Бога до творения: сказать, что Бог ничего не делал, значит сказать, что было время, в которое Он никогда не творил до творения. Итак, временны́е категории не могут характеризовать состояние «до мира».
Отвечая на третью формулировку возражения противника, Августин пользуется случаем внести последний штрих в свое противопоставление времени и вечности. Чтобы устранить идею «новизны» воли Бога, нужно придать идее «до творения» значение, которое исключило бы из нее всякую временность. Предшествование следует мыслить как превосходство, как высшую степень совершенства, как предельную высоту: «Ты был раньше всего прошлого на высотах (celsitudine) всегда пребывающей вечности» (13, 16). Отрицания еще более заостряются: «Годы Твои не приходят и не уходят» (там же). «Все годы Твои одновременны и недвижны; они стоят» (simul stant) (там же). Simul stans «лет Бога», так же, как и «сегодня», о котором говорится в Книге Исхода 66, выражают вневременное значение того, что превосходит, не предшествуя во времени. Проходить — это меньше, чем превосходить 67.
Я так настаивал на онтологической негативности, которую обнаруживает противостояние вечности и времени в психологическом опыте distentio animi, конечно, не для того, чтобы ограничить вечность, как ее понимает Августин, кантианской функцией идеи-границы. Интерпретация egosumqui sum* в латинском переводе Книги Исхода 3, 14, где сочетаются гебраизм и платонизм 68, запрещает нам толковать мысль о вечности как мысль без объекта. Более того, сочетание хвалы и умозрения свидетельствует о том, что Августин не просто размышляет о вечности: он взывает ко Всевышнему, обращаясь к нему во втором лице. Вечное настоящее заявляет о себе от первого лица: sum, а не esse 69. Умозрение и здесь все еще неотделимо от признания того, кто сам заявляет о себе. И в этом смысле оно неотделимо от гимна. Об опыте вечности у Августина можно вести речь лишь с оговорками, что мы разъясним далее. Но именно опыт вечности наделяется функцией идеи-границы, когда мышление «сравнивает» время и вечность. Это сравнение, отражаясь в живом опыте distentio animi, делает мысль о вечности идеей-границей, в горизонте которой опыт distentio animi наделяется, если иметь в виду онтологический план, негативным признаком недостатка или отсутствия бытия 70.
Отголосок — как сказал бы Эжен Минковский — этой помысленной негативности, звучащий в живом опыте времени, теперь убедит нас в том, что отсутствие вечности не только является некоей мыслимой границей,
* Я есмь Сущий (лат.). — Прим. перев.
37
но ощущается как нехватка в самой сердцевине временно́го опыта. Идея-граница становится тогда печалью негативности (tristesse du négatif).
b) Противоположность вечности и времени, соединяя мысль о времени с мыслью об ином времени (de l’autre du temps), не только обрамляет временно́й опыт негативностью. Она насквозь пронизывает его негативностью. Усиленный таким образом в экзистенциальном плане, опыт растяжения возвышается до уровня сетования. Эта новая противоположность в зародыше содержится уже в упомянутой выше прекрасной молитве (2, 3). Гимн включает в себя сетование, и confessio выражает их в языке 71.
В горизонте неизменной вечности сетование, не стыдясь, обнажает чувства. «Что это брезжит (interlucet) и ударяет (percutit) в сердце мое, не нанося ему раны? Трепещу и пламенею (et inhorresco et inardesco), трепещу в страхе: я так непохож на Тебя; горю, пламенею любовью: я так подобен Тебе» (9, 11). Еще ранее, в ходе повествования в «Исповеди» Августин сетовал, рассказывая о тщетных попытках экстаза в духе Плотина: «Я увидел, что далек от Тебя в этой стране неподобия (in regione dissimilitudinis)» (VII, 10, 16)72. Это выражение, идущее от Платона («Политик», 273 d) и перенесенное в христианскую среду при посредничестве Плотина («Эннеады», I, 8, 13; 16-17) 73, приобретает здесь исключительную выразительность: оно больше не характеризует, как это было у Плотина, падение в темную трясину; напротив, оно свидетельствует о радикальном онтологическом отличии творения от творца, отличии, которое в своем возвратном движении открывает душа, стремящаяся познать первоначало 74.
Но если различение подобного и неподобного зависит от мышления, которое «сравнивает» (6, 8), то его отголосок своей длительностью и глубиной потрясает чувство. В этом плане показательно, что на заключительных страницах книги XI, где анализ времени полностью включен в контекст размышлений об отношениях вечности и времени (29, 39 — 31, 41), дается последняя интерпретация distentio animi, выдержанная в том же тоне хвалы и сетования, что и первые главы книги. Distentio animi теперь не только указывает на «решение» апорий измерения времени, но и выражает страдание души, лишенной недвижности вечного настоящего. «Но так как "милость Твоя лучше, нежели жизнь”, то вот жизнь моя: это сплошное рассеяние... (distenti est vita mea)» (29, 39) 75. В сущности, вся диалектика intentio — distentio, присущая самому времени, возобновляется под знаком противоположности между вечностью и временем. Тогда как distentio становится синонимом рассеяния во множественности и блужданий «ветхого человека», intentio стремится отождествить себя с собиранием человека внутреннего («...собрав себя, да последую за Единым», там же 76). Intentio больше не является предвосхищением поэмы в ее целостности, возникающим в начале чтения, которое переводит intentio из будущего в прошлое, но становится чаянием по-
38
следних вещей в той мере, в какой прошлое, подлежащее забвению, является более не сводом воспоминаний, но символом «ветхого человека», согласно апостолу Павлу (Фил 3, 12-14): «“Забывая прошлое”, не рассеиваясь в мыслях о будущем и преходящем, но сосредоточиваясь на том, что передо мной, не рассеянно, но сосредоточенно (non distentus sed extensus), в усилии не растяжения (поп secundum distentionem), но интенции (sed secundum intentionem), “пойду к победе призвания свыше...”» («Исповедь», XI, 29, 39)77. Те же самые слова distentio и intentio возвращаются вновь, но уже не в сугубо умозрительном контексте апории и исканий, а в диалектике хвалы и сетования 78. Это смещение смысла, затрагивающее distentio animi, приводит к тому, что граница, разделяющая состояние тварного бытия и бытия падшего, незаметно пересекается: «Я рассеян (dissilui) во времени, строй которого мне неведом...» (там же)79. «Сетования», которыми наполнена наша жизнь, — одновременно и жалобы грешника, и жалобы твари.
В том же горизонте вечности обретают смысл и все иные выражения Августина, с помощью которых в других его трудах разрабатываются метафорические средства для центральной метафоры distentio.
Содержательный очерк о. Станисласа Бороса «Категории временности у святого Августина» 80, где особое внимание уделяется его «Enarrationes in Psalmos» и «Sermones», заканчивается описанием четырех «синтетических образов», каждый из которых поставлен в пару с тем, что я когда-то назвал печалью конечного (tristesse du fini) при прославлении абсолюта: временности как «распаду» соответствуют образы разрушения, затухания, постепенного увязания, недостижимости цели, рассеяния, порчи, крайнего убожества; с временностью как «агонией» связаны образы приближающейся смерти, болезни и слабости, междоусобной войны, горечи пленения, дряхления, бесплодия; временность как «изгнание» объединяет образы горя, лишения родного очага, уязвимости, блуждания, ностальгии, тщетного желания; наконец, тема «ночи» управляет образами слепоты, мрака, помутнения. Каждый из этих четырех главных образов, вместе с их вариациями, обретает свое значение лишь в противопоставлении символике вечности, выступающей в образах душевного покоя, полноты жизни, домашнего уюта, света.
В отрыве от этой разветвленной символики, порожденной диалектикой вечности и времени, distentio animi оставалось бы простым наброском умозрительного ответа на апории, постоянно возникающие в ходе аргументации скептиков. Взятое в динамике хвалы и сетования, distentio animi становится живым опытом, облекающим плотью скелет контраргумента.
с) Третий аспект диалектики вечности и времени не менее важен для интерпретации distentio animi: в самой сердцевине временно́го опыта он порождает иерархию уровней темпорализации сообразно тому, отдаля-
39
ется этот опыт от своего полюса — вечности — или приближается к нему.
Здесь подчеркивается скорее сходство, чем различие вечности и времени в «сравнении» одного с другим, осуществляемом мышлением (6, 8). Это сходство выражается в способности приблизиться к вечности, что Платон включал в само определение времени и что первые христианские мыслители начали перетолковывать с точки зрения идей творения, воплощения, спасения. Этому толкованию Августин придает особый оттенок, связывая вместе обе темы: обучение внутренним Словом и возвращение. Между вечным Verbum и человеческим vox существуют не только различие и дистанция; они соотносятся друг с другом как обучение и коммуникация: Слово — это внутренний учитель, искомый и слышимый «внутри» (intus) (8, 10): «Там слышу я (audio) голос Твой, Господи, говорящий мне: ибо Он говорит с нами, Он, кто учит нас (docet nos)... А кто же учит нас кроме незыблемой, недвижной истины?» (там же). Таким образом, наше изначальное отношение к языку заключается не в том, что мы говорим, а в том, что мы слушаем: за внешними verba мы слышим внутренний Verbum. Возвращение — не что иное, как это слушание: ибо если начало не пребывало бы, «пока мы блуждали, нам некуда было бы вернуться. Когда мы возвращаемся от заблуждений, мы, конечно, возвращаемся потому, что узнали их, а узнавать их и учит нас Он, ибо Он Начало и говорит нам» (8, 10). Так связываются воедино обучение 81, узнавание и возвращение. Можно сказать, что обучение преодолевает пропасть, разверзающуюся между вечным Verbum и временны́м vox. Оно возвышает время, направляя его к вечности.
Об этом движении и ведется рассказ в первых девяти книгах «Исповеди». И в этом смысле повествование действительно проходит тот путь, об условиях возможности которого говорится в книге XI. И вправду, данная книга свидетельствует о том, что притяжение временно́го опыта, осуществляемое вечностью Слова, само по себе еще не упраздняет временно́го повествования, включая его в созерцание, освобожденное от временны́х ограничений. В этом отношении провал попыток экстаза в духе Плотина, о чем идет речь в книге VII, является окончательным. Ни обращение, описанное в книге VIII, ни даже экстаз в Остии — кульминационный пункт повествования в книге IX — не упраздняет временно́го состояния души. Оба кульминационных опыта лишь кладут конец блужданию, этой деградировавшей форме distentio animi. Но делается это для того, чтобы побудить душу к дальнейшим странствиям, вновь бросив ее на дороги времени. Странствие и повествование основаны на сближении вечности и времени, и это не уничтожает различия между ними, но лишь более его углубляет. Вот почему Августин, бичуя легкомыслие тех, кто приписывает Богу новую волю в момент творения, противопоставляет их «суетному сердцу» «сердце недвижное» тех, кто внимает Слову (11, 13); он упоминает эту недвижность, подобную недвижности вечного настоящего, лишь для того,
40
чтобы еще раз подчеркнуть различие между временем и вечностью: «Кто удержал бы [сердце] и остановил его на месте: пусть минуту постоит неподвижно (ut paululum stet), пусть поймает отблеск всегда недвижной (semper standis) сияющей вечности, пусть сравнит ее и время, никогда не останавливающееся. Пусть оно увидит, что они несравнимы...» (там же).
И хотя различие между ними углубляется, — то, что сближает их, выполняет ту же ограничительную функцию, что и вечность по отношению ко времени: «Кто удержал бы человеческое сердце: пусть постоит недвижно и увидит, как недвижная пребывающая вечность, не знающая ни прошедшего, ни будущего, указывает (dictet) времени быть прошедшим и будущим» (там же).
Конечно, когда диалектика intentio и distentio окончательно закрепляется в диалектике вечности и времени, робкое вопрошание, повторенное дважды (кто удержал бы?., кто удержал бы?..), уступает место более уверенному утверждению: «Тогда и я обрету постоянство (stabo) и утвержусь (solidabor) в Тебе, в образе моем, в истине Твоей» (30, 40)82. Но это постоянство, недвижность — в будущем, во времени надежды. Обет постоянства приносится еще внутри опыта растяжения: «...доколе (donec) не сольюсь я с Тобой, очищенный и расплавленный в огне любви Твоей» (29, 39).
Итак, не теряя автономии, которую ей сообщает дискуссия об античных апориях времени, тема растяжения и интенции, включенная в размышление о вечности и времени, нарастает и будет звучать на всем протяжений нашей работы. Это нарастание выражается не только в том, что время мыслится упраздняемым в горизонте идеи-границы — вечности, которая угрожает ему небытием. Оно тем более не сводится к перемещению того, что было только умозрительным аргументом, в регистр сетования и стенания. Оно выполняет более существенную задачу, извлекая из самого опыта времени средства, служащие внутренней иерархизании, преимущество которой заключается не в уничтожении временности, но в ее углублении.
Выводы, вытекающие из этого последнего замечания, оказываются чрезвычайно важными для всего нашего предприятия. Если верно, что главная тенденция современной теории рассказа — как в историографии, так и в нарратологии — заключается в его «дехронологизации», то борьба против линейного представления о времени может привести не только к «логицизации» повествования, но также и к углубленной временности. Противоположностью хронологии — или хронографии — является не одна лишь ахрония законов или моделей. Ее настоящая противоположность — это сама временность. Пожалуй, следовало бы признать иное времени, чтобы воздать должное человеческой временности, чтобы не упразднить ее, но углубить и иерархизировать, развернув сообразно уровням темпорализации, все менее «растянутым» и все более «напряженным», non secundum distentionem, sed secundum intentionem (29, 39).
41
II. Построение интриги
Читая «Поэтику» Аристотеля
Второй великий текст, ставший стимулом для моего исследования, — это «Поэтика» Аристотеля. Я выбрал его по двум причинам.
С одной стороны, в понятии «построение интриги» (mythos) 83 я обнаружил ответ-возражение на distentio animi Августина. Августин страждет под экзистенциальным гнетом несогласия. Аристотель же выявляет в высшей форме поэтического акта — в сочинении трагической поэмы — торжество согласия над несогласием. Само собой разумеется, что именно я, читатель Августина и Аристотеля, устанавливаю это отношение между живым опытом, где согласие страдает от несогласия, и языковой деятельностью, где согласие исправляет несогласие.
С другой стороны, понятие миметической деятельности (mimēsis) подводит меня к другой проблеме — проблеме творческого подражания живому временно́му опыту, подражания, осуществляемого посредством интриги. У Аристотеля эту вторую тему трудно отличить от первой, поскольку миметическая деятельность у него имеет тенденцию к совпадению с построением интриги. Эта тема, постепенно развертываясь, только впоследствии обретет самостоятельность в нашей работе 84. Действительно, в самой «Поэтике» ничего не говорится об отношении между поэтической деятельностью и временны́м опытом. Поэтическая деятельность сама по себе не имеет явно выраженного временно́го характера. И все-таки в том, что Аристотель хранит молчание в этом вопросе, есть и свое преимущество: молчание с самого начала защищает наше исследование от упрека в тавтологической циркулярности и таким образом устанавливает между обеими проблемами — времени и рассказа — дистанцию, оптимальную для исследования процедур, осуществляющих опосредование между живым опытом и дискурсом.
Эти замечания уже показывают, что в ходе дальнейшего исследования я ни в коей мере не собираюсь использовать аристотелевскую модель как единственно возможную норму. На память приходит скорее
42
аристотелевская мелодическая основа — двойная рефлексия, последующее развитие которой имеет такое же значение, что и начальный импульс. Это развитие затронет оба понятия, заимствованных у Аристотеля: понятие построения интриги (mythos) и понятие миметической деятельности (mimēsis). Что касается интриги, то и здесь придется прояснить некоторые ограничения и запреты, обусловленные тем, что Аристотель в «Поэтике» отдает предпочтение драме (трагедии и комедии) и эпосу. Необходимо сразу же отметить очевидный парадокс, который заключается в возведении нарративной деятельности в ранг категории, охватывающей драму, эпос и историю, тогда как, с одной стороны, то, что Аристотель называет историей (historia), в контексте «Поэтики» играет скорее роль контрпримера, а с другой стороны, рассказ — или, по крайней мере, то, что он называет диегетической поэзией, — внутри одной всеобъемлющей категории mimēsis противопоставляется драме; более того, не диегетическая поэзия, а поэзия трагическая доводит до совершенства структурные свойства искусства сочинения. Каким образом рассказ мог бы стать всеобъемлющим понятием, если с самого начала он представляет собой только вид? В дальнейшем мы покажем, в какой степени текст Аристотеля позволяет выделить структурную модель из ее первоначального окружения — сферы трагического — и тем самым постепенно преобразовать все поле повествования. Какую бы свободу действий ни предоставлял текст Аристотеля, понятие построения интриги может быть для нас только отправной точкой в дальнейшем движении вперед. Чтобы сохранить главенствующую роль этого понятия, его нужно подвергнуть испытанию, сопоставив с теми контрпримерами, в особенности более опасными, которые дает нам современная художественная литература, скажем роман, — или современная история, в том числе ненарративная.
Со своей стороны, понятие mimēsis может быть полностью раскрыто лишь в том случае, если будет прояснено его соотношение с «реальной» областью действия и эта область получит иные определения, помимо «этических» — впрочем, не менее важных, — которые ей приписывает Аристотель; это необходимо нам для того, чтобы связать понятие mimēsis с поставленной Августином проблемой несогласия в опыте времени. Наш путь после Аристотеля будет долгим. Сказать, как рассказ соотносится со временем, мы сможем лишь тогда, когда будет во всей полноте поставлен вопрос о перекрестной референции между вымышленным рассказом и историческим рассказом, точка пересечения которых лежит в живом опыте времени. Если понятие миметической деятельности главенствует в «Поэтике», то наше понятие перекрестной референции — дальний наследник аристотелевского mimēsis — может стоять только в конце пути, являясь горизонтом всего моего предприятия. Вот почему в систематическом виде оно будет рассмотрено только в четвертой части данной работы.
43
1. Мелодическая основа: пара mimēsis mythos
Я отнюдь не намерен писать комментарий к «Поэтике». Мое исследование — рефлексия второго порядка, и оно предполагает определенное знакомство с превосходными комментариями Лукаса, Элса, Хардисона и, lastbutnotleast*, комментариями Розелин Дюпон-Рок и Жана Лалло 85. Читатели, которые смогут проделать тот же нелегкий путь, что и я, без труда поймут, что я почерпнул у того или другого из этих авторов.
Мы не случайно приступаем к рассмотрению пары mimēsis — mythos, обращаясь к термину, который одновременно и служит отправной точкой нашего анализа, и определяет его место: термин этот — прилагательное «поэтическое» (с подразумеваемым существительным — «искусство»). Только оно одно свидетельствует о том, что в нашем исследовании речь идет о производстве, конструировании, динамизме, и оно же накладывает свой отпечаток на термины mythos и mimēsis, которые необходимо толковать как действия, а не как структуры. Когда Аристотель, заменяя определяющее на определяемое, говорит, что mythos — это «упорядочение фактов в систему» (ē tōn pragmatōn systasis) (1450 а 5)86, под systasis (или под равнозначным термином — synthesis, 1450 а 5) следует понимать не систему (как переводят Дюпон-Рок и Лалло, op. cit., р. 55), а именно упорядочение (если угодно, в систему) фактов, чтобы подчеркнуть связь всех понятий «Поэтики» с действием. Вот почему с первых же ее строк mythos стоит как дополнение к глаголу, который означает «сочинять». Таким образом, поэтика без долгих церемоний отождествляется с искусством «сочинения интриг»87 (1447 а 2)88. Тот же признак должен быть сохранен и в переводе термина mimēsis: когда речь идет о подражании (или репрезентации, как у новейших французских переводчиков), под этим нужно понимать именно миметическую деятельность, активный процесс подражания, или репрезентации. Термин «подражание», или «репрезентация», необходимо брать в его динамическом смысле — как осуществление репрезентации, как транспозицию в репрезентативных произведениях. Поэтому, когда Аристотель в главе 6 перечисляет шесть «частей» трагедии и дает им определение, то их следует понимать не как «части» поэмы, но как части искусства сочинения (composition)89.
Я намеренно подчеркиваю тот факт, что прилагательное «поэтическое» ставит печать динамизма на весь последующий анализ. Когда во второй и третьей частях этой работы я буду защищать приоритет нарративного понимания по отношению либо к объяснению (социологическому или какому-либо иному) в историографии, либо к объяснению (структуралистскому или какому-либо иному) в художественной литературе, я буду
* Последними по порядку, но не по значению (англ.). — Прим. перев.
44
отстаивать первенство продуктивной деятельности интриги по отношению ко всякого рода статическим структурам, ахроническим парадигмам, вневременным инвариантам. Этим я здесь пока и ограничусь. Моя цель вполне прояснится в ходе дальнейшего исследования.
Итак, перед нами пара mimēsis — mythos.
В «Поэтике» Аристотеля есть только одно объединяющее понятие — mimēsis. Это понятие определяется лишь контекстуально, и в одном из своих приложений, — которое нас здесь интересует, — как подражание действию, или репрезентация действия. Точнее — подражание действию, или репрезентация действия, посредством стихотворной, а стало быть, ритмической речи (к чему в случае трагедии, о которой преимущественно и пойдет речь, прибавляются зрелище и пение)90. Именно подражание действию (или репрезентация действия) в трагедии, комедии и эпосе только и принимается во внимание. Оно еще не определено в обобщенной форме и выступает только как подражание действию, или репрезентация действия, в трагедии 91. Мы не станем впрямую атаковать этот мощный монолит определения трагедии, последуем лучше тем путем, который нам открывает Аристотель в той же главе (6), где он дает ключ к построению данного определения. Определение составляется не по родовому признаку — посредством выделения видовых отличий, а путем членения на «части»: «Во всякой трагедии необходимо должно быть шесть частей, соответственно которым она бывает какова-нибудь: это — интрига, характеры, речь, мысль, зрелище и пение» (1450 а 7-9)92.
В дальнейшем я обращусь к вопросу о частичном отождествлении двух выражений: подражания действию, или репрезентации действия, и упорядочения фактов. Второе выражение, как мы сказали, является определяющим; им-то Аристотель и заменяет определяемое — mythos, интригу. Это частичное отождествление осуществляется посредством первичной иерархизации шести частей, отдающей приоритет «что» (объекту) репрезентации — интриге, характерам, мысли — перед «чем» (средством) — речью и пением — и перед «как» (способом) — зрелищем; а затем — посредством вторичной иерархизации внутри «что», помещающей действие над характерами и мыслью («[Итак, трагедия] есть [прежде всего] подражание действию (mimēsis praxeōs) и главным образом через это — действующим лицам», 1450 b 3). В результате этой двойной иерархизации действие предстает как «самая важная часть», «цель», «начало» и, так сказать, «душа» трагедии. В основе такого частичного отождествления лежит формула: «Само подражание действию есть интрига» (1450 а I)93.
Отныне мы будем руководствоваться именно этим тезисом. Он обязывает нас мыслить совместно и определять одно через другое подражание действию (или репрезентацию действия) и упорядочение фактов, что сразу же исключает всякое толкование аристотелевского mimēsis в терминах копии. Подражание, или репрезентация, является миметиче-
45
ской деятельностью, поскольку оно нечто производит, а именно организует факты, включая их в интригу. Тем самым мы сразу же отказываемся от платоновского употребления термина mimēsis в его метафизическом, а также техническом смысле (см. «Государство», III, где «миметический» рассказ противопоставляется рассказу «простому»). Оставим последний вопрос дискуссиям об отношении рассказа и драмы. Запомним только, что Платон придает метафизический смысл mimēsis в связи с понятием причастности, в силу которой вещи подражают идеям, а произведения искусства — вещам. Тогда как платоновский mimēsis удаляет произведение искусства на две ступени от идеальной модели, являющейся его предельным основанием94, аристотелевский mimēsis имеет только одно пространство развертывания — человеческое действие, искусство композиции95.
Если сохранить за mimēsis активный характер, который ему придает poiēsis*, и если, кроме того, твердо следовать определению mimēsis через посредство mythos, то не придется колебаться в понимании действия — объектного дополнения в выражении mimēsis praxeōs (1450 b 3) — как коррелята миметической деятельности, направленной на упорядочение фактов (в систему). Далее мы обсудим другие возможные способы конструирования отношения подражания к его «что» (интриге, характерам, мысли). Строгое соответствие между mimēsis и mythos побуждает придать родительному падежу praxeōs доминирующий (хотя, быть может, и не исчерпывающий) смысл ноэматического коррелята практической ноэзы96. Действие есть то, что «сконструировано» в процессе конструирования, в чем и заключается миметическая деятельность. В дальнейшем я покажу, что не стоит слишком настаивать на этой корреляции, ведущий к замыканию поэтического текста в нем самом, что, как мы увидим, вовсе не следует из «Поэтики». К тому же единственное указание, которое дает нам Аристотель, — это конструирование mythos, или сочетания фактов, в качестве «что» mimēsis. Ноэматическая корреляция осуществляется между mimēsis praxeōs, взятым как единая синтагма, и упорядочением фактов как другой синтагмой. Перенесение этого же отношения корреляции внутрь первой синтагмы, между mimēsis и praxis, является допустимым, плодотворным, но одновременно и рискованным.
Говоря о паре mimēsis-mythos, будем помнить и о дополнительных ограничениях, имеющих целью дать представление об уже сложившихся жанрах трагедии, комедии, эпоса и, кроме того, оправдать предпочтение, отдаваемое Аристотелем трагедии. Будем очень внимательны к этим дополнительным ограничениям, ведь именно их и нужно каким-то образом прояснить, чтобы вывести из «Поэтики» Аристотеля модель построения интриги, которую мы намереваемся распространить на всякую композицию, называемую нами нарративной.
* Творчество, делание (греч.). — Прим. перев.
46
Функция первого ограничения состоит в том, чтобы объяснить различение комедии, с одной стороны, и трагедии и эпопеи — с другой. Оно относится не к действию как таковому, но к характерам, которые Аристотель, как мы покажем далее, строго подчиняет действию. Однако оно вводится уже во II главе «Поэтики»: первый раз — когда Аристотель должен найти коррелят деятельности «подражающих»; этот коррелят он определяет при помощи выражения «действующие лица»: «все подражающие подражают лицам действующим» (1448 а 1). Если он не дает сразу же формулу mimēsis, единственно каноническую в «Поэтике», как «подражания действию», так это потому, что ему необходимо как можно скорее ввести в поле репрезентации, артикулированной посредством ритмического языка, этический критерий для определения благородства и низости, который применяется к персонажам, обладающим тем или иным характером. На основе этой дихотомии трагедию можно определить как подражание людям «лучшим», а комедию — как подражание людям «худшим» 97.
Второе ограничение отделяет эпос от трагедии и комедии, которые на этот раз оказываются по одну сторону демаркационной линии. Это ограничение заслуживает самого пристального внимания, поскольку оно противоречит нашему намерению рассматривать рассказ как общий род повествования, а эпос — как один из его видов. Здесь родовым будет подражание действию (или репрезентация действия), взаимосвязанными видами которого являются рассказ и драма. Какое ограничение требует их противопоставления? Прежде всего примечательно то, что это ограничение разделяет не объекты, или «что» репрезентации, а его «как», то есть его способ98. Но если три критерия, определяющие средства, способ и объект, в принципе равноправны, то вся тяжесть последующего анализа ложится на «что». Равнозначность между mimēsis и mythos — это их равнозначность в «что». Действительно, в построении интриги эпос следует правилам трагедии во всем, кроме одного, — а именно долготы, которая может быть выведена из самой композиции и не затрагивает основных правил упорядочения фактов. Главное здесь то, что поэт — рассказчик или драматург — является «сочинителем интриг» (1451 b 27)99. Примечательно также и то, что в ходе дальнейшего изложения это различие в способе действия, уже релятивизированном «Поэтикой» (поскольку это — всего лишь способ), внутри поля своего приложения постоянно сглаживается.
Вначале (глава 3) различие обозначается ясно и резко: одно дело для того, кто подражает, то есть для автора миметической деятельности, в любом искусстве и по поводу любых характеров вести себя как «повествователь» (apangelia, apangelionta)100; другое дело — выводить «всех подражаемых [в виде лиц] действующих и деятельных» (1448 а 23)101. Это различие обусловлено позицией поэта по отношению к его персонажам (именно в этом она конституирует «способ» репрезентации): либо поэт
47
излагает свою мысль непосредственно — и тогда он рассказывает, что делают его персонажи; либо он дает слово своим персонажам и говорит косвенно, через них, — тогда именно они «создают драму» (1448 а 29)102.
Накладывает ли это различие запрет на объединение эпоса и драмы под общим названием «рассказ»? Ни в коей мере. Прежде всего, мы будем характеризовать рассказ не через «способ», то есть отношение автора, а через «объект», поскольку мы называем рассказом именно то, что Аристотель именует mythos, — упорядочение фактов. Мы сближаемся с Аристотелем в той области, в которой он располагается, — в вопросе о «способе». Во избежание всякой неясности мы будем различать рассказ в широком смысле слова, определяемый как «что» миметической деятельности, и рассказ в узком смысле аристотелевского diēgēsis, который отныне мы будем называть диететическим сочинением 103. Более того, этот терминологический перенос столь незначительно сказывается на аристотелевских категориях, что Аристотель постоянно уменьшает указанное различие, касается ли это драмы или эпоса. Относительно драмы говорится, что все, что есть у эпоса (интрига, характеры, мысль, ритм), есть и у трагедии. А то, что имеется у нее сверх этого (зрелище и музыка), в конечном счете для нее не существенно. Зрелище, к примеру, — только «часть» трагедии, но эта шестая часть «чужда... искусству и наименее свойственна поэзии; ведь сила трагедии сохраняется и без [сценического] состязания, и без актеров» (1450 b 17-19). Далее в «Поэтике» в момент классического упражнения в распределении призов (глава 26) Аристотель ставит в заслугу трагедии, что ее можно видеть, но тут же отрекается от своих слов: «...трагедия и без движений делает свое дело не хуже, чем эпопея, ведь и при чтении бывает видно, какова она» (1462 а 12)104. В случае эпопеи отношение поэта к его персонажам в акте повествования также не является непосредственным, как того требует определение. Первое смягчение даже с самого начала включается в определение — Аристотель использует скобки при определении поэта как повествователя: он «...становится в повествовании кем-то иным (так сочиняет Гомер); или [все время остается] самим собой и не меняется» (1448 а 21-23)105. Как раз Гомер впоследствии восхваляется (глава 23) за умение оставаться в стороне от своих персонажей, наделенных характерами, позволять им свободно действовать, говорить от их собственного имени — короче, занимать сцену. В этом эпопея подражает драме. Не боясь парадокса, Аристотель может писать в начале главы, посвященной «поэзии повествовательной и подражающей посредством метра» (1459 а 17): «...очевидно следующее: интриги в ней следует складывать драматичные и т.д.» (1459 а 19)106. Таким образом, в паре драма-рассказ первая косвенно определяет второй, служа ему в качестве модели. Используя различные средства, Аристотель смягчает противопоставление «по способу» между диететическим подражанием (или репрезентацией) и драматическим подражанием (или репрезентацией), — противопостав-
48
ление, которое в любом случае не затрагивает объекта подражания, а именно построения интриги.
Последнее ограничение по праву может быть отнесено к паре mimēsis-mythos, ибо оно дает возможность уточнить аристотелевское применение понятия mimēsis. Именно оно подчиняет рассмотрение характеров рассмотрению самого действия. Это ограничение кажется лимитирующим, если исследовать эволюцию современного романа и тезис Генри Джеймса107, который приписывает развитию характера равные, если не большие, права по сравнению с развитием интриги. Как отмечает Фрэнк Кермоуд108, для развития характера нужно больше рассказывать, а для развития интриги нужно обогащать характер. Аристотель более требователен: «...трагедия есть подражание не [пассивным] людям, но действию, жизни, счастью, [а счастье и] несчастье состоят в действии. И цель [трагедии — изобразить] какое-то действие, а не качество... Кроме того, без действия трагедия невозможна, а без характеров возможна» (1450 а 16-24). Конечно, строгость иерархии можно несколько смягчить, отметив, что речь идет только о порядке «частей» трагедии. К тому же различие между трагедией и комедией вытекает из этических различий, приписываемых характерам. Отнесение характеров ко второму уровню никак не принижает категорию персонажа. Впрочем, и в современной нарративной семиотике, берущей начало у Проппа, мы встретим нечто напоминающее попытки Аристотеля реконструировать логику повествования исходя не из персонажей, но из «функции», то есть из абстрактных элементов действия.
Но главное заключается не в этом: приписывая действию приоритет над персонажем, Аристотель определяет миметический статус действия. Это в этике («Никомахова этика», II, 1105 а 30 и далее) субъект — в плане моральных качеств — предшествует действию. В поэтике же построение поэтом действия определяет этические свойства характеров. Подчинение характеров действию по природе своей иное, нежели два предшествующих ограничения, оно подтверждает равнозначность выражений «репрезентация действия» и «упорядочение фактов». Если акцент должен быть поставлен на упорядочении фактов, тогда подражание (или репрезентация) должно быть подражанием скорее действию, нежели людям.
2. Интрига: модель согласия
Вынесем на время за скобки вопрос о статусе mimēsis, поскольку он определяется не только построением интриги, и обратимся непосредственно к теории mythos, чтобы найти в ней исходную точку для нашей собственной теории нарративной композиции.
Не будем забывать, что теория mythos выведена из определения трагедии, данного в главе 6 «Поэтики» и процитированного выше. То есть Аристотель создает только теорию трагического mythos.
49
Вопрос, который будет сопровождать нас до конца нашего исследования, заключается в том, может ли парадигма порядка, характерная для трагедии, быть расширена и изменена таким образом, чтобы ее можно было применить ко всему полю повествования. Однако эта трудность не должна нас останавливать. Строгость трагической модели имеет то преимущество, что благодаря ей с самого начала нашего исследования нарративного понимания очень высоко ставятся требования порядка. Этим сразу же создается предельный контраст с августиновским distentio animi. Итак, трагический mythos выступает как поэтическое решение умозрительного парадокса времени в той самой мере, в какой на первый план выдвигается изобретение порядка, исключающее всякую временную характеристику. Свою задачу (и ответственность) мы видим в том, чтобы вывести из модели временны́е импликации в свете нового развития теории mimēsis, которое мы предложим ниже. Но попытка мыслить совместно distentio animi Августина и трагический mythos Аристотеля покажется по крайней мере допустимой, если учесть, что аристотелевская теория делает акцент не только на согласии, но и — очень проницательным образом — на игре несогласия внутри согласия. Именно эта внутренняя диалектика поэтической композиции придает трагическому mythos форму, прямо противоположную августиновскому парадоксу.
Прежде всего, именно согласие подчеркивается в определении mythos как упорядочения фактов. Это согласие характеризуется тремя чертами: завершенностью, целостностью, надлежащей протяженностью109.
Понятие «целое» (holos) является стержнем последующего анализа. Однако анализ направлен на исследование не временно́го характера упорядочения, а исключительно его логического характера110. Именно тогда, когда определение соприкасается с понятием времени, оно наиболее отдаляется от него: «...целое есть то, что имеет начало, середину и конец» (1450 b 26). Но только благодаря поэтической композиции нечто расценивается как начало, середина или конец: начало определяется не отсутствием предшествующего, но тем, что «само не следует необходимо за чем-то другим» (1450 b 28). Что касается конца, он действительно есть то, что приходит после чего-то другого, но «в силу либо необходимости, либо возможности» (1450 b 31)111. Лишь середина, по видимости, определяется через посредство простого следования: это — «то, что и само за чем-то следует, и за ним что-то следует» (там же). Но в трагической модели у середины есть своя собственная логика, логика «перемены» (metabolē, metabailein, 1451 а 14; metabasis, 1452 а 16) от счастья к несчастью. Теория «сложной» интриги создает типологию перемен, ведущих к собственно трагическому эффекту. Акцент в анализе этой идеи «целого» ставится, следовательно, на отсутствии случайности и на соответствии требованиям необходимости или вероятности, которым подчиняется следование. Но следование потому только может быть подчинено определенной логической связи, что идеи начала, середины и конца
50
берутся не из опыта: это не черты реального действия, но следствия самого построения поэмы.
Точно так же обстоит дело и с протяженностью. Только в интриге действие имеет контуры, границу (horos, 1451 а 6) и, следовательно, протяженность. Позже, в связи с вопросом о рецептивной эстетике, которая в зародыше уже обнаруживается у Аристотеля, мы вернемся к вопросу о роли взгляда или памяти в определении этого критерия приемлемости произведения. Какова бы ни была способность зрителя охватывать произведение единым взглядом, этот внешний критерий сочетается с внутренним требованием произведения, единственно важным здесь: «Та протяженность достаточна, внутри которой при непрерывном следовании [событий] по вероятности или необходимости происходит перемена от несчастья к счастью или от счастья к несчастью» (1451 а 12-15)112. Конечно, эта протяженность может быть только временно́й: перемена требует времени. Но это время произведения, а не время событий мира: характер необходимости приписывается событиям, которые интрига делает соприлегающими (ephexes, ibid.). Пустое время не принимается в расчет. Никого не интересует, что делал герой между двумя событиями, которые в жизни были разделены: в «Царе Эдипе», отмечает Элс, вестник возвращается точно в тот момент, когда интрига требует его присутствия: «Ни раньше, ни позже» (no sooner and по later, op. cit., p. 293). Также в соответствии с внутренними основаниями композиции эпопея допускает большую протяженность: более терпимая по отношению к эпизодическим событиям, она требует и большей широты, не нарушая, однако, требования границы.
Время не только не рассматривается, оно исключается: так, говоря об эпопее (глава 23), подчиняющейся требованиям завершенности и целостности, которые иллюстрируются преимущественно на примере трагедии, Аристотель противопоставляет два вида единств: с одной стороны, временно́е единство (henoskhronou), характеризующее «единое время и все в нем приключившееся с одним или со многими, хотя бы меж собою это было [связано] лишь случайно» (1459 а 23-24); с другой стороны, драматическое единство, которое характеризует «единое действие» (1459 а 22) (завершенное и целостное, имеющее начало, середину и конец). Многочисленные действия, происходящие в единое время, не составляют единого действия. Вот почему Гомер восхваляется за то, что он выбрал в истории Троянской войны — хотя она имеет начало и конец — «единую часть», начало и конец которой определило одно его искусство. Эти замечания подтверждают, что Аристотель не проявлял никакого интереса к конструированию времени, — конструированию, которое могло бы стать элементом построения интриги.
Итак, если внутренняя связь интриги является скорее логической, чем хронологической, то что же это за логика? Собственно говоря, слово «логическое» не произносится Аристотелем; здесь есть только необхо-
51
димость и вероятность — хорошо известные категории «Органона». Термин «логическое» не произносится лишь потому, что речь идет об интеллигибельности в сфере praxis, а не theōria, — стало быть, в сфере, соседствующей с phronēsis, пониманием действия. И вправду, поэзия — это «действие» (un faire), осуществляющееся над «действием», — таковы «действующие лица» 2-й главы. Только это не реальное этическое действие, но именно вымышленное, поэтическое. Вот почему надо уметь различать специфические черты этого миметического понимания, понимания посредством интриги, как его трактует Аристотель.
То, что у Аристотеля речь идет о понимании, подтверждается начиная с 4 главы, где он генетическим путем выводит свои основные понятия. Почему, спрашивает он, мы получаем удовольствие, глядя на образы отталкивающих вещей — отвратительных животных или трупов? «Объясняется же это тем, что познавание — приятнейшее дело не только для философов, но равным образом и для прочих людей... Глядя на изображения, они радуются, потому что могут при таком созерцании поучаться и рассуждать, что есть что, например: “Вот это такой-то!”» (1448 b 12-17). Познавать, делать выводы, распознавать образ: вот интеллигибельная основа удовольствия, получаемого при подражании (или репрезентации)113. Но если речь идет не о философских универсалиях, какими же могут быть универсалии «поэтические»? То, что это универсалии, не вызывает сомнения, потому что их можно характеризовать посредством двойной оппозиции возможное/действительное и общее/частное. Первая пара иллюстрируется известным противопоставлением поэзии и истории, подобной геродотовской114: «Ибо историк и поэт различаются не тем, что один пишет стихами, а другой прозою (ведь и Геродота можно переложить в стихи, но сочинение его все равно останется историей, в стихах ли, в прозе ли), — нет, различаются они тем, что один говорит о том, что было, а другой — о том, что могло бы быть. Поэтому поэзия философичнее и серьезнее истории, ибо поэзия больше говорит об общем, история — о единичном» (1451 b 4-7).
Дело, однако, прояснилось не полностью: ибо Аристотель стремится противопоставить «то, что было» тому, «что могло бы быть, будучи возможно в силу вероятности или необходимости» (1451 а 37-38). И далее: «Общее есть то, что по необходимости или вероятности такому-то [характеру] подобает говорить или делать то-то» (1451 b 9). Другими словами, возможное и общее можно искать лишь в упорядочении фактов, поскольку именно их сцепление должно быть необходимым или вероятным. Короче, именно интрига должна быть типической. Мы вновь понимаем, почему действие главенствует над персонажами: как раз универсализация интриги сообщает персонажам всеобщий характер, даже когда они сохраняют собственные имена. Отсюда правило: сначала сформулировать интригу, а уж потом давать имена.
52
В таком случае можно возразить, что аргументация носит круговой характер: возможным и общим характеризуются необходимое и вероятное, но именно вероятное и необходимое обусловливают возможное и общее. Следует ли тогда утверждать, что упорядочение как таковое, то есть связь, родственная причинности, делает упорядоченные факты типическими? Со своей стороны, я попытался бы, вслед за нарративистами, теоретиками истории, такими как Л. О. Минк115, перенести акцент в исследовании с интеллигибельности на саму связь, установленную между событиями, короче, на судейский акт «совместного рассмотрения» (prendreensemble). Мыслить каузальную связь, даже между единичными событиями, — значит уже обобщать.
То, что это так, подтверждается противопоставлением единой интриги и интриги отдельных эпизодов (1551 b 33-35). Аристотель порицает не сами эпизоды: трагедия не может обойтись без них, не то она станет монотонной; эпопея также извлекает из них наибольшую выгоду. Осуждению подлежит отсутствие связи между эпизодами: «Эпизодической интригой я называю такую, в которой эпизоды следуют друг за другом (met’ allēla) (при отсутствии последовательной связи. —П. Р.) без вероятия и без необходимости» (там же)”6. Здесь содержится ключевая оппозиция: «одно после другого» / «одно вследствие другого» (di’ allēla, 52 а 4). Одно после другого — это эпизодическая и невероятная последовательность; одно вследствие другого — это связь каузальная и, стало быть, вероятная. Теперь несомненно, что своего рода универсальность, которая присуща интриге, обусловлена ее построением, определяющим ее завершенность и целостность. Универсалии, создаваемые интригой, — это не платоновские идеи. Эти универсалии родственны практической мудрости, то есть этике и политике, и порождаются интригой, когда структура действия опирается на его внутреннюю связь, а не на внешние случайные события. Внутренняя связь сама по себе — это начало универсализации. Особенность mimēsis состоит в том, что он нацелен не на фабулу mythos, а на его связность. Его «действие» с самого начала становится «действием» универсализации. Здесь в зародыше содержится вся проблема нарративного Verstehen*. Сочинять интригу — значит уже выводить интеллигибельное из случайного, универсальное из единичного, необходимое или вероятное из эпизодического. Разве не об этом в конце концов говорит Аристотель в 1451 b 29-32: «Итак, отсюда ясно, что сочинитель должен быть сочинителем не столько стихов, сколько сказаний: ведь сочинитель он постольку, поскольку подражает, а подражает он действиям. Впрочем, даже если ему придется сочинять [действительно] случившееся, он все же останется сочинителем, ведь ничто не мешает тому, чтобы иные из случившихся событий были таковы, каковы они могли бы случиться по вероятности и возможности; в этом отношении он и будет их сочинителем» (1451 b 27-32)?117 Обе
* Понимание (нем.) — Прим. перев.
53
части уравнения уравновешиваются: творец интриги / подражатель действию: вот кто такой поэт.
Трудность, однако, разрешена лишь частично: реальную каузальную связь можно проверить, но как быть с поэтическим сочинением? Вопрос сбивает с толку: если миметическая деятельность «сочиняет» действие, то именно она, сочиняя, вводит необходимое. Она не видит универсального, она порождает его. Каковы же тогда ее критерии? Частичный ответ содержится в приведенном выше высказывании: «...глядя на изображения, они радуются, потому что могут при таком созерцании поучаться и рассуждать, что есть что, например: “Вот это такой-то!”» (1448 b 16-17). Это удовольствие от узнавания, как его определяют новейшие французские комментаторы, предполагает, на мой взгляд, проспективное понятие истины, согласно которому изобретать — значит вновь обретать. Но этому проспективному понятию истины нет места в более формальной теории, касающейся структуры интриги; и оно предполагает более развитую теорию mimēsis, чем та, которая просто уравнивает его с mythos. Я вернусь к этому в конце данного исследования.
3. Включенное несогласие
Трагическая модель не является моделью чистого согласия, это — модель несогласного согласия. Именно в этом качестве она и противостоит distentio animi. Несогласие присутствует на каждом этапе аристотелевского анализа, хотя тематически оно обсуждается лишь в контексте «сложной» интриги (vs. «простой»). Оно заявляет о себе уже в каноническом определении трагедии как подражания действию важному «и законченному...»118 (teleios) (1449 b 25). Но завершенность является чертой, которой нельзя пренебречь, в той мере, в какой конец действия — это счастье или несчастье и в какой этические качества характеров определяют возможность того или другого исхода. То есть действие доводится до своего конца только тогда, когда оно производит счастье или несчастье. Таким образом обозначается пустое место в цепи «эпизодов», ведущих действие к его завершению. Аристотель осуждает не эпизоды, а эпизодическое построение, интригу, в которой эпизоды следуют друг за другом случайно. Эпизоды, контролируемые интригой, придают произведению полноту, а тем самым и «протяженность».
Но в определении трагедии содержится и второе указание: «...это есть подражание, совершающее посредством сострадания и страха очищение (katharsis) подобных страстей» (1449 b 26-27). Оставим на время довольно трудный вопрос о катарсисе и сосредоточимся на способе (dia), при помощи которого он осуществляется. Элс и Дюпон-Лалло, мне кажется, верно поняли намерение Аристотеля, выраженное в построении фразы: эмоцио-
54
нальный отклик зрителя создается в драме, в разрушительных и горестных для самих персонажей происшествиях (incidents). Последующее толкование термина pathos как третьего компонента сложной интриги подтвердит это. Тем самым катарсис, что бы ни означал этот термин, осуществляется самой интригой: А потому первое несогласие — это происшествия, вызывающие ужас и сострадание. Они составляют главную угрозу для связности интриги. Поэтому Аристотель вновь говорит об этом в связи с необходимым и правдоподобным и в том же контексте, где содержится критика пьесы, составленной из эпизодов (глава 9). Он отмечает теперь не существительные «ужас» и «сострадание» (1452 а 2), а прилагательные «ужасные» и «вызывающие сострадание», которые характеризуют происшествия, изображенные поэтом с помощью интриги.
Еще более непосредственное отношение к несогласному согласию анализ эффекта неожиданности. Аристотель характеризует этот эффект, прибегая к необычному выражению в форме анаколуфа: «Против всякого ожидания / одно вследствие другого» (para tēn doxan di’ allēla) (1452 a 4)119. «Удивительными» (to thaumaston) (там же) — высшей точкой несогласного — являются тогда случайные события, которые кажутся преднамеренными.
Но в сердцевину несогласного согласия, также общего для простых и сложных интриг, нас вводит центральный феномен трагического действия, который Аристотель называет «переменой» (metabolē) (глава 11). В трагедии перемена происходит от счастья к несчастью, но направление может быть и обратным: трагедия не использует эту возможность, что, без сомнения, обусловлено ролью происшествий, вызывающих ужас или сострадание. Именно эта перемена занимает время и определяет протяженность произведения. Искусство композиции состоит в том, чтобы показать это несогласие как согласное: «одно вследствие (dia) другого» берет верх над «одно после (meta) другого» 120 (1452 а 18-22). Несогласное разрушает согласное в жизни, но не в искусстве трагедии.
К переменам, характерным для сложной интриги, относятся, как известно, перелом (peripeteia)121, а также узнавание (anagnorisis), к чему следует добавить и страсть (pathos)*. Об этих модальностях перемены мы можем прочитать в главе 11, и комментарии к ней хорошо известны 122. Для нас здесь важно то, что Аристотель умножает число ограничений, накладываемых на трагическую интригу, и тем самым делает свою модель одновременно более сильной и более узкой. Более узкой в той мере, в какой теория mythos сближается с теорией трагической интриги: тогда возникает вопрос, может ли то, что мы называем нарративным, достигать эффекта неожиданности иными средствами, нежели перечисленные Аристотелем, а значит, накладывать иные ограничения, нежели те, что свойственны трагедии. Но модель становится также и более силь-
* pathos переводится еще как «страдание», «переживание». — Прим. перев.
55
ной — в той мере, в какой перелом, узнавание и страсть, в особенности объединенные в одном произведении, как в «Эдипе» Софокла, доводят до высочайшей степени напряжения слияние «парадоксального» и «причинной» связи событий, неожиданности и необходимости 123. Однако эту силу модели любая теория нарративности пытается сохранить иными средствами, нежели средства жанра трагедии. В связи с этим правомерен вопрос: не выходим ли мы за пределы нарратива, если пренебрегаем основным ограничением, которое возникает в результате понимания перелома в самом широком смысле как того, что изменяет делаемое в его противоположность (1452 а 22). Мы вновь столкнемся с этим вопросом, когда впоследствии обратимся к тому, «что превращает действия в историю (или отдельные истории)» (согласно названию эссе Г. Люббе 124). Роль непредвиденных, а тем более «извращенных» последствий в теории историографии поставит перед нами аналогичный вопрос. У этого вопроса имеется множество импликаций: если перелом так существен для всякой истории, где бессмысленное угрожает осмысленному, не сохраняет ли соединение перелома и узнавания универсальность, выходящую за пределы трагедии? Разве не пытаются историки так же внести ясность туда, где имеет место недоумение? И не там ли недоумение наиболее велико, где перемены судьбы наиболее неожиданны? Другая импликация влечет за собой еще большее ограничение: не следовало ли сохранить применительно к перелому отсылку к счастью и несчастью? Не толкует ли в конце концов всякая рассказанная история о превратностях судьбы, о ее движении к худшему или к лучшему? 125 В этом обзоре модальностей перемены не следует недооценивать момент страсти (pathos); правда, Аристотель дает ему в конце главы 11 довольно узкое определение. Страсть связана с присущими трагической интриге происшествиями, которые «вызывают ужас и сострадание»; эти происшествия главным образом и порождают несогласие. «Страсть» — «thethingsuffered», как переводит Элс, — в сложной интриге является только высшей точкой того, что вызывает ужас и сострадание.
Этот анализ эмоционального характера происшествий не чужд и нашему исследованию: как если бы забота об интеллигибельности, свойственная поиску завершенности и целостности, подразумевала некий «интеллектуализм», который надлежало бы противопоставить «эмоционализму». Достойное сострадания и ужасное — качества, тесно связанные с самыми неожиданными и сулящими несчастье переменами судьбы. Именно эти вносящие несогласие происшествия интрига стремится сделать необходимыми и правдоподобными. Тем самым она очищает (purifie) их, или, лучше сказать, подвергает очистке (épure). Далее мы вернемся к этому. Вводя несогласие в согласие, интрига вводит эмоциональное в интеллигибельное. Аристотель приходит к тому, что pathos — это составляющая часть подражания, или репрезентации, praxis. Эти термины, которые противопоставляет этика, объединяются в поэзии126.
56
Пойдем дальше. Если то, что внушает сострадание и страх, таком образом вводится в трагическое, значит, у этих эмоций есть, как говорит Элс (op. cit., р. 375), свое rationale, которое служит критерием трагического в каждом повороте судьбы. Две главы «Поэтики» (13 и 14) посвящены анализу того испытания, которому ужас и сострадание подвергают саму структуру интриги. Действительно, в той мере, в какой эти эмоции несовместимы с отталкивающим и чудовищным, как и с бесчеловечным (именно недостаток такого «человеколюбия» заставляет нас узнавать в персонажах «себе подобных»), они играют главную роль в типологии интриги. Эта типология держится на двух осях: благородстве или низости характеров и счастливом или несчастливом конце. Именно две эти трагические эмоции определяют иерархию возможных комбинаций: «ибо сострадание бывает лишь к незаслуженно страдающему, а страх — за подобного себе» (1453 а 3-5).
В конце концов, именно трагические эмоции требуют, чтобы не порок и подлость ввергли героя в несчастье, но некая «ошибка» помешала ему достичь вершин добродетели и праведности: «Остается среднее между этими [крайностями]: такой человек, который не отличается ни добродетелью, ни праведностью, и в несчастье попадает не из-за порочности и подлости, а в силу какой-то ошибки (hamartia)...»127 (1453 а 7 и далее). Итак, даже распознавание трагической ошибки происходит благодаря эмоциям — состраданию, страху и чувству человечности 128. Снова перед нами круг: композиция интриги, изображая ужасные и вызывающие сострадание происшествия, производит очистку эмоций, а очищенные эмоции руководят распознаванием трагического. Невозможно в большей мере содействовать введению того, что внушает ужас и сострадание, в текстуру драмы. Аристотель следующим образом резюмирует эту тему: «...в трагедии поэт должен доставлять удовольствие от (аро) сострадания и страха через (dia) подражание им, а это ясно значит, что эти [чувства] он должен воплощать в (en) событиях» 129 (1453 b 12-13).
Таковы все возрастающие ограничения, которые Аристотель накладывает на свою трагическую модель. Поэтому и возникает вопрос, не сделал ли он ее одновременно более сильной и более узкой, умножая ограничения трагической интриги 130.
4. Верховье и низовье поэтической конфигурации
В заключение я хотел бы вернуться к вопросу о mimēsis, второму объекту моего интереса при чтении «Поэтики». Мне кажется, что отождествление выражений «подражание действию» (или репрезентация действия») и «упорядочение фактов» не привело к решению этого вопроса. Дело не в том, что в этом уравнении можно что-либо сократить. Бес-
57
спорно, главное значение mimēsis выявляется при его сопоставлении с mythos: если мы по-прежнему будем переводить mimēsis как подражание, то под этим нужно понимать нечто совершенно противоположное копированию предсуществующей реальности, а именно — творческое подражание. Если же мы переводим mimēsis как репрезентацию, то под этим словом нужно понимать не удвоение настоящего, как это было бы еще возможно в случае платоновского mimēsis, а разрыв, открывающий пространство вымысла. Творец слов создает не вещи, а только квази-вещи, он изобретает «как если бы». В этом смысле аристотелевский термин «mimēsis» — символ такого разрыва, который (если употребить принятое теперь выражение) и определяет литературность литературного произведения.
И все же уравнение mimēsis-mythos не исчерпывает смысла выражения mimēsispraxeos. Конечно, можно сконструировать — как мы, впрочем, уже поступали — генитив дополнения как ноэматический коррелят подражания (или репрезентации) и приравнять этот коррелят к полному выражению «упорядочение фактов», из которого Аристотель делает «что» — объект—mimēsis. Но принадлежность термина praxis одновременно к области реального, находящегося в ведении этики, и к области воображаемого, находящегося в ведении поэтики, наводит на мысль, что mimēsis выполняет не только функцию разрыва, но и функцию связи, которая как раз и определяет статус «метафорической» транспозиции практического поля, осуществляемой посредством mythos. Если это действительно так, то в самом значении термина mimēsis нужно сохранить референцию к верховью, истокам греческой композиции. Я называю эту референцию мимесис-Ι, чтобы отличить ее от мимесис-II, то есть мимесис-творчества, которое остается основной функцией. В самом тексте Аристотеля я надеюсь выявить отдельные указания на эту референцию к истокам поэтической композиции. Но это еще не все: мимесис, который является, как мы помним, деятельностью, миметической деятельностью, находит свое завершение (на которое была нацелена его динамика) не только в поэтическом тексте, но и в зрителе или читателе. Существует еще низовье поэтической композиции, которое я называю мимесис-III; указания на него я также найду в тексте «Поэтики». Обрамляя работу воображения двумя операциями, которые составляют верховье и низовье мимесис-вымысла, я, полагаю, не ослаблю, а обогащу сам смысл миметической деятельности, проявляющейся в mythos. Я надеюсь показать, что она становится интеллигибельной благодаря своей посреднической функции — вести от верховья к низовью текста в силу способности к рефигурации.
В «Поэтике» нет недостатка в отсылках к пониманию действия — и страстей, — которое артикулируется в «Этике». Правда, эти отсылки содержатся в ней лишь в неявном виде, тогда как в текст «Риторики» включен настоящий «Трактат о страстях». Это различие понятно: риторика
58
ставит эти страсти себе на службу, тогда как поэтика перелагает в поэму действия и страдания людей.
Следующая глава даст более полное представление о понимании порядка действия, предполагаемом нарративной деятельностью. Трагическая модель — как ограниченная модель нарративности — совершает заимствования, также ограниченные, из этого предпонимания. Трагический mythos, имеющий дело с переменами судьбы, причем исключительно от счастья к несчастью, — это исследование путей, на которых действие, вопреки всем ожиданиям, ввергает достойных людей в пучину несчастий. Он служит контрапунктом этике, которая учит тому, каким образом действие, путем упражнения добродетелей, ведет к счастью. Тем самым он заимствует у пред-знания действия лишь его этические свойства 131.
С самого начала поэт знал, что персонажи, которых он изображает, «действующие» (1448 а 1); он знал, что характеры — это то, что «заставляет нас называть действующие лица каковыми-нибудь» (1450 а 6); он знал, что эти персонажи «необходимо бывают или благородными, или низкими» (1448 β 2)132. Отступление, следующее за этой фразой, — этического плана: «Характеры почти всегда принадлежат к одному из этих двух типов, поскольку основу различий в характере у всех составляют низость и благородство» (1448 а 2-4)133. Выражение «все» (pantes) — знак мимесис-Ι в тексте «Поэтики». В главе, посвященной характерам (глава 15), «лицо, представленное подражанием» (1454 а 27) — это человек с точки зрения этики. Этические характеристики приходят из реальности. Логическое требование когерентности связано с подражанием, или репрезентацией. В том же плане говорится, что трагедия и комедия различаются тем, что «одна стремится подражать худшим, другая — лучшим людям, нежели нынешние (tōn nun)» (1448 а 16-18): таков второй знак мимесис-Ι. Поэт знает, что характеры могут быть улучшены или ухудшены в результате действия, и допускает это: характеры — это то, «что заставляет нас называть действующие лица каковыми-нибудь» (1450 а 6)134.
Короче, чтобы говорить о «миметическом смещении», квазиметафорической «транспозиции» из этики в поэтику, миметическую деятельность следует рассматривать как связь, а не только как разрыв. Она есть само движение от мимесис-Ι к мимесис-II. Если не вызывает сомнений, что термин mythos свидетельствует о прерывности, то слово praxis своим двойным подчинением как раз и обеспечивает непрерывность между двумя сферами действия — этической и поэтической 135.
Сходное отношение тождества и различия можно, вероятно, усмотреть и между pathē, пространное описание которого дается в «Риторике» II, и pathos — «страстью», — которую трагическое искусство делает «частью» интриги (1452 b 9 sq).
Может быть, следует еще поразмыслить над вопросом о восприятии
59
или замещении этики в поэтике. Поэт находит в своем культурном фонде не только имплицитную категоризацию практического поля, но и первичное нарративное оформление этого поля. В отличие от авторов комедии, позволяющих себе поддерживать интригу при помощи взятых наугад имен, поэты-трагики «придерживаются имен, действительно бывших (genomenōn)» (1451 b 15), то есть воспринятых из традиции, ибо правдоподобное — объективное свойство — должно быть, сверх того, еще и убедительным (pithanon) (1451 b 16) — субъективное свойство. Логическая связь правдоподобного не может быть отделена от культурных ограничений, устанавливающих, что является приемлемым. Конечно, здесь искусство также означает разрыв: «Даже если ему (поэту. — Прим. пер.) придется сочинять [действительно] случившееся (genomenа), он все же останется сочинителем» (1451 b 29-30). Но без доставшихся в наследство мифов нечего было бы перелагать в поэтической форме. Кто мог бы рассказать об этом неисчерпаемом источнике полученной от мифов необузданной силы, которую поэт обращает в трагический эффект? И где в наибольшей мере сосредоточено это потенциальное трагическое, если не в унаследованных историях, повествующих о нескольких знаменитых семьях: Атридах, Эдипе и его родичах? Не случайно Аристотель, обычно пекущийся об автономии поэтического акта, советует поэту и впредь черпать из этой сокровищницы саму материю того, что вызывает страх и сострадание 136.
Что же до критерия правдоподобия, с помощью которого поэт отличает свои интриги от унаследованных историй — действительно случившихся или существующих лишь в сокровищнице традиции, — то можно усомниться, что критерий этот замыкается в чистой поэтической «логике». Только что сделанный намек на его связь с «убедительным» дает понять, что последнее тоже в известном смысле унаследовано. Но эта тема имеет отношение скорее к проблематике мимесис-III, к которой я теперь и обращаюсь.
На первый взгляд, «Поэтика» не так уж много может дать для решения вопросов о низовье поэтической композиции. В отличие от «Риторики», подчиняющей строй речи ее воздействию на аудиторию, «Поэтика» не свидетельствует о каком-либо явном интересе к передаче произведения публике. В ней порой даже проскальзывает настоящая нетерпимость по отношению к ограничениям, связанным с институтом состязаний (145 1 а 7) и еще более по отношению к дурному вкусу простой публики (глава 25). Восприятие произведения — не главная категория «Поэтики». «Поэтика» — трактат, в котором речь идет о композиции и почти не уделяется внимания тому, кто ее воспринимает.
Замечания, которые я объединяю теперь под рубрикой мимесис-III, тем более ценны, чем реже они встречаются в тексте «Поэтики». Они свидетельствуют о том, что поэтика, делающая главный акцент на внутренней структуре текста, не может замыкаться в его рамках.
60
Линия рассуждения, которой я предполагаю следовать, такова: «Поэтика» говорит не о структуре, а о структурировании; но структурирование — это направленная деятельность, находящая свое завершение лишь в зрителе или читателе.
С самого начала термин poiēsis накладывает отпечаток своего динамизма на все понятия «Поэтики» и превращает их в обозначения операций: mimēsis — репрезентативная деятельностью systasis (или synthesis) — операция по упорядочению фактов в систему, а не система сама по себе. Кроме того, динамизм (dynamis), свойственный poiēsis, с первых строк «Поэтики» рассматривается как требование завершенности (1447 а 8-10); в главе 6 именно он предписывает, чтобы действие было доведено до конца (teleios). Конечно, эта завершенность — завершенность произведения, его mythos, но она удостоверяется только удовольствием, свойственным (1453 b 11) трагедии, которое Аристотель называет ее ergon (1452 b 30), присущим ей воздействием (Голден, op. cit., р. 21, переводит: the proper function). Поэтому все наметки мимесис-III в тексте Аристотеля связываются с этим «удовольствием, свойственным...» и с условиями его создания. Я хотел бы показать, каким образом это удовольствие одновременно создается в произведении и проявляется вне его. Оно соединяет внутреннее с внешним и требует диалектически трактовать это отношение внешнего к внутреннему, которое современная поэтика слишком поспешно сводит к простому разъединению — во имя пресловутого запрета, налагаемого семиотикой на все, что считается внелингвистическим 137. Как будто язык в своем онтологическом порыве не выплескивается всегда за собственные пределы! «Этика» для нас — хорошее руководство к тому, чтобы правильно связать внешнее и внутреннее в произведении. Это — сама теория удовольствия. Если применить к литературному произведению то, что Аристотель говорит об удовольствии в книгах VII и X «Никомаховой этики», — что оно проистекает из действия, осуществленного без помех, и соединяется с завершенным действием как венчающее его дополнение, то таким же образом следует соединить внутреннюю конечную цель произведения и внешнюю конечную цель его восприятия 138.
Удовольствие от познания — это на деле первый компонент удовольствия, получаемого от текста. Аристотель считает его следствием удовольствия, которое Μέι получаем от подражаний, или репрезентаций, и которое — согласно генетическому анализу, представленному в главе 4, — является одной из естественных причин поэтического искусства. Аристотель объединяет с актом познания акт рассуждения о том, «что есть что, например: “Вот это — такой-то!”» (1448 b 17). Итак, радость познания — это радость узнавания. Ее и ощущает зритель, когда узнает в «Эдипе» всеобщее, порожденное самой композицией интриги. Удовольствие от узнавания одновременно создается в произведении и испытывается зрителем.
61
Это удовольствие, в свою очередь, — результат удовольствия, которое зритель получает от сочинения, построенного в соответствии с необходимым и вероятным. Но сами эти «логические» критерии одновременно создаются в пьесе и проверяются на практике зрителем. Мы уже мельком упоминали, говоря о крайних случаях несогласного согласия, о том, что Аристотель устанавливает связь между правдоподобным и приемлемым: «убедительное» — главная категория «Риторики». Это необходимо тогда, когда парадоксальное должно быть включено в каузальную цепь «одно вследствие другого». Тем более это необходимо, когда эпопея допускает alogon, иррациональное, которого должна избегать трагедия. Под давлением невероятного вероятное растягивается тогда до точки разрыва. Мы не забыли удивительное правило: «...невозможное, но вероятное следует предпочитать возможному, но неубедительному» (1460 а 26-27). И когда в следующей (25) главе Аристотель определяет нормы, которыми критик должен руководствоваться при решении «проблем», он классифицирует изображаемые вещи по трем рубрикам: поэт подражает «или тому, как было и есть; или тому, как говорится и кажется, или тому, как должно быть» (1460 b 10-11). Однако на что указывает настоящая (и прошедшая) реальность, мнение и долженствование, если не на саму область наличного вероятного? Мы касаемся здесь одной из самых тайных пружин удовольствия от узнавания, а именно, критерия «убедительности», очертания которой совпадают с очертаниями социального воображаемого (Дюпон-Рок и Лалло очень хорошо говорят: «Убедительное есть не что иное, как вероятное, рассматриваемое с точки зрения его воздействия на зрителя, и, стало быть, — высший критерий mimēsis», р. 382). Правда, Аристотель явным образом превращает убедительное в атрибут правдоподобного, которое в поэзии само является мерой возможного («...убедительно бывает [только] возможное», 1451 b 16). Но когда невозможное — крайняя форма несогласного — ставит под угрозу структуру, именно убедительное становится мерой приемлемого невозможного. «В поэзии предпочтительнее невозможное, но убедительное возможному, но неубедительному» (1461 b 10-11). Единственным руководством здесь является «мнение» (там же): «А немыслимое (alogon) [следует сводить] к тому, что говорят» (1461 b 14).
Таким образом, по самой своей природе, интеллигибельность, характерная для несогласного согласия, — та, которую Аристотель называет правдоподобностью, — это совместный продукт произведения и публики. «Убедительное» рождается в точке их пересечения.
Именно в зрителе вспыхивают чисто трагические эмоции. Удовольствие, получаемое от трагедии, — это удовольствие, порождаемое страхом и состраданием. Здесь лучше всего заметна податливость произведения по отношению к зрителю. Действительно, с одной стороны, ужасное и внушающее сострадание — как прилагательные — характеризуют
62
сами «факты», которые объединяет mythos. В этом смысле mythos подражает тому, что внушает страх либо сострадание, или репрезентирует их. А каким образом он доводит их до репрезентации? — Он извлекает их из (ех) упорядоченной связи событий. Вот так сострадание и ужас вписываются в события при помощи композиции по мере того, как она подвергается испытанию со стороны репрезентативной деятельности (1453 b 13). То, что переживает зритель, должно быть сначала создано в произведении. Можно сказать, что идеальный зритель Аристотеля — это «implied spectator»* в том смысле, в каком Вольфганг Изер говорит об «impliedreader»**139, — но зритель из плоти и крови, зритель, способный наслаждаться.
В этом отношении я согласен с близкими друг другу интерпретациями катарсиса у Элса, Голдена, Джеймса Редфилда, Дюпон-Рок и Жана Лалло140. Катарсис — это очищение, или лучше, как предлагают Дюпон-Рок и Лалло, очистка, центр которой находится в зрителе. Суть ее в том, что «удовольствие, свойственное» трагедии, является результатом сострадания и страха; следовательно, в процессе очистки боль, присущая этим эмоциям, преобразуется в удовольствие. Но эта субъективная алхимия тоже создается в произведении посредством миметической деятельности и обусловлена тем, что ужасные и вызывающие сострадание происшествия, как мы сказали, сами направлены на репрезентацию. А эта поэтическая репрезентация эмоций, в свою очередь, является следствием самой композиции. В этом смысле нелишне сказать вместе с новейшими французскими комментаторами, что очистка заключается прежде всего в создании поэтической композиции. Я уже предлагал трактовать катарсис как составную часть процесса метафоризации, объединяющего познание, воображение и чувство 141. Диалектика внешнего и внутреннего достигает кульминации в катарсисе: создаваемый в произведении, он испытывается зрителем; поэтому-то Аристотель и может включить его в определение трагедии, не посвящая ему специального анализа: «Трагедия есть подражание... совершающее посредством (dia) сострадания и страха очищение... подобных страстей» (1449 b 28).
Я охотно признаю, что упоминания «Поэтики» об удовольствии, полученном от понимания, и удовольствии, даваемом ощущением страха и сострадания (а эти два удовольствия составляют в «Поэтике» единое наслаждение), — только кладут начало теории мимесис-III. Мимесис-III обретает всю полноту, лишь когда произведение разворачивает некий мир, который присваивается читателем. Это — мир культуры. Главная ось теории референции в низовье произведения проходит через отношение поэзии и культуры. Как убедительно сказал Джеймс Редфилд в своей работе «Nature and Culture in theIliad», оба взаимопротивополож-
* Имплицитный зритель (англ.). — Прим. перев.
** Имплицитный читатель (англ.). — Прим. перев.
63
ных отношения, которые можно установить между двумя этими терминами, «must be interpreted... in the light of a third relation: the poet as a maker of culture»* (Предисловие, p. XI)142.
«Поэтика» Аристотеля совершенно не затрагивает эту область. Но она подчеркивает роль идеального зрителя, вернее, идеального читателя: его разума, его «очищенных» эмоций, его удовольствия, — соединяя их и с произведением, и с самой создавшей его культурой. А потому «Поэтика» Аристотеля вопреки своему почти исключительному интересу к мимесис-вымыслу кладет начало исследованию миметической деятельности в полном ее объеме.
* Должны быть интерпретированы... в свете третьего отношения: поэт как творец культуры. — Прим. перев.
64
III. Время и рассказ
Тройственный мимесис
Настал момент объединить два предшествующих самостоятельных исследования и подвергнуть испытанию мою основную гипотезу, состоящую в том, что между деятельностью по рассказыванию истории и временны́м характером человеческого опыта существует корреляция, которая не является чисто случайной, но представляет собой форму транскультурной необходимости. Или, иначе говоря, время становится человеческим временем в той мере, в какой оно нарративно артикулировано, а рассказ обретает свое полное значение, когда он становится условием временно́го существования.
Культурная дистанция, разделяющая августиновский анализ времени в «Исповеди» и аристотелевский анализ интриги в «Поэтике», вынуждает меня создавать на свой страх и риск промежуточные звенья, служащие сочленению корреляции. Действительно, как мы говорили, парадоксы временно́го опыта, согласно Августину, никак не связаны с рассказыванием истории. Избранный им пример чтения поэмы или стиха служит скорее обострению парадокса, нежели его разрешению. Со своей стороны, анализ интриги, проведенный Аристотелем, никак не связан с его теорией времени, которая относится исключительно к области физики; более того, в «Поэтике» «логика» построения интриги обесценивает все размышления о времени, даже когда в ней вводятся такие понятия, как «начало», «середина» и «конец», либо обсуждаются проблемы протяженности, или продолжительности, интриги.
Конструкцию, которую я собираюсь предложить в качестве опосредования, я намеренно озаглавил так же, как и всю работу: «Время и рассказ». Однако на этой стадии исследования я ограничусь лишь предварительным наброском, требующим расширения, критики и пересмотра. Действительно, данный анализ не касается вопроса о
65
фундаментальной бифуркации между историческим рассказом и вымышленным рассказом, ибо здесь необходимо новое, более специальное исследование, которое я предприму во второй и третьей частях этой работы. Но именно раздельное исследование этих двух сфер повлечет за собой самое серьезное обсуждение всего моего предприятия как в плане претензии на истинность, так и в плане внутренней структуры дискурса. То, что обрисовано здесь, — лишь своего рода уменьшенная модель того тезиса, который будет подвергнут испытанию в дальнейшем изложении.
В качестве путеводной нити анализа опосредования между временем и рассказом я беру уже упоминавшееся и отчасти проиллюстрированное интерпретацией «Поэтики» Аристотеля сопряжение трех моментов мимесиса, которые, как в серьезной игре, я обозначил мимесис-I мимесис-II мимесис-III. Я уточнил, что основу анализа составляет мимесис-II: благодаря своей функции разрыва он открывает мир поэтической композиции и определяет, как я уже говорил, литературность литературного произведения. Но моя идея заключается в том, что сам смысл операции конфигурации, составляющей суть построения интриги, проистекает из ее промежуточного положения по отношению к двум операциям: мимесис-Ι и мимесис-III, — которые представляют собой верховье и низовье мимесис-II. Этим я стремился показать, что мимесис-II обретает интеллигибельность благодаря своей посреднической миссии — вести от верховья к низовью текста, преобразуя верховье в низовье в силу способности к конфигурации. В третьей части моей книги, посвященной вымышленному рассказу, я сопоставлю этот тезис с другим, которым я характеризую семиотику текста, — тезисом о том, что наука о тексте может базироваться лишь на абстракции, каковой является мимесис-II, и рассматривать только внутренние законы литературного произведения безотносительно к верховью и низовью текста. Задачей герменевтики, напротив, является реконструкция совокупности операций, с помощью которых произведение пробивается к непроницаемым глубинам жизни, действия и страдания, чтобы автор мог затем передать его читателю, воспринимающему произведение и благодаря этому изменяющему свою деятельность. Для семиотики единственным операциональным понятием остается понятие литературного текста. Герменевтика, напротив, озабочена реконструкцией всей цепочки операций, благодаря которым практический опыт получает в свое распоряжение произведения, авторов и читателей. Она не ограничивается тем,-что располагает мимесис-II между мимесис-Ι и мимесис-III. Она намеревается охарактеризовать мимесис-II через его посредническую функцию. Предметом анализа здесь является конкретный процесс, с помощью которого конфигурация текста осуществляет опосредование между префигурацией практического поля и
66
его рефигурацией в восприятии произведения. В конце анализа станет очевидным, что читатель является преимущественно оператором, который своим действием — актом чтения — вычерчивает весь маршрут от мимесис-Ι к мимесис-III через мимесис-II.
Это исследование динамики построения интриги является, на мой взгляд, ключом к решению проблемы отношения времени и рассказа. Я вовсе не подменяю одну проблему другой, переходя от первоначального вопроса об опосредовании между временем и рассказом к новому вопросу о связи трех стадий мимесиса; общая стратегия моей работы основана на подчинении второго вопроса первому. Конструируя отношение между тремя модусами мимесиса, я создаю опосредование между временем и рассказом. Именно это опосредование проходит через три стадии мимесиса. Иначе говоря, чтобы решить вопрос об отношении времени и рассказа, я должен прояснить опосредующую роль построения интриги по отношению к стадии практического опыта, которая ему предшествует, и той стадией, которая следует за ним. В этом смысле аргументация данной книги нацелена на создание опосредования между временем и рассказом путем доказательства посреднической роли построения интриги в миметическом процессе. Аристотель, как мы видели, не принимал во внимание временны́е аспекты построения интриги. Моя цель состоит в том, чтобы выявить временны́е аспекты акта конфигурации текста и показать опосредующую роль этого времени построения интриги по отношению ко временны́м аспектам, префигурированным в практическом поле, и рефигурацией нашего временно́го опыта с помощью этого сконструированного времени. Стало быть, мы проследим судьбу префигурированного времени вплоть до рефигурированного времени через посредничество конфигурированного времени.
В ходе данного исследования может возникнуть возражение по поводу порочного круга, существующего между актом рассказа и временны́м бытием. Следует ли из этого, что вся наша затея становится лишь пустой тавтологией? Казалось бы, мы ушли от этого возражения, выбрав две отправные точки, максимально удаленные друг от друга: время у Августина и построение интриги у Аристотеля. Но, отыскивая средний термин для этих крайностей и приписывая посредническую роль 'построению интриги и времени, которое оно структурирует, не дадим ли мы вновь повод для этого возражения? Я не собираюсь отрицать круговой характер тезиса, согласно которому временность вносится в язык в той мере, в какой язык конфигурирует и рефигурирует временно́й опыт. Но я надеюсь ближе к концу главы показать, что этот круг может представлять собой нечто иное, нежели мертвую тавтологию.
67
1. Мимесис-I
Сколь бы сильной в инновационном отношении ни была поэтическая композиция в поле нашего временно́го опыта, композиция интриги укореняется в предпонимании мира действия — его интеллигибельных структур, символических средств и временно́го характера. Эти черты скорее описываются, нежели дедуцируются. Таким образом, нет необходимости в том, чтобы их перечень был полным. Однако их перечисление следует прогрессии, которую нетрудно определить. Прежде всего, если верно, что интрига есть подражание действию, то требуется предварительная компетентность, то есть способность идентифицировать целостное действие по его структурным чертам; семантика действия выявляет эту первичную компетентность. Кроме того, если подражать — значит вырабатывать артикулированное значение действия, то здесь необходима дополнительная компетентность: способность идентифицировать то, что я называю символическими опосредованиями действия в классическом — кассиреровском — смысле слова «символ», который взяла на вооружение и культурная антропология. Я же, в свою очередь, позаимствую у нее несколько примеров. Наконец, эти символические артикуляции действия носят как раз временно́й характер, из чего непосредственно вытекает сама пригодность действия для рассказа, а может быть, и необходимость его рассказать. Описание этой третьей черты будет сопряжено с идеями, почерпнутыми из герменевтической феноменологии Хайдеггера.
Рассмотрим последовательно эти три черты: структурную, символическую и временную.
Интеллигибельность, порождаемая построением интриги, находит свою первую точку опоры в нашей способности значимым образом использовать концептуальную сетку, которая структурно отделяет сферу действия от сферы физического движения 143. Я говорю именно «концептуальная сетка», а не «действие», чтобы подчеркнуть тот факт, что сам термин «действие», взятый в узком смысле, как то, что кто-то делает, обретает отчетливое значение благодаря своей способности использоваться совместно с каким-либо другим термином из этой сетки. Действия предполагают цели, предвосхищение которых отлично от какого-то предусмотренного или предсказанного результата, однако накладывает обязательства на того, от кого эти действия зависят. Кроме того, действия отсылают к мотивам, которые объясняют, почему кто-то делает или сделал нечто таким образом, что мы можем четко отличить этот вид действия от того его вида, когда одно физическое событие приводит к другому физическому событию. Действия включают в себя также агентов, делающих и могущих делать определенные вещи, которые расцениваются как их произведение или, как говорят французы, их дело (pour leur
68
fait); следовательно, эти агенты могут считаться ответственными за определенные последствия своих действий. В данной сетке бесконечная регрессия, начало которой кладет вопрос «почему?», совместима с конечной регрессией, открываемой вопросом «кто?». Идентификация некоего агента и признание за ним определенных мотивов — это взаимодополняющие операции. Мы понимаем также, что эти агенты действуют и претерпевают действия в некоторых обстоятельствах, порожденных не ими, но тем не менее принадлежащих практическому полю именно в той мере, в какой эти обстоятельства очерчивают сферу вмешательства исторических агентов в ход физических событий и обеспечивают их действиям благоприятные или неблагоприятные возможности. Это вмешательство, в свою очередь, предполагает, что действовать — значит совмещать то, что некоторый агент может совершить как «базовое действие», с его знанием о том, что он способен сделать на начальной стадии закрытой физической системы, не наблюдая ее 144. Кроме того, действовать — значит всегда действовать «вместе» с другими: взаимодействие может принимать формы сотрудничества, соревнования или борьбы. Случайности взаимодействия соединяются тогда со случайностями обстоятельств, способствующих или препятствующих деятельности. Наконец, действие может приводить к переменам судьбы, сулящим либо счастье, либо несчастье.
Короче, эти, а также родственные им термины неожиданно появляются в ответах на вопросы, которые можно разделить на классы, соответствующие вопросам «что?», «почему?», «кто?», «как?», «с кем?» или «против кого» применительно к действию. Однако определяющей, если значимым образом использовать тот или иной из этих терминов в ситуации вопроса и ответа, является способность связать его с любым из элементов той же совокупности. В этом смысле все элементы совокупности находятся в отношении интерсигнификации, взаимного означения. Овладеть концептуальной сеткой в целом и каждым ее термином как ее составной частью — и значит быть компетентным, то есть обладать практическим пониманием.
Каково в таком случае отношение нарративного понимания к практическому пониманию, в том виде, в каком оно только что было сформулировано? Ответ на этот вопрос определяет и отношение, которое может быть установлено между нарративной теорией и теорией действия (в том смысле, который придается этому термину в англоязычной аналитической философии). На мой взгляд, это отношение двойственно; оно является одновременно отношением пресуппозиции и трансформации.
С одной стороны, всякий рассказ предполагает (présuppose), что рассказчик и его аудитория усвоили такие термины, как «агент», «цель», «средство», «обстоятельство», «помощь», «враждебность», «сотрудничество», «конфликт», «успех», «поражение» и т.д. В этом отношении минимальным нарративным предложением является предложение,
69
обозначающее действие, в форме «Х делает А в тех или иных обстоятельствах с учетом того факта, что Y делает В в тех же самых или других обстоятельствах». В конечном счете рассказы повествуют о действии и страдании; мы видели это у Аристотеля и утверждали вслед за ним. Позже мы увидим, в какой мере — от Проппа до Греймаса — структурный анализ рассказа в терминах функций и актантов подтверждает это отношение пресуппозиции, которое кладет в основу нарративного дискурса предложение, выражающее действие. В этом смысле не существует такого структурного анализа рассказа, который не совершал бы заимствования у имплицитной или эксплицитной феноменологии «действия» 145.
С другой стороны, рассказ не ограничивается использованием нашего знакомства с концептуальной сеткой действия. Он добавляет к ней дискурсивные характеристики, которые и отличают рассказ от простой последовательности предложений, обозначающих действие. Эти характеристики уже не имеют отношения к концептуальной сетке семантики действия. Это — синтаксические характеристики, функция которых состоит в создании композиции модальностей дискурса, достойных названия нарративных, идет ли речь об историческом рассказе или о рассказе вымышленном. Отношение между концептуальной сеткой действия и правилами нарративной композиции можно пояснить, прибегнув к обычному для семиотики различению между парадигматической и синтагматической сферами. Все выражающие действие термины, которые принадлежат парадигматической сфере (ordre), являются синхроническими в том смысле, что отношения интерсигнификации, существующие между целями, средствами, агентами, обстоятельствами и прочими факторами, полностью обратимы. Напротив, синтагматический строй дискурса предполагает неустранимо диахронический характер всякой рассказанной истории. Даже если эта диахрония не препятствует прочтению рассказа в обратном порядке, характерному, как мы увидим, для акта пере-сказа, это чтение, восходящее от конца к началу истории, не устраняет фундаментальной диахронии рассказа. Позже, при обсуждении структуралистских попыток вывести логику рассказа из глубоко а-хроничных моделей, мы сделаем из этого выводы. Сейчас же ограничимся следующим: понять, что такое рассказ, — значит усвоить правила, руководящие его синтагматической сферой. Следовательно, нарративное понимание предполагает не только овладение концептуальной сеткой, определяющей семантику действия. Оно требует еще и усвоения правил композиции, которым подчинен диахронический строй истории. Интрига, понимаемая в широком смысле (см. предыдущую главу), то есть как упорядочение фактов (и, стало быть, последовательность предложений, обозначающих действие) в целостном действии, конституирующем рассказанную историю, представляет собой литературный эквивалент синтагматического порядка (ordre), который вносится в практическое поле благодаря рассказу.
70
Можно следующим образом резюмировать двойное соотношение нарративного понимания и практического понимания. Переходя от парадигматического строя действия к синтагматическому строю рассказа, термины семантики действия обретают единство и реальность. Реальность — ибо термины, имеющие в парадигматическом плане только виртуальное значение, то есть лишь могущие быть использованными, приобретают действительное значение благодаря последовательной связи, которую интрига сообщает агентам, их действиям и страданиям. Единство — ибо такие разнородные термины, как «агенты», «мотивы», «обстоятельства», становятся совместимыми и действуют сообща в реальных временны́х целостностях. Именно в этом смысле двойное соотношение между правилами построения интриги и терминами, обозначающими действие, конституирует одновременно отношение пресуппозиции и отношение трансформации. Понять историю — значит понять одновременно язык «действий» («faire») и культурную традицию, из которой проистекает типология интриг.
Вторая точка опоры, которую находит в практическом понимании нарративная композиция, — символические средства практического поля. Эта черта определяет, какие аспекты действия, аспекты способности к действию (pouvoir-faire) и знания о способности к действию (savoir-pouvoir-faire) связаны с поэтической транспозицией.
В самом деле, если действие может быть рассказано, то потому, что оно уже артикулировано в знаках, правилах, нормах: оно изначально символически опосредовано. Как отмечалось выше, я опираюсь здесь на работы антропологов, по разным основаниям относящих себя к понимающей социологии, в частности, на работу Клиффорда Гирца «TheInterpretationofCultures»146. Слово «символ» взято здесь, скажем так, в его «срединном» значении, на полпути между его отождествлением с простым обозначением (мне приходит на ум лейбницевское противопоставление между интуитивным познанием путем непосредственного усмотрения и символическим познанием при помощи знаков-сокращений, заменяющих длинную цепь логических операций) и его отождествлением с выражениями, имеющими, согласно модели метафоры, двойной смысл, то есть скрытые значения, доступные только эзотерическому знанию. Из области между этими значениями — слишком бедным и слишком богатым — я выбрал то значение, которое ближе к кассиреровскому толкованию, изложенному в «Философии символических форм», — в той мере, в какой для Кассирера символические формы представляют собой культурные процессы, артикулирующие весь опыт. Я употребляю более точное выражение символическое опосредование для того, чтобы выделить среди символов культурного характера те, которые лежат в основе действия и тем самым конституируют первичное значение еще до того, как отделятся от практического плана автоном-
71
ных символических целостностей, входящих в сферу речи или письменности. В этом смысле можно говорить об имплицитном, или имманентном, символизме, противоположном символизму эксплицитному, или автономному 147.
В антропологии и социологии термином «символ» сразу же подчеркивается общественный (public) характер означающей артикуляции. По словам Клиффорда Гирца, «культура общественна, ибо таково значение». Я охотно соглашаюсь с этой первой характеристикой, в которой удачно отмечено то, что символизм существует не в духе, что он является не психологической операцией, чья задача — направлять действие, но значением, включенным в действие и поддающимся расшифровке со стороны других участников социального взаимодействия.
Кроме того, термин «символ», или, вернее, «символическое опосредование», свидетельствует о структурированном характере символического целого. Клиффорд Гирц говорит в связи с этим о «системе символов, находящихся во взаимодействии», о «моделях синергических значений». Прежде чем стать текстом, символическое опосредование обладает текстурой. Понять некий обряд — значит поместить его в ритуал, а ритуал — внутрь культа и далее постепенно ввести его в совокупность конвенций, верований, институтов, формирующих символическую сетку культуры.
Таким образом, символическая система обеспечивает отдельным действиям контекст описания. Иначе говоря, именно «под углом зрения...» определенной символической конвенции мы можем интерпретировать некий жест как обозначающий то или другое: один и тот же жест (поднятие руки) может в зависимости от контекста быть понят как способ приветствия, остановки такси или голосования. Прежде чем подвергнуться интерпретации, символы являются внутренними интерпретантами действия 148.
Так символизм сообщает действию первичную прочитываемость. Но, утверждая это, не нужно смешивать текстуру действия с текстом, который пишет этнолог, — с уто-графическим текстом, написанным при помощи категорий, понятий, номологических принципов, представляющих собой собственное достояние науки; их, стало быть, нельзя смешивать с категориями, посредством которых культура осознает саму себя. Если все-таки возможно говорить о действии как о квази-тексте, то лишь в той мере, в какой символы, понятые в качестве интерпретантов, обеспечивают правила обозначения, в соответствии с которыми может быть проинтерпретировано наше поведение 149.
Термин «символ» вводит, кроме того, идею «правила», не только в отмеченном выше смысле правил описания и интерпретации отдельных действий, но и в смысле нормы. Некоторые авторы, к примеру, Питер Уинч 150, даже приписывают этой черте первостепенное значение, харак-
72
теризуя означающее действие как rule-governedbehavior*. Эту функцию социальной регуляции можно прояснить, сопоставив генетические и культурные коды. И те и другие являются «программами» поведения и в качестве таковых придают жизни форму, порядок и направление. Однако, в отличие от генетических кодов, культурные коды созидаются в областях, где генетическая регуляция нарушена, и сохраняют свою эффективность лишь ценой полной перестройки системы кодирования. Обычаи, нравы — все то, что Гегель объединял под названием этической субстанции, Sittlichkeit, предшествующей всякой Moralität** рефлексивного плана, — принимают эстафету у генетических кодов.
Итак, в области символического опосредования мы без труда переходим от идеи имманентного обозначения к идее правила, понятого как правило описания, а затем и к идее нормы, равнозначной идее правила, взятого в прескриптивном смысле этого термина.
С точки зрения норм, присущих культуре, действия могут быть оценены или квалифицированы, то есть рассмотрены в соответствии с определенной шкалой морального предпочтения. Эти действия получают относительную ценность,что позволяет считать какое-либо действие лучшим, нежели другое. Данная градация ценностей, отнесенная вначале к действиям, может быть распространена и на самих агентов, которые рассматриваются как хорошие, плохие, лучшие или худшие.
Итак, окольным путем, при помощи культурной антропологии мы возвращаемся к некоторым из «этических» допущений «Поэтики» Аристотеля, которые я также могу отнести к уровню мимесис-Ι. «Поэтика» предполагает не только «деятелей», но и характеры, которые обладают нравственными качествами, делающими их благородными или низкими. Трагедия именно потому может изобразить их «лучшими», а комедия «худшими» в сравнении с реальными людьми, что практическое понимание, в равной мере присущее и авторам, и зрителям, обязательно содержит оценку характеров и их действий в терминах «хорошо» или «плохо». Нет такого действия, которое, как бы незначительно оно ни было, не вызвало бы ни одобрения, ни осуждения, сообразно иерархии ценностей, чьи полюса составляют добро и зло. В свое время мы обсудим вопрос о возможности такой модальности чтения, которая была бы полностью свободна от всякой этической оценки. К примеру, что осталось бы от того сострадания, которое мы вслед за Аристотелем связываем с незаслуженным несчастьем, если бы эстетическое удовольствие было отделено от всякой симпатии или антипатии по отношению к этическим качествам характеров? Во всяком случае, следует знать, что этой возможной этической нейтральности пришлось бы вести открытый бой с изначально присущей действию чертой — невозможностью быть эти-
* Поведение, подчиняющееся правилам (англ.). — Прим. перев.
* Морали (нем.). — Прим. перев.
73
чески нейтральным. Одна из причин того мнения, что эта нейтральность не является ни возможной, ни желательной, состоит в том, что реальная сфера действия предлагает художнику не только конвенции и убеждения, которые необходимо разрушить, но также двусмысленности и неясности, подлежащие преодолению путем создания гипотезы. Многие современные критики, размышляя об отношении искусства и культуры, подчеркивали конфликтный характер норм, складывающихся в культуре и прилагаемых к миметической деятельности поэтов 151. Критикам этим предшествовал Гегель с его знаменитым размышлением об «Антигоне» Софокла. Однако не упраздняет ли эта нравственная нейтральность художника одну из самых древних функций искусства, функцию создания некоей лаборатории, в которой художник с помощью вымысла проводит эксперимент с ценностями? Каким бы ни был ответ на эти вопросы, поэтика не прекращает своих заимствований из этики, даже когда ратует за отказ от всякого морального суждения или за его ироническую инверсию. Проект нейтральности предполагает изначально этический характер действия в верховье вымысла. Сам же этот этический характер представляет собой лишь следствие основной особенности действия — его извечной символической опосредованности.
Предметом нашего исследования является третья черта предпонимания действия, предполагаемого миметической деятельностью второго уровня. Она связана с временными характеристиками, к которым нарративное время прививает свои конфигурации. В реальности понимание действия не сводится к овладению концептуальной сеткой действия и его символическими опосредованиями; оно распознает в действии временны́е структуры, которые требуют повествования. На этом уровне равнозначность между нарративом и временем остается неявной. Однако я не буду доводить анализ этих временны́х характеристик действия до той точки, где было бы возможно говорить о нарративной или по крайней мере донарративной структуре временно́го опыта, как того требует наш обычный способ рассказывать истории, которые с нами произошли, или истории, в которые мы вовлечены, или, попросту говоря, историю жизни. Я приберегу на конец главы исследование понятия до-нарративной структуры опыта, которое дает действительно прекрасную возможность отвести упрек в порочном круге, неотступно преследующий весь наш анализ. Здесь же я ограничусь рассмотрением временны́х черт, оставшихся невыявленными в символических опосредованиях действия, — черт, в которых можно видеть стимулы к повествованию.
Я не стану задерживаться на слишком очевидной корреляции, которую можно установить — так сказать, почленно — между тем или иным элементом концептуальной сетки действия и определенным отдельно взятым временны́м измерением. Нетрудно заметить, что любой проект имеет дело с будущим, правда, будущим особого рода, отличным от будущего, опре-
74
деляемого предвидением или предсказанием. Не менее очевидно и тесное родство между мотивацией и способностью мобилизовать в настоящем опыт, унаследованный из прошлого. Наконец, выражения «я могу», «я делаю», «я страдаю» явным образом способствуют раскрытию того смысла, который мы непроизвольно придаем настоящему.
Более важно то, что эта мягкая корреляция между определенными категориями действия и отдельно взятыми временны́ми измерениями представляет собой обмен между временны́ми структурами, выявляемый реальным действием. Согласно-несогласная структура времени, по Августину, демонстрирует на уровне рефлексивного мышления некоторые парадоксальные черты, первый набросок которых может дать феноменология действия. Утверждая, что существует не время будущее, прошедшее и настоящее, но тройственное настоящее: настоящее вещей будущих, прошлых и настоящих, — Августин выводит нас на путь исследования изначальной временно́й структуры действия. Нетрудно перетолковать каждую из этих трех временны́х структур действия в терминах тройственного настоящего. Настоящее будущего? Отныне, то есть начиная с данного момента, я обязуюсь сделать это завтра. Настоящее прошедшего? Сейчас я намереваюсь сделать это, ибо я как раз подумал, что... Настоящее настоящего? Сейчас я делаю это, потому что именно сейчас я могу это сделать: реальное настоящее действия удостоверяет потенциальное настоящее способности к действию и конституирует себя в настоящем настоящего.
Однако феноменология действия может пойти и дальше этой почленной корреляции, если последует по пути, открытому августиновским размышлением о distentio animi. Важен сам способ, при помощи которого повседневная практика упорядочивает относительно друг друга настоящее будущего, настоящее прошлого и настоящее настоящего. Ибо именно это практическое сопряжение является самым начальным стимулом к повествованию.
Решающую роль здесь может сыграть посредник — экзистенциальный анализ Хайдеггера, но при определенных, четко установленных условиях. Я отдаю себе отчет в том, что прочтение «Бытия и времени» в сугубо антропологическом плане рискует разрушить смысл всего этого произведения, поскольку из поля зрения исчезнет его онтологическая направленность: Dasein — это «место», где бытие, которым являемся мы сами, конституируется благодаря своей способности ставить вопрос о бытии и его смысле. Изолировать философскую антропологию «Бытия и времени» — значит забыть это главное значение его центральной экзистенциальной категории. Однако в «Бытии и времени» вопрос о бытии ставится как раз в ходе анализа, который, дабы выполнить предписанную ему функцию онтологического прорыва, должен получить предварительное обоснование в плане философской антропологии. Более того, эта философская антропология кладет в основу тематику Забо-
75
ты (Sorge), которая, никогда не исчерпываясь в праксеологии, тем не менее черпает в описаниях, заимствованных из практической сферы, ту разрушительную силу, которая позволяет ей подорвать господство познания через объект и раскрыть структуру бытия-в-мире, более фундаментальную, нежели любое отношение субъекта к объекту. Таким образом, обращение к практике в «Бытии и времени» имеет косвенное онтологическое значение. Напомним в связи с этим хайдеггеровский анализ «средства», «для-того-чтобы», создающих основу отношений обозначения (или «обозначаемости») до всякого эксплицитного познавательного процесса и всякого развернутого пропозиционального выражения.
Подобную подрывную силу я нахожу в анализе, завершающем исследование временности во втором разделе «Бытия и времени». Этот анализ вращается вокруг нашего отношения ко времени как к тому, «в» чем мы каждодневно действуем. Но как раз структура внутривременности (Innerzeitichkeit)152, на мой взгляд, лучше всего характеризует временность действия на том уровне, на котором находится наш анализ, — на уровне феноменологии волевого и неволевого и семантики действия.
Можно возразить, что рискованно читать «Бытие и время» начиная с заключительной главы. Однако необходимо понять, почему эта глава в структуре книги оказалась последней. Тому есть две причины. Прежде всего, размышления о времени, заполняющие второй раздел, сами по себе занимают положение, которое можно охарактеризовать как позицию отсрочки. Действительно, первый раздел повторяется здесь под знаком вопроса, который звучит так: что делает из Dasein единое целое? По причинам, к которым я вернусь в четвертой части своей работы, на данный вопрос должно дать ответ размышление о времени. В свою очередь, исследование внутривременности — единственное, что интересует меня на данной стадии моего анализа, — не может продвигаться вперед из-за той иерархической формы, которую Хайдеггер придал своему размышлению о времени. Эта иерархия следует порядку одновременного убывания отклонения и подлинности. Как известно, Хайдеггер оставил термин временность (Zeitlichkeit) для обозначения самой первичной и самой подлинной формы временно́го опыта — диалектики «бытия-к-будущему», «бывшего прошлым» и «актуализации» (rendre présent). В этой диалектике время полностью десубстантивировано. Слова «будущее», «прошлое», «настоящее» исчезают, и само время выступает как расколотое единство этих трех временны́х экстазов. Эта диалектика представляет собой временную структуру Заботы. Мы также знаем, что именно бытие-к-смерти обеспечивает у Хайдеггера — вопреки Августину — примат будущего над настоящим и закрытость этого будущего, обусловленную тем пределом, который свойствен всякому ожиданию и всякому проекту. Далее, Хайдеггер сохраняет термин историчность (Geschichtlichkeit) для уровня, непосредственно соприкасаю-
76
щегося с отклонением. Причем здесь подчеркиваются два свойства: растянутость времени между рождением и смертью и перемещение акцента с будущего на прошлое. Именно с этим уровнем Хайдеггер стремится связать совокупность исторических дисциплин с помощью третьего свойства—повторения, — которое свидетельствует об отклонении этой историчности от глубинной временности 153.
Таким образом, только на третьем уровне появляется внутривременностъ, на которой я хочу сейчас остановиться 154. Эта временная структура занимает последнее место, поскольку она более других поддается нивелировке со стороны линейного представления о времени как простой последовательности абстрактных «теперь». Здесь меня интересуют только свойства, благодаря которым эта структура отличается от линейного представления о времени и противостоит нивелировке, сводящей ее к этому представлению, которое Хайдеггер назвал «расхожей» концепцией времени.
Внутривременность определяется через основополагающую характеристику — Заботу: состояние заброшенности среди вещей ведет к тому, что описание нашей временности ставится в зависимость от описания предметов нашей Заботы. Эта черта низводит Заботу до уровня озабочения (Besorgen) (с. 121). Но сколь бы неподлинным ни было это отношение, оно все-таки являет те черты, которые отделяют его от внешней сферы предметов нашей Заботы и глубинным образом связывают с самой Заботой, ее фундаментальной структурой. Примечательно, что для выявления этих собственно экзистенциальных характеристик Хайдеггер охотно обращается к тому, что мы говорим и делаем в отношении времени. Этот подход очень близок к подходу, с которым мы встречаемся в философии обыденного языка. И неудивительно: именно на том уровне, на котором мы находимся в этой начальной фазе нашего исследования, обыденный язык, по словам Ж.-Л. Остина и других, предстает сокровищницей выражений, наиболее приспособленных к тому, что есть в опыте собственно человеческого. Именно язык со своим запасом общеупотребительных значений препятствует тому, чтобы описание Заботы в модальности озабочения было упразднено описанием предметов нашей Заботы.
Именно так внутривременность, или бытие-«во»-времени, проявляет черты, не сводимые к линейному представлению о времени. Бытие-«во»-времени — это уже нечто иное, нежели измерение интервалов между мгновениями-границами. Быть-«во»-времени — значит прежде всего считаться со временем и, соответственно, вести счет. Но именно потому, что мы считаемся со временем и ведем счет, мы должны прибегать к измерению, а не наоборот. Значит, должна существовать возможность экзистенциального описания этого «считаться со временем» еще до измерения, которого требует этот феномен. Здесь в высшей степени показательны выражения типа «иметь время...», «брать время...», «те-
77
рять время» и т.д. Так же обстоит дело с грамматической системой времен глагола и очень разветвленной сетью наречий времени: «тогда», «после», «позже», «раньше», «с того времени», «вплоть до того», «тогда как», «в то время как», «всякий раз», «теперь, когда» и т.д. Все эти выражения, исключительно нюансированные и тончайшим образом дифференцированные, указывают на датируемый и публичный характер времени озабочения. Однако именно озабочение, а не предметы нашей Заботы, всегда определяет смысл времени. Но бытие-«во»-времени потому столь легко интерпретируется с точки зрения обыденного представления о времени, что первые его измерения были заимствованы из природной среды и основывались прежде всего на смене дня и ночи и времен года. Поэтому день — самая естественная из всех мер 155. Но день — это не абстрактная мера, это величина, соответствующая нашей Заботе и миру, в котором день — это «время» что-то сделать, где «теперь» означает «теперь, когда...». Это время трудов и дней.
Важно, стало быть, видеть различие в значении, отделяющее «теперь», свойственное этому времени озабочения, от «теперь», понимаемого в смысле абстрактного мгновения. Экзистенциальное «теперь» определяется «настоящим» озабочения, представляющим собой «актуализацию», неотделимую от «ожидания» и «удержания» (с. 416). Но именно потому, что в озабочении Забота стремится сжаться в «актуализации» и свести на нет свое отличие от ожидания и удержания, «теперь», изолированное таким образом, может быть представлено в качестве абстрактного момента.
Чтобы уберечь данное значение «теперь» от сведения к абстракции, важно заметить, в каких случаях мы «говорим-теперь» в повседневных действии и претерпевании действия: «Теперь-говорение, — пишет Хайдеггер, — есть... речевая артикуляция определенной актуализации, временящей в единстве с удерживающим ожиданием»156. И еще: «Толкующую себя актуализацию, т.е. истолкование, которое задействовано в “теперь”, — мы именуем “время”»157. Понятно, почему в некоторых практических обстоятельствах эта интерпретация может отклоняться в сторону линейного представления о времени: сказать-теперь становится для нас синонимом определения времени по часам. Но поскольку время и часы мы воспринимаем как производные от дня, который связывает Заботу со светом мира, «сказать-теперь» сохраняет свое экзистенциальное значение; когда приборы, служащие измерению времени, лишаются этой первичной опоры на природные меры, «сказать-теперь» возвращается к абстрактному представлению о времени.
Отношение между этим анализом внутривременности и рассказом на первый взгляд представляется очень далеким; текст Хайдеггера, как мы покажем в четвертой части, похоже, даже не оставляет ему никакого места в той мере, в какой связь между историографией и временем осуществляется в «Бытии и времени» на уровне историчности, а не внутривременности. Достоинство анализа внутривременности состоит в дру-
78
гом: этот анализ порывает с линейным представлением о времени, понятым как простая последовательность «теперь». Таким образом, преодолен первый порог временности, ибо первенство отдано Заботе. Распознать этот порог — значит впервые перекинуть мост между рассказом и Заботой. На этом фундаменте внутривременности будут совместно возведены нарративные конфигурации и соответствующие им более развитые формы временности.
Теперь мы видим смысл мимесис-Ι во всем его богатстве: подражать действию, или репрезентировать действие, — значит прежде всего пред-понимать, что есть в нем от человеческого действия: его семантики, его символики, его временности. На этом предпонимании, общем для поэта и читателя, и базируется построение интриги, а с ним и текстуальная и литературная миметичность.
Правда, в строе литературного произведения это предпонимание мира действия низводится до «словарного запаса» (répertoire), как говорит Вольфганг Изер в книге «Der Akt des Lesens»158, или «отсылки» (mention), если воспользоваться иной терминологией, более привычной для аналитической философии. И все же, хотя литература и совершает разрыв, она сама никогда не была бы понята, если бы не конфигурировала то, что уже содержится в человеческом действии.
2. Мимесис-II
Вместе с мимесис-II открывается царство как если бы. Я мог бы сказать «царство вымысла», используя терминологию, принятую литературной критикой. Тем не менее я воздерживаюсь от этого выражения (безусловно пригодного для анализа мимесис-II), чтобы избежать двусмысленности, к которой привело бы употребление одного и того же термина в двух различных значениях: сначала как синонима нарративной конфигурации, потом — как антонима претензий исторического рассказа на статус рассказа истинного. Литературной критике неведома эта трудность, поскольку она не принимает во внимание факт раскола нарративного дискурса на два больших класса. Она может поэтому игнорировать различие, которое затрагивает референциальное измерение рассказа, и ограничиваться структурными характеристиками, общими для вымышленного рассказа и рассказа исторического. В таком случае слово «вымысел» оказывается свободным и может быть применено для обозначения конфигурации рассказа, интрига которого представляет собой парадигму, — безотносительно к различиям, касающимся лишь претензии обоих классов рассказа на истинность. Сколь бы масштабным ни был
79
пересмотр, которому придется подвергнуть различение вымышленного, или «воображаемого», и «реального», он пока не затронет различия между вымышленным рассказом и рассказом историческим; о новой формулировке этого различия и пойдет речь в четвертой части книги. В преддверии этого прояснения я решил сохранить термин «вымысел» во втором из рассмотренных выше значений и противопоставить вымышленный рассказ рассказу историческому. О композиции, или конфигурации, я буду говорить в первом из значений, не затрагивающем проблемы референции и истинности. Как мы видели, это и есть смысл аристотелевского mythos, который «Поэтика» определяет как «упорядочение фактов».
Сейчас я намереваюсь отделить эту деятельность конфигурации от ограничений, которые парадигма трагедии у Аристотеля накладывает на понятие построения интриги. Более того, я хотел бы дополнить аристотелевскую модель анализом ее временны́х структур. Этому анализу, как мы помним, не нашлось места в «Поэтике». Впоследствии (во второй и третьей частях книги) я надеюсь доказать, что на более высоком уровне абстракции и с добавлением соответствующих временны́х характеристик аристотелевская модель не будет существенно искажена исправлениями и расширениями, которые внесут в нее теория истории и литературоведение.
Модель построения интриги, которую мы далее проанализируем, отвечает фундаментальному требованию, уже упоминавшемуся в предыдущей главе. Располагая мимесис-II между предшествующей и последующей стадиями мимесиса, я пытаюсь не только локализовать его и заключить в определенные рамки. Я хочу лучше понять его функцию посредника между верховьем и низовьем конфигурации. Мимесис-II занимает срединное положение лишь потому, что он выполняет опосредующую функцию.
Но эта опосредующая функция обусловлена динамическим характером операции конфигурации, который заставил нас предпочесть термин «построение интриги» термину «интрига», а термин «упорядочение» термину «система». Все понятия, относящиеся к этому уровню, на саамом деле означают операции. Этот динамизм состоит в том, что интрига уже в своем собственном текстуальном поле выполняет функцию интеграции и в этом смысле посредничества, которая позволяет ей осуществлять, уже вне этого поля, опосредование большего масштаба — между предпониманием и, рискну так выразиться, пост-пониманием сферы действия и его временны́х черт.
Интрига выполняет посредническую роль по крайней мере в трех смыслах:
Во-первых, она осуществляет опосредование между событиями или отдельными происшествиями и историей в целом. Можно также сказать, что интрига извлекает осмысленную историю из ряда событий
80
либо происшествий (pragmata у Аристотеля), или что она преобразует их в историю. Оба взаимоотношения, выраженные с помощью из и в, характеризуют интригу как посредницу между событиями и рассказанной историей. Следовательно, событие должно быть чем-то большим, нежели отдельный случайный факт. Оно получает определение в зависимости от своего вклада в развитие интриги. История, с другой стороны, должна быть чем-то большим, нежели простое перечисление событий в порядке их следования: она должна организовать их в интеллигибельное целое таким образом, чтобы всегда можно было поставить вопрос о том, какова «тема» истории. Короче, построение интриги является операцией, которая извлекает конфигурацию из простой последовательности событий.
Кроме того, построение интриги объединяет такие разнородные факторы, как агенты, цели, средства, взаимодействия, обстоятельства, неожиданные результаты и т.д. Аристотель по-разному предвосхищает это свойство опосредования; сначала он создает подмножество из трех «частей» трагедии: интриги, характеров и мысли, — относящееся к «что» (подражания). Ничто не запрещает распространить понятие интриги на всю эту триаду. Это первое расширение сообщает понятию интриги исходное значение, которое позволит ей впоследствии постоянно обогащаться.
Ибо понятие интриги допускает и большее расширение: включая в сложную интригу происшествия (вызывающие ужас и сострадание), переломы, узнавания и страсти, Аристотель приравнивает интригу к конфигурации, которую мы охарактеризовали как согласие-несогласие. В конечном счете именно эта черта определяет опосредующую функцию интриги. Мы уже касались данного вопроса в предшествующем разделе, говоря о том, что рассказ проявляет в синтагматическом плане все компоненты, которые можно сформировать в парадигматической картине, создаваемой семантикой действия. Этот переход от парадигматики к синтагматике, представляющий собой движение от мимесис-Ι к мимесис-II, — результат конфигурирующей деятельности.
Интрига является посредницей и в третьем смысле, по отношению к собственным временны́м характеристикам. Они позволяют нам сделать обобщение и назвать интригу синтезом разнородного 159.
Аристотель не рассматривал эти временны́е характеристики. Однако они непосредственно обусловлены динамизмом, конституирующим нарративную конфигурацию. Тем самым они придают исчерпывающий смысл понятию согласия-несогласия, рассмотренному нами в предшествующей главе. В данном отношении об операции построения интриги можно сказать, что она и отображает августиновский парадокс времени, и одновременно решает его, но не умозрительно, а поэтически.
Она отображает его в той мере, в какой акт построения интриги комбинирует в различных пропорциях два временны́х измерения: хроноло-
81
гическое и нехронологическое. Первое представляет собой эпизодическое измерение рассказа: оно характеризует историю как состоящую из событий. Второе — это измерение собственно конфигурации, благодаря которой интрига преобразует события в историю. Этот конфигурирующий акт 160 состоит в «сведении вместе» (prendre-ensemble) отдельных действий или того, что мы назвали историческими происшествиями; из этого многоообразия событий конфигурирующий акт извлекает единство временно́й целостности. Нелишним будет подчеркнуть родство между этим «сведением вместе», свойственным конфигурирующему акту, и операцией суждения в ее кантовском понимании. Напомним, что для Канта трансцендентальный смысл способности суждения состоит не столько в соединении субъекта и предиката, сколько в подведении интуитивного многообразия под правило понятия. Еще ближе родство с рефлектирующей способностью суждения, которую Кант противопоставляет определяющей способности суждения, поскольку она рефлектирует над работой мысли, реализующейся в эстетическом суждении вкуса и телеологической способности суждения, прилагаемой к органическим целостностям. Акт интриги выполняет сходную функцию, ибо он извлекает конфигурацию из последовательности 161.
Но poiesis не только отображает парадокс временности. Осуществляя опосредование между двумя полюсами — событием и историей, — построение интриги разрешает парадокс времени с помощью самого поэтического акта. Этот акт, который, как мы только что сказали, извлекает форму (figure) из последовательности, раскрывается слушателю или читателю в способности истории быть прослеживаемой 162.
Прослеживать историю — значит двигаться вперед через случайности и перипетии, подчиняясь ожиданию, которое исполняется в завершении. Это завершение не является логическим следствием каких-то предшествующих предпосылок. Оно дает истории «конечную точку», которая, в свою очередь, определяет точку зрения для понимания истории как единого целого. Понимать историю — значит понимать, как и почему следующие друг за другом эпизоды привели к такому завершению, которое отнюдь не предполагалось заранее, но в конечном счете должно быть приемлемым, поскольку оно соответствует собранным вместе эпизодам.
Именно эта способность истории быть прослеживаемой определяет поэтическое решение парадокса растяжения-интенции. Тот факт, что история поддается прослеживанию, превращает этот парадокс в живую диалектику.
С одной стороны, эпизодическое измерение рассказа увлекает нарративное время в сторону линейного представления. Это происходит различными способами. Во-первых, «тогда-то и тогда-то», которым мы отвечаем на вопрос «а потом?», наводит на мысль, что фазы действия связаны внешним образом. Кроме того, эпизоды образуют открытую серию
82
событий, которая позволяет прибавить к «тогда-то и тогда-то» — «и так далее». И, наконец, эпизоды следуют друг за другом в соответствии с необратимым порядком времени, общим для физических событий и событий человеческой жизни.
Конфигурирующее измерение, напротив, демонстрирует временны́е черты, противоположные особенностям эпизодического измерения. Это также происходит по-разному.
Во-первых, конфигурирующее упорядочение преобразует последовательность событий в значимую целостность, которая является коррелятом акта соединения событий и делает историю прослеживаемой. Благодаря этому рефлексивному акту вся интрига может быть выражена в одной «мысли», которая есть не что иное, как ее «соль» (pointe), или «тема». Но было бы полной ошибкой считать такую мысль невременной. Время «фабулы-и-темы», если воспользоваться выражением Нортропа Фрая, есть нарративное время, которое осуществляет опосредование между эпизодическим и конфигурирующим аспектами.
Во-вторых, конфигурация интриги сообщает бесконечной последовательности происшествий «смысл конечной точки» (так звучит в переводе название труда Кермоуда «TheSenseofanEnding»). Мы только что сказали: из «конечной точки» можно увидеть историю как целое. Теперь мы можем прибавить, что эта структурная функция завершения может быть обнаружена скорее в акте пере-сказа, чем в акте рассказа. Лишь только какая-либо история становится хорошо известной — а так было с большинством традиционных или народных сказаний и национальных хроник, в которых излагаются основные события истории какой-либо общности, — прослеживание истории перестает быть распознаванием смысла истории в целом, таящим в себе неожиданные находки или открытия; прослеживание истории означает теперь скорее постижение самих хорошо известных эпизодов как ведущих к данному концу. Из этого понимания и возникает новое качество времени.
Наконец, повторение рассказанной истории, определяемой — как целостность — способом ее завершения, является альтернативой представлению о времени, текущем из прошлого в будущее (вспомним известную метафору «стрелы времени»). Дело обстоит так, как если бы это повторение произвело инверсию направления так называемого «естественного» порядка времени. Читая конец вначале, а начало — в конце, мы учимся читать в обратном порядке само время, как краткое изложение начальных условий хода действия в его конечных результатах.
Короче, акт повествования, отраженный в акте прослеживания истории, вновь делает плодотворными парадоксы, которые волновали Августина, размышлявшего о том, как рассказывание сменяется безмолвием.
Мне остается добавить к анализу конфигурирующего акта две дополнительные характеристики, обеспечивающие непрерывность про-
83
цесса, который связывает мимесис-III с мимесис-II. Введение в действие этих характеристик более явным образом, чем в предыдущих случаях, требует, как мы увидим впоследствии, опоры на чтение. Речь идет о схематизации и о традиционности, отличающих конфигурирующий акт и находящихся в особых отношениях со временем.
Напомним, что мы постоянно связывали «сведение вместе», свойственное конфигурирующему акту, с суждением в кантовском его понимании. Следуя Канту, можно также без колебаний связывать конфигурирующий акт с работой продуктивного воображения. Под продуктивным воображением следует понимать способность не психологизирующую, но трансцендентальную. Продуктивное воображение не только подчиняется правилам, но и само является порождающей матрицей правил. В первой «Критике» категории рассудка с самого начала схематизированы посредством продуктивного воображения. Этот схематизм обладает такой властью потому, что продуктивное воображение выполняет всецело синтетическую функцию. Оно объединяет рассудок и интуицию, порождая синтезы одновременно интеллектуальные и интуитивные. Построение интриги также порождает смешанную интеллигибельность, объединяя то, что мы уже назвали «солью», темой, «мыслью» рассказанной истории, и интуитивное представление обстоятельств, характеров, эпизодов, превратностей судьбы, ведущих к развязке. Следовательно, можно говорить о схематизме нарративной функции. Как и всякий схематизм, он поддается типологизации, вроде той, которую, к примеру, разрабатывает в своей «Анатомии критики» Нортроп Фрай 163.
В свою очередь, этот схематизм формируется в истории, обладающей всеми характерными чертами традиции. Мы подразумеваем под этим не пассивную передачу уже мертвого осадка, а живую передачу инновации, всегда поддающейся реактивации путем возвращения к наиболее творческим моментам поэтического действия. Понятая таким образом, традиционность вносит в отношения интриги и времени новую особенность.
Действительно, в основе формирования традиции лежит взаимодействие инновации и седиментации 164. Начнем с последней. Именно с седиментацией должны быть соотнесены парадигмы, определяющие типологию построения интриги. Эти парадигмы коренятся в седиментированной истории, происхождение которой уже стерлось из памяти.
Но подобная седиментация совершается на многочисленных уровнях, что требует от нас большой осмотрительности в употреблении термина «парадигматический». Аристотель, как нам представляется сегодня, сделал сразу два, если не три дела. С одной стороны, он определил понятие интриги в его наиболее формальных чертах, которые мы обозначили термином «несогласное согласие». С другой стороны, он описал жанр греческой трагедии (а также и жанр эпопеи, оцененной по кри-
84
териям трагической модели); этот жанр удовлетворяет одновременно формальным условиям, которые делают его mythos’oм, и ограничительным условиям, которые делают его трагическим mythos’oм: перемена от счастья к несчастью, происшествия, вызывающие ужас и сострадание, незаслуженное несчастье, трагическая ошибка характера, отмеченного, однако, печатью исключительности и лишенного злобы и порока и т.д. Этот жанр в значительной мере определил и последующее развитие драматургии на Западе. Однако верно и то, что наша культура является наследницей множества нарративных традиций: не только древнееврейской и христианской, но также и кельтской, германской, исландской, славянской 165.
Но это не все: парадигму создает не только форма несогласного согласия или модель, которую последующая традиция определила как сложившийся литературный жанр', в «Поэтике» Аристотеля ее создают также и отдельные произведения — «Илиада», «Царь Эдип». Действительно, в той мере, в какой в упорядочении фактов каузальная связь (одно вследствие другого) превалирует над чистой последовательностью (одно после другого), возникает нечто всеобщее, являющееся, как мы уже отмечали, самим упорядочением, возведенным в тип. Таким образом, нарративная традиция запечатлела в себе седиментацию не только формы несогласного согласия и трагического жанра (как и других моделей того же уровня), но и типов, жизнь которым дали скорее отдельные произведения. Если объединить форму, жанр и тип под названием парадигмы, то можно сказать, что парадигмы порождаются работой продуктивного воображения на этих различных уровнях.
Но эти парадигмы, которые сами проистекают из предшествующей инновации, поставляют правила для последующих экспериментов в нарративном поле. Правила эти изменяются под воздействием новых изобретений, но изменяются медленно и даже сопротивляются изменению, поскольку одновременно идет процесс седиментации.
Что касается другого полюса традиции, инновации, то ее статус вполне коррелятивен статусу седиментации. Для инновации всегда есть место, поскольку то, что создано в poiēsis поэмы, всегда является отдельным произведением, вот этим произведением. Поэтому парадигмы представляют собой только грамматику, устанавливающую правила для композиции новых произведений, — новыми они будут до тех пор, пока не станут типическими. Подобно тому, как грамматика языка определяет построение правильно составленных фраз, число и содержание которых нельзя предвидеть заранее, произведение искусства — поэма, драма, роман — является оригинальным произведением, новой формой существования в языковом пространстве 166.
Но не менее верно и обратное: инновация остается образом действий, подчиненным правилам; работа воображения не возникает из ничего. Она так или иначе связана с парадигмами традиции. Но она может
85
поддерживать различные отношения с этими парадигмами. Диапазон решений широк и имеет два полюса: с одной стороны, это рабское следование (application servile) традиции, а с другой — обдуманное отклонение от пути, скачок через все ступени «правилосообразной деформации» (déformation reglée). Сказка, миф и в целом традиционный рассказ стоят ближе к первому полюсу. Но по мере удаления от традиционного рассказа отклонение, отступление становятся правилом. Так, современный роман по большей части можно определить как анти-роман в той мере, в какой протест берет в нем верх над стремлением просто слегка изменить способ приложения парадигмы.
Более того, отступление может осуществляться на всех уровнях: по отношению к типам, жанрам, самому формальному принципу согласия-несогласия. Первый тип отступления, пожалуй, является конститутивным для всякого отдельного произведения: любое произведение представляет собой отступление от любого другого произведения. Реже встречается изменение жанра: оно равнозначно созданию нового жанра, например, романа (возникшего после драмы или волшебной сказки) или историографии (пришедшей вслед за хроникой). Но более радикальным является оспаривание формального принципа согласия-несогласия. В дальнейшем мы проанализируем диапазон вариаций, допускаемых формальной парадигмой. Мы зададимся вопросом: не является ли это доведенное до раскола оспаривание свидетельством гибели самой нарративной формы? Как бы то ни было, сама возможность отступления предполагается отношением седиментированных парадигм и реальных произведений. Это оспаривание в крайней форме раскола только противостоит рабскому следованию традиции. Правилосообразная деформация представляет собой ту ось, вокруг которой вращаются модальности изменения парадигм в процессе их приложения. Именно это многообразие приложений наделяет историю продуктивным воображением и, составляя контрапункт с седиментацией, делает возможной саму нарративную традицию. Таково последнее обогащение аристотелевской модели, позволяющее углубить связь рассказа и времени на уровне мимесис-II.
3. Мимесис-III
Теперь я хотел бы показать, почему мимесис-II, взятый в его исходной интеллигибельной форме, требует в качестве дополнения третьей — репрезентативной стадии, которая также заслуживает названия мимесис.
Позволю себе еще раз напомнить, что наш интерес к развертыванию мимесиса не является самоцелью. Объяснение мимесиса до самого кон-
86
ца будет подчинено исследованию опосредования между временем и рассказом. Только в конце пути, пройденного мимесисом, тезис, высказанный в начале этой главы, наполнится конкретным содержанием: рассказ обретает свой полный смысл, когда он воспроизводится во времени действия и страдания в мимесис-III.
Эта стадия соответствует тому, что Х. Г. Гадамер в своей философской герменевтике называет «приложением». Сам Аристотель подсказывает этот последний смысл mimēsispraxeōs в различных местах «Поэтики», хотя здесь он меньше, чем в «Риторике», где теория убеждения целиком базируется на способности аудитории к восприятию, думает о слушателях и зрителях. Однако, когда он говорит, что поэзия «учит» универсальному, что трагедия «есть подражание, которое совершает посредством сострадания и страха... очищение подобных страстей», или когда он упоминает об удовольствии, которое мы получаем при виде того, как происшествия, вызывающие страх и сострадание, способствуют перемене фортуны, составляющей существо трагедии, — он замечает, что именно в слушателе или в читателе завершается путь мимесиса.
Придавая этому тезису Аристотеля более широкое толкование, я скажу, что мимесис-III знаменует собой взаимопересечение мира текста и мира слушателя или читателя, а стало быть, взаимопересечение мира, конфигурированного поэмой, и мира, в котором разворачивается реальное действие с его особой временностью.
Мое исследование пройдет здесь четыре этапа:
1. Если верно, что опосредование между временем и рассказом основано именно на соединении трех стадий мимесиса, то возникает предварительный вопрос, действительно ли это соединение свидетельствует о продвижении вперед. Здесь мы ответим на возражение по поводу циркулярности, выдвинутое в начале этой главы.
2. Если верно, что акт чтения является носителем способности интриги служить моделью для опыта, то необходимо показать, каким образом этот акт связан с динамизмом, свойственным конфигурирующему акту, продолжает его и ведет его к завершению.
3. Перейдя затем к тезису о ре-фигурации временно́го опыта с помощью построения интриги, мы покажем, почему происходящее благодаря чтению вхождение произведения в поле коммуникации свидетельствует и о его вхождении в поле референции. Возвращаясь к проблематике «Живой метафоры», я хотел бы обрисовать некоторые трудности, связанные с понятием референции в нарративной сфере.
Наконец, постольку, поскольку мир, рефигурируемый рассказом, является временны́м миром, возникает вопрос о том, какой помощи герменевтика рассказанного времени может ожидать от феноменологии Времени. Ответ на этот вопрос выявит гораздо более радикальную циркулярность, нежели та, которую породило соотнесение мимесис-III с
87
мимесис-Ι через посредство мимесис-II. Изучение августиновской теории времени, с которого мы начали эту работу, уже дало нам возможность высказать по этому поводу некоторые предварительные соображения. Эта циркулярного» затрагивает отношение между феноменологией, беспрестанно порождающей апории, и тем, что мы назвали выше поэтическим «решением» этих апорий. Именно в этой диалектике между апоретикой и поэтикой временности вопрос об отношении времени и рассказа достигает своей высшей точки.
1. Миметический круг
Прежде чем углубиться в центральную проблему мимесис-III, я хотел бы отвести от своего анализа подозрение в порочном круге, порождаемом переходом от мимесис-Ι к мимесис-III через мимесис-II. Что бы мы ни рассматривали — семантическую структуру действия, его средства символизации или его временно́й характер, — возникает впечатление, что, дойдя до конечной точки анализа, мы снова оказываемся в исходной точке, или, что еще хуже, конечная точка уже предвосхищается в точке исходной. Если бы это было так, то герменевтический круг, возникающий между нарративностью и временностью, нашел бы свое разрешение в порочном круге мимесиса.
Бесспорно, анализ носит характер круга. Но это совсем не означает, что круг этот является порочным. В данном случае я предпочел бы говорить о бесконечной спирали, которая многократно проводит опосредование через одну и ту же точку, но на разной высоте. Обвинение в порочном круге возникает потому, что предпочтение отдается какой-либо одной из двух версий циркулярности. Первая подчеркивает насильственность интерпретации, вторая — ее избыточность.
1) С одной стороны, мы можем сказать, что рассказ вносит созвучие туда, где существует только диссонанс. Таким образом, рассказ придает форму бесформенному. Но тогда придание формы с помощью рассказа может быть заподозрено в мошенничестве. В лучшем случае оно является источником «как если бы», которое свойственно всякому художественному произведению и, как мы знаем, представляет собой лишь вымысел, литературный прием. Так, например, художественное произведение утешает перед лицом смерти. Но как только мы перестаем заниматься самообманом, прибегая к дарованному парадигмами утешению, мы осознаем насилие и обман; мы готовы тогда поддаться чарам бесформенного абсолюта и защиты радикальной интеллектуальной честности, которую Ницше назвал Redlichkeit*. Только благодаря безот-
* Честность, добросовестность (нем.). — Прим. перев.
88
четной тоске по порядку мы противимся этим чарам и отчаянно цепляемся за идею, что наше дело — порядок, наперекор всему. Поэтому нарративная гармония, навязанная временно́му диссонансу, является результатом того, что принято называть насильственностью интерпретации. Нарративное решение парадокса — не более чем побег, выросший на древе этой насильственности.
Я вовсе не отрицаю, что подобная драматизация диалектики нарративности и временности надлежащим образом выявляет несогласное согласие, связанное с отношением рассказа и времени. Но пока мы односторонне приписываем созвучие только рассказу, а диссонанс — только временности, как это подсказывает сама аргументация, мы упускаем из виду собственно диалектический характер данного отношения.
Во-первых, временно́й опыт не сводится к простому несогласию. Благодаря Августину мы увидели, что distentio и intentio сталкиваются внутри наиболее достоверного опыта. Нужно предохранить парадокс времени от нивелировки, сводящей его к простому несогласию. Скорее следовало бы задаться вопросом, не является ли сама защита радикально бесформенного временно́го опыта следствием очарованности бесформенным, которая представляет собой одну из характерных черт современности. Короче, когда мыслители или литературные критики по видимости поддаются обычной тоске по порядку, или, еще хуже, страху перед хаосом, в конечном счете это свидетельствует о том, что за утратой осмысленности, утратой, характеризующей определенную — нашу — культуру, — они действительно распознают парадоксы времени.
Во-вторых, гармоничность рассказа, которую мы пытались недиалектически противопоставить диссонансу нашего временно́го опыта, не должна быть чрезмерной. Построение интриги никогда не бывает простым триумфом «порядка». Даже парадигма греческой трагедии отводит место пертурбациям peripeteia, то есть случайностям и превратностям судьбы, следствием которых являются страх и сострадание. Интриги сами соразмеряют растяжение и интенцию. То же следует сказать и о другой парадигме, которая, согласно Фрэнку Кермоуду, в нашей западной традиции взяла верх над «смыслом конечной точки»: я имею в виду апокалиптическую модель, превосходно подчеркивающую соответствие между началом — Бытием — и концом — Апокалипсисом; и сам Кермоуд не упускает случая отметить, что эта модель порождает бесчисленное множество затруднений в отношении событий, происходящих «между временами» и особенно в «последние времена». Апокалиптическая модель восхваляет перемену (renversement), в той мере, в какой конец является катастрофой, уничтожающей время, которую предвосхищают «ужасы последних дней». Но апокалиптическая модель, вопреки своей долговечности, о которой свидетельствуют ее современные всплески в форме утопий или, скорее, ухроний 167, является лишь одной
89
парадигмой среди прочих и никоим образом не исчерпывает нарративной динамики.
Парадигмы, отличные от парадигм греческой трагедии или Апокалипсиса, постоянно порождаются самим процессом формирования традиций, который мы выше связали со способностью к схематизации, свойственной продуктивному воображению. В третьей части мы покажем, что это возрождение парадигм не упраздняет основополагающей диалектики несогласного согласия. Даже отказ от всякой парадигмы, продемонстрированный современным антироманом, не выходит за рамки парадоксальной истории «согласия». Вследствие фрустраций, вызываемых ироническим презрением этих произведений к любой парадигме, и благодаря более или менее извращенному удовольствию, которое читатель получает, приходя в возбуждение или поддаваясь их уловкам, они угождают одновременно традиции, которую они нарушают, и неупорядоченному опыту, которому они в конечном счете подражают, отказываясь от подражания унаследованным парадигмам.
Подозрение в насильственности интерпретации вполне оправданно и в этом предельном случае. Это уже не «согласие», которое силой навязано «несогласию» нашего временно́го опыта. Теперь как раз это «несогласие», порождаемое в дискурсе иронической дистанцией по отношению ко всякой парадигме, подтачивает изнутри тягу к «согласию», лежащую в основе нашего временно́го опыта, и разрушает intentio, без которого не было бы distentio animi. А значит, есть все основания подозревать, что так называемое несогласие нашего временно́го опыта представляет собой лишь литературный прием.
Таким образом, размышление о границах согласия всегда правомерно. Оно применимо ко всем «случаям изображения» (cas de figure) несогласного согласия и согласного несогласия на уровне рассказа, как и на уровне времени. Во всех этих случаях круг является неизбежным, но не порочным.
2) Возражение по поводу порочного круга может принимать и иную форму. Проанализировав насильственный характер интерпретации, мы должны обратиться к обратной возможности — интерпретации избыточной. В этом случае мимесис-Ι сам всегда был бы смысловым эффектом мимесис-III. Тогда мимесис-II только возвращал бы мимесис-III то, что позаимствовал у мимесис-I, поскольку мимесис-Ι уже являлся бы результатом мимесис-III.
Вопрос об избыточности, как представляется, вытекает из самого анализа мимесис-I. Если не существует человеческого опыта, который не был бы уже опосредован символическими системами и, в частности, рассказами, то напрасны наши разговоры о том, что действие стремится к повествованию. В самом деле, можем ли мы говорить о человеческой жизни как о рождающейся истории, если мы не имеем доступа к времен-
90
ным драмам существования вне историй, рассказанных по этому поводу другими или нами самими?
Этому возражению я противопоставлю ряд ситуаций, которые, по моему мнению, вынуждают нас признать уже за опытом как таковым начальную нарративность; вопреки некоторым утверждениям, она не вытекает из проецирования литературы на жизнь, а является подлинным выражением потребности в рассказе. Характеризуя эти ситуации, я без колебаний говорю о донарративной структуре опыта.
Анализ временны́х черт действия на уровне мимесис-Ι привел к порогу этого понятия. Если я его до сих пор не переступил, то потому, что возражение по поводу порочного круга с позиции избыточности предоставляет, думается, более благоприятный случай указать на стратегическое значение ситуаций, о которых пойдет речь в связи с миметическим кругом.
Оставаясь в рамках повседневного опыта, не склонны ли мы видеть в последовательной связи эпизодов нашей жизни «не рассказанные (еще)» истории, истории, которые просят, чтобы их рассказали, истории, которые служат опорными пунктами повествования? Я отдаю себе отчет в том, насколько нелепо выражение «не рассказанные (еще) истории». Разве истории по определению не являются рассказанными? Это бесспорно, если мы говорим о реальных историях. Но так ли уж неприемлемо понятие истории потенциальной?
Я хотел бы остановиться на двух не самых обыденных ситуациях, которые чрезвычайно убедительно демонстрируют уместность выражения «еще не рассказанная история». Пациент, обращаясь к психоаналитику, сообщает ему обрывки историй своей жизни, снов, «изначальных сцен», эпизодов конфликтов. Целью и следствием сеансов анализа, безусловно, является то, что аналитик строит из этих обрывков историй рассказ, более жестокий, но одновременно и более вразумительный, чем эти разрозненные эпизоды. Рой Шафер 168 даже призывал рассматривать совокупность метапсихологических теорий Фрейда как систему правил для пере-сказа жизненных историй и возведения их в ранг историй случаев (de cas). Эта нарративная интерпретация психоаналитической теории предполагает, что история жизни движется от нерассказанных и вытесненных из сознания историй в направлении реальных историй, которые пациент мог бы считать собственной историей, конституирующей его персональную идентичность. Именно поиск этой персональной идентичности обеспечивает преемственность между потенциальной, или начальной историей, и действительной историей, ответственность за которую мы берем на себя.
Существует и другая ситуация, к которой, как представляется, вполне применимо понятие «не рассказанная история». Вильгельм Шапп в работе «In Geschichten verstrickt» (1976)169 — «Впутанный в истории» — описывает случай, когда судья стремится понять ход действия и харак-
91
тер подозреваемого, распутывая клубок интриг, в которых тот замешан. Ударение стоит здесь на глаголе «быть впутанным» (verstrickt sein) (S. 85), пассивный залог которого подчеркивает, что история «случается» с кем-то до того, как кто-то ее рассказывает. Впутанность кажется скорее «предысторией» рассказанной истории, причем сам рассказчик выбирает, с чего ее начать. Именно эта «предыстория» истории связывает ее с более обширным целым, обеспечивая ей «задний план». Этот задний план образован «живым напластованием» всех жизненных историй. Вероятно, рассказанные истории «внезапно возникают» (auftauchen) из этого заднего плана. Вместе с этим также возникает и предполагаемый этим возникновением субъект. В таком случае можно сказать: «История несет ответственность за человека» (die Geschichte steht fur den Mann) (S. 100). Главным следствием этого экзистенциального анализа человека как «существа, впутанного в истории», является то, что рассказывание становится вторичным процессом, процессом «обнародования истории» (das Bekanntwerden der Geschichte) (ibid.). Рассказывать, прослеживать, понимать истории — значит лишь «продолжать» эти нерассказанные истории.
Литературный критик, сформировавшийся в аристотелевской традиции, согласно которой история — это прием, созданный писателем, отнюдь не будет удовлетворен этим понятием рассказанной истории, «неразрывно связанной» с пассивной впутанностью субъектов в истории, которые теряются в туманных далях. Однако приоритет, отданный еще не рассказанной истории, может служить критической инстанцией в борьбе против всякой риторики по поводу искусственного характера повествовательного мастерства. Мы рассказываем истории, потому что, в конце концов, человеческая жизнь нуждается в этом и заслуживает того, чтобы о ней рассказали. Это замечание раскрывает все свое значение, когда мы вспоминаем о необходимости сохранить историю побежденных и исчезнувших. Вся история страданий — это крик об отмщении и просьба о повествовании.
Но литературная критика испытает меньшее отвращение к понятию истории как того, во что мы впутаны, если учтет указание, связанное с ее собственной сферой компетенции. В работе «The Genesis of Secrecy» Фрэнк Кермоуд 170 выдвигает идею о том, что целью некоторых рассказов может быть не освещение, а затемнение и сокрытие. Таковы, в частности, притчи Иисуса, которые, согласно интерпретации евангелиста Марка, рассказаны для того, чтобы их не поняли «внешние» 171, и которые, по мнению Ф. Кермоуда, столь же сурово изгоняют «внутренних» из занятых ими привилегированных мест. Но есть и множество других рассказов, обладающих этой загадочной властью «изгонять интерпретаторов из своих тайных закоулков». Конечно, эти «тайники» находятся в тексте. Они свидетельствуют о его неисчерпаемой глубине. Но нельзя ли сказать, что «герменевтический потенциал» (ibid., р. 40) рассказов та-
92
кого рода находит если не созвучие, то по крайней мере резонанс в не рассказанных историях наших жизней? Нет ли скрытого единства между secrecy*, порождаемой самим рассказом, — или, по крайней мере, повествованиями такого рода, как у Марка или Кафки, — и еще не рассказанными историями наших жизней, составляющими предысторию, задний план, то живое напластование, из которого возникает рассказанная история? Другими словами, нет ли скрытого родства между тайной, из которой возникает история, и тайной, в которую она возвращается?
Сколь бы ограничивающим ни было последнее утверждение, в нем можно найти подкрепление для нашего основного аргумента, согласно которому очевидный круговой характер всякого анализа рассказа, анализа, беспрерывно интерпретирующего — одну через другую — свойственную опыту форму времени и нарративную структуру, не является мертвой тавтологией. Скорее здесь следует видеть «нормальный круг», в котором аргументы, относящиеся к двум сторонам одной проблемы, взаимно поддерживают друг друга.
2. Конфигурация, рефигурация и чтение
Итак, герменевтический круг между рассказом и временем постоянно возрождается в круге, который образуют стадии мимесиса. Настал момент сосредоточить внимание на переходе от мимесис-II к мимесис-III, осуществляемом в акте чтения.
Если этот акт можно рассматривать — о чем мы говорили выше — как носителя способности интриги служить моделью для опыта, то именно потому, что он постигает и завершает конфигурирующий акт, родство которого с суждением, охватывающим — «сводящим вместе» — многообразие действия в единстве интриги, также было нами подчеркнуто.
Этот акт лучше всего характеризуют две черты, описанием которых мы завершили анализ интриги на стадии мимесис-II, — схематизация и традиционность. Наличие этих черт особенно способствует ломке предубеждения, противопоставляющего «внутренний» и «внешний» элементы текста. Такое противопоставление в действительности тесно связано со статичной и замкнутой концепцией, изучающей только структуру текста. Понятие структурирующей деятельности, со всей очевидностью выражающейся в операции построения интриги, выходит за рамки этой оппозиции. Схематизация и традиционность с самого начала представляют собой категории взаимодействия между актом письма и актом чтения.
С одной стороны, унаследованные парадигмы структурируют ожи-
* Тайной (англ.). — Прим. перев.
93
дания читателя и помогают ему распознать формальное правило, жанр или тип рассказанной истории. Они прочерчивают направляющие линии для встречи текста и его читателя. Короче, именно они способствуют тому, чтобы историю можно было проследить. С другой стороны, акт чтения следует за конфигурацией рассказа и актуализирует его способность поддаваться прослеживанию. Прослеживать историю — значит актуализировать ее в чтении.
Построение интриги может быть описано как акт суждения и продуктивного воображения в той мере, в какой этот акт есть совместное дело и текста, и его читателя, подобно тому как, по словам Аристотеля, чувство — это общее дело ощущающего и ощущаемого 172. Именно в акте чтения мы прослеживаем взаимодействие инновации и седиментации парадигм, схематизирующих построение интриги. В акте чтения получатель (destinataire) ведет игру с нарративными ограничениями, осуществляет разрывы, принимает участие в битве романа и антиромана и получает от этого удовольствие, которое Ролан Барт назвал «удовольствием от текста».
Наконец, именно читатель завершает произведение в той мере, в какой, согласно Роману Ингардену («Структура литературного произведения») и Вольфгангу Изеру («Der Akt des Lesens»), написанное произведение представляет собой некий набросок для чтения; в самом деле, в тексте имеются дыры, лакуны, зоны неопределенности, он даже, как «Улисс» Джойса, бросает вызов способности читателя самому конфигурировать произведение, которое автор, словно бы со злорадным удовольствием, дефигурировал. В этом последнем случае именно читатель, точно покинутый произведением, один несет на своих плечах всю тяжесть построения интриги.
Таким образом, акт чтения представляет собой операцию, соединяющую мимесис-III с мимесис-II. Он является основным средством рефигурации мира действия, осуществляемой под знаком интриги. Одной из важнейших проблем, которыми мы займемся в четвертой части, будет проблема координации на этой основе отношений теории чтения, разработанной Вольфгангом Изером, и теории восприятия, предложенной Робертом Яуссом. Ограничимся пока утверждением, что оба они усматривают в воздействии текста на индивидуального или коллективного получателя (récepteur) внутренний компонент актуального, или фактического, значения текста. Для обеих теорий текст — это совокупность предписании, которые выполняет — пассивно или творчески — индивидуальный или коллективный читатель. Текст становится произведением только во взаимодействии с получателем. Именно на этом общем фоне выделяются оба различных подхода, представленных в «Акте чтения» и «Эстетике восприятия».
94
3. Нарративность и референция
Дополнение теории письма теорией чтения — это только первый шаг на пути к мимесис-III. Эстетика восприятия не может исследовать проблему коммуникации безотносительно к вопросу о референции. В конечном счете, то, что сообщается, — это стоящий за смыслом произведения мир, который оно проецирует и который образует его горизонт. Слушатель или читатель обретают этот мир в соответствии с их собственной способностью восприятия, которая также определяется ситуацией, ограниченной горизонтом мира и одновременно открытой ему. Термин «горизонт» и коррелятивный ему термин «мир» в предложенном выше определении мимесис-III появляются дважды: когда речь идет о взаимопересечении между миром текста и миром слушателя или читателя. Это определение, близкое к понятию «слияние горизонтов» у Х.-Г. Гадамера, базируется на трех допущениях, которые лежат в основе, соответственно, актов дискурса в целом, среди них — литературных произведений и, наконец, в числе последних — произведений повествовательных. Таким образом, эти допущения расположены в порядке возрастающей спецификации.
Касаясь первого вопроса, я ограничусь повторением тезиса, подробно аргументированного в «Живой метафоре» 173, тезиса об отношении между смыслом и референцией в любом дискурсе. Согласно этому тезису, если, следуя скорее Бенвенисту, чем Соссюру, взять за единицу дискурса фразу, тогда то, на что направлен дискурс, перестает совпадать с означаемым, коррелятивным каждому означающему внутри знаковой системы. Как и фраза, язык устремлен за свои пределы: он говорит что-то о чем-то. Эта направленность дискурса на референт полностью соответствует его событийному характеру и функционированию в диалоге. Она представляет собой другую сторону момента дискурса (instancede discours). Полнота события состоит не только в том, что кто-то берет слово и обращается к собеседнику, но также и в том, что он стремится внести в язык и разделить с другим новый опыт. Именно этот опыт, в свою очередь, имеет горизонтом мир. Референция и горизонт коррелятивны, подобно тому, как коррелятивны форма и содержание. Всякий опыт, имея определенные очертания, которые его ограничивают и выделяют, поднимается над горизонтом возможностей, образующим его внутренний и внешний горизонт: внутренний в том смысле, что всегда можно рассмотреть во всех деталях и точно определить вещь, взятую в ее постоянных очертаниях; внешний в том смысле, что данная вещь может поддерживать отношения с любой другой вещью в горизонте мира в целом, который никогда не выступает как объект дискурса. Именно в этом двойном смысле слова «горизонт» понятия «ситуация» и «горизонт» являются коррелятивными. Из этого очень общего допущения следует, что язык не конституирует мир как таковой. Он даже вовсе не
95
является миром. Поскольку мы пребываем в мире и реагируем на определенные ситуации, мы пытаемся ориентироваться в них путем понимания, и нам есть что сказать, у нас есть собственный опыт, который нужно выразить в языке и разделить с другими.
Таково онтологическое допущение о референции, допущение, отрефлектированное внутри самого языка как постулат, лишенный имманентного обоснования. Язык сам по себе принадлежит сфере Тождества; мир — это его Иное. Свидетельством этой инаковости является саморефлексивность языка, познающего себя в бытии, чтобы обратиться к бытию.
Это допущение не имеет отношения ни к лингвистике, ни к семиотике; наоборот, эти науки, постулируя свой метод, отбрасывают идею об интенциональной нацеленности на внелингвистическое. То, что я назвал онтологическим свидетельством, с точки зрения этого метода должно выглядеть неоправданным и недозволенным скачком. Действительно, это онтологическое свидетельство осталось бы иррациональным скачком, если бы экстериоризация, которой оно требует, не была тождественна предварительному и более изначальному движению, исходящему из опыта бытия в мире и бытия во времени и устремляющемуся из этого онтологического состояния к своему выражению в языке.
Это первое допущение следует согласовать с предшествующими рассуждениями о восприятии текста: способность к коммуникации и способность к референции должны полагаться одновременно. Всякая референция есть ко-референция, диалогическая (или совершаемая в диалоге) референция. Нет надобности делать выбор между эстетикой восприятия и онтологией произведения искусства. То, что получает читатель, — это не только смысл произведения, но и осуществляемая через посредство смысла его референция, то есть опыт, который референция вносит в язык, и, в конечном счете, мир и его временность, которые она разворачивает перед собой.
Рассмотрение «произведений искусства» наряду с другими актами дискурса является вторым допущением, не отменяющим первого, но усложняющим его. Согласно тезису, который я защищал в «Живой метафоре» и о котором я здесь только упоминаю, литературные произведения тоже вносят в язык опыт и, стало быть, как и всякий дискурс, приходят к миру. Это второе допущение противоречит ведущей теории современной поэтики, которая отказывается принимать во внимание референцию к тому, что считает внелингвистическим, ради сохранения строгой имманентности литературного языка ему самому. Хотя литературные тексты содержат утверждения, касающиеся истины и заблуждения, лжи и тайны и неизбежно приводящие к диалектике бытия и кажимости 174, эта поэтика объявляет простым смысловым эффектом то, что она, следуя собственной методологии, называет референциальной иллюзией. Но проблема отношения литературы к миру читателя тем
96
самым не исчезает. Ее решение просто откладывается. «Референциальные иллюзии» не являются неким смысловым эффектом текста: для их изучения необходима детально разработанная теория модальностей достоверности. А эти модальности, в свою очередь, очерчиваются на горизонте мира, конституирующего мир текста. Можно, конечно, само понятие горизонта представить имманентным тексту и считать понятие мира текста разрастанием референциальной иллюзии. Но чтение вновь ставит проблему слияния двух горизонтов — горизонта текста и горизонта читателя, а значит, вопрос о пересечении мира текста с миром читателя.
Можно попытаться отбросить саму проблему и считать не относящимся к делу вопрос о влиянии литературы на повседневный опыт. Но тогда, с одной стороны, мы парадоксальным образом склоняемся к позитивизму (который в целом отвергается) с его предрассудком о том, что единственно данная реальность — это та, которую мы можем эмпирически наблюдать и научно описывать. С другой стороны, литература превращается в замкнутый «мир в себе» и утрачивает остроту своей критики морального и социального порядка. Мы забываем, что именно вымысел делает язык в высшей степени опасным; об этом вслед за Гёльдерлином со страхом и восхищением говорит Вальтер Беньямин.
Этот феномен взаимодействия раскрывает весь веер возможных вариантов: от идеологического оправдания установленного порядка, как в официальном искусстве или хронике власти, до социальной критики и насмешки над всем «реальным». Даже крайнее отчуждение от реальности еще представляет собой случай взаимопересечения. Это конфликтное слияние горизонтов связано с динамикой текста, в особенности с диалектикой седиментации и инновации. Шок от возможного, который ничуть не слабее шока от реального, усиливается внутренним взаимодействием в самих произведениях между унаследованными парадигмами и созданием разрывов вследствие отклонения от этих парадигм. Таким образом, повествовательная литература наряду с другими поэтическими произведениями моделирует практическую реальность как своими парадигмами, так и своими разрывами.
Если мы не отвергаем проблему слияния горизонтов текста и читателя, или взаимопересечения мира текста и мира читателя, нужно в самом функционировании поэтического языка найти средство для преодоления пропасти, разверзшейся между этими мирами из-за самого метода имманентности, каким пользуется анти-референциальная поэтика. В «Живой метафоре» я попытался показать, что способность языка к референции не исчерпывается дескриптивным дискурсом и что поэтические произведения соотносятся с миром сообразно собственному референциальному строю, — строю метафорической референции 175. Этот тезис правомочен по отношению ко всем случаям недескриптивного
97
употребления языка, а значит, ко всем поэтическим текстам — лирическим или повествовательным. Из него следует, что поэтические тексты тоже говорят о мире, хотя и недескриптивным образом. Метафорическая референция, напоминаю, состоит в том, что ослабление дескриптивной референции, которое на первый взгляд отсылает язык к нему самому, при более пристальном рассмотрении оказывается негативным условием высвобождения возможности более полной референции к таким аспектам нашего бытия-в-мире, которые не могут быть выражены непосредственно. Косвенно, но вполне определенно, на эти аспекты можно указать при помощи нового соответствия, которое в смысловом плане возводится метафорическим высказыванием на руинах буквального смысла, упраздненного своей собственной неуместностью. Это сочленение метафорической референции и метафорического смысла обретает полное онтологическое значение только в том случае, если мы доходим до метафоризации самого глагола «быть» и усматриваем в «быть-как...» коррелят «видеть-как...», к которому сводится работа метафоры. Это «быть как...» переносит второе допущение на онтологический уровень первого. В то же время оно его обогащает. Концепты горизонта и мира имеют отношение не только к дескриптивным референциям, но также и к недескриптивным референциям поэтического дискурса. Возвращаясь к прежнему утверждению 176, я скажу, что для меня мир есть совокупность референций, открываемых всеми видами дескриптивных или поэтических текстов, которые я прочитал, истолковал и полюбил. Понимать эти тексты — значит интерполировать на предикаты нашей жизненной ситуации все значения, которые из простой окружающей среды (Umwelt) создают мир (Welt). На деле именно творениям поэтического вымысла мы по большей части обязаны расширением своего горизонта существования. Они отнюдь не создают лишь бледные образы реальности, «тени», как утверждает Платон в трактовке eikōn* в живописи и письме («Федр», 274е — 277е), литературные произведения воспроизводят реальность, только наращивая ее из всех тех значений, которыми они сами обязаны своей способности сокращать, насыщать, доводить до кульминации, что прекрасно иллюстрируется деятельностью по созданию интриги. В работе «Письменность и иконография» Франсуа Дагонье, возражая на аргумент Платона, направленный против письма и против всякого eikōn, характеризует стратегию живописца, воссоздающего реальность на основе ограниченного и в то же время богатого зрительного алфавита, как иконическое приращение. Это понятие заслуживает распространения на все модальности иконичности, а значит, и на то, что мы здесь называем вымыслом. Аналогичным образом Ойген Финк сравнивает Bild**, который он отличает от про-
* Правдоподобие (греч.). — Прим. перев.
** Образ, изображение, картина (нем.). — Прим. перев.
98
стого воспроизведения реальности как таковой, с «окном», чьи узкие створки распахнуты в безграничность пейзажа. Со своей стороны, Х. Г. Гадамер признает за Bildспособность согласовывать приращение бытия с нашим видением мира, обедненным в процессе повседневного употребления 177.
Постулат, лежащий в основе этого признания рефигуративной функции поэтического произведения в целом, — это постулат герменевтики, и нацелен он не столько на воссоздание авторского замысла, стоящего за текстом, сколько на объяснение движения, посредством которого текст как бы разворачивает мир перед самим собой. В свое время я подробно объяснил 178 это изменение линии фронта постхайдеггеровской герменевтики по отношению к романтической герменевтике. В последние годы я не переставал утверждать: то, что интерпретируется в тексте, — это суждение о мире, в котором я мог бы жить и где я мог бы продемонстрировать свои самые глубинные возможности. В «Живой метафоре» я высказал мысль о том, что поэзия с помощью mythos пере-описывает мир. Точно так же я скажу сейчас, что нарративное действие пере-обозначает мир в его временно́м измерении в той мере, в какой рассказывать, повествовать — значит заново совершать действие, следуя побуждению поэмы 179.
Здесь в игру вступает-третье допущение: референциальная способность повествовательных произведений является частным случаем референциальной способности поэтических произведений в целом. Проблема, поставленная нарративностью, в действительности одновременно и более проста, и более сложна, чем проблема, поставленная лирической поэзией. Она более проста потому, что мир здесь воспринимается скорее под углом зрения человеческой praxis, нежели космического pathos. То, что переобозначается рассказом, уже было пред-обозначено на уровне человеческого действия. Мы помним, что предпонимание мира действия в сфере мимесис-Ι характеризовалось через овладение сеткой взаимообозначений, конституирующей семантику действия, через знакомство с символическими опосредованиями и с донарративными возможностями человеческого действия. Бытие в мире, с точки зрения нарративности, это бытие в мире, уже маркированном языковой практикой, связанной с этим предпониманием. Иконическое приращение, о котором здесь идет речь, состоит в приращении предварительной прочитываемости, которым действие обязано интерпретантам, уже выполняющим свою работу. Человеческое действие может быть над-обозначено, потому что оно уже предобозначено всеми модальностями своей символической артикуляции. Поэтому проблема референции является более простой в случае повествовательного произведения, чем в случае лирической поэзии. В «Живой метафоре», исходя из трагического mythos и произведя экстраполяцию, я разработал теорию поэтической референ-
99
ции, которая соединяет mythos и переописание: именно метафоризация действия и страдания легче всего поддается расшифровке.
Но проблема, поставленная нарративностью и касающаяся референциальной направленности и претензии на истинность, в каком-то смысле более сложна, чем проблема, поставленная лирической поэзией. Существование двух больших нарративных классов дискурса — художественной литературы и историографии — ставит ряд специфических проблем, которые мы обсудим в четвертой части этой работы. Пока я только перечислю некоторые из них. Наиболее очевидная и, может быть, наиболее сложная проблема обусловлена не подлежащей сомнению асимметрией между способами референции в историческом рассказе и рассказе вымышленном. Лишь историография может претендовать на референцию, которая встраивается в эмпирию, поскольку историческая интенциональность нацелена на события, действительно имевшие место. Даже если прошлое больше не существует и если, по выражению Августина, оно может быть настигнуто только в настоящем прошедшего, то есть по следам прошедшего, ставшим для историка документами, все же прошлое имело место. Хотя прошедшее событие отсутствует в настоящем восприятии, оно все-таки управляет исторической интенциональностью, придавая ей реалистический оттенок, что не сопоставимо ни с какой литературой, сколь бы реалистической она себя ни считала. Референция к прошедшей реальности по ее следам требует специального анализа, которому будет посвящена целая глава в четвертой части книги. С одной стороны, следует сказать, что эта референция по следам заимствует кое-что у метафорической референции, общей для всех поэтических произведений, поскольку прошлое может быть реконструировано только с помощью воображения; с другой стороны, она что-то прибавляет к ней в той мере, в какой она сосредоточена на прошлой реальности. И наоборот, возникает вопрос: не заимствует ли отчасти, в свою очередь, художественная литература у референции по следам ее референциальный динамизм. Разве всякий рассказ не рассказывается так, как будто бы все происходило на самом деле, о чем свидетельствует общее употребление глаголов прошедшего времени для сообщения о нереальном? В этом отношении вымысел столько же заимствует у истории, сколько та заимствует у вымысла. Именно это обоюдное заимствование позволяет мне поставить вопрос о перекрестной референции (référence croisée) между историографией и художественной литературой. Этой проблемы может избежать только позитивистская концепция истории, которая отрицает участие вымысла в референции по следам, и анти-референциальная концепция литературы, которая вообще отрицает значение метафорической референции в поэзии. Проблема перекрестной референции составляет одну из главных тем четвертой части моей книги.
100
Но на чем скрещиваются референция по следам и метафорическая референция, если не на временности человеческого действия? Не человеческое ли время совместно рефигурируют историография и художественная литература, скрещивая на нем свои способы референции?
4. Рассказанное время
Чтобы еще немного уточнить рамки, в которые в последней части этой работы я помещу вопрос о перекрестной референции между историографией и рассказом, мне остается очертить временны́е характеристики мира, рефигурированного актом конфигурации.
Я предпочел бы вновь сделать исходной точкой введенное выше понятие иконического приращения. Таким образом мы могли бы вновь обратиться к каждой из черт, посредством которых мы охарактеризовали предпонимание действия: сетке взаимообозначений практических категорий, символике, присущей этому предпониманию, и в особенности к его собственно практической временности. Можно сказать, что каждая из этих черт иконически приращивается, наращивается.
Скажу немного о двух первых чертах: именно взаимообозначение проекта, обстоятельств и случайности упорядочивается интригой, которую мы описали как синтез разнородного. Повествовательное произведение — это приглашение увидеть (voir) нашу практику, как (comme)... упорядоченную той или иной интригой, артикулированной в нашей литературе. Что касается символизации, присущей действию, то можно сказать, что именно она ре-символизируется или де-символизируется — либо ресимволизируется де-символизацией — при помощи схематизма, то возводимого в традицию, то ниспровергаемого историчностью парадигм. В конце концов, именно время действия, в большей мере, чем все остальное, рефигурируется совершением действия.
Но здесь необходимо сделать пространное отступление. Теория рефигурированного, или рассказанного, времени может быть плодотворной лишь при посредничестве третьего участника разговора о нарративности, уже ведущегося между эпистемологией историографии и литературной критикой, в Дискуссии о перекрестной референции.
Этот третий участник — феноменология времени, начальную стадию развития которой мы рассмотрели при исследовании времени у Августина. Продолжение данной работы, от второй до четвертой части, будет не чем иным, как долгой и трудной трехсторонней беседой между историографией, литературной критикой и феноменологической философией. Диалектика времени и рассказа может быть лишь конечной целью этой, на мой взгляд, беспрецедентной очной ставки между тремя партнерами, которые обычно игнорируют друг друга.
101
Чтобы придать весомость словам третьего партнера, необходимо продемонстрировать феноменологию времени от Августина до Гуссерля и Хайдеггера — не для того, чтобы написать ее историю, а для того, чтобы облечь плотью замечание, оставленное без доказательств в ходе изучения XI книги «Исповеди»: у Августина нет чистой феноменологии времени, сказали мы тогда, и добавили: возможно, ее никогда не будет и после него. Именно эту невозможность чистой феноменологии времени предстоит теперь доказать. Под чистой феноменологией я подразумеваю интуитивное постижение структуры времени, которое не только может быть отделено от процедур аргументации, используемых в феноменологии для разрешения апорий, унаследованных из предшествующей традиции, но и не расплачивается за свои открытия новыми, более дорогостоящими апориями. Мой тезис состоит в том, что подлинные находки феноменологии времени нельзя окончательно избавить от апоретичности, в значительной мере присущей августиновской теории времени. Необходимо вновь рассмотреть апории, созданные самим Августином, и продемонстрировать их назидательный характер. Поэтому анализ и обсуждение «Лекций» Гуссерля по феноменологии внутреннего сознания времени станут главным средством проверки тезиса о решительно апоретическом характере чистой феноменологии времени. Несколько неожиданно (по крайней мере, для меня) мы придем в ходе обсуждения к совершенно кантианскому тезису о том, что время нельзя наблюдать непосредственно, что время в сущности своей неуловимо. В этом смысле бесконечные апории чистой феноменологии времени станут расплатой за любую попытку обнаружить само время: именно такое стремление делает феноменологию времени чистой. Главной задачей четвертой части работы и станет доказательство принципиально апоретического характера чистой феноменологии времени.
Такое доказательство необходимо, если считать общезначимым тезис, согласно которому поэтика повествовательности отвечает и соответствует апоретике временности. Сопоставление «Поэтики» Аристотеля и «Исповеди» Августина предлагает только частичное и в известном смысле зависящее от обстоятельств подтверждение этого тезиса. Если апоретичность всякой чистой феноменологии времени может быть доказана, по крайней мере, вероятным образом, то герменевтический круг между повествовательностью и временностью будет расширен за пределы миметического круга, которым вынуждено было ограничиться обсуждение в первой части этой работы, до тех пор, пока историография и литературная критика не скажут своего слова об историческом времени и об играх вымысла со временем. Только в конце этой, как я ее назвал, трехсторонней беседы, в которой феноменология времени присоединит свой голос к голосам двух предшествующих дисциплин, можно будет приравнять герменевтический круг к кругу поэтики нарративности (до-
102
стигающей кульминационного пункта в вопросе об упомянутой выше перекрестной референции) и апоретики временности.
Тезис о всецело апоретическом характере чистой феноменологии времени, которой герменевтика Хайдеггера обозначает свой решительный разрыв с субъективистской феноменологией Августина и Гуссерля, уже сейчас мог бы вызвать возражения. Разве Хайдеггер, кладя в основу своей феноменологии онтологию Dasein и бытия-в-мире, не был вправе утверждать, что временность, какой он ее описал, «более субъективна», чем всякий субъект, и «более объективна», чем всякий объект, в той мере, в какой его онтология избегает дихотомии субъекта и объекта? Я этого не отрицаю. В исследовании, посвященном Хайдеггеру, я полностью воздам должное оригинальности, какой может похвалиться феноменология, основанная на онтологии и предстающая как герменевтика.
Пока же отметим, что собственно феноменологическая оригинальность хайдеггеровского анализа времени, — оригинальность, всецело обязанная его укоренению в онтологии Заботы, — состоит в иерархизации уровней темпоральности, или, скорее, темпорализации. Ретроспективно мы можем обнаружить у Августина предчувствие этой темы. В самом деле, интерпретируя протяженность времени в терминах растяжения и описывая время человеческой жизни как поднимающееся из глубины души благодаря притяжению другого полюса — вечности, Августин предвосхитил идею множественности временны́х уровней. Отрезки времени не просто вкладываются друг в друга, как это происходит с числовыми количествами: дни — в годы, годы в столетия. Вообще проблемы, связанные с протяженностью времени, не исчерпывают вопроса о человеческом времени. В той мере, в какой протяженность отражает диалектику интенции и растяжения, у протяженности времени имеется не только количественный аспект, связанный с ответом на вопрос: с какого времени? в течение какого времени? как долго? Есть у нее и качественный аспект, аспект постепенного напряжения.
Начиная с исследования времени у Августина я предупреждал об основном эпистемологическом выводе, который вытекает из этого понятия временно́й иерархии: историография в своей борьбе с событийной историей и нарратология с ее стремлением дехронологизировать повествование, по-видимому, оставляют место одной-единственной альтернативе: либо хронология, либо системные ахронические отношения. Но у хронологии есть и другая противоположность: сама временность, вознесенная на уровень наибольшего напряжения.
В анализе временности, предпринятом в «Бытии и времени», Хайдеггер решительно движется по пути, проложенному Августином, хотя отправным пунктом для него, как мы покажем, являются размышления о бытии-к-смерти, а не структура тройственного настоящего, как у Августина. Я считаю бесценным достижением хайдеггеровского анализа
103
установление (средствами герменевтической феноменологии) того факта, что временно́й опыт может развертываться на многих уровнях полноты и что аналитике Dasein надлежит пройти их либо сверху вниз, согласно порядку следования в «Бытии и времени»: от подлинного времени, времени смерти, ко времени повседневному и публичному, где все происходит «во» времени, — либо снизу вверх, как в «Grundprobleme der Phänomenologie»180. Направление, в котором пробегается шкала темпорализации, менее важно, чем сама иерархизация временно́го опыта 181.
На этом восходящем или нисходящем пути мне представляется наиболее важной остановка посредине, между внутривременностью и полной временностью, выраженной бытием-к-смерти. По причинам, о которых мы скажем позже, Хайдеггер обозначает ее словом Geschichtlichkeit — «историчность». Именно на этом уровне оба — Августин и Хайдеггер — наиболее близки друг другу, а затем полностью расходятся, по крайней мере, внешне: один направляется к надежде святого Павла, другой — к квази-стоическому решению перед лицом смерти. В четвертой части мы раскроем внутренние мотивы для возвращения к этому анализу Geschichtlichkeit. Именно он влечет за собой исследование Повторения — Wiederholung, — в котором мы найдем онтологический ответ на эпистемологические проблемы, поставленные перекрестной референцией между исторической интенциональностью и ориентацией литературного вымысла на истинность. Вот почему мы уже сейчас отмечаем это как свой опорный пункт.
Итак, речь не идет об отрицании собственно феноменологической оригинальности, которой хайдегеровское описание временности обязано своей укорененности в онтологии Заботы. Тем не менее нужно признать, что до поворота — Kehre, — положившего начало произведениям, последовавшим за «Бытием и временем», онтология Dasein остается включенной в феноменологию, которая ставит проблемы, аналогичные тем, которые порождает феноменология Августина и Гуссерля. Здесь также прорыв в плоскость феноменологии влечет за собой трудности нового рода, которые еще больше обостряют апоретичность чистой феноменологии. Это обострение соразмерно притязаниям феноменологии на то, что она не только ничем не обязана эпистемологии естественных и гуманитарных наук, но служит им основанием.
Парадокс здесь состоит в том, что апория как раз и касается отношений между феноменологией времени и гуманитарными науками: главным образом историографией, но также и современной нарратологией. Да, парадоксально то, что Хайдеггер усложнил трехстороннюю беседу между историографией, литературной критикой и феноменологией. Действительно, можно сомневаться в том, что ему удалось вывести понятие истории, близкое профессиональным историкам, — как и общую тематику гуманитарных наук, унаследованных от Дильтея, — из историчности Dasein, которая для герменевтической феноменологии состав-
104
ляет средний уровень в иерархии степеней временности. Но еще важнее вот что: если самая полная временность несет на себе печать смерти, то каким образом можно перейти от временности, которой столь безраздельно завладело бытие-к-смерти, к общему времени, необходимому для взаимодействия между многочисленными персонажами во всяком рассказе, а тем более к публичному времени, в котором нуждается историография?
В этом смысле освоение феноменологии Хайдеггера потребует дополнительного усилия, необходимого для сохранения диалектики времени и рассказа, что порой будет уводить нас далеко от Хайдеггера. Одной из главных целей четвертой части нашей книги станет демонстрация того, каким образом, несмотря на пропасть, которая, похоже, разверзлась между двумя полюсами, время и рассказ одновременно и взаимно иерархизируются. Порой герменевтическая феноменология времени будет давать нам ключ к иерархизации рассказа, порой науки об историческом рассказе и рассказе вымышленном будут оказывать нам помощь в поэтическом разрешении (по выражению, которым мы уже пользовались выше) самых неразрешимых (в умозрительном плане) апорий феноменологии времени.
Таким образом, сама сложность выведения исторических наук из анализа Dasein и еще большая сложность, состоящая в том, чтобы мыслить совместно (penser ensemble) феноменологическое время смерти и публичное время наук о повествовании, послужат нам стимулом для того, чтобы лучше осмыслить (penser mieux) отношение времени и рассказа. Но предварительные размышления, составившие первую часть этой работы, уже привели нас от концепции, отождествляющей герменевтический круг с кругом стадий мимесиса, к концепции, которая вписывает эту диалектику в более обширный круг поэтики повествования и апоретики времени.
Итак, перед нами последняя проблема: проблема верхнего предела процесса иерархизации временности. Для Августина и всей христианской традиции интериоризация чисто экстенсивных отношений времени отсылает к вечности, где все вещи наличествуют одновременно. Приближение к вечности с помощью времени состоит тогда в постоянстве спокойной души: «Тогда я обрету постоянство и утвержусь в Тебе, в образе моем, в истине Твоей» («Исповедь», XI, 30, 40)182. Но хайдеггеровская философия времени, по крайней мере в период «Бытия и времени», воспринимая и с большой тщательностью развивая тему уровней темпорализации, направляет размышление не к божественной вечности, но к конечности, несущей на себе печать бытия-к-смерти. Что это — два радикально различных способа приведения наиболее протяженной длительности к длительности наиболее напряженной? Или это — лишь мнимая альтернатива? Следует ли думать, что только смертный может вознамериться «придать жизненным делам достоинство, которое их
105
увековечит?» Разве не только в истории может конституироваться вечность, которую произведения искусства противопоставляют мимолетности вещей? И разве история, в свою очередь, не остается исторической, только если, протекая над смертью, она остерегается забвения смерти и смертей и остается напоминанием о смерти и памятью о смертях? Самый важный вопрос, который мы могли бы поставить в этой книге, — это вопрос о том, в какой мере философское размышление о повествовательности и времени способно помочь мыслить совместно вечность и смерть.
106
Часть вторая
История и рассказ
В первой части этой работы мы попытались охарактеризовать нарративный дискурс без учета существующего ныне основного его раздвоения на историографию и художественную литературу. Таким образом, мы в неявной форме признали, что историография действительно принадлежит этой сфере. Именно этот вопрос необходимо теперь обсудить.
В основе данного исследования лежат два равносильных убеждения. Первое заключается в том, что в наши дни безнадежной была бы попытка связать повествовательный характер истории с одной из продолжающих существовать ее форм — нарративной историей. Поэтому мойтезис об исключительно повествовательном характере истории нисколько не означает защиты нарративной истории. Второе мое убеждение состоит в том, что, если бы история порвала всякую связь с базовой компетентностью, необходимой для прослеживания истории, и с когнитивными операциями нарративного понимания, которые мы описали в первой части этой работы, она утратила бы свое отличие от прочих социальных наук: она перестала бы быть историчной. Но какова природа такой связи? В этом и состоит проблема.
В решении этой проблемы я не хотел бы идти по легкому пути, сказав, что история — дисциплина двойственная, полулитературная-полунаучная, и что эпистемология истории может лишь с сожалением отметить этот факт, ибо не в ее силах добиться того, чтобы история полностью перестала быть формой рассказа. Этот вялый эклектизм противоположен моему устремлению. Я полагаю, что история, наиболее удаленная от повествовательной формы, сохраняет свою связь с нарративным пониманием, будучи производной от него, и эту связь можно шаг за шагом, ступень за ступенью восстановить при помощи соответствующего метода. Метод этот относится не к методологии исторических наук, но к рефлексии второго порядка о предельных условиях интеллиги-
109
дельности дисциплины, которая в силу своего стремления к научности пытается забыть об отношении деривации, благодаря которому она и сохраняет свою специфику исторической науки.
Из этого тезиса сразу же вытекает следствие, касающееся исторического времени. Я нисколько не сомневаюсь, что историк вправе конструировать временны́е параметры, соответствующие его объекту и методу. Я только подчеркиваю, что значение этих конструкций заимствуется, что оно косвенно выводится из значения нарративных конфигураций, которые мы описали под названием мимесис-II, и через их посредство укореняется во временности, характеризующей мир действия. Конструирование исторического времени будет, таким образом, одной из главных целей моего предприятия, — его ставкой, то есть одновременно следствием и пробным камнем.
Итак, мой тезис равно удален от двух других: того, который выводит из отступления от нарративной истории отрицание всякой связи между историей и рассказом и превращает историческое время в конструкцию, не имеющую опоры ни во времени повествования, ни во времени действия, — и того, который устанавливает прямую связь (подобную связи вида и рода) между историей и рассказом и непосредственную преемственность между временем действия и историческим временем. Мой тезис основан на утверждении опосредованного отношения, отношения деривации, в силу которого историческое знание является производным от нарративного понимания, ни в коей мере не утрачивая своих научных устремлений. В этом смысле мой тезис не служит защите некоей золотой середины 183.
Реконструировать опосредованные отношения истории и рассказа — это значит, в конечном счете, выявить интенционалъностъ исторического мышления, позволяющую истории сохранить свою косвенную ориентацию на сферу человеческой деятельности и ее основополагающую временность.
Благодаря этой косвенной ориентации историография вписывается в большой миметический круг, который мы обрисовали в первой части этой работы. Она также, но производным образом, укореняется в прагматической компетентности со свойственной ей манерой обращения с событиями, происходящими «во» времени, согласно нашему описанию мимесис-Ι; она тоже конфигурирует поле практики посредством временны́х конструкций высшего порядка, которые историография прививает ко времени рассказа, характеризующему мимесис-II; наконец, она тоже окончательно раскрывает свой смысл в рефигурации практического поля и способствует воспроизведению существования, в чем достигает кульминации мимесис-III.
Такова самая отдаленная перспектива моего предприятия. В этой части я не доведу его до конца. Последний сегмент, соответствующий мимесис-III, я рассмотрю отдельно. Действительно, включение истории в
110
действие и в жизнь, ее способность реконфигурировать время ставят вопрос об истинности в истории. А он неотделим от того, что я называю перекрестной референцией между притязанием истории на истину и таковым же притязанием художественного вымысла. Исследование, которому посвящена вторая часть данной работы, не охватывает, стало быть, всей сферы исторической проблематики. Придерживаясь терминологии, использованной в «Живой метафоре», можно сказать, что оно разделяет вопрос о «смысле» и вопрос о «референции». Или, сохраняя верность терминологии первой части, скажем, что данное исследование пытается связать (способом oratio obliqua*) объяснение с нарративным пониманием, описанным под названием мимесис-II.
Порядок вопросов, рассмотренных во второй части работы, определяется доказательством этого изложенного в общих чертах тезиса.
В первом разделе, озаглавленном «Кризис рассказа», речь идет об отходе современной истории от строго нарративной формы. Я стремился определить точки соприкосновения между двумя совершенно независимыми друг от друга течениями мысли в их нападках на историю-рассказ. Первое из них, более близкое к исторической практике, то есть скорее методологическое, нежели эпистемологическое, пожалуй, лучше всего представлено в современной французской историографии. Второе исходит из тезиса логического позитивизма о единстве науки, то есть является скорее эпистемологическим, нежели методологическим.
Во втором разделе, озаглавленном «Защитники рассказа», я рассматриваю различные попытки — по большей части (за одним важным исключением) англоязычных авторов — непосредственно распространить нарративную компетентность на сферу исторического дискурса. Несмотря на мою большую симпатию к этим исследованиям, которые я пытаюсь использовать в своем собственном проекте, я должен признать, что они, на мой взгляд, не вполне достигают своей цели, поскольку говорят лишь о тех формах историографии, где имеется прямая, очевидная связь с рассказом.
Третий раздел, озаглавленный «Историческая интенциональность», содержит главный тезис второй части книги, тезис об опосредованном выведении (dérivation) исторического знания из нарративного понимания. Я воспроизвожу в этом контексте проведенный мною в другом месте анализ отношений между объяснением и пониманием 184. В заключение я даю частичный ответ на вопрос, открывающий первый раздел, — вопрос о статусе события. Ответ не может быть исчерпывающим, поскольку эпистемологический статус события — единственный, о котором идет речь в этой части, — неотделим от его онтологического статуса, рассмотренного в четвертой части.
Я прошу читателя о долготерпении. Он должен знать, что анализ,
* Косвенной речи (лат.). — Прим. перев.
111
проведенный в трех последующих разделах, лишь предваряет рассмотрение центрального тезиса о времени и рассказе. Для начала следует прояснить отношение между историческим объяснением и нарративным пониманием, чтобы можно было надлежащим образом поставить вопрос о том, как исторический рассказ способствует рефигурации времени. Но к самому этому прояснению ведет долгий путь; дабы шаг за шагом восстановить опосредованное отношение между историографией и рассказом, необходимо, чтобы номологическая и нарративистская теории под давлением соответствующих аргументов продемонстрировали свою недостаточность. Однако эта долгая эпистемологическая подготовка не должна заслонить от нас конечную онтологическую цель. Есть и дополнительный довод в пользу удлинения линии фронта: рефигурация времени рассказом — это, по-моему, совместное дело исторического рассказа и рассказа вымышленного. Лишь к концу третьей части, посвященной вымышленному рассказу, мы сможем представить во всем объеме проблематику Рассказанного времени.
112
I. Кризис рассказа
Франкоязычная историография и неопозитивистская эпистемология принадлежат двум весьма отличным друг от друга мирам дискурса. Первая традиционно и неизменно выказывает недоверие к философии, которую она охотно отождествляет с философией истории гегелевского типа, соединенной — для удобства — со спекуляциями Шпенглера или Тойнби. Что касается критической философии истории, унаследованной от Дильтея, Риккерта, Зиммеля, Макса Вебера и продолженной Раймоном Ароном и Анри Марру, она на деде никогда не относилась к основному течению французской историографии 185. Вот почему мы не находим в работах методологического плана рефлексии, сопоставимой с рефлексией немецкой школы начала века, с рефлексией нынешнего логического позитивизма или его англоязычных противников об эпистемологической структуре объяснения в истории. Их сила в ином — в строгой приверженности ремеслу историка. Лучшее, чем располагает французская историческая школа, — это методология специалистов в своей области. В этом отношении она тем более дает пищу для философской мысли, что ничего у нее не заимствует. Превосходство работ, написанных с позиции неопозитивизма, связано, напротив, с их постоянным стремлением соразмерять историческое объяснение с моделями, предназначенными для определения научного знания, глубокого единства его проекта и его достижений. В этом смысле подобные работы больше относятся к эпистемологии, чем к методологии. Но их сила часто становится их слабостью, настолько в них при обсуждении моделей объяснения недостает практики историка. Этот недостаток, к сожалению, свойствен и противникам логического позитивизма. Как мы убедимся далее при рассмотрении «нарративистских» аргументов, примеры, которые эпистемология (как позитивистская, так и антипозитивистская) заимствует у историков, редко соответствуют уровню сложности, достигнутому сегодня историческими Дисциплинами.
Но при всем отличии этих двух течений мысли, их объединяет по
113
крайней мере одно (помимо их отрицания философии истории, чего мы здесь не касаемся): отрицание нарративного характера истории — той, какой ее пишут сегодня.
Это совпадение в результатах тем более поразительно, чем менее сходна аргументация. Во французской историографии кризис рассказа обусловлен в основном изменением объекта истории: таковым является теперь не действующий индивид, а целостный социальный факт. В логическом же позитивизме кризис рассказа представляет собой скорее результат эпистемологического разрыва между историческим объяснением и нарративным пониманием.
В данной главе, где путеводной нитью послужит судьба события и исторической длительности в той и другой перспективе, мы сосредоточим внимание прежде всего на совпадении этих двух позиций.
1. Кризис события во французской историографии 186
Выбор концепта события в качестве пробного камня обсуждения особенно уместен при изучении вклада французской историографии в теорию истории, поскольку именно критика «событийной истории» играет там известную роль и поскольку эта критика расценивается как отказ от категории рассказа.
В начале любого исследования понятие исторического события представляется столь же обманчиво очевидным, как и большинство понятий обыденного сознания. Оно влечет за собой два ряда некритически принимаемых утверждений — онтологических и эпистемологических, причем первые служат основой для вторых.
В онтологическом смысле под историческим событием понимается то, что действительно произошло в прошлом. Само это утверждение многоаспектно. Прежде всего, мы допускаем, что свойство «уже происшедшее» радикально отличается от «еще не происшедшего»; в этом смысле минувшая реальность того, что произошло, рассматривается как абсолютное свойство [прошлого], независимое от наших конструкций и реконструкций. Эта первая черта является общей для физических и исторических событий. Вторая черта ограничивает поле исторического события: среди всего, что произошло, некоторые события — дело агентов, подобных нам; исторические события — это, следовательно, то, что совершают или претерпевают действующие существа. Обычное определение истории как познания действий людей прошлого обусловлено этим ограничением сферы интереса событиями, относимыми к человеческим агентам. Третья черта является следствием разграничения, осуществля-
114
емого внутри практического поля возможной сферы коммуникации: к понятию человеческого прошлого прибавляется, как основное препятствие, идея инаковости, или абсолютного различия, затрагивающая нашу способность к коммуникации. По-видимому, следствием нашей способности искать понимания и согласия (в чем Хабермас видит норму универсальной прагматики) является то, что наша способность к коммуникации встречает как вызов и препятствие чуждость иного индивида, понимание которого дается лишь ценой признания его неустранимой инаковости.
Этому тройному онтологическому допущению — абсолютное прошедшее, абсолютно прошедшее человеческое действие, абсолютная инаковость — соответствует тройное эпистемологическое допущение. Прежде всего, мы противопоставляем неповторимую единичность физического события или события человеческой жизни универсальности закона. Идет ли речь о высокой частоте в статистическом смысле, о каузальной связи или функциональном отношении, событие — это то, что происходит лишь однажды. Далее, мы противопоставляем практическую случайность логической или физической необходимости: событие — это то, что могло произойти по-другому. Наконец, инаковость находит свой эпистемологический эквивалент в понятии отклонения от всякой сконструированной модели или любого инварианта.
Таковы в целом неявные допущения нашего некритического использования понятия исторического события. В начале исследования мы еще не знаем, что здесь связано с предрассудком, а что — с философской или теологической седиментацией или с всеобщими нормативными ограничениями. Прояснить дело может лишь критика, осуществленная самой исторической практикой. На последующих страницах мы оценим французскую историографию сообразно ее вкладу в эту критику допущений, касающихся события.
Я лишь вкратце упомяну основную книгу Раймона Арона «Введение в философию истории: очерк о границах исторической объективности» (193 8)187, которая появилась спустя почти десять лет после того, как Люсьен Февр и Марк Блок основали «Анналы экономической и социальной истории» (1929) (после 1945 года они стали называться «Анналы. Экономики, общества, цивилизации»). Я предполагаю вернуться позже к книге Арона в связи с вопросом о диалектике понимания и объяснения. Но упомянуть ее здесь необходимо потому, что она весьма способствовала отказу от первого допущения обыденного сознания, а именно утверждения абсолютного характера события как того, что действительно произошло. Устанавливая границы исторической объективности, Арон приходит к провозглашению так называемого «растворения объекта» (р. 120). Этот знаменитый тезис, к сожалению, породил множество недоразумений. В гораздо большей степени, чем какой-либо онтологический тезис, он был направлен против позитивизма, господствовавше-
115
го в то время под эгидой Ланглуа и Сеньобоса 188. Он означает только следующее: в той мере, в какой историк вовлечен в понимание и объяснение прошедших событий, абсолютное событие не может быть засвидетельствовано историческим дискурсом. Понимание — даже понимание другого индивида в обыденной жизни — это всегда реконструкция, а не непосредственная интуиция. Понимание всегда больше, чем просто симпатия. Короче: «Не существует исторической реальности, — данной в готовом виде до науки, — которую следовало бы просто верно воспроизвести» (р. 120). То, что «здесь прошел Иоанн Безземельный», является историческим фактом лишь благодаря намерениям, мотивам и ценностям, которые приобщают его к интеллигибельному целому. Поэтому различные реконструкции лишь подчеркивают разрыв, отделяющий объективность, на которую претендует работа понимания, от живого неповторимого опыта. Хотя «растворение объекта» осуществляется уже простым здравым смыслом, в более полной мере упразднение объекта происходит на уровне каузального мышления, если прибегнуть к ароновской терминологии того периода (мы вернемся к этому в главе III: для Арона, как и для Макса Вебера, историческая причинность — это отношение частного к частному, но через посредство ретроспективной вероятности). На шкале вероятности низший уровень — это случайное, высший — то, что Макс Вебер называет адекватностью. Подобно тому, как адекватность отличается от логической или физической необходимости, случайное также не равнозначно абсолютной единичности. «Что касается вероятности, которую порождает частичный характер исторического анализа и каузальных связей, то она существует в нашем сознании, а не в вещах» (р. 168). В этом отношении историческая оценка вероятности отличается от логики ученого и сближается с логикой судьи. Философской целью для Арона было в то время разрушение всякой ретроспективной иллюзии фатальности и введение в теорию истории спонтанности действия, направленного в будущее.
Для нашего исследования важен следующий вполне определенный вывод Арона: прошлое, понятое как сумма того, что действительно произошло, недосягаемо для историка.
В работе А.-И. Марру «Об историческом познании» 189 мы находим аргумент, сходный с аргументом Раймона Арона. Здесь, кроме того, в более наглядном виде предстает практика историка. Я не буду пока останавливаться на проблеме, к которой вернусь в четвертой части, — проблеме родства между пониманием другого и познанием человеческого прошлого 190.
Из этого непосредственно вытекает наличие преемственной связи между временем смерти и публичным временем, упомянутой в конце первой части нашей книги. В проблеме понимания другого меня сейчас интересуют лишь ее главные методологические импликации, сходные с утверждением Раймона Арона о «растворении объекта».
116
Прежде всего, историческое познание, основанное на свидетельстве другого, «это не наука в чистом виде, но только познание утверждений» (р. 137). Понимание пронизывает всю работу историка в той мере, в какой «история — это духовное приключение, в которое вовлекается вся личность историка; короче говоря, история обладает для него экзистенциальной значимостью, и это придает ей всю ее серьезность, значение и ценность» (р. 197). И Марру добавляет: «Именно в этом... сердцевина нашей критической философии, центральная точка зрения, где все упорядочивается и проясняется» (ibid.). Таким образом, понимание причастно к «истинности истории» (глава IX), то есть истинности, на которую способна история. Нельзя сказать, что оно является субъективной стороной, тогда как объяснение — стороной объективной. Субъективность — это не тюрьма, а объективность — не освобождение из этой тюрьмы. Отнюдь не вступая в борьбу, субъективность и объективность объединяются: «На деле, когда речь идет об истинности истории [это название предпоследней главы книги], — если история правдива, ее истинность бывает двоякого рода, ибо она слагается одновременно из правды о прошлом и свидетельства историка» (р. 221).
Наконец, поскольку историк вовлечен в историческое познание, оно не может преследовать недостижимую цель — реактуализировать прошлое 191. Недостижимую по двум причинам: во-первых, история является познанием лишь благодаря отношению, которое она устанавливает между прошлым, некогда прожитым людьми, и сегодняшним историком. Совокупность исторических процедур — составная часть уравнения, описывающего историческое познание. Из этого следует, что прошлое, реально прожитое человечеством, может быть лишь постулировано, как кантовский ноумен, лежащий в основе эмпирически познанного феномена. Кроме того, если бы прожитое прошлое было доступно для нас, оно не стало бы объектом познания: ибо, когда это прошлое было настоящим, оно было, как и наше настоящее, запутанным, многообразным, непостижимым. Однако история стремится к знанию, к упорядоченному видению, основанному на каузальных или финалистских цепочках отношений, назначениях и ценностях. Таким образом, Марру по существу объединяется с Ароном именно тогда, когда тот провозглашает «растворение объекта» в смысле, о котором мы говорили выше 192.
Тот же аргумент, запрещающий рассматривать историю как реминисценцию прошлого, направлен и против позитивизма, которого французская историография превращает в козла отпущения. Хотя история — это отношения историка к прошлому, историка нельзя считать вносящим беспорядок фактором, который прибавляется к прошлому и который следовало бы исключить. Этот методологический аргумент, как мы видим, в точности дублирует аргумент, касающийся понимания: хотя гиперкритика выше ценит недоверие, нежели симпатию, ее духовный настрой гармонирует с методологической иллюзией, согласно которой
117
исторический факт существует в скрытой форме в документах и историк является помехой в историческом уравнении. В противовес этой методологической иллюзии следует утверждать, что инициатива в истории принадлежит не документу (гл. III), а вопросу, поставленному историком. Именно вопрос имеет логический приоритет в историческом исследовании.
Таким образом, Марру поддерживает Арона в его борьбе против предрассудка прошлого-в-себе. В то же время через него осуществляется связь с антипозитивистской ориентацией школы Анналов.
Вклад школы Анналов в решение интересующей нас проблемы сильно отличается от вклада философа Арона и даже историка и философа Марру, чьи подходы несут на себе отпечаток немецкой проблематики Verstehen. В этой школе 193 мы имеем дело с методологией профессиональных историков, совершенно чуждых проблематике «понимания». Даже наиболее теоретические работы историков этой школы — это сочинения ремесленников, размышляющих о своем ремесле.
Тон был задан Марком Блоком в книге «Апология истории, или Ремесло историка» 194, написанной вдали от библиотек и оставшейся неоконченной, поскольку автора ее в 1944 году расстреляли нацисты. Эта незавершенная работа должна была стать «записями ремесленника», блокнотом «подмастерья, который долго орудовал аршином и отвесом, но из-за этого не возомнил себя математиком» (с. 14). Сомнения, отвага и осмотрительность, отличающие эту книгу, делают ее ценной и сегодня. К тому же она ставит акцент именно на «колебаниях» самой историографии 195.
Разумеется, рассказы составляют лишь класс «сознательных свидетельств», власть которых над историей следует ограничить с помощью «невольных свидетельств», каковыми являются все другие известные археологу и историку следы, оставленные экономикой и социальными структурами. Но хотя число документальных источников беспрерывно растет, понятие свидетельства все же включает в себя понятие документа и остается моделью всякого наблюдения «по следам» (с. 33). Из этого следует, что «критика» является главным образом, если не исключительно, критикой свидетельств, то есть проверкой их подлинности, разоблачением обмана, касается ли он автора и даты (то есть фальшивка в юридическом смысле) или же самого содержания (то есть плагиат, измышления, подделки, распространение предрассудков и слухов). То, что значительное место отводится критике свидетельства в ущерб вопросам о причине и законе, занимавшим в эту же эпоху англоязычную эпистемологию, связано в основном 196 с определением понятия следа исходя из психического характера исторических феноменов: социальные условия являются по своему глубинному характеру ментальными (с. ПО); из этого следует, что «критика свидетельства, занимающаяся психическими явлениями, всегда будет тонким искусством... Но все же
118
это искусство рациональное, основанное на методичном проведении нескольких важнейших умственных операций» (с. 63). Осмотрительность, даже нерешительность, проявившиеся в книге, аналогичны подчинению понятия «документ» понятию «свидетельство»; действительно, даже подраздел, озаглавленный «Очерк логики критического метода» (с. 63-78), остается в плену социопсихологического анализа свидетельства, правда, весьма утонченного: пусть это рациональное искусство взаимно противопоставляет свидетельства, пусть оно определяет мотивы лжи, — оно все же остается наследником научных методов, разработанных Ришаром Симоном, болландистами и бенедиктинцами. Дело не в том, что автор не заметил и в этом смысле не предвосхитил роль статистической критики; но он не учел того, что логика вероятности, изложенная двадцатью годами ранее Максом Вебером и взятая на вооружение Раймоном Ароном за несколько лет до самого Блока, была связана уже не с критикой свидетельства, но с проблемой причинности в истории 197. Использовать ее лишь для того, чтобы обнаружить и объяснить несовершенства свидетельства, — значило неизбежно снизить ее весомость 198.
Подлинный прорыв, осуществленный «Апологией истории», следует скорее видеть в замечаниях, касающихся «исторического анализа» (название главы IV). Марк Блок прекрасно показал, что историческое объяснение состоит в основном в построении цепочек сходных феноменов и в определении их взаимодействий. Этот примат анализа над синтезом 199 позволил Блоку, при помощи цитаты из Фосийона, автора замечательной работы «Жизнь форм», описать явление несовпадения различных аспектов — политического, экономического, художественного — глобального исторического феномена; мы вернемся к этому впоследствии вместе с Жоржем Дюби. А главное, он дал ему повод для замечательного обсуждения проблемы терминологии (с. 89-107).
Эта проблема, безусловно, связана с проблемой классификации фактов, но она также ставит и специфическую языковую задачу: нужно ли называть сущности прошлого терминами, которыми они уже обозначены в документах, рискуя забыть о том, что «терминология документов — это, на свой лад, не что иное, как свидетельство... несовершенное, а значит, подлежащее критике» (с. 95)? Или следует спроецировать на них современные термины, рискуя отбросить как анахронизм специфические черты феноменов прошлого, чтобы высокомерно увековечить наши категории? Как мы видим, диалектика сходного и различного руководит и историческим анализом, и критикой.
Эти проницательные суждения заставляют нас еще больше сожалеть о том, что работа Блока была насильственно прервана как раз в тот момент, когда он дошел до обсуждения устрашающей проблемы каузальной связи в истории. Нам осталась последняя фраза, незавершенность
119
которой делает ее еще более ценной: «Причины в истории, как и в любой другой области, нельзя постулировать. Их надо искать...» (с. 112).
Подлинным манифестом школы Анналов суждено было стать бесспорному шедевру Фернана Броделя «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» 200.
Заботясь о дидактической ясности, я возьму из очерков Броделя и историков его школы только то, что прямо противоречит второму из наших начальных допущений, согласно которому события происходят благодаря действующим людям и, следовательно, разделяют свойственный действию случайный характер. Речь идет о модели действия, предполагаемой самим понятием «порождать события» (и его следствием — «претерпевать события»). Действие, согласно этой имплицитной модели, всегда может быть приписано индивидуальным агентам, авторам или жертвам событий. Даже если включить понятие взаимодействия в понятие действия, мы не выйдем за рамки предположения, что автором действия всегда должен быть агент, которого можно идентифицировать.
Негласное допущение, что события суть то, что порождается индивидами или претерпевается ими, было отброшено Броделем, как и два других взаимосвязанных допущения (на них прямо направлен огонь критики Броделя и его последователей), согласно которым индивид — это главный носитель исторического изменения, а самые значимые из изменений — точечные, то есть те, что затрагивают жизнь индивидов в силу своей краткости и внезапности. Именно за ними Бродель сохраняет название событий.
Эти два эксплицитных следствия влекут за собой третье, которое само по себе никогда не становится предметом обсуждения, а именно, что история событий, событийная история, может быть только историей-рассказом. Политическая история, событийная история, история-рассказ с этого момента делаются едва ли не синонимами. Самое удивительное для нас, задающихся вопросом именно о нарративном статусе истории, состоит в том, что понятие рассказа никогда не обсуждалось само по себе, как обсуждался, к примеру, вопрос о примате политической истории и истории событийной. Дело ограничивалось беглым отрицанием истории-рассказа в духе Ранке (выше мы видели, что для Марка Блока рассказ — составная часть сознательных свидетельств, то есть документов). Бродель также никогда не разделял идею Люсьена Февра (бывшего вместе с Марком Блоком основателем школы Анналов) о том, что предпринятая им яростная критика понятия исторического факта 201, который трактуется как атом истории, целиком данный в источниках, и защита исторической реальности, конструируемой историком, по сути дела сближали историческую реальность, создаваемую таким образом историей, с вымышленным рассказом, создаваемым повествователем. Следовательно, только посредством критики политической истории, выдвигающей на первый план индивида и событие, осу-
120
ществляется критика истории-рассказа. Только эти две концепции подвергаются лобовой атаке.
Методологическому индивидуализму общественных наук новые историки противопоставляют тезис о том, что объект истории — не индивид, а «целостный социальный факт» (термин, позаимствованный у Марселя Мосса), взятый во всех его человеческих измерениях — экономическом, социальном, политическом, культурном, духовном и т.д. Понятию события как временно́го скачка они противопоставляют понятие социального времени, главные категории которого — конъюнктура, структура, тенденция, цикл, рост, кризис и т.п. — заимствованы из экономики, демографии и социологии.
Важно уяснить связь двух типов отрицания — отрицания примата индивида как первичного атома исторического исследования и отрицания примата события (в точечном его понимании) как первичного атома социального изменения.
Два этих отрицания не являются результатом какой-то спекуляции по поводу действия и времени, они непосредственно вытекают из перемещения главной оси исторического анализа с политической истории на историю социальную. Действительно, именно в политической, военной, дипломатической, церковной истории индивиды — главы государств, военачальники, министры, дипломаты, прелаты — почитаются творцами истории. Здесь также царствует событие, уподобляемое взрыву. «История сражений» и «событийная история» (по выражению Поля Лакомба, подхваченному Франсуа Симианом и Анри Берром 202), идут рука об руку. Примат индивида и примат точечного события — это два непременных следствия первенства политической истории.
Примечательно, что эта критика событийной истории никоим образом не вытекает из философской критики столь же философской концепции истории в духе Гегеля. Она скорее является результатом методологической борьбы против позитивистской традиции, преобладавшей в исторических исследованиях во Франции в первой трети нынешнего века. Согласно этой традиции, важнейшие события уже хранятся в архивах, чье создание и организация, впрочем, сами связаны с перипетиями и происшествиями, затрагивающими систему распределения власти. Таким образом, отрицание истории сражений и событийной истории является полемической оборотной стороной защиты истории целостного феномена человека, где акцент все же делается на экономических и социальных условиях. Самые показательные и, без сомнения, самые многочисленные труды французской исторической школы посвящены социальной истории, в которой группы, категории и общественные классы, города и деревни, буржуа и ремесленники, крестьяне и рабочие становятся коллективными героями истории. Благодаря Броделю история делается даже гео-историей, главные действующие лица которой —
121
Средиземноморье и средиземноморский мир, а затем и Атлантика — от Севильи до Нового Света, как у Югета и Пьера Шоню 203.
В этом критическом контексте и родилось понятие большой длительности (longue durée), противоположное понятию события, которое толкуется как краткая длительность. В своем предисловии к «Средиземноморью...» (а затем во «Вступительной лекции» в Коллеж де Франс в 1950 году и в статье «Большая длительность» в «Анналах» 204) Бродель неустанно бил в одну точку. Самая поверхностная история — это история в индивидуальном измерении. Событийная история — это история, рассматриваемая как краткие, быстрые и энергичные колебания; она наиболее человечна, но и наиболее опасна. Под этой историей и ее индивидуальным временем разворачивается «история замедленного ритма» (ibid., р. 11) с ее «большой длительностью» (р. 4 и далее): это социальная история, история групп и глубинных тенденций. Об этой большой длительности историк узнает от экономиста; но большая длительность — это еще и время политических институтов и ментальностей. Наконец, скрытая еще глубже, вершится «почти неподвижная история — история человека в его отношениях с окружающей средой» (р. 11); применительно к этой истории следует говорить о «географическом времени» (р. 13).
Такое ступенчатое расположение длительностей представляет собой один из самых значительных вкладов французской историографии в эпистемологию истории — при отсутствии более подробного обсуждения понятий причины и закона.
Мысль о том, что следует выйти одновременно за рамки индивида и события, — сильная сторона школы Анналов. У Броделя защита истории становится защитой «анонимной, глубинной и молчаливой истории» (р. 21) и, тем самым, защитой «социального времени со множеством ускорений и замедлений» («Leçon inaugurale». — «Écrits sur l’histoire», p. 24). Защитой — и кредо: «Таким образом, я верю в реальность особо медленной истории цивилизаций» (ibid.). Но именно ремесло историка, а не философская рефлексия, утверждает автор в «Большой длительности», позволяет увидеть в сердцевине социальной реальности «живое противоречие между мгновением и медленным течением времени» (р. 43). Осознание этой множественности социального времени должно стать составной частью методологии, общей для всех гуманитарных наук. Доведя аксиому почти до парадокса, автор заявляет: «Социальная наука испытывает едва ли не ужас перед событием. И на то есть причины. Кратковременность — самая капризная, самая обманчивая из форм длительности» (р. 46).
Читателя-эпистемолога может удивить отсутствие строгости в выражениях, характеризующих множественность форм временности. Так, автор говорит не только о кратковременности и долговременности, то есть о количественных различиях между отрезками времени, но и о времени быстром и медленном. Но в целом понятие скорости применяется не к интервалам времени, а к пробегающим их движениям.
122
Именно об этих движениях в конечном счете и идет речь. Это подтверждают некоторые метафоры, связанные с образом быстроты или медленности. Начнем с тех, что подчеркивают обесценивание события — синонима кратковременности: «Поверхностное оживление, волны, поднимаемые мощным движением прилива, —история коротких, быстрых, энергичных колебаний» («Préface». — «Écrits sur l’histoire», p. 12); «...будем осторожны с этой еще обжигающей историей, такой, какой ее восприняли, описали современники, подчиняясь ритму своей жизни, столь же короткой, как и наша» (ibid.); «...мир, безрассудный, как и всякий живой мир, как наш мир, равнодушный к историям глубины, к ее живым водам, по которым наша лодка мчится, как самый пьяный из кораблей» (ibid.). Вся группа метафор говорит об обманчивости короткого времени; «чары», «дым», «каприз», «неясные отблески», «краткое время наших иллюзий», «обманчивые иллюзии» Ранке. Другие метафоры говорят о его болтливой претенциозности, стремлении «противодействовать истории, всецело сведенной к роли мудрых героев», «противостоять тщеславному и одностороннему утверждению Трайчке: «люди творят историю» («Leçon inaugurale». — «Écrits sur l’histoire», p. 21). Дорогая сердцу Ранке традиционная история, история-рассказ — это «огни без света, факты, в которых нет человечности». А вот метафоры, говорящие об «исключительной ценности долговременности» («La longue durée», p. 44): «Эта анонимная, глубинная и зачастую молчаливая история», та, которая в большей мере творит людей, чем они творят ее («Leçon inaugurale». — «Écrits», p. 21); «медлительная история, время которой больше не соответствует нашим прежним меркам» (ibid., р. 24): «эта безмолвная, но властная история цивилизаций» (ibid., р. 29).
Так что же скрывают, а что открывают нам эти метафоры? Прежде всего, заботу о правдивости, как и о скромности', признание, что не мы творим историю, если, следуя Гегелю, понимать под словом «мы» великих людей мировой истории. А значит, желание сделать видимым и слышимым натиск глубинного времени, сокрытого и заглушенного возгласами драмы. А если копнуть поглубже — что скрывается за этим желанием? — Два противостоящих друг другу, но соразмерных видения.
С одной стороны, благодаря медлительности, неповоротливости, безмолвию долговременности история обретает интеллигибельность, свойственную лишь большой длительности, связность, присущую лишь продолжительному равновесию, — короче, своего рода постоянство в изменении: «Реальность с большой, неисчерпаемой длительностью, цивилизации, без конца приспосабливающиеся к своей судьбе, превосходят по долговременности все другие коллективные реальности; они их переживают» («Histoire et temps présent». — «Écrits», p. 303). Говоря о цивилизациях, автор порой обозначает их как «реальность, которую время использует плохо и перемещает очень медленно». Да, «цивилизации — это реальности с очень большой длительностью» (р. 303). Имен-
123
но это прекрасно понял Тойнби (вопреки всему плохому, что можно было бы о нем сказать): «его привлекали некоторые из этих реальностей, продолжавшие существовать; его привлекали события, гулкие отзвуки которых слышатся в веках, и люди, стоящие высоко над всеми другими людьми, — Иисус ли, Будда или Магомет, люди, также принадлежащие большой длительности» (р. 284). Дымке события противостоит скала длительности, особенно если время вписывается в географию, концентрируется в постоянстве пейзажей: «Цивилизация — это прежде всего пространство, культурная эра... место обитания» (р. 292). «Большая длительность— это прочная и бесконечная история структур и групп структур» («Histoire et sociologie», ibid., p. 114). Можно сказать, что здесь Бродель при посредстве понятия длительности достигает скорее не того, что меняется, а того, что пребывает неизменным, что можно лучше выразить глаголом «длиться», чем существительным «длительность». Это почтение к великой медлительности подлинных изменений приоткрывает нам спокойную мудрость, противоположную неистовству события.
Но как только социальная математика пытается применить к большой длительности свои ахронические структуры, свои вневременные модели, возникает противоположное видение. Вопреки подобным претензиям и соблазнам историк остается хранителем изменения. Он даже может противопоставить традиционному речитативу «речитатив конъюнктуры», и все же «далеко за пределами этого второго речитатива располагается история с более глубоким дыханием, на сей раз многовековая: история большой, очень большой длительности» (р. 44-45). Но длительность, сколь бы большой она ни была, остается длительностью. И здесь историку нужно быть начеку и не дать истории превратиться в социологию. Мы видим это в разделе эссе «Большая длительность» (1958), посвященном социальной математике («Écrits», р. 61 и далее), и в очерке «История и социология» (р. 97 и далее). «В языке истории, — уверяет Бродель, — не может быть совершенной синхронии» (р. 62). Пусть социологи-математики строят квази-вневременные модели: «квази-вневременные, то есть, на самом деле, циркулирующие по темным и неизведанным дорогам очень большой длительности» (р. 66). В действительности модели относятся к изменчивой длительности: «Они соответствуют времени, которому соответствует регистрируемая ими реальность... ибо еще более значимыми, чем глубинные структуры жизни, являются точки их разрыва, их внезапное или медленное разрушение под действием противоположных сил» (р. 71). Для историка в конечном счете важен путь, проходимый моделью; здесь вновь появляется морская метафора: «Самый выразительный момент — это кораблекрушение» (р. 72). Модели качественной математики мало пригодны для путешествий во времени, «прежде всего потому, что они движутся лишь по одной из бесчисленных дорог времени, дороге большой, очень большой длительности, вдали от происшествий, от столкновений, от разрывов» (р. 72). Таковы модели, сконструированные Леви-Строссом: всякий
124
раз они прилагаются к «феномену, отличающемуся крайней медленностью, словно бы вневременному» (р. 73). Запрет кровосмешения — одна из таких реальностей очень большой длительности. Медленно развивающиеся мифы тоже соответствуют структурам, которым присуща исключительная долговечность. Так, мифемы, эти атомы интеллигибельности, соединяют бесконечно малое с очень большой длительностью. Но для историка большая длительность — это «слишком большая длительность» (р. 75), которая не могла бы заставить забыть «многообразную игру жизни, все ее движения, все длительности, разрывы, вариации» (р. 75).
И вот теоретик, изучающий большую длительность, вынужден вести сражение на два фронта: против события и против слишком большой длительности. В третьей главе мы попытаемся показать, в какой степени эта апология долговременности и эта борьба на два фронта совместимы с нарративной моделью построения интриги. В случае их совместимости критика событийной истории не была бы последним словом, сказанным историком о самом понятии события, — в той мере, в какой событию надлежит служить развитию интриги, а не быть короткой и сильной вспышкой, подобной взрыву 205.
Вслед за Броделем вся школа Анналов устремилась по открытому им пути долговременности. Я хотел бы задержаться на одном из наиболее важных моментов развития современной французской историографии — массовом введении в историю количественных методов, заимствованных из экономики и распространенных на демографическую, социальную, культурную и даже духовную историю. Этим развитием ставится под вопрос главное допущение, касающееся природы исторического события: о том, что событие, будучи единичным, не повторяется.
Действительно, количественная история в сущности своей является «серийной» — по выражению, ставшему классическим благодаря Пьеру Шоню206: она базируется на создании однородных серий items, то есть повторяемых фактов, при необходимости доступных обработке на компьютере. Все главные категории исторического времени могут быть постепенно переформулированы на «серийной» основе. Так конъюнктура переходит из экономической истории в социальную, а из нее — в общую историю, коль скоро последняя может рассматриваться как метод, объединяющий в данный .момент максимально возможное число корреляций между отдаленными сериями 207. Также и понятие структуры, трактуемое историками в двойном смысле: статическом — как архитектоника отношений данного целого, и динамическом — как прочная стабильность, — сохраняет какую-то определенность лишь в том случае, если его можно соотнести с взаимопереплетением многочисленных переменных, каждая из которых может быть включена в серию. Таким образом, конъюнктура имеет тенденцию обозначать короткое время, а структура — очень долгое время, но в перспективе «серийной» истории.
125
Взятые вместе, оба эти понятия также выражают полярность исторического исследования сообразно тому, доводится ли победа над событийным и случайным до поглощения конъюнктуры структурой, или же большая длительность, занимающая особое место во французской историографии, противится растворению в неподвижном времени «холодных обществ» («Nouvelle Histoire», р. 527).
Но в целом историки (и особенно специалисты по экономической истории), в отличие от их коллег — экономистов или социологов, — стремятся сохранить временно́й оттенок даже у понятия структуры. В этой битве на два фронта понятие «большая длительность» помогло им противостоять полной дехронологизации моделей и гипнозу случайного и изолированного события. Но поскольку первое искушение исходит от соседствующих с историей социальных наук, а второе — от самой исторической традиции, именно борьба вокруг события была наиболее жаркой; развитие экономической истории в значительной мере было ответом на вызов, брошенный великой депрессией 1929 года, при помощи долгосрочного анализа, лишавшего событие его катастрофической единичности. Что же до борьбы на фронте ахронических структур, то она никогда полностью не прекращалась: перед лицом развития чисто количественной экономики Симона Кузнеца и Жана Марчевски серийная история вынуждена была дистанцироваться от чисто количественной истории, которую она упрекала в том, что та замыкается в национальных рамках, принимая за модель национальную бухгалтерию. Количественная история экономистов приносит на алтарь точных наук именно долговременность, дорогой ценой отвоеванную у драматического времени события. Вот почему обращение Броделя к обширным пространствам и союз с геополитикой были необходимы серийной истории, чтобы сохранить верность большой длительности и благодаря этому опосредованию не порывать своей связи с традиционной историей. Поэтому же конъюнктура и структура, даже если они находятся в оппозиции друг к другу, в диахронии свидетельствуют о примате имманентной логики над случайностью и над изолированным событием.
Эрнест Лабрусс, следуя в русле идей, высказанных Франсуа Симианом208 в его истории цен, оказался первым историком, включившим в свою дисциплину понятия конъюнктуры и структуры 209. В то же время он показал путь расширения этого поля, — открытого для количественного исчисления, — продвигая свою дисциплину от экономической истории к истории социальной, базирующейся на исследовании профессий. Согласно Э. Лабруссу, структура является социальной; она затрагивает человека в его отношениях к производству и к другим людям, в его кругах общения, называемых классами. Начиная с 1950 года Лабрусс подвергает критике «социальное количество», что означает отказ от сугубо статистического анализа и углубление в сферы, не подлежащие количественной обработке. «Социальное количество» — это переход от
126
первого уровня, экономики, ко второму — социальному — уровню, в его собственно Марксовом, но не ортодоксально марксистском понимании. В качестве модели анализа экономическая история, таким образом, демонстрирует свою способность к многостороннему развитию: в направлении демографии, и даже, как мы увидим далее, социокультурных феноменов, ментальностей, представляющих собой, согласно Э. Лабруссу, третий уровень социального целого.
Методология экономической истории символизировала собой скорее преемственность, нежели разрыв с борьбой Марка Блока и Люсьена Февра против позитивизма. Действительно, основатели школы Анналов хотели прежде всего развеять гипноз уникального и неповторимого события, затем подвергнуть критике отождествление истории с усовершенствованной хроникой государства, и наконец — а может быть, и главным образом, — доказать отсутствие критерия выбора, то есть проблематического, в определении того, что считается «фактами» истории. Не факты даются в документах, постоянно твердят эти историки, а документы отбираются сообразно проблематике. Сами документы не являются чем-то данным: официальные архивы — это институты, которые отражают имплицитный выбор в пользу истории, рассматриваемой как сборник событий и как хроника государства. Поскольку этот выбор не декларируется, может сложиться впечатление, что исторический факт определяется документами, а историк черпает свои проблемы из этих данных.
В этом завоевании всего исторического поля количественной (или серийной) историей особую роль — в силу ее временны́х импликаций — сыграла демографическая история. Для этой науки важна прежде всего численность населения и учет этого числа на шкале смены поколений на планете. Историческая демография, то есть демография во временно́й перспективе, рисует картину биологической эволюции человечества, рассматриваемого как единая масса 210. В то же время она выявляет мировые колебания народонаселения, прилагающие к большой длительности масштаб полу-тысячелетия и вновь ставящие под вопрос традиционную периодизацию истории. Наконец, демография, которую создает историк, делает очевидной связь между уровнем народонаселения и уровнями развития культуры и цивилизации211.
В этом смысле историческая демография обеспечивает переход от серийной истории экономического уровня к серийной истории социального, а затем культурного и духовного уровней (если вернуться к классификации, предложенной Э. Лабруссом).
Понятие социального уровня охватывает большое число феноменов, если двигаться здесь от того, что Фернан Бродель в другом своем знаменитом труде 212 называет .материальной цивилизацией, к тому, что другие авторы именуют историей ментальностей. Материальная цивилизация, в силу своего всеохватывающего характера (она включает в себя
127
жесты, условия жизни, продукты питания и т.д.), действительно образует подмножество. Вот почему ступенчатое расположение темпоральностей сообразно модели «Средиземноморья...» оказывается полностью соответствующим материальной цивилизации, равно как и долговременность и исчисленные серии 213.
Этот краткий экскурс в область количественного в истории преследовал лишь одну цель: продемонстрировать непрерывную борьбу французской историографии против событийной истории и, следовательно, против непосредственно нарративного способа написания истории. Но примечательно, что новая история, стремясь освободиться от сцепления с событием, должна вступить в союз с другой дисциплиной, для которой время не составляет главного предмета интереса. Мы видели, как история, изучающая большую длительность, возникла из соединения с географией, а количественная история, поскольку она тоже является историей, исследующей большую длительность, — из соединения с экономикой. Эта связь истории с другими науками придает остроту вопросу о том, в чем история в этом браке по расчету остается исторической. И всякий раз пробным камнем является отношение к событию.
Так обстоит дело с исторической антропологией, стремящейся добиться при помощи исторической дистанции своего рода обновления перспективы, которое антропология обретает вследствие географической дистанции, и отвоевать у «ученой» культуры обычай, жест, воображение, короче, народную культуру. Типичной в этом отношении является работа Ж. Ле Гоффа «За другое Средневековье. Время, работа и культура на Западе»; автор пытается построить здесь «историческую антропологию доиндустриального Запада» 214 (р. 15).
Философа не может не интересовать то, что говорится здесь о времени: не о времени рассказанных событий, а о времени, каким его представляют люди Средневековья. Забавно, что как раз это представление о времени становится для историка событием: «Конфликт времени церкви и времени торговцев утверждается... в сердцевине Средневековья как одно из главных событий ментальной истории этих веков, где под воздействием изменения структур и экономических практик вырабатывается идеология современного мира» (р. 48). Чтобы получить доступ к этому времени людей, ставшему объектом для историка-антрополога, и, в частности, чтобы констатировать выдвижение вперед времени торговцев, нужно исследовать руководства по исповеди, где прослеживаются изменения в определении и категоризации грехов. Чтобы оценить ментальное и духовное расшатывание хронологических рамок, нужно взять за ориентир появление и распространение башенных часов, которые заменяют точным временем время, соответствующее ритму сельского труда, каноническое время, отмеряемое колокольным звоном. Как раз тогда, когда противоречие между «ученой» культурой и культурой народной берется в качестве основной проблемы, историк становится ант-
128
ропологом. Но тут возникает вопрос: в чем же эта история остается исторической? Она остается исторической, поскольку большая длительность остается длительностью. В этом плане недоверие автора к словарю диахронии — проблема, воспринятая из семиологии и структурной антропологии, — напоминает недоверие Броделя по отношению к моделям Леви-Стросса215.
Историка интересуют, собственно говоря, не только «системы ценностей» и их сопротивление переменам, но также и их собственные изменения. В конце главы III я вернусь к предположению, которым сейчас отваживаюсь пользоваться как пробным камнем обсуждения: можно задаться вопросом, не должна ли история, чтобы оставаться исторической, превратить в квази-события те медленные изменения, которые она сжимает и ускоряет в своей памяти, подобно тому как это происходит в кинематографе. Разве Ле Гофф не трактует главный конфликт, связанный с оценкой самого времени, как «одно из главных событий ментальной истории этих веков»? Мы лишь тогда сможем оценить по справедливости это выражение, когда будем в состоянии определить эпистемологические рамки того, что я в предварительном порядке называю здесь «квази-событием»216.
Другой тип соединения истории с науками, для которых время не является главной категорией, находит выражение в истории ментальностей. Здесь имеются в виду главным образом социология идеологий, идущая от марксизма, психоанализ фрейдистского (иногда, но редко, юнгианского типа), структурная семантика и риторика дискурсов. Родство этих дисциплин с антропологической историей очевидно. Внимание к идеологиям, коллективному бессознательному, к спонтанным языковым выражениям сообщает истории ощущение необычного, чувство дистанции и отличия, сравнимое с тем, которое создавала прежде позиция антрополога. Обычный человек, которого господствующий дискурс часто лишал слова, также обретает право голоса в истории. Эта модальность исторической рациональности в то же время свидетельствует о наиболее существенном стремлении — перенести количественное на третий уровень, то есть на уровень отношений к полу, любви, смерти, устной или письменной речи, идеологиям и религиям. Чтобы остаться серийной, эта история должна найти документы, пригодные для определения однородных серий выявляемых фактов. Здесь, как и в экономической истории, историк является изобретателем документов определенного типа: когда-то это были прейскуранты, потом — десятина. И вот теперь — письменная продукция: наказы третьего сословия, приходские книги записей, опись церковных льгот и особенно завещания, — как их называют, «эти старинные спящие документы» 217.
Вопрос об историческом времени возвращается поэтому в новой форме: согласно Шоню, количественный инструментарий — только по-
129
средник для обнаружения структуры (в лучшем случае — ее изменения, даже гибели), ритм распада которой подвергается тщательному анализу. Именно таким образом количество спасает качество, но «качество, отсортированное и гомогенизированное» («Un champ pour l’histoire sérielle: l’histoire au troisième niveau». Цит. no: op. cit., p. 227). Благодаря своим временны́м качествам: постоянству, изменению, распаду — структуры входят в сферу истории.
Жорж Дюби, творчество которого превосходно иллюстрирует историю ментальностей, ставит проблему сходным образом. С одной стороны, он принимает альтюссеровское определение идеологии: «строгая и обладающая собственной логикой система представлений (образов, мифов, идей или понятий, сообразно обстоятельствам), существующая и играющая историческую роль в данном обществе»218 (р. 149). С позиции социолога Дюби характеризует идеологии как обобщающие, деформирующие, соперничающие, придающие стабильность, порождающие действия. Эти черты не соотносятся с хронологией и повествованием. Но социология уступает место истории в той мере, в какой системы ценностей «имеют свою собственную историю, темп движения и стадии которой не совпадают с темпом и стадиями заселения и развития способов производства» (ibid.). Действительно, именно историк интересуется преобразованием структур, происходящим либо вследствие изменений в материальных условиях и жизненных отношениях, либо под воздействием конфликтов и протестов.
В заключение этого обзора достижений французской историографии в сфере исследования исторического времени я хотел бы напомнить работы, посвященные отношению человека к смерти. Быть может, это самый показательный и впечатляющий пример завоевания качества количеством. Разве есть что-то более интимное, более обособленное, более слитое с жизнью, чем смерть, или, скорее, умирание? Но есть ли что более публичное, чем поведение перед лицом смерти, запечатленное в распоряжениях завещания? Есть ли что более социальное, чем предвосхищение живущим зрелища его собственных похорон? Что в большей степени связано с культурой, чем представления о смерти? Теперь понятно, почему типология Филиппа Ариеса, приведенная в его фундаментальной работе «Человек перед лицом смерти» 219, и его четырехтактная модель (приятие смерти ветхозаветным патриархом, храбрым рыцарем из средневековой героической поэмы, толстовским крестьянином: барочная смерть XVI и XVII веков; смерть в кругу семьи в XVIII и XIX веках; приводящая в отчаяние и скрытая от чужих глаз смерть в постиндустриальных обществах) смогла одновременно и придать концептуальную связь серийным исследованиям Вовеля и Шоню, и получить от них единственную верификацию, на которую способна история при отсутствии всякого экспериментирования с прошлым, — а именно, количественную частоту повторений. В этом отношении история смерти являет-
130
ся, быть может, — по причинам, которые мы обсудим в четвертой части, — вершиной не только серийной истории, но и истории в целом 220.
2. Кризис понимания: «номологическая» модель в англоязычной аналитической философии
Оставляя методологию французских историков ради эпистемологии истории, укорененной в логическом позитивизме, мы переходим в иной мир мысли (порой, но не всегда, и на иной континент). Здесь аргументацию питает не практика истории, а забота (скорее нормативная, чем дескриптивная) об утверждении единства науки в духе традиций Венского кружка. А эта защита единства науки несовместима с введенным Виндельбандом различением между «идиографическим» и «номотетическим» методами 221. На этой первой стадии дебатов, в сороковые и пятидесятые годы, отношение истории к повествованию непосредственно не обсуждалось. Но сама возможность выведения истории из рассказа была в корне подорвана аргументацией, по существу направленной против тезиса о несводимости «понимания» к «объяснению», который в немецкой критической философии истории начала века явился следствием различения между идиографическим и номотетическим методами 222. Если я счел возможным объединить под одним заголовком «Кризис рассказа» два критических наступления, ведущиеся с двух столь различных позиций, как французская историография, связанная со школой Анналов, и эпистемология, вышедшая из англоязычной аналитической философии и сохранившая в этом вопросе преемственную связь с эпистемологией Венского кружка, — то потому, что обе они берут в качестве пробного камня понятие события и считают доказанным, что судьба рассказа решается одновременно с судьбой события, понятого как атом исторического изменения. Это действительно так, а потому вопрос о нарративном статусе истории, не являвшийся предметом обсуждения на той первой стадии эпистемологической дискуссии, которую мы здесь только и рассматриваем, вышел на передний план, по крайней мере в англо-саксонском мире, лишь позже, в связи с борьбой вокруг номологической модели и в качестве контрпримера, противопоставляемого этой модели. Этот вывод подтверждается французским историком Полем Вейном, единственным, кто ратовал за возвращение в историю понятия интриги: у него тоже, как мы увидим, это возвращение было связано с резкой критикой всякой претензии на научность, якобы несовместимой с «подлунным» статусом истории (здесь он подражает Аристотелю и реабилитирует Макса Вебера!).
Как выяснится в ходе последующего обсуждения, нападки на пони-
131
мание, предпринятые приверженцами номологической модели, имеют тот же результат, если не ту же цель, что и нападки на событие со стороны историков — адептов большой длительности: кризис рассказа.
За отправной пункт мы возьмем знаменитую статью Карла Г. Гемпеля «The Function of General Laws in History» 223.
Центральный тезис этой статьи гласит: «общие законы имеют достаточно аналогичные функции в истории и в естественных науках» (с. 16)224. Это не означает, что Гемпель игнорирует интерес истории к отдельным событиям прошлого: напротив, его тезис касается именно статуса события. Но Гемпель не считает важным, а тем более решающим, что в истории события получают свой собственно исторический статус потому, что они были вначале включены в официальную хронику, свидетельство очевидца или рассказ, основанный на личных воспоминаниях. Специфика этого первого уровня дискурса полностью игнорируется во имя признания прямой связи.между единичностью события и утверждением универсальной гипотезы, то есть какой-либо формы регулярности. Только в последующей дискуссии сторонников «нарративистского» тезиса о номологической модели был подчеркнут тот факт, что с самого начала анализа понятие исторического события было лишено своего нарративного статуса и рассматривалось в рамках оппозиции частного и общего. Но тогда историческое событие ставится в один ряд с общим понятием события, которое включает в себя физические события и любой сколько-нибудь примечательный случай, скажем, разрыв какого-либо резервуара, геологический катаклизм, изменение физического состояния и т.д. Как только принимается эта концепция однородности событий, аргумент получает следующее развитие.
Факт события специфического типа может быть выведен из двух посылок. Первая описывает начальные условия: предшествующие события, доминирующие условия и т.д. Вторая выражает некоторую регулярность, то есть универсальную гипотезу, которая, будучи подтвержденной, заслуживает названия закона 225.
Если две эти посылки могут быть правильно определены, можно сказать, что факт рассматриваемого события был выведен логическим путем и, следовательно, объяснен. Это объяснение может быть искажено тремя способами: эмпирические высказывания, определяющие исходные условия, могут быть ошибочными; общие положения, на которые ссылаются, могут не быть подлинными законами; логическая связь между посылками и следствием может быть извращена софизмом или ошибкой в рассуждении.
Необходимо сделать три замечания по поводу структуры объяснения в этой модели (которая после критики У Дрея, о чем речь пойдет позже, получила название covering-lawmodel; за неимением другого удовлетворительного перевода этого выражения, ее можно назвать моделью
132
«подведения под общее»; я же с данного момента буду называть ее «номологической моделью»).
Прежде всего, три понятия — закон, причина и объяснение — перекрывают друг друга. Событие получает объяснение, когда оно «охвачено» законом и его антецеденты с полным основанием названы его причинами. Ключевой идеей является идея регулярности: всякий раз, когда событие типа С происходит в определенном месте и в определенное время, событие специфического типа Е произойдет в некоем месте и в некое время, связанные с местом и временем первого события. Юмовская идея причины принимается безоговорочно: автор ведет речь о «причинах» или об «определяющих условиях» (determining conditions) (с. 17), не проводя между ними различия. Вот почему Гемпель не придает значения возражениям, направленным против каузальной терминологии, и попытке, которую поддержал среди прочих Бертран Рассел 226, использовать только термины «условие» и «функция». Однако этот спор касается не просто семантики: позже мы зададимся вопросом, не является ли возможным — и именно в истории — каузальное объяснение, независимое от идеи... или предшествующее идее закона в смысле верифицируемой регулярности 227.
Кроме того, важно подчеркнуть, что в номологической модели объяснение и предвидение идут рука об руку: можно ожидать, что за событием типа С последует событие типа Е. Предвидение — это лишь перевернутое выражение объяснения в терминах если... тогда. Из этого следует, что прогностическое значение гипотезы становится критерием обоснованности объяснения и что отсутствие прогностического значения свидетельствует о неполноте объяснения. Это замечание неизбежно касается также и истории.
Наконец, мы заметили, что речь идет только о событиях специфического типа—событиях не единичных, а в высшей степени повторяемых (падение температуры в тех или иных условиях и т.д.). Автор не видит здесь никакой трудности: выразить все свойства индивидуального объекта — невыполнимая задача, которую, впрочем, никто, а особенно в физике, перед собой и не ставит. Объяснение какого-либо индивидуального события невозможно, если требовать от него учета всех характеристик события. От объяснения можно требовать только точности и проницательности, но ^'исчерпывающего охвата единичного. Уникальный характер события, следовательно, — это миф, который нужно удалить с научного горизонта. Наше обсуждение будет и впредь возвращаться к этому традиционному камню преткновения, стоящему на пути теории истории.
Если такова универсальная структура объяснения, прилагаемого к событиям, — будь то события природные или исторические, — вопрос теперь заключается в том, соответствует ли история этой модели.
133
Как легко заметить, данная модель в высшей степени прескриптивна: она говорит, каким должно быть идеальное объяснение. Действуя таким образом, Гемпель не намеревается причинить вред истории. Напротив, приписывая ей столь возвышенный идеал, он признает ее притязания на статус науки, а не искусства. История действительно хочет показать, что события происходят не случайно, а в соответствии с предсказанием, которое можно было бы сделать, если известны определенные антецеденты или определенные одновременные условия и если сформулированы и подтверждены универсальные гипотезы, образующие большую посылку силлогизма в дедукции события. Только такой ценой предсказание может быть полностью отделено от пророчества.
Но остается фактом, что история еще не является полностью развитой наукой, главным образом потому, что общие положения, обосновывающие ее претензии на способность к объяснению, не заслуживают названия регулярностей. Либо — в первом случае — эти обобщения не выражены эксплицитно, как бывает с неполными объяснениями повседневной жизни, где принимают как нечто само собой разумеющееся неявные обобщения, связанные с индивидуальной или социальной психологией. Либо — во втором случае — приводимым регулярностям недостает эмпирического подтверждения: в отличие от экономики или демографии, история довольствуется приблизительно универсальными гипотезами; в ряд этих законов, верификация которых остается недостаточной, надо поместить высказывания, эксплицитно сформулированные в терминах вероятности, но лишенные статистического инструментария. Критике подвергается не их вероятностный статус, а недостаток статистической точности. Поэтому граница проходит не между каузальным объяснением и объяснением вероятностным, но между степенями точности — эмпирической или статистической. Либо же, наконец, — третий случай — приводимые регулярности явно представляют собой псевдо-законы, заимствованные у народной мудрости или у ненаучной психологии, если это не откровенные предрассудки, остатки магического или мистического «объяснения» человеческих или космических реальностей. Необходимо провести четкое разграничение между подлинным объяснением и псевдо-объяснением.
Единственный нюанс, который Гемпель вносит в свой бескомпромиссный тезис, — заявление о том, что история в лучшем случае представляет собой лишь «набросок объяснения» (explanation sketch) (цит. соч., с. 24), основанный на регулярностях, которые, не будучи эксплицитными и верифицируемыми законами, тем не менее указывают направление, где можно открыть точные закономерности: кроме того, они предписывают те действия, которые необходимо предпринять, чтобы соответствовать модели научного объяснения. В этом смысле такие наброски относятся скорее к подлинному объяснению, чем к псевдо-объяснениям.
134
Сделав эту единственную уступку, автор упорно отказывается признать какую-либо собственно эпистемологическую ценность за методами, которые опираются на эмпатию, понимание или интерпретацию и отсылают к так называемым специфическим чертам исторического объекта — значению (meaning), существенности (relevance), детерминации (determination) или зависимости (dependence). Так называемый метод понимания посредством эмпатии — не метод, а самое большее — эвристический прием, который не является ни достаточным, ни даже необходимым, ибо в истории возможно объяснение, обходящееся без такого рода понимания.
Итак, ничто в рассматриваемой модели не соотносится с нарративной природой истории или нарративным статусом события, и еще менее — с какой-либо спецификой исторического времени в сравнении со временем космологическим. Эти различения, как было сказано выше, неявно исключаются, коль скоро отрицается принципиальное различие между историческим событием и событием физическим, которое просто случается; коль скоро для исторического статуса события не считается существенным то, что оно было рассказано в хрониках, легендах, сказаниях, воспоминаниях и т.д. Даже такой автор, как Чарлз Франкел, столь чуткий, как мы увидим позже, к своеобразию проблематики интерпретации, не включает в понятие события то, что оно облекается в форму рассказа: события, о которых говорят историки в своих работах, регистрируются, как и физические события, в «сингулярных высказываниях об уникальных событиях, происшедших в определенном месте и в определенное время» 228; историк просто намеревается «сообщить об индивидуальных событиях, которые произошли однажды, и только однажды» 229. Особенностью объяснения как раз и является устранение этой черты. Логическая дефиниция события остается определением единичного случая, без внутренней связи с рассказом. Это определение было столь общепринятым, что первое время сами противники номологической модели признавали его, надеясь выработать понятие объяснения, которое упразднило бы эту черту уникальности, неповторимости события.
Следом за Гемпелем и в русле его исканий сторонники номологической модели занялись преимущественно апологетической работой, стремясь свести до минимума разногласия между требованиями «сильной» модели и специфическими чертами реального исторического познания. «Ослабление» модели стало платой за ее жизнеспособность 230.
Называя этот замысел апологетическим, не следует недооценивать работу, проведенную школой Гемпеля: прежде всего потому, что, ослабляя модель, эти авторы способствовали выявлению черт исторического познания, действительно связанных с объяснением, которые должна учитывать любая противоположная теория 231. Ослабление модели — это позитивная деятельность, повышающая возможность ее применения; кроме того, этот поиск новой формулировки идет навстречу работе са-
135
мих историков — с чем нас познакомила французская историография, — направленной на разрешение реальных или мнимых трудностей, отягощающих историческое познание.
Первая большая уступка, которую по-разному использовали противники модели, — признание того, что объяснения историков функционируют в истории не так, как работают объяснения в науках о природе. История не устанавливает законов, которые фигурируют в большой посылке гемпелевской дедукции. Она их использует 232. Вот почему эти законы могут оставаться имплицитными. Но именно поэтому они могут принадлежать к различным уровням универсальности и регулярности. Так, П. Гардинер в работе «The Nature of Historical Explanation»233 допускает в ранг регулярностей, принятых в истории, то, что он называет law like explanations*; речь идет главным образом о регулярностях «диспозиционального» типа, которым Г. Райл в работе «The Concept ofMind» отвел главную роль в объяснении поведения: одна из функций союза «потому что» действительно состоит в том, чтобы поместить действие агента в рамки его «привычного» поведения. Случай объяснения в терминах предрасположенностей (dispositions) открывает путь рефлексии о многообразии степеней неопределенности, которую допускает понятие регулярности.
Но это многообразие полностью принимается читателем исторических сочинений. Читатель подходит к тексту не с единственной, единообразной, монолитной моделью объяснения, но с очень широким диапазоном ожиданий. Эта гибкость свидетельствует о том, что вопрос о структуре объяснения должен быть дополнен вопросом о его функции. Под функцией следует понимать соответствие между определенным типом ответов и определенным типом вопросов. Так, вопрос «почему» открывает спектр приемлемых ответов в форме «потому что...». Однако «сильная» модель принимает в расчет лишь ограниченную часть диапазона ожиданий, открываемого вопросом «почему», и спектра приемлемых ответов в форме «потому что...». Поэтому проблема состоит в том, какое расширение и, следовательно, какое ослабление допускает номологическая модель, если исключается любой стыдливый возврат к интуитивистской или эмпатической концепции исторического «понимания» и в целом простая замена объяснения пониманием.
Для сторонников номологической модели, или модели «подведения под общее», единственный способ противостоять растворению объяснения в самых разнообразных формах употребления «почему» и «потому что» — это постоянное соотнесение слабых форм модели с «сильной» формой и предписывание первым задачи постепенного приближения — путем аппроксимации — ко второй. В этом смысле либеральный подход к функционированию модели позволяет сохранить большую строгость в
* Законоподобными объяснениями (англ.) — Прим. перев.
136
отношении структуры объяснения. «Сильная» модель остается тогда «logical marker»* всякой аппроксимации через более слабые формы этой же модели.
Вторая дискуссия свидетельствует об упомянутом выше стремлении пойти навстречу историкам в их борьбе за продвижение их дисциплины в ранг полноправной науки. Речь идет о роли процедур отбора в истории. Этот спор весьма показателен, поскольку касается одной из трудностей, которые наиболее часто упоминаются сторонниками традиции Verstehen с целью отказать истории в «объективности», сравнимой с объективностью наук о природе. Книга Раймона Арона остается во Франции ярким подтверждением последнего тезиса. Неопозитивистская эпистемология отбила эту атаку, жестко связав судьбу объективности в истории с судьбой номологической модели. С этого момента в данной школе мысли защита .модели стала равносильной защите объективности в истории.
В этом плане примечательна реплика Э. Нагеля 234, поскольку она демонстрирует аналитическую аргументацию в действии: на возражение, сформулированное в слитном виде, он ответил с помощью работы расчленения и различения.
Мы понимаем под избирательностью выбор историком области или проблемы? Но этот выбор неизбежен для любого ученого. Внимания заслуживает лишь вопрос о том, сможет ли ученый, выбрав однажды поле исследования, дистанцироваться от ценностей и страстей, которые являются его объектом. Но историку доступно это освобождение: он даже определяет историю как «исследование» (inquiry).
Второй аргумент: речь идет об ограничении материала, который понимается как результат этого выбора? Но оно неизбежно будет причиной искажения лишь в том случае, если предположить, что для познания чего-либо нужно узнать все. Однако предполагаемый здесь философский тезис гегельянского происхождения о «внутреннем» характере всех отношений опровергается практикой науки, которая подтверждает «аналитический» характер дискурса.
Третий аргумент: речь идет об отборе гипотез? Но всякое исследование в этом смысле избирательно. Мы говорим о том, что исследование где-то должно быть остановлено? Но аргумент регрессии в бесконечность — это софизм: на определенную проблему дается определенный ответ. Возможность продвигать анализ вперед свидетельствует только о прогрессивном характере исследования.
Последний аргумент: речь идет, наконец, о том, что история не может избавиться от коллективных или индивидуальных предрассудков? Но утверждение о том, что идеалы исследования каузально связаны с
* Логической вехой (англ.). — Прим. перев.
137
другими культурными, социальными, политическими и т.п. особенностями, — это трюизм. Важно лишь то, что предрассудки могут быть обнаружены и подвергнуты исследованию. Уже тот факт, что мы можем отличить предрассудок от того, что им не является, доказывает, что идеал объективности достижим. Иначе тезис скептиков стал бы жертвой своего собственного приговора и его правомерность признавалась бы лишь в кругу тех, кто его проповедует. Но то, что он избегает собственного критерия, свидетельствует о возможности сформулировать значимые высказывания о гуманитарных предметах235.
Новое препятствие для реализации «гарантированного» (warranted) объяснения вытекает из ограничения исторического исследования тем, что оно считает «главной» причиной хода событий. Но приписывание некоей относительной важности каузальным переменным апеллирует к «взвешиванию» (weighing), которое, как представляется, не может быть объективным. Можно было бы ответить, что понятие важности доступно анализу. Даже если истинность суждений о важности оспаривается, все же, когда о ней говорят, нечто обозначают. Тогда можно построить таблицу обозначений, принятых для определения степеней важности (E.Nagel, op. cit., р. 382-385). Только совершенствование статистического материала способно придать практический смысл этой логике «взвешивания» степеней важности 236. А пока необходим локальный скептицизм, но нет никаких резонов превращать его в скептицизм глобальный. «Действительно, существует принципиальное согласие между людьми, искушенными в этих предметах, по поводу относительных вероятностей, которые следует приписать многим гипотезам» 237.
Как мы видим, аргумент, заимствованный из практики истории, соединяется с аргументом приверженцев количественной серийной истории во французской историографии.
Мы доведем эту апологию номологической модели до того пункта, где ослабление модели граничит с отказом от нее. В этом отношении типична статья Чарлза Франкела 238. Модель в ней ослаблена в том плане, что интерпретация, взятая в смысле, близком к Verstehen критической философии истории, признается необходимым моментом исторического познания; момент интерпретации — это момент, когда историк оценивает, то есть приписывает смысл и значение. Он отличается от момента объяснения, которое устанавливает каузальные связи между событиями. Но попытка сочленить оба момента остается в сфере влияния номологической модели, поскольку, с одной стороны, признается, что всякий хороший историк заботится о различении двух оперативных уровней и оправдывает эпистемологию в ее стремлении выделить ядро объяснения, и поскольку, с другой стороны, сама интерпретация подпадает под ограничительные требования объяснения.
138
Собственно говоря, ослабление модели начинается с переформулирования стадии объяснения, хотя автор утверждает, что в идеале история действует так же, как другие науки. Расхождения с моделью характеризуют фактическое состояние модели, а не ее эпистемологический идеал. Ее обобщения, как сказал Гемпель, относятся к разряду набросков, эскизов понимания? Но это несущественная черта, которая не создает пропасти между историей и другими науками и свидетельствует скорее о «необходимости уточнить детали эскизных обобщений» 239. Разорвана связь между объяснением и предсказанием? Историку не удается определить не только необходимые, но и достаточные условия события? Важно не то, что объяснение не полно, а то, что оно, «по-видимому, вполне удовлетворяет нашу потребность в объяснении» 240. Таким образом, мы принимаем за объяснение простой отчет об этапах процесса; мы поступаем так в эмбриологии и во всех науках, изучающих развитие или эволюцию. Случай генетического объяснения наводит на мысль, что «все удовлетворительные объяснения не дают нам информацию в точности одного и того же типа и что все требования объяснения не представляют собой лишенного двусмысленности требования некоего единообразного ответа» 241 (op. cit., р. 412). А значит, начинает стираться грань между научным объяснением, объяснением здравого смысла и теми своего рода благоразумными суждениями, которые мы высказываем обычно по поводу людских дел.
И последняя специфическая черта исторического познания, несовместимая с номологической моделью: замечено, что в истории, где обобщения представляют собой скорее корреляции с высокой частотой, нежели неизменяемые отношения, контрпримеры не ставят под сомнение общие законы (не всегда истинно, что власть развращает, и неверифицируемо, что абсолютная власть развращает абсолютно). Что делает историк, когда он сталкивается с исключениями из своих объяснений? Он добавляет ограничительные условия и тем самым сужает поле приложения обобщений, на которые он ссылается. Таким образом он избавляется от контрпримеров.
Продвигая аргумент до предела допущения исходной модели, Франкел признает, что объяснение связано с интерпретацией. Но, стремясь сохранить связь с моделью, он утверждает, что более обобщающие интерпретации должны, дабы остаться приемлемыми, опираться на частичные строгие объяснения. Как можно приписывать значения, не положив в их основу хорошо определенные каузальные связи? Нам скажут, что в равной мере верно и обратное? Конечно, в истории причина определяет не любое условие, а то, на которое можно действовать 242; в этом смысле значения действия просачиваются во всякую оценку причин; и следует сказать, что определить причину — это значит принять некий факт и установить его значимость. Но тогда нужно, повторяем, применить к понятию интерпретации тот же аналитический подход, что
139
был применен к суждению о важности. В ходе интерпретации делают три вещи, в разной мере совместимые с идеалом объяснения. Наименее совместимо с ним высказывание суждения о смысле истории в терминах целей, устремлений или идеалов: в этом случае в игру вводится имплицитная философия «внутренних» отношений, несовместимая, как было сказано выше, с «аналитическим» подходом, и историческому процессу навязывается извне трансцендентный и тайный план. Менее спорно указание самой важной причины', экономической или какой-либо другой. Интерпретация здесь совместима с объяснением, пока она ограничивается тем, что обеспечивает исследованию руководство оплодотворяющей идеи и указывает степени важности. Она перестает быть совместимой только тогда, когда объявляет себя единственно значимой интерпретацией, исключающей всякую другую. Но самая интересная интерпретация — та, которая ставит себе задачу оценить последовательность событий или совокупность институтов в зависимости от «конечных результатов» (terminal consequences, op. cit., p. 421), которые сами оцениваются в терминах значимости или не-значимости 243. Глобальное значение процесса — это сами конечные результаты, часть которых совпадает с переменными величинами данной доступной воздействию ситуации 244. Так, для Маркса возникновение промышленного пролетариата является главной причиной (cause), потому что пролетариат — носитель «дела» (cause), которое нужно защищать. Это не препятствует проявлению чрезвычайного внимания к фактам, если выбор конечных результатов должен быть ответственным выбором. Тогда следует признать, что соперничающие интерпретации принимают в расчет разные факты, поскольку одни и те же события рассматриваются в перспективе различных конечных результатов. Обе они могут быть объективными и истинными в отношении каузальных рядов, в соответствии с которыми они строятся. Мы не переписываем одну и ту же историю, а пишем другую. Но на это всегда можно возразить: история не осуждена оставаться полем битвы между непримиримыми точками зрения; здесь уместен критический плюрализм, который, признавая разные точки зрения, не считает их все одинаково обоснованными 245.
Еще больше сблизиться с противоположной позицией можно, лишь отказавшись от базовой гипотезы, что объяснение в истории по существу не отличается от объяснения в остальных науках. Здесь в конечном счете и находится критическая точка всей дискуссии. Чтобы спасти эту главную ставку, приверженцы номологической модели пытаются перенести на фактическое состояние исторической науки черты методологии истории, которые по видимости противоречат объяснительной модели. Свои аргументы они мотивируют необходимостью защитить историю от скептицизма и оправдать ее борьбу за объективность. Таким образом, защита объективности и защита номологической модели становятся не просто взаимосвязанными, но нераздельными.
140
II Защитники рассказа
Вопрос о нарративном статусе историографии не был непосредственным предметом эпистемологии исторических наук ни во французской историографии, ни на первой фазе дискуссии внутри аналитической школы. В частности, в ходе всего обсуждения подразумевалось, что рассказ — слишком элементарная форма дискурса, чтобы удовлетворять, хотя бы отдаленно, требованиям научности, выдвинутым номологической моделью объяснения. Появление в поле дискуссии «нарративистских» тезисов было вызвано соединением двух течений мысли. С одной стороны, критика номологической модели завершилась взрывом самого понятия объяснения, освободившим путь противоположному подходу к проблеме. С другой стороны, рассказ стал объектом переоценки, которая коснулась в основном средств, предоставляемых им для понимания. Нарративное понимание было, таким образом, вознесено на чрезмерную высоту, тогда как историческое объяснение постепенно развенчивалось. Соединение этих движений и рассматривается в данной главе.
1. Взрыв номологической модели
1. Без-законное объяснение: Уильям Дрей
В конце предшествующей главы мы показали, как сторонники номологической модели пытались сгладить расхождение между моделью и фактическим состоянием исторической науки, применяя тактику двоякого рода, которая заключалась, с одной стороны, в ослаблении модели, а с другой — в опоре на стремления самих историков возвести их дисциплину в ранг науки. Совсем иная позиция у тех, кто усматривает в расхождении между номологической моделью и фактической методологией истории симптом фундаментальной ошибки в построении модели.
141
Работа Уильяма Дрея «Laws andExplanationinHistory»246 является в этом отношении лучшим свидетельством кризиса номологической модели. Расщепленной проблематике соответствует раздробленная структура самой книги. В ней очерчиваются три относительно самостоятельные линии фронта. На первом направлении ведется чисто негативная критика, которая влечет за собой отделение понятия объяснения от понятия закона. На втором фронте автор защищает тип каузального анализа, несводимого к подведению под законы. Положительная тема, составляющая основу первой главы: историю можно объяснять, не прибегая к общим законам, — получает таким образом первоначальное раскрытие, причем автор не утверждает, что всякое объяснение в истории должно использовать язык причинности. Наконец, Дрей исследует тип «рационального объяснения» (rational explanation), охватывающего лишь часть поля, которое освобождается благодаря критике объяснения, подчиненного эмпирическим законам. Защита каузального анализа и рационального объяснения (explicationpar des raisons) не вытекает логически из негативного тезиса, гласящего, что объяснение в истории не нуждается в законе, чтобы быть объяснением, — хотя эта защита и предполагает данный тезис. Следовательно, ее необходимо оценивать в соответствии с ее собственными достоинствами 247. В основе критики номологической модели лежит убеждение, согласно которому «маловероятно, что мы обнаружим какую-либо логическую черту, позволяющую сгруппировать все собственно исторические объяснения. Ибо объяснения, которые мы встречаем в трудах по истории, составляют логически разнородный набор» (р. 85). Признание этой логической разнородности объяснения в истории расчистило путь переоценке нарративного понимания.
а) Начнем с негативного тезиса: идея объяснения не предполагает идеи закона. Автор находит опорный пункт своей критики в колебаниях между «сильной» и «слабой» моделью у сторонников той модели, которую он окрестил coveringlawmodel (то есть модель, согласно которой закон «охватывает» частные случаи, становящиеся его примерами; можно перевести это как модель подведения под общее (subsomption))248. В формальном плане, как замечает Дрей, уже сама формулировка приведенного отношения между законом и случаями, которые он «охватывает», дает повод для сомнений. Слово «потому что....» может обязывать к какой-либо определенной логической структуре разве что в словаре, написанном логиками — сторонниками модели подведения под общее. Что же до отношения импликации, диктуемого «дедуктивным» характером события, оно далеко не однозначно. Наконец, понятие объяснения более не вынуждает утверждать, что законы «охватывают» свои приложения.
В эти колебания по поводу формулирования отношения импликации вносят лепту и вариации в формулировке самой модели. Мы видели, что
142
авторы готовы даже ослабить модель, лишь бы не ставить ее под вопрос. Таким образом можно пройти по убывающей шкале строгости от самого строгого дедуктивного требования до идеи псевдо-закона, минуя по дороге принятую, но не установленную, молчаливо подразумеваемую и неявную, обрисованную в общих чертах и неполную идею закона.
Эти колебания — только симптом логической неполноты самой модели. Действительно, можно показать, что модель подведения под общее не является ни необходимым, ни достаточным условием объясняемых событий. Она не является достаточным условием, поскольку приведенное объяснение не может быть обращено в предсказание. Чего-то еще недостает. Но чего? Возьмем, к примеру, автомобильную аварию, вызванную неполадками в моторе. Чтобы счесть за ее причину утечку масла, недостаточно знать различные действующие здесь физические законы; нужно еще рассмотреть непрерывную серию событий между утечкой масла и поломкой мотора. Говоря «непрерывную», мы вовсе не впадаем в философскую апорию, касающуюся бесконечной делимости пространства и времени; мы ограничиваемся идентификацией событий низшего порядка и помещением их в серию, где не признаются другие низшие события, помимо этих. Эта «референция к серии фактов, составляющих историю того, что произошло между утечкой масла и поломкой мотора, объясняет поломку» 249. Так же и в истории: делимость времени прекращается там, где кончается самый детальный анализ.
Не будучи достаточным, объяснение посредством законов также не является и необходимым. При каком условии оно действительно стало бы таковым? Возьмем, к примеру, объяснение, которое мог бы дать или дал историк: Людовик XIV в конце жизни не был популярен, потому что проводимая им политика нанесла вред национальным интересам Франции. Вообразим диалог между этим историком и логиком гемпелевской школы: как сможет логик убедить историка, что данное объяснение в самом деле требует законов? Логик скажет: объяснение имеет ценность благодаря имплицитно содержащемуся в нем закону: правительства, которые проводят политику, наносящую вред интересам подданных, становятся непопулярными. Историк возразит, что он имел в виду не любую политику, но именно такую, которая действительно проводилась в рассмотренном частном случае. Тогда логик попытается заполнить лакуну между законом и объяснением историка, уточняя закон с помощью ряда дополнений, например таких: правители, которые втягивают свою страну в войны с другими странами, которые преследуют религиозные меньшинства, содержат паразитический двор, становятся непопулярными. Но необходимы еще и другие уточнения: что некоторые политические меры провалились, что ответственность за них нес лично король и т.д., не говоря уже о тех мерах, которые король вообще не принял. Логик должен тогда признать, что полнота объяснения требует бесконечного процесса уточнений, ибо на любой стадии можно доказать только то,
143
что лишь случай, рассмотренный историком, единственно и подпадает под данный закон 250. Только один закон логически связал бы историка/а именно: всякий правитель, принимающий такие же политические меры в точно таких же обстоятельствах, что и Людовик XIV, стал бы непопулярным. Но это уже не формулировка закона; действительно, в ней должны упоминаться все частные обстоятельства данного случая (например, нужно говорить не о войне вообще, а об атаке на янсенистов и т.д.). Она принимает вид обобщения, лишь если ввести выражение точно; в результате этой операции создается предельно пустой случай, — пустой, потому что понятие «точно такие же меры в таких же обстоятельствах» (р. 36) не может стать осмысленным в каком-либо воображаемом исследовании.
Зато историк примет общее высказывание такого вида: всякий народ, сходный с французским народом «в отношении указанных обстоятельств», проникнется ненавистью к руководителю, схожему с Людовиком XIV «в отношении указанных черт». Этот закон не пустой, потому что диалектика отношений между логиком и историком обеспечивает способы «заполнения» выражений, стоящих в кавычках. Но это уже не такой закон, какого требует номологическая модель. Ибо, отнюдь не являясь расплывчатым и общим, как имплицитные законы, этот закон столь детализирован, что становится равнозначным «закону» единичного случая.
В действительности этот закон для единичного случая является вовсе не законом, а только переформулировкой рассуждения историка под видом эмпирического закона. Историк говорит: «Е потому, что с¸ … с¸¸» (где «Е» обозначает объясняемое событие, а «с¸...с¸¸» — факторы, перечисленные историком в объяснении). Логик переписывает: «Если с¸...с¸¸, то Е», где «если» равнозначно словам «всякий раз, когда...» Но эта равнозначность обманчива, ибо гипотетическая форма может выражать нечто иное, чем эмпирический закон. Она может выражать принцип умозаключения, утверждающий, что в подобных случаях можно путем рассуждения предсказать такого рода результат. Но этот принцип представляет собой только разрешение строить умозаключение, высказанное в гипотетической форме. Логический призрак «закона» возникает таким образом из смешения эмпирического закона и принципа умозаключения.
Здесь нужно сделать два предварительных вывода, которые я предполагаю включить позже в мой собственный анализ отношений между объяснением и пониманием в истории.
Первый вывод касается понятия события, которое также служит предметом обсуждения во французской историографии. Складывается впечатление, что отбрасывание номологической модели действительно предполагает возврат к концепции единичного события. Это утверждение ложно, если связать с идеей единичности метафизический тезис, что
144
мир состоит из радикально различных частей: тогда объяснение становится невозможным. Но утверждение истинно, если мы хотим сказать, что, в отличие от номологических наук, история хочет описать и объяснить то, что действительно произошло, во всех конкретных деталях. Но в этом случае историк понимает под единичным, что не существует ничего, в точности похожего на объект его исследования. Его понятие единичности связано с уровнем точности, который он выбрал для своего исследования. Более того, это утверждение не мешает использовать общие термины, такие как «революция», «завоевание одной страны другой» и т.д. Действительно, эти общие термины побуждают его не формулировать общие законы, а искать, в каких отношениях рассматриваемые события и их обстоятельства отличаются от тех, с которыми их естественно было бы объединить под одним классифицирующим термином. Историка интересует не объяснение Французской революции как таковой, а выяснение того, чем она отличается от других членов класса революций. Определенный артикль — la Révolution française — указывает на то, что историк идет не от классифицирующего термина к общему закону, а от классифицирующего термина к объяснению различий 251.
Второй вывод касается самого объяснения различий. В той мере, в какой объяснение перегруппировывает единичные факторы в том смысле, о котором мы только что сказали, можно утверждать, что оно относится скорее к области суждения, чем дедукции. Будем понимать под суждением нечто вроде операции, которую проделывает судья, когда он взвешивает противоположные аргументы и принимает решение. Точно так же для историка объяснять — значит защищать свои выводы от противника, который приводит другой набор факторов в поддержку своего тезиса. Этот способ судить о частных случаях состоит не в том, чтобы подвести случай под закон, а в том, чтобы перегруппировать разрозненные факторы и оценить важность каждого из них в получении конечного результата. Историк следует здесь скорее логике практического выбора, нежели логике научной дедукции. Именно в этом вынесении суждения привлекается на правах «гаранта» (warrant) другое объяснение, отличное от объяснения посредством законов; это и будет каузальное объяснение.
b) Каузальный анализ. Защита каузального анализа, которой посвящена IV глава работы Дрея, относительно независима от критики модели объяснения посредством подведения под общее. Каузальный анализ — лишь одна из альтернатив номологическому объяснению. Дрей обсуждает его прежде всего потому, что оспариваемая модель часто излагалась на языке причинности. Так было, к примеру, у Поппера 252. В этом смысле каузальная версия модели обеспечивает надлежащий переход от негативной критики к позитивному исследованию каузального анализа. Однако исследование каузального анализа находит свое обоснование не только в утверждении этой преемственной связи, обуслов-
145
ленном полемической целью книги, но и в применении в истории языка причинности. Автор считает этот язык необходимым и оправданным, несмотря на все неясности и трудности, связанные с его употреблением. Историки де-юре и де-факто используют выражения типа «х есть причина у» (которое мы далее отделим от каузального закона: «причиной у является х»). Они используют их де-факто в многочисленных вариантах: производить, вести к..., влечь за собой (или противоположное: мешать, не исполнять). Они используют их де-юре, признавая объяснительную силу причины. Именно причина является ставкой в споре. У. Дрей исходит из тезиса, что многозначность слова «причина» представляет не большее препятствие для правильного употребления этого термина, чем многозначность термина «объяснение», с которого мы начали. Проблема состоит в том, чтобы упорядочить эту полисемию, а не делать вывод об отказе от самого термина 253.
Если отвлечься от случая, когда под причиной понимается каузальный закон, то дискуссия о каузальном анализе в истории представляет интерес, лишь если существуют единичные причинно-следственные связи, объяснительная сила которых не зависит от закона.
У. Дрей сражается здесь на два фронта: против тех, кто связывает судьбу идеи причины с судьбой идеи закона, и против тех, кто хочет исключить из области историографии всякое объяснение. Да, историки пытаются давать каузальные объяснения. Нет, каузальный анализ какого-то конкретного хода событий не сводится к приложению каузального закона. Да, историки с полным основанием употребляют выражения типа «X причина у»; нет, эти объяснения не являются приложением закона типа «если х, то у».
Тогда что же такое каузальный анализ? Это, по сути дела, отборочный анализ, нацеленный на проверку права того гели другого кандидата на роль причины, то есть их прав занимать место «потому что...» в ответ на вопрос «почему?». Этот отбор носит характер конкурса, где кандидаты должны пройти определенное число испытаний. Я бы сказал, что каузальный анализ — это каузальная критериология. По существу, он включает в себя два испытания. Первое из них — индуктивное: фактор, о котором идет речь, действительно должен быть необходимым; иначе говоря, без него событие, подлежащее объяснению, не произошло бы. Второе испытание — прагматическое: должно существовать основание для отбора рассматриваемого условия среди всех условий, в совокупности составляющих достаточное условие феномена.
Прагматическое испытание, с одной стороны, отвечает соображениям о возможности манипуляции, в соответствии с которыми Коллингвуд определяет один из смыслов идеи причины как того, на что «влияет» человеческое действие; с другой стороны, оно принимает в расчет то, что должно было быть сделано, то есть то, что может быть подвергнуто осуждению (например, когда ставится вопрос о причинах войны). Нако-
146
нец, прагматический критерий предполагает то, что ускоряет ход событий: искру, катализатор. По сути своей такое исследование неизбежно является неполным. Оно представляет собой в высшей степени открытое расследование.
Индуктивное испытание труднее всего правильно определить; оно состоит в обосновании утверждения «если не х, то не у», при отсутствии правила, гласящего: «всякий раз, когда х, то у». Историк, который намеревается использовать подобные формулы, хочет сказать, что в этой частной ситуации при прочих равных условиях (или, лучше сказать, когда ситуация такова, какова она есть), — если бы этот х не имел места, то этот у, который фактически имел место, не произошел бы или был бы другим. Такое обоснование связано с описанным выше вынесением суждения, которое, как было сказано, не нуждается ни в каком законе типа «только если». Историк мысленно исключает (thinks away, р. 104) привлеченную причину, чтобы оценить — судить о том, к какому изменению в ходе вещей приведет ее отсутствие в свете того, что, как ему известно, также относится к данной ситуации. Это индуктивное испытание не равнозначно достаточному объяснению; в лучшем случае оно представляет собой необходимое объяснение, исключая из списка кандидатов на роль причины те факторы, отсутствие которых не изменило бы хода вещей. Чтобы достичь полного — или сколь возможно полного — объяснения, остается положительно обосновать каузальную атрибуцию (attribution causale) при помощи изложенного выше способа «заполнения» или интерполяции (filling in) деталей 254.
Важно, что причиновменение 255 в случае отдельного события не осуществляется путем приложения каузального закона. В действительности часто бывает верно обратное. Многие каузальные законы — это всего лишь вторичные обобщения, которые основаны на известного рода индивидуальных прогнозах причинности, сделанных посредством вынесения суждения и оцениваемых независимо друг от друга. Так называемый каузальный закон «тирания есть причина революций», как и закон «причиной войны является зависть», — вероятно, того же порядка. Такой закон допускает, что мы располагаем частными объяснениями отдельных войн, а затем наблюдаем тенденцию, общую для этих частных случаев. Именно эту тенденцию обобщает вышеназванный закон. При всей полезности таких обобщений для дальнейшего исследования, вовсе не они оправдывают индивидуальные объяснения, на которые они опираются.
Итак, нет повода для отказа от идеи причины в истории, если мы признаем ее особую логику, которая была очерчена выше.
В заключение — несколько чисто охранительных замечаний.
Прежде всего по поводу объяснения: к теории каузального анализа, а также рационального объяснения, о котором мы еще не говорили, следует, мне кажется, отнести предостережение, адресованное сторонникам
147
номологической модели, о том, что объяснения, встречающиеся в исторических трудах, составляют логически разнородный набор (a logically miscellaneous lot, р. 85). Данное замечание применимо к любым претензиям считать модель объяснения единственно возможной. Эта полисемия может служить аргументом и для критики противоположных претензий У. Дрея отделить объяснение в истории от номологической модели. Если мы ограничимся утверждением, что любое объяснение не удовлетворяет номологической модели и что имеются каузальные анализы, которые не являются объяснением посредством законов, то будем правы. Но если сделать из предшествующего обсуждения вывод о том, что каузальный анализ — доминирующее в истории объяснение, исключающее всякое объяснение посредством законов, это будет неверно. Поэтому я, со своей стороны, предпочел бы подчеркнуть тот факт, что законы интерполируются в ткань повествований, а не настаивать на их неприменимости. Таким же образом У. Дрей открывает возможность для более тонкой диалектики понимания и объяснения, когда он рассматривает процедуры, используемые при обосновании каузальной атрибуции, и сближает их с процедурами, осуществляемыми в юриспруденции. Поиск «гарантов», «взвешивание» и «оценка» причин, «испытание» кандидатов на роль причины — вся эта деятельность суждения связана с аналогией между аргументацией исторической и аргументацией юридической, — аналогией, которую необходимо разъяснить 256. А потому следовало бы более отчетливо показать родство между воссозданием непрерывной серии событий, процедурой исключения кандидатов на роль единичной причины и вынесением суждения. Таким образом, здесь необходимо раскрыть весь диапазон: объяснение посредством законов, единичное каузальное объяснение, процедуру суждения... и рациональное объяснение.
С другой стороны, вопреки сделанному в начале книги заявлению, что автор постоянно будет опираться лишь на фактическую аргументацию историков, некоторые рассмотренные примеры, как мне кажется, заимствованы из той истории, с которой ведут борьбу французские историки. При описании как диалектики отношений логика и историка, так и каузального анализа единичных событий, по-видимому, принимается как данность, что объяснение всегда относится к отдельным событиям. Конечно, я готов допустить, что частный каузальный анализ подходит для любого более или менее длительного изменения при условии, что историк учитывает особенности изменения, которое он рассматривает. В связи с этим нужно принять во внимание все, что было сказано об относительности понятия единичного события в масштабе исследования. Но необходимо так расширить понятие «событие», чтобы оно охватывало и другие изменения, а не только те, которые иллюстрируются примером Людовика XIV 257.
148
с) Рациональное объяснение 259. Большинство критиков усмотрели в анализе модели рационального объяснения положительный вклад У.Дрея в решение проблемы. Это отчасти верно, поскольку данная модель представляет собой связную альтернативу номологической модели. Но это не точно, поскольку уже каузальный анализ служил альтернативой объяснению посредством законов. Более того, рациональное объяснение не охватывает все поле, освобожденное критикой. Оно даже не обращается к тем же точно примерам объяснения: предшествующее обсуждение — в том числе обсуждение каузального анализа — прилагалось к «событиям или историческим условиям большого масштаба» (of fairly large-scale historical events or conditions, p. 118). Рациональное объяснение применяется к «более узкому диапазону случаев», а именно, «к такого рода объяснению, которое дают историки в целом действиям индивидов, достаточно важным, а потому заслуживающим упоминания в ходе исторического повествования» (р. 118).
Поэтому, хотя оспаривание номологической модели остается негативным лейтмотивом всего произведения, следует принять во внимание относительную автономию трех фронтов, на которых автор сражается: против номологической модели; за каузальный анализ; за рациональное объяснение. Эта относительная разобщенность исследований свидетельствует именно о том, что я назвал взрывом номологической модели.
В названии, данном автором этому способу объяснения, резюмируется его программа: с одной стороны, модель прилагается к действиям агентов, схожих с нами; стало быть, она маркирует пересечение теории истории с теорией действия, то есть с тем, что я в первой части книги назвал нашей компетентностью в использовании интеллигибельным образом концептуальной сетки действия; но тем самым она рискует замкнуть историческое объяснение в области «событийной истории», от которой как раз и отходят новые историки. Этот момент следовало бы сохранить в памяти для дальнейшего обсуждения (глава III). С другой стороны, модель претендует также на статус модели объяснения', этим автор в равной мере дистанцируется от тех, для кого объяснять — значит «охватывать» случай эмпирическим законом, и от тех, для кого понять действие — значит пере-жить, ре-актуализировать, пере-осмыслить намерения, понятия и чувства агентов. И вновь Дрей ведет борьбу на два фронта: против позитивистов и против «идеалистов», в той мере, в какой последние замыкаются в рамках теории эмпатии, ненаучный характер которой разоблачают первые. Собственно говоря, среди «идеалистов» автору остается близким Коллингвуд: пере-жить, ре-актуализировать, пере-осмыслить — это слова Коллингвуда. Речь идет о демонстрации того, что у этих операций есть своя логика, которая отличает их от психологии или от эвристики и ставит на почву объяснения. Следовательно, предметом обсуждения здесь является «логический анализ объяснения, каким оно дается в истории» (р. 121)259.
149
Рационально объяснить индивидуальное действие — значит «реконструировать выполненный агентом расчет (calculation) средств, которые он должен предпочесть для достижения поставленной цели, в свете обстоятельств, в которых он оказался». Иначе говоря: чтобы объяснить действие, нам нужно знать соображения, которые убедили агента действовать так, как он действовал (р. 122).
Мы совершенно очевидно находимся в русле аристотелевской теории рассуждения. Но необходимо правильно понять слово расчет: речь не обязательно идет о строго дедуктивном рассуждении в пропозициональной форме: поскольку мы имеем дело с преднамеренным действием, допускаются все уровни сознательного рассуждения, коль скоро они позволяют построить расчет, которому следовал бы агент, если бы у него было время, если бы он с первого взгляда не понял, что нужно делать, если бы у него потребовали отчета в том, что он сделал и т.д. Объяснить действие — значит прояснить этот расчет, в котором и состоит рациональность (rationale) действия. Отсюда термин «рациональное объяснение».
Дрей добавляет важный оттенок, свидетельствующий о выходе за пределы «логики». Объяснить — значит показать, что было сделано именно то, что должно было быть сделано с учетом рациональных мотивов и обстоятельств. Объяснить — это значит прежде всего оправдать, с тем оценочным нюансом, который несет в себе этот термин; это значит объяснить, каким образом действие было применено. Здесь также следует правильно понимать смысл слов: оправдать — это не значит подтвердить выбор в соответствии с нашими моральными критериями и сказать: «то, что сделал он, я бы тоже сделал»; это значит оценить действие с точки зрения целей агента, его, пусть даже ошибочных, верований, обстоятельств, которые ему были известны: «В рациональном объяснении можно увидеть попытку достичь своего рода логического равновесия, в силу которого действие соответствует (matched) расчету» (р. 125). Мы ищем объяснения именно тогда, когда не видим связи между тем, что было сделано, и тем, что мы, как полагаем, знаем об агентах; нам недостает подобного логического равновесия: мы стремимся его восстановить.
Термин логическое равновесие — лучшее, что нашел автор, дабы дистанцироваться от понимания посредством эмпатии, проекции или отождествления, и в то же время — чтобы защитить свое объяснение от критики со стороны последователей Гемпеля. Ведь для того чтобы достичь этой точки равновесия, нужно при помощи индукции собрать вещественные доказательства, позволяющие оценить проблему такой, какой ее увидел агент. Только документальная работа позволяет осуществить эту реконструкцию. Поэтому в данной процедуре нет ничего ни сиюминутного, ни догматического. Она требует труда и открыта для уточнений; эти свойства роднят ее с каузальным анализом.
150
У. Дрей не задавался вопросом о связи своего исследования с анализом построения интриги. Тем более примечательно родство этих двух подходов. В одном пункте оно особенно поразительно: автор отмечает, что рациональное объяснение обладает такого рода общностью или универсальностью, которая не присуща эмпирическому закону: «Если у является для А веским основанием, чтобы сделать х, то у будет веским основанием для кого-то в достаточной мере похожего на А, чтобы сделать х в достаточно сходных обстоятельствах» (р. 132). Мы узнаем здесь вероятность, о которой шла речь у Аристотеля: «то, что человек сказал бы или сделал бы с необходимостью или вероятностью». Автор слишком занят полемикой с номологической моделью и различением принципа действия и эмпирического обобщения, а потому не проявляет интереса к этому взаимопересечению теории истории и теории повествования, в отличие от того, как он поступил в случае с теорией действия. Но когда Уильям Дрей защищает многозначность выражения «потому что» от всякой редукции к однозначности номологического типа, на память сразу приходит аристотелевское различение между «одно вследствие другого» и «одно после другого» 260.
Остается, на мой взгляд, главная трудность — и не та, с которой борется автор: поскольку в модели рационального объяснения теория истории пересекается с теорией действия, проблема состоит в том, чтобы учесть мотивы действий, которые не могут быть приписаны индивидуальным агентам. Здесь, как мы увидим, и находится критическая точка всякой «нарративистской» теории.
Автору известна эта трудность: ей он посвящает один параграф своей книги (р. 137-142). Он предлагает три решения, которые не полностью перекрывают друг друга. Прежде всего, существует презумпция, что данное действие поддается рациональному объяснению, «если его изучать достаточно внимательно» (ifwestudyitcloselyenough, p. 137). Эта презумпция — пари, что всегда можно «спасти видимость» рациональности и в процессе непрерывной работы обнаружить отдаленные — может быть, странные — верования, позволяющие построить предполагаемый расчет и достичь искомой точки равновесия между мотивами (raisons) и действием. Эта презумпция рациональности не знает границ; она предполагает и возможность прибегнуть к неосознанным мотивам; таким образом, «иррациональное» объяснение — тоже случай объяснения рационального.
Но это первое решение приемлемо лишь постольку, поскольку существует возможность идентификации индивидуальных агентов действия. Как же быть с приложением рационального объяснения к общностям? Дрей высказывает мысль, что историки считают оправданным персонифицировать при помощи эллипсиса такие сущности, как Германия и Россия, и прилагать к этим двум сверх-агентам квази-рациональное объяснение. Так, нападение Германии на Россию в 1941 году можно объяс-
151
нить, напомнив об опасениях Германии, что Россия нападет на нее с тыла, как если бы подобный расчет имел значение для мотивов сверх-агента, называемого Германией (р. 140). Сам этот эллипсис обосновывается двумя способами: в результате подробного изучения можно показать, что расчет, о котором идет речь, в конечном итоге есть расчет индивидов, уполномоченных действовать «во имя» Германии; в других случаях объяснение, «типичное» для индивида, распространяется по аналогии на группу (к примеру, пуритане в борьбе с системой налогообложения в Англии XVIII века).
Третье решение: в случае исторических феноменов большого масштаба сталкиваешься с тем, что Уайтхед назвал «бессмысленной стороной» (senselessside) истории, когда действия, объясняемые рационально, ведут к непредвиденным, нежелательным и даже обратным последствиям. Так, путешествие Христофора Колумба может быть названо причиной расширения европейской цивилизации; но смысл слова «причина» не имеет здесь ничего общего с намерениями Христофора Колумба. Так же обстоит дело с социальными феноменами большого масштаба. В этом пункте возражение смыкается с рассуждениями французской историографии о большой длительности и социальной истории. У. Дрей признает, что результат этих масштабных изменений не может быть объяснен планом индивида, который управлял бы всем делом. Другими словами, нет оснований прибегать к аналогу или субституту «хитрости разума», который позволял бы еще говорить о непредвиденных результатах действий под углом зрения интенциональности. Но это признание не препятствует тщательному исследованию вклада индивидов и групп в конечный результат, а значит, и анализу расчетов, которыми они руководствовались в своей деятельности. Не существует сверх-расчета, есть лишь множество расчетов, которые следует трактовать в соответствии с процедурой «piecemeal», фрагмент за фрагментом.
Как мы видим, этот аргумент значим лишь в том случае, если считать социальный процесс равнозначным сумме индивидуальных процессов, анализируемых с позиции интенциональности, и если считать просто «бессмысленным» разделяющее их различие. Но именно в этой равнозначности и заключается проблема. Речь на самом деле идет о том, не обусловлено ли отличие исторического объяснения от рационального объяснения действия прежде всего масштабом изучаемых феноменов, то есть референцией к сущностям социального характера, несводимым к сумме их членов; затем — появлением результатов, несводимых к сумме намерений их членов, то есть к сумме их расчетов; наконец, изменениями, несводимыми к изменениям времени, которое индивиды прожили один за другим 261. Короче, как связать социальные процессы с действиями индивидов и их расчетами, не исповедуя «методологический индивидуализм», который должен еще доказать свою кредитоспособность?
152
Уильям Дрей ограничился средствами, предоставленными теорией действия, близкой к концепции, которую я изложил в первой части данной книги под заголовком мимесис-1. Остается посмотреть, сумеет ли «нарративистская» трактовка исторического понимания, используя возможности понимания, предоставляемые рассказом и связанные с мимесис-II, заполнить лакуну между объяснением через мотивы индивидуальных или квази-индивидуальных агентов и объяснением исторических процессов большого масштаба при помощи социальных, а не индивидуальных сил.
2. Историческое объяснение согласно Георгу Хенрику фон Вригту 262
Работа фон Вригта знаменует собой важный этап в критике номологической модели. Эта критика не заключается больше, как у У. Дрея, в противопоставлении каузального объяснения объяснению посредством законов и в конструировании, в качестве частично альтернативной модели, рационального объяснения. Она нацелена на объединение каузального объяснения и телеологического умозаключения в «смешанной» модели квазикаузалъного объяснения, призванного учесть наиболее типичный способ объяснения, который используется в гуманитарных науках и в истории.
Интересно, что автор, хорошо известный своими трудами в области деонтической логики 263, в самом начале своего анализа признает дуализм традиций, на которые опиралось формирование теорий в «гуманитарных и социальных» дисциплинах. Первая, идущая от Галилея, точнее даже от Платона, отдает приоритет каузальному и механистическому объяснению. Вторая, восходящая к Аристотелю, защищает специфику телеологического, или финалистского, объяснения. Первая требует единства научного метода, вторая защищает методологический плюрализм. Именно эту, свойственную еще античности, полярность находит фон Вригт в характерном для германской традиции противопоставлении Verstehen (understanding) и Erklären (explanation)264. Но, тогда как номологическая модель была осуждена на отрицание всякой объяснительной ценности понимания, будучи, однако, не в состоянии объяснить интеллектуальные операции, реально осуществляемые в гуманитарных науках, фон Вригт предлагает модель, достаточно сильную, чтобы приблизиться через серию последовательных расширений исходного языка классической пропозициональной логики к области исторического понимания, за которым он неизменно признает изначальную способность постижения смысла человеческого действия. Для нашего собственного
153
исследования интерес представляет именно эта аппроксимация, приближение (без аннексии) к области понимания при помощи модели, обогащающей пропозициональную логику средствами модальной логики и теории динамических систем 265.
Под словом «аппроксимация» имеется в виду построение — путем последовательных расширений исходного языка — модели более богатой, но связанной с теоретическими требованиями этого языка, — а также и поляризацию теоретической модели вследствие силы притяжения, свойственной изначальному восприятию смысла, которое остается в конечном счете внешним по отношению к чисто внутреннему процессу обогащения модели. Вопрос состоит в том, может ли эта аппроксимация дойти до логической переформулировки понятий, на которые опирается историческое понимание.
В отличие от номологической модели, ограничивающейся приложением закона к фактам, между которыми нет внутренней логической связи, модель фон Вригта охватывает и отношения обусловленности между предшествующими и последующими состояниями, существующие в динамических физических системах. Именно это расширение представляет собой основу для логической переформулировки всей проблематики понимания.
Я не собираюсь воспроизводить здесь аргументацию, используемую при этом переходе от пропозициональной логики к логике динамических физических систем. Ограничусь кратким описанием формально-логического аппарата, который составляет основу работы фон Вригта 266. Фон Вригт принимает следующие допущения: существует множество родовых логически независимых положений дел 267 (светит солнце, кто-то открывает дверь и т.п.); эти положения дел реализуются в данных обстоятельствах (пространственных или временны́х); логически независимые положения дел складываются в конечное число состояний, образуя полное состояние или возможный мир\ имеется возможность сконструировать язык, который путем соединения фраз описывал бы состояния, являющиеся атомами или элементами этого возможного мира; наконец, существует возможность рассматривать среди множеств состояний некое пространство состояний (un espace-d’états), а в нем — конечные пространства состояний. Совокупность этих предпосылок резюмируется следующим образом: «Допустим, полное состояние мира в данном случае можно описать путем установления любого данного элемента некоторого пространства состояний, независимо от того, получается он или нет в этом случае. Удовлетворяющий этому условию мир можно назвать миром “Трактата”. Именно такого рода мир исследовал Витгенштейн в своем “Логико-философском трактате”. Он представляет собой частный случай более общей концепции структуры мира, которую можно назвать логическим атомизмом» (с. 80).
154
Что же касается того, удовлетворяет ли этой модели мир, в котором мы фактически находимся, то это, по словам автора, «глубокий и трудный вопрос, и я не знаю, как на него ответить» (там же). Использование этой модели означает только то, что состояния вещей являются единственными «ontological building bricks»* миров, которые мы изучаем, и что внутренняя структура этих «bricks» не рассматривается.
На этой стадии логического анализа едва ли заметно, какой шаг мы сделали по направлению к практическому и историческому пониманию. Первое значительное расширение связано с включением в систему принципа развития. Автор делает это простейшим способом, присоединяя элементарную «tense-logic»** к своей двузначной пропозициональной логике. К словарю последней он добавляет новый символ Г, который представляет собой бинарную связку. «Выражение “pTq” читается так: “сейчас происходит событие р, а затем, то есть в следующий момент, происходит событие q...” Особый интерес представляет случай, когда они являются описаниями состояний. Полное выражение будет тогда говорить, что в данный момент мир находится в определенном состоянии, в следующий момент находится в том же самом состоянии или в каком-то другом» (с. 80-81). Если к тому же учесть, что p и q, обрамляющие Т, также могут содержать символ Т, то конструируются цепочки формул, описывающие состояния, которые последовательно проходит мир, и дающие возможность описывать фрагменты истории мира; термин history обозначает здесь последовательность и полных состояний мира, и их описаний. Следует также обогатить исчисление связки Т: прежде всего временны́м квантификатором («всякий раз, когда», «никогда», «иногда»), затем оператором модальности М. Эти последовательные дополнения определяют формализацию логики обусловленности и того, что автор назовет далее каузальным анализом.
В связи с отсутствием формализации применительно к данному исчислению, автор ограничивается квазиформальным методом изложения и иллюстрации, используя с этой целью простые топологические фигуры, или деревья (с. 86). Фигура включает полные состояния мира (образованного из элементарных п состояний), изображенные небольшими кружками, последовательность кружков, связанных линиями слева направо (линии, соединяющие кружки, изображают «историю»), и, наконец, альтернативные возможности движения, обозначенные разветвлениями.
Сколь бы формальной ни была эта модель, она уже свидетельствует о возможности всех дальнейших развертываний: самое фундаментальное условие истории конституируется этой «свободой движения» — теоретически неограниченной неопределенностью, которой обладает или об-
* «Онтологическими кирпичиками» (англ.). — Прим. перев.
** «Временную логику» (англ.). — Прим. перев.
155
ладал бы мир на каждой стадии движения. Таким образом, никогда не следует упускать из виду того факта, что, говоря о системе, мы всегда имеем дело лишь с «фрагментом истории мира»: «Система в этом смысле определяется через пространство состояний: начальное состояние, число стадий развития и совокупность альтернативных возможностей развития на каждой стадии» (с. 85). Итак, идея системы отнюдь не исключает вмешательства свободных и ответственных субъектов — будь то разработка какого-либо плана или физический эксперимент, — напротив, она, в сущности, сохраняет возможность этого вмешательства и требует соответствующего дополнения. Как это можно осуществить?
Здесь необходимо второе добавление, коль скоро логика динамических физических систем должна быть соединена с нашим изначальным пониманием действия и истории. Добавление касается статуса каузального объяснения по отношению к каузальному анализу — при условии, что именно каузальное объяснение представляет интерес для понимания.
Каузальный анализ — это та деятельность, которая прилагается к системам, изображенным в виде топологических деревьев. Рассматривая некое конечное состояние, он ставит вопрос о «причинах» наступления и структуре этого конечного состояния в терминах необходимых и достаточных условий. Напомним в общих чертах различие между необходимым и достаточным условиями. То, что р есть достаточное условие q, — означает: всякий раз, когда р, то q(р достаточно для того, чтобы обеспечить наличие q). То, что р есть необходимое условие q, — означает: всякий раз, когда q, то р (q предполагает наличие р). Различие между двумя типами условий иллюстрируется асимметрией путей, проходимых в поступательном и возвратном направлении, — в силу альтернатив, открываемых благодаря разветвлениям. Каузальное объяснение отличается от каузального анализа тем, что в анализе дается некая система и мы изучаем отношения обусловленности внутри системы, в то время как в объяснении дается «некоторый родовой феномен (событие, процесс, состояние) и мы ищем систему, в которой этот (родовой) феномен — экспланандум — связан с другими через некоторое отношение обусловленности» (с. 90).
Посредством перехода от анализа к каузальному объяснению и приложения к объяснению различия между необходимым и достаточным условиями здесь делается шаг по направлению к гуманитарным наукам. Отношение достаточного условия определяет манипуляцию (создавая р, мы вызываем q); отношение необходимого условия определяет помеху (устраняя р, мы препятствуем всему, для чего р есть необходимое условие). В терминах достаточного условия мы отвечаем на вопрос: почему состояние такого типа наступило с необходимостью? Зато в терминах необходимого, но не достаточного условия мы отвечаем на вопрос: как было возможно, что состояние такого типа наступило? В объяснениях
156
первой группы возможно предсказание; объяснения второй группы допускают не предсказание, но лишь ретросказание: исходя из того факта, что нечто произошло, мы ретроспективно заключаем, что в прошлом обязательно существовало предшествующее необходимое условие, и ищем его следы в настоящем — в случае космологии, геологии, биологии, а также, как мы скажем дальше, и в некоторых исторических объяснениях.
Теперь мы можем сделать решающий шаг — соединить каузальное объяснение с тем, что мы в предварительном порядке понимаем под действием (заметим, что на этой стадии теория действия и теория истории совпадают). Феномен вмешательства, который мы только что предвосхитили, говоря о создании и вызывании, устранении и препятствии, — требует такого соединения, поскольку вмешательство соединяет возможность действия, агент которого обладает непосредственным пониманием, с внутренними отношениями обусловленности, присущими системе. Оригинальность книги «Explanation and Understanding» заключается в поиске условия вмешательства в самой структуре систем.
Ключевое понятие здесь — понятие закрытости (clotûre) системы, которое связано с каузальным анализом. Действительно, система может быть названа закрытой лишь применительно к случаю, для одного данного примера: задан случай — или последовательность случаев, где создается начальное состояние системы, и система развертывается по одному из возможных путей развития через п данных этапов. Одним из возможных типов закрытости можно считать уклонение системы от внешних каузальных влияний: ни одно состояние ни на одном этапе системы не имеет достаточного антецедента вне системы. Действие реализует другой примечательный тип закрытости, ибо, совершая что-то, агент учится «изолировать» закрытую систему от ее окружения и открывает возможности развития, присущие этой системе. Агент обучается этому, приводя систему в движение начиная с ее исходного состояния, которое он «изолирует». Это приведение в движение представляет собой вмешательство в точке пересечения одной из возможностей агента и возможностей системы.
Как осуществляется это пересечение? Вот аргумент фон Вригта. Пусть а — начальное состояние системы в данных обстоятельствах: «Допустим, что это Состояние а, причем на основе прошлого опыта мы уверены (wefeelconfident) в том, что а не перейдет в а, если мы не переведем его в а. Допустим также, что мы знаем, что мы можем это сделать» (с. 95). В этой фразе заключена вся теория вмешательства. Здесь мы достигаем предела. Я уверен, что я могу... Но никакое действие не совершилось бы и, в частности, никакой научный эксперимент не состоялся бы без этой уверенности, что своим вмешательством мы можем вызвать перемены в мире. Эта уверенность не касается отношения обусловленности; а указывает скорее на разрыв цепи: «...а, согласно наше-
157
му допущению, не перейдет в а без нашего действия» (с. 96). И наоборот, мы прекрасно можем позволить миру изменяться без нашего вмешательства. Итак, «мы научаемся изолировать фрагмент истории мира, превращая его в закрытую систему, и... получаем знание о возможных (и необходимых) механизмах, управляющих системой изнутри... отчасти через неоднократное приведение системы в движение, воспроизводя ее начальное состояние и затем (“пассивно”) наблюдая за последовательными стадиями ее развития, и отчасти путем сравнения этих последовательных стадий с другими, которые система проходит при своем развитии из других начальных состояний» (с. 98).
Фон Вригт вправе утверждать, что «в идее приведения систем в движение связываются вместе понятия действия и причинности» (там же). Он вновь использует здесь одно из древнейших значений идеи причины, следы которого сохранились в языке. Пусть наука борется против аналогического и неправильного применения идеи причины как идеи ответственного агента; это употребление опирается на идею создания вещей и интенционального вмешательства в естественный ход событий 268.
Что касается логической структуры выражения совершить действие, то фон Вригт принимает здесь различения, введенные А.Данто 269. Вместе с ним он различает выражения совершить действие (не имея в это время другого дела) и вызвать что-то (делая что-то другое). Следует вывод: «То, что совершено, есть результат действия; то, что вызвано, последствие действия» (с. 101). Это различение важно, потому что взаимодействие в системе основывается в конечном счете на действиях первого типа, которые Данто называет «базовыми действиями». Но связь между базовым действием и его результатом — внутренняя, логическая, а не каузальная (если взять из юмовской модели идею, что причина и следствие являются логически внешними по отношению друг к другу). Таким образом, действие не является причиной своего результата: результат представляет собой часть действия. В этом смысле действие по приведению системы в движение, сведенное к базовому действию, отождествляет начальное состояние системы с результатом действия (в не-каузальном смысле слова «результат»).
Метафизические следствия понятия вмешательства представляют существенный интерес и имеют косвенное отношение к истории в той мере, в какой она сообщает о действиях. Быть способным действовать, скажем мы, — значит быть свободным: «В состязании между причинностью и действием победит обязательно последнее. Считать, что действие можно поймать в сети причинности, — значит допускать противоречие в терминах» (с. 114). Если же мы в этом сомневаемся, то прежде всего потому, что принимаем за модели скорее феномены дисфункции и неспособности, нежели успешные вмешательства, которые основываются на внутренней уверенности в том, что мы способны действовать. Однако эта уверенность проистекает не от приобретенных знаний отно-
158
сительно неспособностей. Мы сомневаемся в своей способности свободно действовать еще и потому, что экстраполируем на мир в целом регулярные последовательности, которые мы наблюдали. Мы забываем, что каузальные связи относятся к области фрагментов истории мира, носящих характер закрытых систем. Но способность приводить системы в движение, создавая их начальные состояния, является условием их закрытости. Таким образом, действие предполагается самим обнаружением каузальных связей.
Остановимся на этой стадии аргументации. Будет ли обоснованным утверждение, что теория динамических систем дает логическую формулировку того, что мы уже поняли как действие в сильном смысле слова, предполагающем уверенность в том, что агент способен действовать? Представляется, что это не так: как показывает процитированный текст, нет сомнений, что действие опережает причинность. Каузальное объяснение спешит за убеждением в способности действовать, никогда не догоняя его. Аппроксимация в этом смысле — не чисто логическая формулировка, а возрастающее сокращение интервала, которое дает возможность логической теории исследовать границу, отделяющую ее от понимания.
Можно заметить, что в анализе феномена вмешательства мы не проводили различия между теорией действия и теорией истории. Или, скорее, теория истории рассматривалась лишь как модальность теории действия.
Расширение исходной логической модели обусловлено в своем приближении (approximation) к области истории другим феноменом, о котором мы имеем столь же изначальное понимание, как и о способности действия, а именно, интенциональным характером действия. Этот интенциональный характер неявно предполагался в предшествующем анализе «действия» («faire»). Вместе с Данто мы выделили базовые действия, посредством которых мы совершаем что-то без вмешательства промежуточного действия, и другие действия, посредством которых мы делаем так, что нечто происходит; мы выделили вещи, которые мы вызываем, и среди них те, которые мы вызываем при помощи других. Мы увидим, какое расширение модели вытекает из этого изначального постижения смысла, и зададимся вопросом, может ли новая аппроксимация, вызванная этим расширением, привести к интегральной логической переформулировке интенционального характера действия.
Прибавление телеологического объяснения к объяснению каузальному опирается на логику «для того, чтобы...», «так, что...». Устраним случай квазителеологического объяснения, который представляет собой лишь замаскированное каузальное объяснение: так бывает, когда мы говорим, что хищника притягивает добыча или что ракету притягивает мишень. Телеологическая терминология не смогла бы скрыть того
159
факта, что справедливость этих объяснений всецело зиждется на истинности номических связей. Феномены адаптации, и в целом функциональные объяснения в биологии и в естественной истории, относятся к этому типу объяснения (и наоборот, как мы увидим далее, история представляет квазикаузальные объяснения, где за терминологией причинности в номическом смысле слова скрываются на сей раз элементы подлинно телеологического объяснения). Телеологическое объяснение относится именно к формам поведения, подобным действию (action-like). Фазы действия в его внешнем аспекте не соединены здесь каузальной связью; их единство конституируется подведением под одну общую интенцию, определяемую тем, что агент стремится сделать (или воздерживается, и даже не желает делать).
Тезис фон Вригта состоит в том, что интенцию нельзя трактовать как причину поведения в юмовском смысле, предполагающем, что причина и следствие логически независимы друг от друга. Фон Вригт принимает тезис, называемый «аргументом логической связи», согласно которому связь между мотивом действия и самим действием является внутренней, а не внешней: «Здесь действует мотивационный механизм, и как таковой он является телеологическим, а не каузальным» (с. 103).
Возникает вопрос о том, до какой степени логика телеологического объяснения принимает в расчет интенцию. Как и при анализе вмешательства, мы открываем новое отношение между пониманием и объяснением. Речь уже идет не о включении «я могу» в каузальную цепь, но о соединении интенции с телеологическим объяснением. Чтобы в этом преуспеть, достаточно считать телеологическое объяснение «перевернутым» практическим выводом. Практический вывод имеет следующую форму:
А намеревается осуществить (вызвать) р.
А считает, что он не может осуществить р, если он не совершит а.
Следовательно, А принимается за совершение а (с. 127-128).
В телеологическом объяснении заключение практического вывода является посылкой, а его большая посылка — заключением: А принимается за совершение а, «потому что» у А есть намерение (intention) вызвать р. То есть следует рассматривать именно практический вывод. Но «чтобы стать телеологически объяснимым, поведение... должно быть вначале интенционально понято» (с. 151). Таким образом, «интенциональное» и «телеологическое» являются терминами, которые перекрывают друг друга, но не отождествляются друг с другом. Интенциональным фон Вригт называет описание, при котором формулируется объясняемое действие, а телеологическим — само объяснение, использующее практический вывод. Оба термина перекрывают друг друга, поскольку интенциональное описание необходимо для построения посылки практического силлогизма. Они различаются, поскольку телеологическое объяснение прилагается к отдаленным объектам интенции, которых как
160
раз и можно достичь в результате практического вывода. Итак, с одной стороны, интенциональное описание представляет собой лишь зачаточную форму телеологического объяснения, ибо только практический силлогизм ведет от интенционального описания к телеологическому объяснению как таковому. С другой стороны, не было бы никакой нужды в логике практического силлогизма, если бы непосредственное постижение смысла, связанное с интенциональным характером действия, не влекло ее за собой. Не следует ли сказать, что подобно тому как в состязании между живым опытом действия и каузальным объяснением всегда выигрывало действие, так и в состязании между интенциональной интерпретацией действия и телеологическим объяснением всегда выигрывает интерпретация? Фон Вригт почти соглашается с этим: «Чтобы стать телеологически объяснимым, поведение... должно быть вначале интенционально понято» (с. 151). И еще: «Телеологическому объяснению действия обычно предшествует интенциональное понимание некоторого образца поведения» (с. 162)270.
Вновь определим свое положение: дополняя каузальное объяснение телеологическим, пришли ли мы к пониманию истории, которое я, со своей стороны, связываю с нарративным пониманием? 271 Собственно говоря, мы еще не выяснили, что отличает теорию истории от теории действия. Практический силлогизм позволил только, скажем так, увеличить прицел интенциональной направленности действия. Вот почему телеологическое объяснение само по себе не позволяет отделить историю от действия. Фактически мы до сих пор говорили об истории лишь в крайне формальном смысле; система, сказали мы, это «фрагмент истории мира». Но это утверждение значимо для всякого возможного мира, удовлетворяющего критериям «Tractatus-world». Лишь однажды термин «история» в конкретном смысле «story» появляется в анализе телеологического объяснения. Он вводится следующим образом: можно заметить, вместе с Витгенштейном, что интенциональное поведение сходно с использованием языка: «Это жест, под которым я нечто подразумеваю (mean)» (с. 144). Но использование и понимание языка предполагают контекст лингвистической общности, являющейся общностью жизни: «Намерение, — читаем мы в «Философских исследованиях» (раздел 337), — вплетено в (Соответствующую ситуацию, в людские обычаи и институты» 272. Отсюда следует, что мы не можем понять или телеологически объяснить поведение, которое было бы нам полностью чуждым. Именно эта референция к контексту действия влечет за собой замечание, что «интенциональность поведения — это zvo место в истории (story) агента» (с. 145). Значит, не достаточно установить эквивалентность между интенциональностью и телеологическим объяснением, чтобы дать отчет об объяснении в истории. Нужно еще найти логический эквивалент отношению интенции к ее контексту, который в истории включа-
161
ет в себя все обстоятельства и все непредвиденные последствия действия.
Приближаясь еще на одну ступень к особому статусу объяснения в истории, фон Вригт вводит понятие квазикаузального объяснения.
В общем виде квазикаузальное объяснение имеет форму: «Это произошло потому, что». Пример: народ восстал, потому что правительство было коррумпированным. Объяснение называется каузальным, поскольку эксплананс соотносится с фактором, который предшествовал экспланандуму. Но объяснение является только квазикаузальным по двум основаниям. Основание отрицательное: справедливость обоих этих высказываний не требует — как в каузальном и квазителеологическом объяснении — истинности номической связи. Основание положительное: второе высказывание имеет имплицитную телеологическую структуру; например — целью восстания было избавиться от зла, причинявшего страдания народу.
Каково же отношение между квазикаузальным объяснением и объяснением телеологическим?
Прежде всего, квазикаузальное объяснение — не единственный способ объяснения. С точки зрения объяснения история, по-видимому, представляет собой смешанный жанр. Таким образом, если в ней возможны объяснения каузального типа, они занимают особое место и в определенном смысле «подчинены другим типам объяснения» (с. 165)273.
Каузальное объяснение встречается в двух основных формах: объяснение в терминах достаточных условий (почему состояние такого типа настало с необходимостью?); объяснение в терминах необходимых условий (как это было возможно...?). Подчинение этих двух форм каузального объяснения другим типам объяснения можно продемонстрировать следующим образом. Представим себе руины города. Что явилось причиной его разрушения: наводнение или вражеское нашествие? У нас имеется юмовская причина — физическое событие — и юмовское следствие — другое физическое событие (нашествие, рассматриваемое как физический агент). Но этот фрагмент каузального объяснения сам по себе не находится в ведении истории. Он имеет к истории лишь косвенное отношение, поскольку за материальной причиной обрисовывается задний план — политическое соперничество между городами, — а за материальным следствием разворачиваются политические, экономические и культурные последствия бедствия. Именно эту не-юмовскую причину стремится связать с этим не-юмовским следствием историческое объяснение. Итак, в этой первой форме объяснения «каузальное объяснение, часто играет собственно роль связи не-юмовских причин его эксплананса с не-юмовскими следствиями его экспланандума» (с. 167)274.
162
А теперь — объяснение в терминах необходимых условий: как жители такого города могли построить столь огромную крепостную стену? Экспланандум представляет собой юмовское следствие: это стены, продолжающие стоять. Эксплананс также является юмовской причиной: это материальные средства, использованные при сооружении стены. Но объяснение является историческим, только если оно совершает обходной маневр при помощи действия (урбанизм, архитектура и т.д.). Экспланандум представляет собой тогда результат этого действия в том смысле, в каком, как мы сказали, результат действия не является юмовским следствием. Повторим еще раз: каузальное объяснение — элемент исторического объяснения, которое включает в себя также не номический (каузальный) элемент 275.
Что касается квазикаузального объяснения, то оно гораздо сложнее, чем предшествующее. Ответ на вопрос почему? здесь чрезвычайно разветвлен. Приведенный выше пример (народ восстал, потому что правительство было коррумпировано) маскирует реальную сложность работы историка. Возьмем тезис, согласно которому Первая мировая война началась, «потому что» эрцгерцог Австрии был убит в Сараево в июне 1914 года. Какого рода объяснение мы тем самым принимаем? Допустим, в целях аргументации, что причина и следствие логически независимы, иначе говоря, что оба события рассматриваются как различные 276. В этом смысле объяснение имеет каузальную форму. Но истинное опосредование обеспечивается всеми мотивационными процессами, затрагивающими все участвующие стороны. Эти мотивационные процессы должны быть схематизированы в таком же числе практических выводов, порождающих новые факты (в силу оговоренной нами связи между намерением и действием в практическом силлогизме); для всех агентов эти факты представляют собой новые ситуации; агенты оценивают свою ситуацию, включая совершившийся факт в посылки своих новых практических выводов, которые в свою очередь порождают новые факты, затрагивающие посылки новых практических выводов, сделанных различными имеющимися в наличии сторонами 277.
Квазикаузальное объяснение оказывается, таким образом, более сложным, чем рациональное объяснение в смысле У. Дрея. Последнее охватывает только собственно телеологические элементы «смешанной» модели: каузально-телеологической. Эти элементы, конечно, обусловлены «множеством единичных высказываний, которые образуют посылки практических выводов» (с. 171). Но если верно, что эти элементы силлогизма не сводятся к номическим связям, квазикаузальное объяснение, в свою очередь, не сводится к реконструкции расчета, как в рациональном объяснении.
В целом квазикаузальное объяснение корректно воспроизводит многие специфические особенности объяснения в истории. Прежде всего, соединение каузального объяснения и теории действия при помощи фе-
163
номена вмешательства позволяет включить в смешанную модель соотнесенность истории с человеческими действиями, значение которых как таковых подтверждается убеждением самого агента, что он способен делать то, что делает. Кроме того, телеологические элементы объяснительной схемы фактически свидетельствуют, что историку целесообразно было бы поставить вопрос о намерениях акторов истории в терминах практического вывода, принадлежащего к области особой логики, той самой, начало которой было положено аристотелевской теорией практического силлогизма. Наконец, модель выражает необходимость координировать эти центры способности к действию и эти элементы практического вывода с нетелеологическими и не относящимися к сфере практики элементами чисто каузального типа.
Но в то же время можно задаться вопросом, не стали ли типы объяснения, несмотря на чрезвычайное стремление фон Вригта связать различные способы объяснения с одной очень сильной логической моделью, более раздробленными, чем когда-либо?
В самом деле, были предложены по крайней мере три схемы исторического объяснения, но не было показано, как две первые соединяются с последней. Кроме того, на каузальном уровне появляется важный фактор разобщения: сторонники собственно аналитического подхода приходят к различению «внешних» факторов (климат, технология и т.д.) и «внутренних» факторов (мотивы, основания действия), но не могут сказать, какие являются «причинами», а какие — «следствиями». Здесь, по-видимому, отсутствует фактор интеграции, о важности которого — а возможно, и неизбежности — свидетельствуют идеологии. Со своей стороны, поле мотивации тоже содержит разрозненные факторы, такие как приказы, помехи, давление норм, проявления власти, санкции и т.д., которые вносят свою лепту в дробление объяснения. Едва ли можно понять, каким образом эти разнородные причины включаются в посылки практических силлогизмов. Здесь мы имеем дело с претензией на глобальные объяснения, подобные объяснениям исторического материализма. Поскольку равно невозможно доказать их посредством априорных доводов или опровергнуть единственно с помощью опыта, нужно признать, что «в качестве критерия их истинности должна выступать их плодотворность» (с. 175). Граница между научным объяснением и идеологией прослеживается здесь слабо, здесь недостает стремления, которое мы встретим только у Хайдена Уайта, — стремления включить в историческое объяснение более многочисленные переменные, чем те, которые рассматривались фон Вригтом, и придать всем этим способам объяснения единство стиля.
Говоря о квазикаузальной модели объяснения в ее наиболее элементарном виде, можно задаться вопросом, что обеспечивает единство номических и телеологических элементов внутри общей схемы: это отсутствие связи внутри модели, вкупе с другими факторами только что упо-
164
минутого дробления объяснения, влечет за собой вопрос: не нужна ли здесь путеводная нить из области понимания, которая соединила бы номические и телеологические элементы квазикаузального объяснения? Этой путеводной нитью, по-моему, является интрига как синтез разнородного. Действительно, интрига «содержит в себе» в интеллигибельной целостности обстоятельства, цели, взаимодействия, непредвиденные результаты. Тогда нельзя ли сказать, что интрига является для квазикаузального объяснения тем, чем уверенность в способности к действию была, как мы видели выше, для вмешательства агента в номическую систему, и тем, чем была интенциональность для телеологического объяснения? Не должно ли нарративное понимание предшествовать каузальному объяснению — в том же смысле, в каком можно сказать, что «телеологическому объяснению действия обычно предшествует интенциональное понимание некоторого образца поведения» (с. 162)? Не потому ли, постигая интригу, мы сводим вместе номические и телеологические элементы, что мы ищем модель объяснения, соответствующую тому в высшей степени разнородному соединению, которое хорошо выражается диаграммой квазикаузального объяснения?
В самом исследовании фон Вригта я нахожу некоторое оправдание своей интерпретации: всякий результат практического силлогизма призван создавать новый факт, который изменяет «задний план мотивации», связанный с действием различных исторических агентов. Не является ли это изменение тем, что мы постоянно называли обстоятельствами действия, и тем, что рассказ включает в единство интриги? Не является ли тогда свойством объяснительной схемы обобщение понятия обстоятельства до такой степени, чтобы оно обозначало не только исходную ситуацию, но и все добавленные ситуации, составляющие в силу своей новизны задний план мотивации в поле взаимодействий? Факт воздействует на посылки практического вывода; новый факт порождается заключением из посылок, — вот что следует понять как синтез разнородного до того, как логика объяснения предложит здесь наиболее адекватную новую формулировку. Но эта новая формулировка, отнюдь не заменяющая нарративного понимания, остается аппроксимацией, приближением к более изначальной операции того же уровня, что и уверенность в способности действовать и интенциональное описание поведения.
2. «Нарративистские» аргументы
Сближение истории и рассказа, отметили мы в начале этой главы, было вызвано слиянием двух движений мысли; ослаблению и взрыву номологической модели соответствовала переоценка рассказа и возможностей,
165
предоставляемых им для понимания. Дело в том, что для защитников номологической модели рассказ был слишком элементарным и слишком бедным способом артикуляции, чтобы претендовать на участие в объяснении. Я бы сказал, используя терминологию, предложенную в первой части, что для этих авторов рассказ носит характер лишь эпизода, а не конфигурации 278. Вот почему они усматривали эпистемологический разрыв между историей и рассказом.
Тогда возникает вопрос о том, может ли повторное обретение рассказом конфигурирующих черт оправдать надежду, что нарративное понимание получит ценность объяснения в той самой мере, в какой историческое объяснение перестанет измеряться эталоном номологической модели. Далее будет видно 279, что мой собственный вклад в решение этой проблемы обусловлен признанием того, что «нарративистская» концепция истории лишь частично отвечает этому ожиданию. Данная концепция говорит о том, к какой предварительной модальности понимания прививается объяснение, но она не дает нам аналога или повествовательного субститута объяснения. Вот почему мы займемся поисками более опосредованной связи между историческим объяснением и нарративным пониманием. Однако и теперешнее исследование будет не напрасным, если оно позволит выявить необходимый, но недостаточный компонент исторического познания. Полу-поражение является и полу-успехом.
1. «Повествовательное предложение» согласно Артуру Данто
Примечательно, что первая речь в защиту нарративистской интерпретации истории была произнесена в рамках самой аналитической философии. Ее можно прочесть в работе Артура С. Данто «Analytical Philosophy of History»280.
В своей аргументации Данто ставит во главу угла не столько эпистемологию историографии, какой ее практикуют историки, сколько концептуальные рамки, определяющие наше употребление известного типа фраз, которые называют повествовательными. Такое исследование входит в сферу компетенции аналитической философии, если понимать под этим термином описание наших способов мышления и говорения о мире и, соответственно, описание мира таким, каким эти способы обязывают нас его постигать. Понятая таким образом аналитическая философия является по преимуществу теорией дескрипций.
Будучи применена к истории, аналитическая концепция философии возвращается к вопросу о том, в какой мере наши способы мышления и говорения о мире включают в себя фразы, использующие глаголы в прошедшем времени, и несводимо повествовательные высказывания. Но именно такого типа вопросов, согласно Данто, старательно избегает эм-
166
лиризм, которому известны только глаголы в настоящем времени, соответствующие высказываниям о восприятии. Лингвистический анализ предполагает, таким образом, метафизическое описание исторического существования281.
В то же время своим квазикантианским поворотом аналитическая философия истории исключает — как принцип и как гипотезу — то, что автор называет «субстантивной философией» истории, в общем — философию историю гегельянского типа. Она приписывает этой философии притязание постичь историю в целом, и это справедливо; но это притязание она интерпретирует следующим образом: говорить об истории в целом — значит создавать общую картину прошлого и будущего; высказываться же по поводу будущего — значит экстраполировать на будущее конфигурации и связи прошлого; а эта экстраполяция, являющаяся, в свою очередь, составной частью предсказания, заключается в том, чтобы говорить о будущем в терминах, соответствующих прошлому. Но здесь не может быть истории будущего (а тем более, как мы увидим, истории настоящего) в силу самой природы повествовательных предложений, которые переописывают прошлые события в свете событий последующих, неведомых самим акторам. В свою очередь, такое значение может быть придано событиям «только в контексте рассказанной истории (story)» (р. 11). Порок субстантивных философий истории, следовательно, состоит в том, что они употребляют в будущем времени повествовательные предложения, которые могут быть таковыми лишь в прошлом.
Аргумент безупречен, пока имеет негативную формулировку: если философия истории — это мышление об истории в целом, она не может быть выражением нарративного дискурса, соответствующего прошлому. Но этот аргумент не может устранить гипотезы, что дискурс об истории в целом не является по своей природе нарративным и конституирует свой смысл при помощи других средств. Гегелевская философия истории, разумеется, не является нарративной. Предвосхищение будущего в философии или теологии надежды тоже не носит нарративного характера. Напротив, повествование здесь перетолковывается исходя из надежды, поскольку некоторые основополагающие события — Исход, Воскресение— интерпретируются как вехи надежды.
Пока аргумент сохраняет отрицательную форму, он обладает двояким свойством: с одной стороны, он ограничивает, в некотором роде на кантианский манер, пространство значимости повествовательных фраз, с другой стороны — устанавливает их собственные границы. Нарративный дискурс не только, как справедливо замечает Данто, внутренне неполон, поскольку всякое повествовательное предложение должно быть пересмотрено последующим историком, но и все то осмысленное, что говорится об истории, не обязательно носит повествовательный характер. Эта вторая импликация нацелена против остатков догматизма в ана-
167
литической философии истории, противоречащих ее решительному критическому повороту, результатом которого является установление внутренних границ исторического познания. В ней не удостоверяется, что «сторонники философии субстантивной истории стремятся делать о будущем заключения того же рода, какие историки пытаются делать по отношению к прошлому» (р. 26).
После того как установлены допущения аналитической философии истории, изучение повествовательных фраз задается как изучение класса предложений. Оно определяет отличительную черту исторического познания и в этом смысле соответствует минимальной характеристике истории. Однако я не сказал бы, что оно достигает ядра исторического понимания, поскольку «контекст истории» не определяется структурой повествовательного предложения. Здесь не хватает чисто дискурсивной черты, о которой мы скажем далее.
Исследование опирается на теорию дескрипций, приложенную к частной сфере реальности — к изменениям, которые вызваны человеческим действием. Но одно и то же изменение, вызванное человеческим действием, может быть помещено в различные описания. Повествовательное предложение — одно из возможных описаний человеческого действия. Далее мы скажем, что именно отличает его от объяснений действия, даваемых в рамках так называемой теории действия.
Хитроумная идея Данто состоит в том, чтобы подойти к теории повествовательного предложения окольным путем: через критику предрассудка, согласно которому прошлое определено, незыблемо, навечно остановлено в своем бытии, тогда как будущее остается открытым, неопределенным (в смысле «возможных будущих» Аристотеля и стоиков). Это допущение основано на гипотезе, что все события собраны в некоем вместилище, где они накапливаются в неизменном виде, без изменения порядка их появления, без возможности добавить что-либо к их содержанию — разве что к их следствиям. Полное описание события должно было бы в таком случае регистрировать все, что произошло, в том порядке, в котором оно произошло. Но кто смог бы это сделать? Лишь Идеальный Хронист мог бы быть абсолютно точным и надежным свидетелем этого полностью определенного прошлого. Этот Идеальный Хронист был бы наделен способностью мгновенно записывать происходящее и по мере прибавления одних событий к другим наращивать — чисто аддитивным и кумулятивным образом — свое свидетельство. По отношению к этому идеалу полного и окончательного описания задача историка состояла бы лишь в том, чтобы удалить ложные предложения, восстановить нарушенный порядок правильных предложений и добавить то, чего недостает в свидетельстве.
Нетрудно опровергнуть эту гипотезу. Этой идеальной хронике недостает одного класса описаний: того, в котором событие не может быть удостоверено никаким свидетелем, то есть полная правда об этом собы-
168
тии может выясниться лишь задним числом и зачастую значительно позже того, как оно произошло. Но история (story) такого рода может быть рассказана только историком. Короче, мы забыли снабдить Идеального Хрониста знанием будущего.
Теперь мы можем дать определение повествовательных предложений: «они указывают по меньшей мере на два события, разделенные во времени, хотя описывают они только первое из тех событий, на которые указывают» (р. 143). Или, точнее: «Они указывают на два события Е1 и Е2, различные и разделенные во времени, но они описывают первое из тех событий, на которые указывают» (р. 152). К этому можно добавить, что оба события должны быть прошедшими по отношению ко времени высказывания. Таким образом, в повествовательном предложении подразумеваются три временны́е позиции*, позиция описываемого события, позиция события, по отношению к которому описывается первое событие, позиция нарратора; две первые касаются содержания высказывания, последняя — его формы.
Парадигматическим примером, на котором базируется этот анализ, является следующая фраза: «В 1713 году родился автор “Племянника Рамо”». Никто в то время не мог произнести такую фразу, которая переописывает событие рождения ребенка в свете другого события — публикации Дидро его знаменитого произведения. Иначе говоря, создание «Племянника Рамо» — это событие, при описании которого переописывается первое событие — рождение Дидро. Позже мы поставим вопрос о том, является ли эта фраза сама по себе типичной для исторического рассказа.
Этот анализ повествовательного предложения имеет множество эпистемологических импликаций. Первая принимает форму парадокса причинности. Если некое событие значимо в свете будущих событий, характеристика одного события как причины другого события может быть дана после того, как произошло само событие. Но тогда может показаться, что последующее событие превращает предыдущее событие в причину, то есть достаточное условие предшествующего события появляется позже самого события. Но это софизм: ибо то, что определяется задним числом, не есть нечто присущее событию, но лишь предикат «быть причиной чего-либо...)). Итак, нужно сказать: Е2 является необходимым условием того, чтобы Е1 в соответствующем описании было причиной. Здесь просто повторяется в иной форме, что «быть причиной чего-либо» — предикат, недоступный для Идеального Хрониста и характеризующий только повествовательные предложения. Существуют многочисленные примеры такого ретроспективного применения категории причины. Историк охотно скажет: «Аристарх в 270 году до нашей эры предвосхитил теорию, изложенную Коперником в 1543 году нашей эры». Сходные выражения — предвосхищать, начинать, предшествовать, вызывать, влечь за собой — появляются лишь в повествователь-
169
ных предложениях. Понятие значения по большей части связано с этой особенностью повествовательных предложений. Для того, кто посещает место, где родился знаменитый человек, оно имеет значение или представляет интерес лишь в свете будущих событий. В этом смысле для Идеального Хрониста, пусть он и является безупречным свидетелем, категория значения лишена смысла.
Более интересна вторая эпистемологическая импликация, поскольку она позволяет отличить собственно нарративное описание от обычного описания действия. Именно здесь Данто говорит то, чего не мог предвосхитить Дрей в своей модели рационального объяснения, где принимались во внимание лишь расчеты, делаемые акторами истории в момент, когда она совершается. Конечно, оба способа описания одинаково используют так называемые проективные глаголы (projectverbs). Эти глаголы описывают не просто частное действие; такие выражения, как «воевать» или «разводить скот», «писать книгу», содержат глаголы, охватывающие многочисленные мелкие действия, которые могут быть совершенно не связанными между собой и вовлекать множество индивидов во временную структуру, за которую несет ответственность нарратор. В истории можно встретить бесчисленные примеры употребления таких проективных глаголов, которые организуют множество микродействий в единое глобальное действие. Но в обычном дискурсе о действии на смысл проективного глагола не влияет исход действия — реализовано оно или нет, успешно оно или потерпело неудачу. Зато если история характеризуется при помощи высказываний, дающих отчет об истинности частного случая в отношении некоторых последующих событий — например, по отношению к его непредвиденным последствиям, — истинность этих высказываний о последующих событиях важна для самого смысла повествовательного описания.
Таким образом, теория повествовательного предложения имеет различающее значение по отношению к дискурсу о действии в обычном языке. Различающий фактор содержится в «ретроактивной переориентации прошлого» (р. 168), осуществляемой чисто повествовательным описанием действия. Эта переориентация заходит очень далеко: в той мере, в какой помещение во временную перспективу прошлого делает упор на непредвиденных последствиях, история стремится ослабить интенциональный оттенок самого действия: «Часто и едва ли не типичным образом действия людей не являются интенциональными в описаниях, данных им посредством повествовательных предложений» (р. 182). Эта последняя черта акцентирует расхождение между теорией действия и теорией истории: «Ибо главная цель истории состоит в том, чтобы постигать действия не так, как могли бы это сделать свидетели, а так, как это делают историки, — постигать их в связи с последующими событиями и в качестве временны́х частей целого» (р. 183)282. Это расхождение между теорией действия и нарративной теорией позволяет лучше по-
170
нять, в каком смысле нарративное описание представляет собой лишь одно описание наряду с другими.
И последний вывод: не существует истории настоящего в строго нарративном смысле слова. Она могла бы быть лишь предвосхищением того, что напишут о нас будущие историки. Симметрия между объяснением и предсказанием, характерная для номологических наук, нарушается на уровне самого исторического высказывания. Если бы такое повествование о настоящем могло быть написано и узнано нами, мы смогли бы, в свою очередь, опровергнуть его, делая противоположное тому, что оно предсказывает. Мы не знаем, совершенно не знаем, что скажут о нас будущие историки. Мы не знаем не только того, какие события произойдут, но и того, какие из них будут считаться важными. Чтобы предвидеть, в какие описания будущие историки поместят наши действия, следовало бы предвидеть их интересы. Утверждение Пирса, что «будущее открыто», означает следующее: «никто не написал истории настоящего». Это последнее замечание приводит нас к исходной точке: внутренней границе повествовательных высказываний.
В какой мере анализ повествовательного предложения проясняет проблему отношений между нарративным пониманием и историческим объяснением?
Данто нигде не утверждает, что теория истории исчерпывается анализом повествовательных предложений. Нигде не говорится о том, что исторический текст сводится к последовательности повествовательных фраз. Ограничения, накладываемые на истинное описание события временно́й структурой повествовательного предложения, представляют собой только «минимальную характеристику исторической деятельности» (р. 25).
Правда, сам выбор повествовательного предложения как минимального ограничения мог бы навести на мысль, что высказывания, описывающие точечные или любые датированные события — в свете других точечных или датированных событий, — представляют собой логические атомы исторического дискурса. Речь идет, по крайней мере до X главы, только об «истинных описаниях событий в их прошлом» (в противоположность притязанию философов истории также описывать события в их будущем) (р. 25). По-видимому, допускается, что все исторические события, взятые одно за другим, имеют следующую форму: «Что произошло в Х за такой-то отрезок времени?» Ниоткуда не следует, что исторический дискурс требует связок, отличных от структуры — к тому же сложной самой по себе — повествовательного предложения. Вот почему объяснение и описание (в смысле повествовательного предложения) долго считались неразличимыми. Данто не хочет ничего слышать ни о предложенном Кроче различении между хроникой и историей 283, ни о предложенном Уолшем различении между простым (plain) рассказом, сообщающим лишь о том, что произошло, и значимым (significant) рас-
171
сказом, устанавливающим связи между фактами. Ведь простой рассказ — это уже нечто большее, чем сообщение о событиях в порядке их появления. Перечень бессвязных фактов не является рассказом. Описание и объяснение не различаются еще и по этой причине. Или, согласно сильному выражению Данто, «история — это монолит» (history is all of a piece). В ней можно выделить рассказ и подтверждающие его материальные свидетельства: рассказ не сводится к краткому обзору его собственного критического аппарата — концептуального или документального. Но различение между рассказом и его концептуальной или документальной базой не равнозначно различению двух уровней композиции. Объяснение того, почему нечто произошло, и описание того, что произошло, совпадают. Рассказ, который не может объяснить, это меньше чем рассказ; рассказ, который объясняет, — это просто рассказ.
И ниоткуда не следует, что нечто большее, чем рассказ, являющийся простым перечислением событий, имело бы структуру, отличную от структуры двойной референции, присущей повествовательному предложению, посредством которой смысл и истинность одного события соотносятся со смыслом и истинностью другого события. Вот почему создается впечатление, что логика повествовательного предложения не нуждается в понятии интриги или нарративной структуры, как если бы описание предшествующего события с точки зрения события последующего было уже интригой в миниатюре.
Тем не менее можно задаться вопросом: совпадают ли по значению оба понятия? Так, когда автор рассматривает неизбежно избирательную деятельность исторического рассказа, он, надо полагать, имеет в виду более сложный структурный фактор: «Всякий рассказ — это структура, навязанная событиям, группирующая их друг с другом и исключающая некоторые из них как недостаточно существенные» (р. 132); «в рассказе упоминаются только значимые события» (ibid.). Но разве нарративная организация, сообщающая событиям значение или важность (термин significance имеет обе коннотации), является просто расширением повествовательного предложения?284
На мой взгляд, если вопрос об отношении между текстом и предложением как таковой не ставится, то причиной тому — чрезмерный акцент на борьбе, которую ведет автор с призраком полного описания, равно как и то, что этот призрак изгоняется посредством анализа повествовательного предложения.
И все же проблема возникает вновь — в связи с вопросом о том, имеет ли еще место в истории объяснение посредством законов, коль скоро «рассказ уже по природе вещей является формой объяснения» (р. 201). Действительно, Данто напрямую не противопоставляет себя Гемпелю: он ограничивается замечанием, что сторонники номологической модели, столь пекущиеся о сильной структуре эксплананса, не видят, что этот эксплананс функционирует в экспланандуме, который уже является
172
рассказом, то есть уже «охвачен» описанием, равнозначным объяснению. Событие можно подвести под общий закон, лишь если оно фигурирует в языке как феномен в определенном описании, то есть если оно зарегистрировано в повествовательном предложении. Поэтому Данто может быть гораздо более либеральным и амбивалентным в отношении к номологической модели, чем Уильям Дрей285.
2. Прослеживать историю
Работа У. Б. Гэлли «Philosophy andtheHistoricalUnderstanding»286, в центре которой стоит понятие followability* рассказанной истории (story), возводит нас на ступень выше в направлении структурного принципа рассказа. Это понятие, на мой взгляд, заполняет пробел, оставленный анализом повествовательного предложения. Хотя двойная референция повествовательного предложения — к событию, которое оно описывает, и к последующему событию, в свете которого делается описание, представляет собой хороший различитель по отношению к другим описаниям действия, например, по отношению к намерениям и мотивам самих агентов, все же упоминания о различии между двумя датами, между двумя временны́ми локализациями недостаточно, чтобы охарактеризовать рассказ как связь между событиями. Между повествовательным предложением и повествовательным текстом существует лакуна; ее-то и пытается заполнить понятие истории, «которую можно прослеживать».
Но Гэлли проводит свой анализ внутри все той же фундаментальной гипотезы, которую можно резюмировать так: «что бы ни содержало понимание или объяснение исторического произведения, это содержание надлежит оценивать (assessed) по отношению к рассказу, из которого оно возникает и развитию которого способствует» (предисловие, р. XI). Этот тезис столь же осторожен, сколь непоколебим. Он не отрицает, что объяснение есть нечто иное, чем просто рассказ; он лишь утверждает, что, с одной стороны, объяснение не рождается из ничего, но «возникает» тем или иным образом из какого-то дискурса, уже имеющего повествовательную форму; с другой стороны, что так или иначе оно остается «на службе» у нарративной формы. Таким образом, нарративная форма является одновременно матрицей и основой объяснения. В этом смысле нарративистский тезис ничего не говорит о структуре объяснения. Тем не менее в этих строго определенных границах он выполняет двоякую задачу: он показывает, с одной стороны, какими интеллигибельными средствами понимание обосновывает объяснение; с другой стороны, какой присущий пониманию недостаток требует восполнения с помощью
* Способность быть прослеживаемым (англ.). — Прим. перев.
173
объяснения. Понятию followability надлежит удовлетворить это двойное требование.
Итак, что же такое история, которую рассказывают (story)? И что значит «прослеживать историю»?
История описывает последовательность действий и опытов, произведенных неким числом персонажей — реальных либо вымышленных. Эти персонажи изображаются в ситуациях, которые меняются или на изменение которых они реагируют. В свою очередь, эти изменения открывают потаенные стороны ситуации и персонажей и влекут за собой новое испытание (predicament), требующее мысли, действия или того и другого вместе. Реакция на это испытание ведет историю к ее завершению (р. 22).
Как мы видим, этот набросок понятия истории (story) сходен с тем, что мы назвали выше построением интриги. Гэлли не счел нужным соотнести свое понятие истории с понятием интриги, вероятно, потому, что он в меньшей мере интересовался структурными ограничениями, присущими рассказу, нежели субъективными условиями, при которых история является приемлемой. Именно эти условия приемлемости конституируют способность истории быть прослеживаемой.
В самом деле, прослеживать историю — значит понимать последовательные действия, мысли, чувства как представляющие особое направление (directedness): мы подразумеваем под этим, что развитие толкает нас вперед, коль скоро мы отвечаем на этот импульс ожиданиями, связанными с завершением и исходом всего процесса. Теперь мы видим, как неразрывно сопряжены в этом процессе понимание и объяснение: «В идеале история должна была бы сама себя объяснять» (Ideally, a story should beself-explanatory, p. 23). Только потому, что процесс прерывается или останавливается, мы требуем, чтобы понимание было дополнено объяснением.
Сказать, что мы ориентированы в определенном направлении, — значит признать за «завершением» телеологическую функцию, ту самую, которую мы подчеркнули в нашем анализе «конечной точки» 287. Но, принимая в расчет номологическую модель, нужно добавить, что «завершение» повествования не есть нечто такое, что может быть выведено или предсказано. История, которая не содержала бы неожиданностей, совпадений, встреч, узнаваний, не привлекла бы надолго нашего внимания. Вот почему нужно прослеживать историю до ее завершения, а это — нечто совсем иное, чем следить за доказательством с заранее известным заключением. Завершение должно быть скорее приемлемым, чем предвидимым. Оглядываясь назад, от завершения к промежуточным эпизодам, мы должны иметь возможность сказать, что данный конец требовал именно этих событий и этой цепочки действий. Но подобный взгляд назад стал возможным благодаря телеологически ориентированному движению наших ожиданий, когда мы прослеживали
174
историю. Абстрактно утверждаемое несоответствие между случайностью событий и приемлемостью заключений — это как раз то, что опровергается способностью истории быть прослеживаемой. Случайность неприемлема лишь для разума, связывающего с идеей понимания идею господства: прослеживать историю — значит «в конечном счете находить (события) интеллектуально приемлемыми» (р. 31). Ум, действующий здесь, не цепляется за законность процесса, а соответствует внутренней связности истории, сопрягающей случайность и приемлемость.
Читатель не преминет отметить поразительное родство этой темы с понятием несогласного согласия, которое я вывожу из аристотелевской трактовки peripeteia в рамках теории mythos. Основное отличие от семейства аристотелизирующих критиков, конечно, заключается в поиске субъективного фактора, который вводится понятием ожидания, притягивания целью: короче, субъективной телеологией, занимающей место структурного анализа. В этом смысле понятие followability было заимствовано скорее из области психологии восприятия, нежели логики конфигурации 288.
Переходя теперь от понятия «story» к понятию «history», следует подчеркнуть прежде всего их преемственность. Стратегия Гэлли состоит именно в том, чтобы совместить эпистемологическую прерывность — которую он не отрицает — с непрерывностью повествовательного интереса. Очевидно, что эта стратегия напрямую касается проблематики, изложенной в предыдущей главе. Вопрос состоит в том, имеет ли нижеследующий анализ применение вне нарративной истории, которую Гэлли берет за образец: ее объектом являются прошлые действия, которые удалось зарегистрировать или вывести путем рассуждения, опираясь на документы или мемуары; история, которую мы пишем, — это история действий, чьи планы или результаты могут быть признаны близкими планам и результатам нашего собственного действия; в этом смысле всякая история есть фрагмент или сегмент единого мира коммуникации; вот почему мы ждем от исторических трудов, даже если они остаются отдельными произведениями, чтобы они обозначили на полях единую историю, которую, однако, никто не может написать.
Эту повествовательную преемственность между «story» и «history» столь мало замечали в прошлом именно потому, что проблемы, поставленные эпистемологическим разрывом между вымыслом и историей, или между мифом и историей, побудили направить все внимание на вопрос о свидетельстве (evidence) в ущерб более существенному вопросу о том, что составляет интерес исторического произведения. Но именно этот интерес обеспечивает преемственность между историей в смысле историографии и обычным рассказом.
Всякая история, будучи рассказом, повествует о «каком-то успехе или каком-то существенном поражении людей, живущих и работающих вместе, в обществах или государствах, или любой другой устойчивой
175
группе» (р. 65). Вот почему, несмотря на их критическое отношение к традиционному рассказу, истории, говорящие об объединении или разрушении какой-то империи, возвышении или падении какого-то класса, социального движения, религиозной секты или литературного стиля, представляют собой рассказы. В этом отношении различие между индивидом и группой не является решающим; уже в центре саг и древних эпопей находились группы, а не только отдельные фигуры: «Всякая история (history), подобно саге, является по преимуществу рассказом о событиях, в которых мысль и действие человека играют доминирующую роль» (р. 69). Даже когда история говорит о течениях, о тенденциях, о «trends», именно акт прослеживания рассказа сообщает им органическое единство. «Trend» проявляется лишь в череде событий, которые мы прослеживаем. Таково «формальное свойство этих отдельных событий» (р. 70). Вот почему: 1) чтение этих историй, написанных историками, производно от нашего умения прослеживать истории (stories); мы прослеживаем их от начала до конца; и мы прослеживаем их в свете их завершения, которое можно предугадать или предвидеть сквозь серию случайных событий; 2) соответственно, сюжеты этих историй достойны того, чтобы их рассказывали, а рассказы — того, чтобы их прослеживали, ибо эти сюжеты, даже если они очень далеки от наших теперешних чувств, представляют для нас, поскольку мы являемся людьми, определенный интерес. Благодаря двум этим чертам «историография является одним из видов рода рассказанной истории (story)» (р. 66)289.
Как видим, Гэлли отдаляет момент, когда придется подойти к проблеме с другого конца: почему историки ищут иного объяснения, чем рассказчики традиционных историй, с которыми они порывают? И как восстановить нарушенную критическим разумом непрерывную связь между историей, с одной стороны, и вымыслом или традиционным рассказом, с другой?
Именно здесь понятие followability поворачивается другой стороной. Всякая история, сказали мы, в принципе объясняет саму себя: иными словами, всякий рассказ одновременно дает ответ на вопрос почему? и на вопрос что?; сказать, что произошло, — значит сказать, почему это произошло. В то же время прослеживание истории — это сложный утомительный процесс, который может быть прерван или остановлен. История, повторяем, в конечном счете должна быть приемлемой; следовало бы сказать: несмотря ни на что. Но это, как показала наша интерпретация Аристотеля, справедливо для любого рассказа: «одно вследствие другого» не всегда легко вывести из «одно после другого». Поэтому самое элементарное нарративное понимание уже сопоставляет наши ожидания, направляемые нашими интересами и симпатиями, с доводами, которые, чтобы быть осмысленными, должны исправлять наши предрассудки. Прерывность критики тем самым встраивается в непрерывность повествования. Итак, мы видим, каким образом феноменология, приложенная к этой характер-
176
ной особенности всякой рассказанной истории — «быть доступной прослеживанию», — способна расшириться настолько, чтобы ввести момент критики в самую сердцевину базового акта прослеживания истории.
Эта игра ожиданий, направляемых интересами, и доводов, выверяемых критическим рассудком, обеспечивает надлежащие рамки для того, чтобы взяться за две специфически эпистемологические проблемы, рассмотренные в первой главе: речь идет об изменении масштаба сущностей, о которых рассуждает современная история, и обращении к законам на уровне научной истории.
Первая проблема, как представляется, вынуждает нарративиста принять участие в споре двух школ мысли. Для первой, которую можно назвать «номиналистской», общие предложения, относящиеся к коллективным сущностям и приписывающие им предикаты действия (так, мы говорим о политике правительства, о прогрессе реформ, об изменении конституции и т.д.), не имеют самостоятельного смысла; конечно, взятые буквально, эти предложения не соотносятся с подлежащими идентификации действиями отдельных индивидов, однако, в конечном счете, институциональное изменение является только обобщением множества в высшей степени индивидуальных фактов. Для второй школы мысли — назовем ее «реалистской» — институты и все подобные коллективные феномены являются реальными сущностями с собственной историей, которая не сводится к целям, усилиям, замыслам, приписываемым индивидам, действующим в одиночку или сообща, от своего собственного имени или от имени групп, которые они представляют. Напротив, чтобы понять действия, приписываемые индивидам, нужно соотнести их с институциональными фактами, в рамках которых они осуществляются; и в конечном счете нас совсем не интересует то, что делают индивиды как таковые.
Вопреки всякому ожиданию, Гэлли не отваживается принять номиналистский тезис. Действительно, номиналист не объясняет, почему историк заинтересован в сокращении числа индивидуальных фактов, подчиняющем их абстракции институционального факта, и почему для понимания эволюции какого-либо института ему нет нужды перечислять все индивидуальные действия и противодействия. Номиналист не замечает тесной связи между применением абстракций и чрезвычайно избирательным характером исторического интереса; он также не замечает, что действия, приписываемые индивидам, по большей части совершаются ими не как индивидами, но как теми, кто выполняет институциональную роль; наконец, номиналист не видит, что для понимания глобальных феноменов, таких как «социальное недовольство», «экономические институты», нужно прибегнуть к «dummyvariables»*: к некоему х, обо-
* Константа, записанная в виде переменной (англ.). — Прим. перев.
177
значающему то пустое место, которое смогли бы занять еще не исследованные взаимодействия 290. Во всех этих отношениях веберовский метод «идеальных типов» оказывается наиболее подходящим для объяснения подобного рода абстракции.
Но если практика историка опровергает крайний тезис, согласно которому существуют лишь индивидуальные предметы и в их числе люди, она не подтверждает и реалистский тезис, согласно которому всякое человеческое действие предполагает неявную референцию к какому-то социальному или институциональному факту общего характера и получает удовлетворительное объяснение после выявления этой институциональной референции. Номиналистский тезис, несмотря на свою эпистемологическую неадекватность, указывает цель исторического мышления, которая состоит в объяснении социальных изменений, представляющих для нас интерес (потому что они зависят от идей, от выбора, от мест, от усилий, от успехов и поражений конкретных индивидов — женщин и мужчин) (р. 84). Что же касается реалиста, то он, обращаясь ко всякому наличному знанию о жизни в обществе — от трюизмов традиции до теорем и абстрактных моделей социальных наук, — лучше объясняет, каким образом история реализует эту цель.
Итак, отнюдь не пытаясь приспособить нарративистскую теорию к номиналистскому тезису, Гэлли хочет найти согласование между эпистемологией, предполагаемой реалистским тезисом, и глубоко индивидуалистской онтологией, предполагаемой тезисом номиналистским. Этот эклектизм был бы непродуктивным, если бы он достаточно точно не воспроизводил то, что профессиональный историк делает на практике, когда подходит к ключевым моментам своей работы: все его усилия направлены на то, чтобы возможно точнее определить, каким образом тот или иной индивид (или группа индивидов) принял, выполнил, оставил или не смог выполнить конкретные институциональные роли. Зато между этими ключевыми моментами историк довольствуется общим изложением, выраженным в институциональных терминах: ибо в этих интервалах преобладает анонимное — до тех пор, пока какой-то разрыв, заслуживающий того, чтобы о нем рассказали, не изменит процесс развития институционального или социального феномена. Сплошная анонимность сил, течений, структур доминирует по большей части именно в экономической и социальной истории. Но даже такая история, которая, в известных пределах, пишется без дат и собственных имен, принимает в расчет инициативы, умонастроения мужество, отчаяние, чутье индивидов, «даже если их имена обычно забываются» (р. 87).
Что касается второй проблемы — проблемы функции законов в историческом объяснении, — здесь важно остерегаться ложной интерпретации того, чего историк ждет от своих законов. Он ждет от них не устранения случайностей, а лучшего понимания их содействия ходу истории. Поэтому его проблема состоит не в том, чтобы делать выводы и предска-
178
зывать, а в том, чтобы лучше понять сложность сцеплений, которые, пересекаясь, соединились в случае того или иного события. В этом историк отличается от физика; он не стремится расширить область обобщений ценой редукции случайностей. Он хочет лучше понять то, что произошло. Существуют даже области, где именно случайности привлекают его внимание, будь то конфликты между государствами и странами, социальная борьба, научные открытия или художественные новации 291. Интерес к этим событиям, которые я сравнил бы с peripeteia Аристотеля, не означает, что историк падок на сенсации: его проблема состоит как раз в том, чтобы включить эти события в приемлемый рассказ, то есть вписать их случайность в схему целого. Эта черта существенна для followability всякого факта, могущего быть рассказанным.
Из этого примата понятия followability вытекает, что объяснения, чьи законы историк заимствует у наук, с которыми он соединяет свою дисциплину, нужны лишь для того, чтобы дать нам возможность лучше проследить историю, когда нам трудно увидеть связь событий или когда наша способность принимать позицию автора доводится до точки разрыва.
Таким образом, совершенно ошибочно было бы усматривать в этих объяснениях ослабленные формы сильной номологической модели: они просто укрепляют нашу способность прослеживать историю. В этом смысле они выполняют в истории «побочную» (ancillaire) функцию (р. 107).
Подобный тезис был бы неприемлем, если бы мы не знали, что всякий рассказ объясняет сам себя, в том смысле, в каком рассказывать, что произошло, — значит уже объяснять, почему это произошло. В этом плане самая незначительная история содержит обобщения, будь то классифицирующего порядка, каузального или теоретического. А значит, ничто не препятствует тому, чтобы все более сложные обобщения и объяснения, заимствованные у других наук, прививались к историческому рассказу и в некотором роде интерполировались в него. Но хотя всякий рассказ объясняет сам себя, в другом смысле никакой исторический рассказ сам себя не объясняет. Всякий исторический рассказ ищет объяснения, чтобы его интерполировать, ибо ему не удалось самому себя объяснить. В таком случае нужно снова наладить дело. Вот почему критерий хорошего объяснения — прагматический: он выполняет по преимуществу корректирующую функцию. Рациональное объяснение У. Дрея удовлетворяло этому критерию; мы реконструируем расчеты агента, когда ход действия застает нас врасплох, интригует нас, оставляет нас озадаченными.
В этом отношении история делает то же, что филология или литературоведение: когда прочтение известного текста или общепринятой интерпретации кажется несоответствующим другим общепринятым фактам, филолог или литературовед заново упорядочивают детали, чтобы
179
вновь придать целому интеллигибельность. Писать — значит переписывать заново. Для историка все загадочное становится вызовом по отношению к критериям того, что в его глазах делает историю приемлемой и прослеживаемой.
Именно в этой работе по переплавке (recasting) предшествующих способов написания истории историк ближе всего подходит к объяснению гемпелевского типа: столкнувшись с непривычным ходом событий, он сконструирует модель нормального хода действия и поставит вопрос о том, насколько поведение затронутых этим действием акторов отдаляется от нее; всякое исследование возможных направлений действия прибегает к таким обобщениям. Самый частый и самый примечательный случай переплавки — когда историк предпринимает попытку объяснения, которое не только было недоступно акторам, но и отличается от объяснений, предложенных предшествующими историями, ставшими для него неясными и загадочными. В этом случае объяснить — значит обосновать переориентацию исторического внимания, которая ведет к общему пересмотру всего хода истории. Великий историк — тот, кому удается сделать приемлемым новый способ прослеживания истории.
Но объяснение никогда не выходит за рамки своей функции, корректирующей и вспомогательной по отношению к пониманию, приложенному к followability исторического рассказа.
В III главе мы зададимся вопросом, достаточно ли этой «побочной» функции для объяснения той иерархизации, которой подверглись в исторических изысканиях процедуры и сущности, характерные для рассказа.
3. Конфигурирующий акт
Вместе с Луисом О. Минком мы приближаемся к главному аргументу «нарративистской» концепции, согласно которому рассказы — это высокоорганизованные целостности, требующие специфического акта понимания, способности суждения. Эта аргументация тем более интересна, что в ней совершенно не используется понятие интриги, разработанное в литературоведении. В то же время это отсутствие указания на структурные возможности вымышленного рассказа может объяснить некоторую неполноту анализа Минка, о которой я скажу в конце этого раздела. Тем не менее Минк зашел дальше всех в признании синтетического характера нарративной деятельности.
Уже в статье 1965 года 292 аргументы, противопоставленные номологической модели, прокладывают путь характеристике исторического понимания как акта суждения, в том двояком смысле, который первая и третья «Критики» Канта приписывают этому термину: способность суждения понимается здесь как синтетическая функция «сведе-
180
ния вместе» и рефлексивная функция, связанная с любой обобщающей операцией. В этой статье Минк делает обзор основных — уже подчеркнутых другими — расхождений между строгими предписаниями модели и реальным пониманием, осуществляемым обычной историографией; он показывает, что объяснить эти расхождения можно только в том случае, если правильно определена автономия исторического понимания.
Почему историки могут притязать на объяснение, если они не способны предсказывать? Потому что объяснение не всегда равнозначно подведению фактов под законы. В истории объяснять — это зачастую означает, если воспользоваться термином Уэвелла и Уолша, оперировать «коллигациями», что сводится к «объяснению события путем описания его внутренних отношений с другими событиями и помещения его в его исторический контекст». Во всяком случае эта процедура характерна для последовательного объяснения. Почему в истории гипотезы не поддаются фальсификации, как в науке? Потому что гипотезы — это не цель, а метки, ограничивающие поле исследования; они служат ориентирами для способа понимания, главным образом — способа понимания, свойственного интерпретирующему рассказу, не являющемуся ни хроникой, ни «наукой». Почему историки охотно прибегают к воображаемым реконструкциям? Потому что задача глобального видения состоит в том, чтобы «понять» [отдельные события] в акте суждения, нацеленном на то, чтобы постичь их вместе, а не рассматривать их seriatim. Это глобальное видение является, следовательно, не «методом», не техникой доказательства, не простым органоном открытия, а «типом рефлексивного суждения» (р. 179). Почему нельзя «отделить» выводы от доказательства или от произведения историка? Потому что именно рассказ, взятый как единое целое, служит опорой для этих выводов. И они скорее предъявляются повествовательным порядком, нежели доказываются: «Реальное значение обеспечивается полным контекстом» (р. 181). Понятие охватывающего синтеза, синоптического суждения, подобного операции, которая позволяет нам интерпретировать предложения как единое целое, со всей очевидностью выходит на первый план благодаря такому аргументу: «Логика подтверждения приложима к испытанию заключений, которые, можно отделить друг от друга; но интегрируемые значения требуют теории суждения» (р. 186). Почему исторические события могут быть уникальными и в то же время похожими на другие? Потому что сходство и уникальность поочередно подчеркиваются применительно к имеющимся контекстам. Более того, историческое понимание сводится к тому, чтобы «понять сложное событие, постигая вместе события в целостном и синоптическом суждении, которого не может заменить никакая аналитическая техника» (р. 184). Почему историки добиваются обращения к возможно более широкой аудитории, а не только к научному форуму? Потому что то, что они предполагают сообщить, —
181
это нечто вроде суждения, более близкого к phronesis* Аристотеля, чем к «науке»: проблема историка «становится понятной... если мы различаем за ней попытку передать опыт, состоящий в видении-вещей-вместе, в неизбежно нарративном стиле, где одна вещь-приходит-после-другой» (р. 188).
Вывод этой статьи заслуживает того, чтобы его процитировали: историк «развивает особую привычку понимать то, что превращает груду событий в последовательность, и то, что подчеркивает и усиливает значение синоптического суждения в нашей рефлексии об опыте» (р. 191). Автор охотно признает, что это отождествление исторического мышления и «синоптического суждения» оставляет открытыми собственно эпистемологические проблемы, к примеру, «вопрос о том, могут ли быть логически сравнимыми “интерпретативные синтезы”, если имеются общие основания для предпочтения одного из них другому и если эти основания представляют собой критерии объективности и исторической истинности» (р. 191). Но эти эпистемологические вопросы предполагают определение того, «что отличает профессиональную историческую мысль как от повседневных объяснений здравого смысла, так и от теоретических объяснений естествознания» (р. 191-192).
Свой подход Минк уточняет главным образом в статье 1968 г. 293, основываясь на критике позиции Гэлли. Феноменология, приложенная к способности истории быть прослеживаемой, не подвергается сомнению, пока мы имеем дело с историями, исход которых неизвестен слушателю или читателю, как в том случае, когда мы следим за партией в игре. Здесь знание правил не поможет нам предсказать результат. Нам нужно проследить серию событий вплоть до их завершения. Феноменологическая трактовка случайностей сводит их к внезапным и неожиданным в данных обстоятельствах происшествиям. Мы ждем завершения, но нам совершенно не ведомо, какое из многих возможных завершений осуществится. Вот почему нам нужно следить от начала до конца. Поэтому же наши чувства симпатии или неприязни должны обеспечивать динамизм всего процесса. Но, утверждает Минк, эта ситуация незнания и соответственно нерефлексивная деятельность, состоящая в прослеживании истории, не характерны для операций историка: «История — это не писание, а переписывание историй» (1967). Зато читатель предается «рефлексивному прослеживанию», которое отвечает ситуации историка, занятого пересказом и переписыванием. История появляется тогда, когда партия окончена 294. Ее задача — не подчеркивание случайностей, а сокращение их числа. Историк беспрестанно продвигается по следам в обратном направлении: «В попятном движении нет случайности» (р. 687). Только тогда, когда мы рассказываем историю, «наше движение вперед снова пролегает через путь, уже пройденный в противоположном направлении» 295. Это не означает, что читатель, зная исход, мог
* Рассудительность (греч.). — Прим. перев.
182
бы его предсказать. Он прослеживает серию событий, чтобы «увидеть» ее «как интеллигибельную конфигурацию отношений» (р. 688). Эта ретроспективная интеллигибельность базируется на конструкции, которую ни один свидетель не смог бы создать, когда произошли события, поскольку их обратное течение было тогда для него недоступно 296.
Минк добавляет два замечания: в феноменологии, которая ограничивается ситуацией, где историю прослеживают впервые, существует риск, что функция объяснения будет слишком мало подчеркнута и сведена к искусству заполнять пробелы или устранять неясности, преграждающие путь потоку повествования. Объяснение покажется менее второстепенным, а стало быть, менее риторическим, если задача историка состоит в том, чтобы действовать регрессивно и если, как было сказано, «не существует случайности, когда мы идем возвратным путем». «Логике объяснения следовало бы вступить в контакт с феноменологией понимания; первая, мы надеемся, послужит исправлению второй, а вторая — обогащению первой» 297.
Второе замечание более спорно: «Гэлли, — говорит Минк, — хочет переместить открытие и случайность из нашего будущего настоящего времени (futur présent) в рассказ о прошлых событиях, поскольку, по его мнению, мы не можем их постичь иначе, чем как бывших когда-то будущими» (р. 688). Поступая так, Гэлли исповедует ошибочную онтологию времени, руководствующуюся принципом, «согласно которому прошлое и будущее категориально не отличаются одно от другого: ибо прошлое представляет собой будущее прошедшее (futur passé), а будущее — прошедшее будущее (passé futur) время» (р. 688). Этот аргумент представляется неубедительным. Прежде всего, я не думаю, что прошедшее будущее и будущее прошедшее время категориально сходны; наоборот, отсутствие симметрии между ними порождает то, что Минк весьма верно называет «мучительным характером исторического сознания» (ibid.). Затем, определенность прошлого не исключает своего рода ретроактивных изменений значения, к которым так удачно привлек внимание Данто. Наконец, процесс прохождения заново в прогрессивном направлении пути, который мы уже прошли в направлении возвратном, может с успехом вновь открыть, скажем так, случайность, некогда уже принадлежавшую прошлому, когда оно было настоящим; он может воссоздать своего рода сведущее удивление, благодаря которому «случайности» частично обретают изначально присущую им силу неожиданности. Эта возможность может быть очень тесно связанной со свойствами вымысла, характерного для исторического понимания, что мы обсудим позже. Точнее, она может быть связана с тем аспектом вымысла, который Аристотель характеризует как мимесис действия. Именно на уровне исходных случайностей некоторые события обладают статусом бывших будущих, если принять во внимание ход действия, реконструированный ретроспективно. В этом смысле даже онтология времени должна отве-
183
сти место будущему прошедшему времени в той мере, в какой время нашего существования создается временны́ми конфигурациями, определяемыми совместно историей и вымыслом. Мы вернемся к этому вопросу в четвертой части нашего исследования.
Здесь же я подчеркну некую односторонность, которую влечет за собой замещение феномонологией ретроспективного постижения феноменологии непосредственного постижения истории, — истории, прослеживаемой впервые. Не рискует ли Минк упразднить на уровне акта пере-сказа те черты повествовательной операции, которые действительно общи для рассказа и пересказа, поскольку они относятся к самой структуре рассказа: а именно, диалектику случайности и порядка, эпизода и конфигурации, согласия и несогласия? Нет ли опасности, что в силу этого не будет понята именно специфическая временность рассказа? Действительно, в анализах Минка заметна тенденция лишить сам акт «постижения вместе» (saisir ensemble), присущий конфигурирующей операции, всякого временно́го характера. Нежелание признать за рассказанными событиями статуса бывших будущих уже позволяет предвидеть эту ориентацию. Она подкрепляется и выдвижением на первый план акта пересказа в ущерб акту первоначального прослеживания истории. Это со всей очевидностью демонстрирует третья статья Л. О. Минка 298.
Сильная сторона этой статьи — конструирование конфигурирующего способа как одного из трех способов «понимания» (comprehension) в широком смысле, наряду с теоретическим и категориальным способами. В соответствии с теоретическим способом, объекты «понимаются» в качестве случая или примера общей теории: идеальный тип здесь представлен системой Лапласа. В соответствии с категориальным способом, который слишком часто смешивается с предшествующим, понять объект — значит определить, к какому типу объектов он относится, какая система понятий а priori придает форму опыту, который без нее оставался бы хаотичным. Именно это категориальное понимание имел в виду Платон, именно к нему стремились наиболее систематические философы. Конфигурирующему способу свойственно помещать элементы в единый и конкретный комплекс отношений. Этот тип понимания характерен для деятельности повествования. Но у этих трех способов имеется общая цель, на которую не в меньшей мере ориентирован конфигурирующий способ понимания, чем два других. Понимание в широком смысле определяется как «постижение вместе в одном-единственном мыслительном акте вещей, которые не даны или даже не могут быть даны в опыте совместно, ибо они разделены во времени, в пространстве или с логической точки зрения. Способность совершить этот акт — необходимое (хотя и не достаточное) условие понимания» (р. 547). Понимание в этом смысле не ограничено ни историческим познанием, ни временны́ми актами. Понимание логического заключения как результата его посылок — вид понимания, не имеющего нарративных характеристик: очевидно, он предполагает определенные временны́е до-
184
пущения в той мере, в какой мы пытаемся мыслить совместно «сложные отношения между частями, которые могут быть восприняты только seriatim» (р. 548). Но это значит только повторить вслед за Кантом, что всякий опыт осуществляется во времени, даже тот, который осуществляется также и в пространстве, ибо нам нужно «пробежать», «удержать в памяти», «распознать» все компоненты и все этапы изложенного опыта. Короче, «понимание — это индивидуальный акт видения-вещей-вместе и ничего более» (р. 553).
Кроме того, понимание в широком смысле демонстрирует фундаментальную черту, которая имеет импликации, существенные для нарративного способа понимания. Идеалом всякого понимания, даже если эта цель нам недоступна, заявил Минк, является постижение мира как целостности. Иначе говоря, эта цель недостижима, поскольку такое понимание было бы божественным, но она осмысленна, ибо человек намерен занять место Бога (р. 549). Это неожиданное вторжение теологической темы отнюдь не второстепенно. Такая предельная цель, предполагаемая тремя способами понимания, обусловлена переносом в эпистемологию определения, данного Боэцием: «Знание, которым Бог обладает о мире как totum simul*299, где последовательные моменты всего времени со-присутствуют в единой перцепции, создающей из этих последовательных моментов общую картину событий» (р. 549)300.
Минк без колебаний относит к конфигурирующему способу понимания цель, предполагаемую пониманием в широком смысле: «Totum simul, приписываемое Боэцием знанию Бога о мире, было бы, конечно (ofcourse), более высокой ступенью конфигурирующего понимания» (р. 551). В свете этого заявления предшествующая критика феноменологии, ограниченной актом прослеживания истории, обретает новые очертания. В чем, по-видимому, совершенно отказано нарративному пониманию во имя totum simul, так это в последовательной форме историй, которую удалось уберечь этой феноменологии. Я задаюсь вопросом: не слишком ли далеко заходит совершенно законный аргумент, согласно которому история заключается скорее в том, чтобы «проследить», нежели в том, чтобы «прослеживать», и не ослабляется ли он последующим тезисом, гласящим, что в акте конфигурирующего понимания «действие и событие, хотя и представленные как происходящие в сфере времени, могут быть усмотрены, если так можно сказать, одним взглядом как связанные вместе в сфере значения: это приближение к totum simul, которое мы всегда можем осуществить лишь частично» (р. 554).
Возникает вопрос, не ведет ли эта предполагаемая высшая ступень конфигурирующего понимания скорее к его упразднению. Чтобы избежать этого пагубного для нарративной теории вывода, не следует ли приписать идее totum simul обратную функцию: а именно, функцию четкого
* Все сразу, одновременно (лат.). — Прим. перев.
185
ограничения стремлений понимания упразднить последовательный характер времени, с которым связан эпизодический аспект построения интриги. Totum simul следовало бы поэтому признать Идеей в кантианском смысле: скорее идеей-границей, нежели целью или руководством. Мы вернемся к этой теме в четвертой части. Теперь же достаточно будет поставить вопрос, является ли эта идеальная цель экстраполяцией, соответствующей тому, что предполагается в действительном понимании рассказов.
На чисто феноменологическом уровне, где «проследить» с полным основанием противопоставляется «прослеживать», — спорным является утверждение, что «в понимании рассказа мысль о временно́й последовательности как таковой исчезает, или, скажем так, запаздывает, как улыбка Чеширского Кота» (р. 554). Я отказываюсь верить, что «в конфигурирующем понимании истории, которую проследили... необходимость возвратных референций перечеркивает (cancelsout), так сказать, случайность прогрессивных референций» (ibid.). Ни один из выдвинутых аргументов не является убедительным.
Аргумент, согласно которому в обычной историографии отступает на задний план хронология, а вместе с ней и забота о датировке, — вполне разумный. Но остается открытым вопрос, в какой мере преодоление простой хронологии предполагает упразднение всякой формы временности. От Августина до Хайдеггера любая онтология времени ставила целью отделить чисто хронологическое время от временны́х свойств, базирующихся на последовательности, но несводимых одновременно и к простой последовательности, и к хронологии.
Аргумент, гласящий, что понимание является полным, когда некоторое действие постигается как ответ на событие («послать телеграмму» является ответом на «получить предложение»), также корректен; но связь между отправкой телеграммы и получением предложения обеспечивается посредствующим термом: «принимать предложение», — который влечет за собой перемещение от начального положения дел к их конечному положению. Мы, следовательно, не вправе обобщать исходя из «ответа» и говорить, что «действие и события истории, понятой как единое целое, связаны сеткой описаний, накладывающихся друг на друга» (р. 556). Удаление фраз, маркированных временами глаголов, из этой сетки накладывающихся описаний является симптомом того, что вместе с временно́й связью исчез и повествовательный характер истории. Можно сказать, что ретроспективно все события истории Эдипа могут быть постигнуты совместно в портрете Эдипа. Но этот портрет равнозначен «мысли» трагедии «Царь Эдип». Однако «мысль», которую Аристотель назвал dianoia, является — на том же основании, что и характеры, — производным аспектом интриги.
Нам остается понять, каким образом перенос понятия интриги из литературной критики в эпистемологию истории может прояснить конк-
186
ретную диалектику несогласия и согласия в рассказе; диалектику нарративного рассказа, которая не была в достаточной мере учтена в анализе конфигурирующего способа понимания, стремящегося разрушить свой временно́й характер во имя приписанной ему цели стать равным totum simul божественного знания.
4. Объяснение посредством построения интриги
В работе Хайдена Уайта 301 процедуры построения интриги, которые я выше обозначил как мимесис-II, впервые были отнесены к нарративной структуре историографии, хотя они и не охватывают всей этой сферы.
Сильную сторону исследований Х. Уайта составляет та ясность, с которой он эксплицирует допущения своего анализа великих исторических текстов и определяет сферу дискурса, где, в свою очередь, находят место эти допущения.
Допущение первое: развивая дело, начатое Л. О. Минком, Уайт реорганизует отношение между историей и вымыслом в границах, отличных от границ эпистемологии, для которой проблематика объективности и доказательства определяет основной критерий всякой классификации форм дискурса. Какова бы ни была эта проблематика, к которой мы вернемся в четвертой части, первое допущение «поэтики» исторического дискурса состоит в том, что вымысел и история принадлежат — под углом зрения нарративной структуры — к одному и тому же классу. Допущение второе: сближение истории и вымысла влечет за собой и другое сближение — между историей и литературой. Это нарушение привычных классификаций требует, чтобы была принята всерьез характеристика истории как писания. «Писание истории» (так называется книга Мишеля де Серто 302) — не есть нечто внешнее по отношению к концепции истории и к историческому произведению; оно не является вторичной операцией, которая связана только с риторикой коммуникации и которую можно было бы игнорировать как нечто принадлежащее лишь к сфере литературного оформления. Оно конститутивно для исторического способа понимания. История по сути своей — это историо-графия, или, выражаясь в откровенно провоцирующем стиле, — артефакт литературы (a literaryartifact)303. Допущение третье: очерченная эпистемологами граница между историей историков и философией истории также должна быть поставлена под вопрос, поскольку, с одной стороны, всякое значительное историческое произведение демонстрирует целостное видение исторического мира, а с другой стороны, философии истории используют те же средства артикуляции, что и значительные исторические произведения. Вот почему в своей большой работе «Metahistory» Х.Уайт без колебаний ставит в один ряд Мишле, Ранке, Токвиля, Буркхардта и Гегеля, Маркса, Ницше, Кроче.
187
Эту «поэтику» историографии ее автор назвал метаисторией, чтобы отличить ее от эпистемологии, ориентированной на характер истории как «исследования» (inquiry) и, стало быть, сосредоточенной на условиях объективности и истинности, которые определяют эпистемологический разрыв между историей как наукой и традиционным или мифическим рассказом.
Три только что сформулированных допущения в действительности влекут за собой смещение и новую классификацию проблематики. В исключительном внимании к условиям «научности» истории Х. Уайт видит причину незнания тех структур, благодаря которым история входит в пространство нарративного вымысла. Только метаистория может решиться рассмотреть исторические рассказы как вербальные вымыслы, близкие по содержанию и форме к их литературному аналогу. Позже перед нами встанет вопрос, возможно ли таким образом заново классифицировать (reclasser) историю как артефакт литературы, не исключая (déclasser) ее из области познания, претендующего на научность.
Нельзя отрицать, что это смещение и новая классификация проблематики предполагают перенос на историографию категорий, заимствованных у литературной критики.
Ирония ситуации состоит в том, что такие заимствования делаются у авторов, которые как раз этому и противятся. Мы не забыли, с какой решительностью Аристотель исключил historia из своей проблематики mythos. Чтобы оценить поступок, нарушающий аристотелевский запрет, нужно правильно понять мотивы этого запрета. Аристотель не ограничивается констатацией того, что история слишком «эпизодична», чтобы удовлетворять требованиям «Поэтики» (в конце концов, это суждение без труда можно оспорить со времен творчества Фукидида). Он также говорит, почему история эпизодична: она излагает то, что действительно произошло; реальное же, в отличие от возможного, сочиняемого поэтом и иллюстрируемого peripeteia, содержит в себе случайность, над которой поэт не властен. В конечном счете, именно потому, что поэт является автором своей интриги, он может оторваться от случайной реальности и возвыситься до правдоподобной возможности. Перемещение истории в сферу поэтики — акт не безобидный и должен иметь последствия, связанные с трактовкой реальной случайности.
Нарушение аристотелевского запрета встречает не меньшее сопротивление со стороны литературной критики, к которой работа Уайта, однако, стоит ближе всего. Для Ауэрбаха, В. Бута, Шолеса и Келлога воображаемое определяется через противопоставление «реальному» и история по-прежнему предлагает модель репрезентативного реализма. Верх иронии заключается в том, что Нортроп Фрай, столь повлиявший на Х. Уайта, является одним из наиболее бдительных стражей этой границы: вымысел, считает он, касается возможного, история — реального; следуя Аристотелю, Фрай скажет, что поэт творит, исходя из (from) фор-
188
мы унификации, а историк — в направлении (towards) этой формы 304. И только философии истории такого рода, как у Шпенглера, Тойнби или Х. Г. Уилса, полагает он, могут, вероятно, быть отнесены к той же «поэтической» категории, что и драма или эпопея.
Метаистория, согласно Уайту, должна сломить двойное сопротивление: сопротивление историков, полагающих, что эпистемологический разрыв между историей и традиционным и мифическим рассказом исторгает историю из сферы вымысла, и сопротивление литературоведов, для которых различие между воображаемым и реальным является неоспоримой очевидностью.
Наше обсуждение не завершается в этой главе: в четвертой части мы рассмотрим аспекты вербального вымысла, которые вынуждают заняться понятием репрезентации реального в истории, — проблемой, которую мы обозначили как мимесис-III. Здесь же мы остаемся в границах вымысла, понимаемого как конфигурация (мимесис-II). Я сознаю, что наношу ущерб работе X. Уайта, выделяя среди его исследований наиболее формальные и те, что касаются исторической реальности (линия демаркации пройдет, таким образом, между его соображениями о построении интриги и суждениями, касающимися префигурации исторического поля, которые он относит к теории тропов: метафоры, метонимии и т.д.). Но мне кажется, что этот ущерб компенсируется тем преимуществом, что я не связываю его формальных исследований305, — на мой взгляд, наиболее серьезных, — с анализом тропологии, который представляется мне более слабым.
Важно, что для Х. Уайта построение интриги имеет существенное значение только при том условии, что оно не отождествляется полностью с понятием «historicalnarrative»*. Как в «Metahistory», так и в статьях автор ставит себе цель включить построение интриги (emplotment) в серию многих операций, перечисление которых к тому же варьируется от одного произведения к другому. Вот почему, руководствуясь дидактическими соображениями, я рассмотрю вначале все то, что не является «интригой» (plot), а уж затем сосредоточу на ней наиболее существенные замечания.
В статье в «Clio» (1972)306-307 интрига (plot) помещена между рассказанной историей (story) и аргументом (argument).
Story берется здесь в ограничительном смысле «tellingstories»: главным образом в смысле последовательного рассказа с началом, серединой и концом. Собственно говоря, именно понятие «story-line» (которое я перевожу как «нить истории»), скорее, нежели понятие story, служит здесь ориентиром. Автор, видимо, хочет таким образом избавиться от аргумента, согласно которому история, какой ее пишут сегодня, более не является по-
* Исторический рассказ, нарратив (англ.) — Прим. перев.
189
вествовательной: это возражение, полагает автор, значимо, только если понимать историю (story) как «нить истории» (story-line).
Разграничение между story и plot, озадачивающее многих критиков, кажется Х. Уайту более необходимым в истории, чем в литературоведении, поскольку в истории события, образующие линию рассказанной истории, не создаются воображением историка, а подвергаются процедурам аргументации. Со своей стороны, я вижу в этом тезисе способ ответа на аристотелевский запрет: такое преодоление запрета достигается ценой самого различения между story и plot.
Но это различие не всегда легко отстаивать, поскольку story — это уже способ организации, чем она и отличается от простой хроники событий; она организуется в соответствии с «мотивами» или «темами», которые соединяют или разграничивают в ней отдельные части 308. Благодаря этому рассказанная история уже обладает «объяснительным эффектом». И именно для того, чтобы воздать должное этому объяснительному эффекту, присущему story, «Metahistory» отличает ее от хроники, которая становится тогда первичной артикуляцией исторического поля. Что же касается понятия «историческое поле» («Metahistory», р. 30), которое мы встретим у Поля Вейна, оно само ставит проблему только еще предварительной артикуляции. Действительно, говорить о внутреннем мире уже организованного рассказа можно только как о unprocessed historical record (ibid., p. 5), то есть как о доконцептуальном заднем плане, открытом для процессов отбора и упорядочения 309.
Построение интриги (emplotment), в отличие от рассказанной истории (story), сохраняет объяснительный эффект, в том смысле, что оно определяет не события рассказанной истории, а саму эту историю, определяя класс, к которому она принадлежит. Нить рассказанной истории позволяет выявить одну-единственную конфигурацию, построение интриги побуждает к признанию традиционного класса конфигураций. Эти категории интриги, в соответствии с которыми закодирована сама история, а не события истории, родственны тем «относительным криптограммам» 310, которые, как утверждает Э. Х. Гомбрих в работе «Art and Illusion», определяют наш способ «прочтения» живописи.
Таким образом, Х. Уайт надеется избежать анти-нарративистских аргументов сторонников Гемпеля, отказываясь от их организации истории под углом зрения причин и законов и заимствуя их категориальное объяснение, свойственное построению интриги. Но он достигает успеха лишь ценой разъединения объяснения истории и объяснения события.
Не легко также провести границу между интригой (plot) и аргументом. Аргумент обозначает все то, вокруг чего вращается история («thepointofitall» or «whatitalladdsupto» — «Metahistory», p. 11), короче, тезис рассказа. Аристотель, рассматривая проблему возможности и необходимости интриги, включал аргумент в интригу. Можно, однако, сказать, что именно историография, в отличие от эпопеи, трагедии и коме-
190
дии, требует различения интриги и аргумента на уровне «объяснительных эффектов». Именно потому, что объяснение через аргументацию можно отличить от объяснения через построение интриги, логики придумали номологическую модель. Историк строит аргументацию формальным, эксплицитным, дискурсивным образом. Но сторонники номологической модели не заметили, что поле аргументации значительно шире поля общих законов, которые заимствуются у смежных наук, уже сложившихся вне исторического поля. У историка есть свой собственный способ аргументации, который еще относится к сфере повествования. И эти способы аргументации столь многочисленны, что нуждаются в типологии. Это связано с тем, что каждый способ аргументации выражает в то же время допущение метаисторического характера о самой природе исторического поля и о том, чего можно ожидать от исторического объяснения. Что касается самой типологии, то Х. Уайт заимствует ее из книги «World Hypotheses» Стивена Пеппера. Так, он различает четыре большие парадигмы: формалистскую, органицистскую, механицистскую, контекстуалистскую 311. Он охотно подчеркивает, что если две первые считаются более ортодоксальными, а две вторые — более инакомыслящими и более метафизическими (вопреки мнению их ведущих представителей — соответственно Ранке и Токвиля), то это значит, что мы неверно оцениваем эпистемологический статус этих глобальных гипотез. Мы забываем, что «история — не наука, это в лучшем случае прото-наука, которая включает в свой состав определяемые особым образом ненаучные элементы» («Metahistory», р. 21).
Собственно говоря, объяснение посредством этих больших парадигм граничите объяснением посредством идеологической импликации, которую «Metahistory» помещает в пятый разряд нарративных структур. Х. Уайт отличает этот последний способ объяснения от предыдущего на основании этической позиции, характерной для определенной манеры писать историю. Допущения предшествующего способа касаются прежде всего природы исторического поля. Допущения же идеологического способа затрагивают скорее природу исторического сознания, то есть связь между объяснением прошлых фактов и теперешней практикой 312. Поэтому идеологический способ объяснения также имеет конфликтную структуру, которая требует соответствующей типологии. Х. Уайт заимствует эту типологию, глубоко перерабатывая ее, из классификации идеологий, предложенной Карлом Манхеймом в «Идеологии и утопии». Так, он постулирует четыре основные идеологические позиции: анархизм, консерватизм, радикализм, либерализм. Независимо от того, насколько эта типология соответствует великим историческим сочинениям XIX века, рассмотрение которых составляет главную цель «Metahistory», важно подчеркнуть, что добавлением идеологического способа Х. Уайт удовлетворяет двум различным, если не противоположным, требованиям. С одной стороны, он, заботясь о достоверности, вновь вводит
191
при помощи пост-марксистского понятия идеологии компоненты исторического познания, которые постоянно выдвигала на первый план традиция Verstehen, представленная во Франции Ароном и Марру: речь идет о вовлеченности историка в историческую работу, об исследовании ценностей и о связи истории с действием в современном мире. Идеологические предпочтения, касающиеся в конечном счете социального изменения, его желательного масштаба и темпа, имеют отношение к метаистории в той мере, в какой они встраиваются в объяснение исторической сферы и в структуру вербальной модели, посредством которой история организует события и процессы в рассказы. С другой стороны, различая аргумент и идеологию, автор обозначает место самой критики идеологии и подчиняет идеологию тем же правилам обсуждения, какими руководствуется способ объяснения посредством формальных аргументов.
Помещенное таким образом между нитью истории (story-line) (сам этот уровень делится на хронику и цепь мотивов) и аргументом (разделяющимся на формальные аргументы и идеологические импликации), объяснение посредством построения интриги (emplotment) приобретает у Х. Уайта точный и ограничительный смысл: оно не исчерпывает собой нарративную структуру и все же является ее стержнем 313.
Под построением интриги (emplotment) автор подразумевает нечто гораздо большее, чем простое сочетание линейного аспекта рассказанной истории и аргументативного аспекта защищаемого тезиса; он подразумевает тип (kind), к которому относится рассказанная история, то есть одну из тех категорий конфигурации, которые мы научились выделять благодаря нашей культуре. Чтобы прояснить проблему, отметим, что Х. Уайт обращается к теме, которую я долго развивал в первой части книги, — к роли парадигм в построении интриги и к формированию повествовательной традиции путем взаимодействия инновации и седиментации. Но если я характеризую построение интриги при помощи целой гаммы связей между парадигмами и единичными историями, то Х. Уайт сохраняет для своего понятия emplotment исключительно функцию категоризации: этим объясняется и то, что он приписывает понятию story чисто линейный аспект. Понятое таким образом построение интриги представляет собой способ объяснения: «объяснение посредством построения интриги» («Metahistory», р. 7-11). Здесь объяснить — значит дать руководство для постепенной идентификации класса построения интриги («TheStructureofHistoricalNarrative», p. 9). «Построение интриги состоит в придании истории смысла путем определения типа истории, которая была рассказана» («Metahistory», р. 7). «Данный историк вынужден включить в интригу совокупность историй (stories), которые составляют его рассказ, в единой, всеохватывающей или архетипической форме» (ibid., р. 8).
192
Из «Анатомии критики» Нортропа Фрая Х. Уайт заимствует типологию построения интриги: волшебное (romance), трагическое, комическое, сатирическое. (Эпическое отклоняется на том основании, что эпопея возникла как имплицитная форма хроники.) Сатирический жанр занимает особое положение, поскольку, согласно Фраю, истории, созданные в ироническом модусе, достигают эффекта, незаконно лишая читателя своего рода решения, которого он ждет от историй, созданных в волшебном, трагическом или комическом модусах. Сатира в этом смысле полярно противоположна жанру волшебной сказки, демонстрирующему конечный триумф героя; но она также противоположна, по крайней мере отчасти, трагическому жанру, в котором хотя и не прославляется конечное превосходство человека над падшим миром, примирение приберегается для зрителя, которому дано заметить закон, правящий судьбами. Наконец, сатире также несвойственно то примирение людей друг с другом, с обществом и с миром, которое осуществляет комедия в своей счастливой развязке; это, однако, частичная противоположность— ведь может существовать сатирическое трагическое и сатирическое комическое. Сатира исходит из крайней неадекватности воззрений на мир, драматизированных волшебной сказкой, комедией и трагедией.
Какую пользу может извлечь эпистемология исторического познания из различения всех этих «способов объяснения» (и соответствующих им «объяснительных эффектов») и трех типологий, предложенных соответственно на уровне интриги, аргумента и идеологии? Это, главным образом, — теория историографического стиля, если понимать под стилем примечательное взаимопересечение возможностей, открывающихся благодаря различным нарративным категориям, о которых идет речь («Metahistory», р. 29-31).
Можно постепенно, в порядке усложнения комбинаций, скомпоновать эту теорию стиля.
На первом уровне теория стиля строится на базовой триаде: story, emplotment, argument. Так, в статье 1972 года трехчленное деление иллюстрируется тремя работами: объяснение соответственно нити истории (story-line) — работой Ранке «История Германии в эпоху Реформации», объяснение через аргумент — «Демократией в Америке» Токвиля, объяснение под углом зрения интриги — «Культурой Возрождения в Италии» Буркхардта. В каждом из этих трудов имеются, конечно, нить истории, интрига и аргумент, но в различных пропорциях. У Ранке превалирует линейный порядок: у истории имеется начало, середина и конец, который приходится на время, предшествующее настоящему времени читателя. В основе его аргументации лежат изменения, происходящие в немецкой сущности, сохраняющей свою идентичность. Интрига ограничивается демонстрацией того, «как одно привело к другому»
193
(р. 6). В этом смысле для Ранке, который иллюстрирует собой «нарративистский» тип историографии, все есть story. У Токвиля тоже имеется story, но с открытым концом: она обращена к нам, — к тем, кому надлежит завершить ее своим действием. Если угодно, все, о чем он повествует, — только растянутая вширь «середина» рассказанной истории. Но акцент делается на структурном типе, объединяющем общественные классы, политическую демократию, культуру, религию и т.д. Зато можно было бы сказать, что у Буркхардта все есть аргумент: рассказанная история служит только иллюстрацией тезиса об индивидуализме в эпоху Ренессанса.
Но теория исторического стиля незаметно переходит на второй уровень, комбинируя трехчленное деление — рассказанную историю, интригу, аргумент — с типологией построения интриги. Если Буркхардт иллюстрирует собой примат аргумента над интригой и над рассказанной историей, он дает также и пример иронического модуса построения интриги: ибо история, которая никуда не идет, разрушает ожидание морального или интеллектуального завершения, какое предлагают другие парадигмы построения интриги: волшебная, комическая или трагическая. Мишле, напротив, строит свою историю в модусе волшебной сказки, Ранке — в комическом, Токвиль — в трагическом.
Наконец, теория стиля переходит на третий уровень, комбинируя три соответствующие типологии: построения интриги, аргументации и идеологической импликации. Подобным образом можно добиться такого комбинирования, которое учитывает если не все возможные сочетания, то по крайней мере все формы «избирательного сродства», обрисовывающие сетку совместимости, откуда возникают подлежащие идентификации историографические стили: «По моему мнению, историографический стиль представляет собой своеобразную комбинацию способов построения интриги, аргументации и идеологической импликации» («Metahistory», р. 29)314. Но абсолютно неверно видеть в историческом стиле необходимую комбинацию способов объяснения. Стиль — это скорее гибкое взаимодействие форм сродства: «Диалектическое напряжение, которое характеризует работу всякого крупного историка, обычно проистекает из стремления сочетать способ построения интриги со способами аргументации или идеологической импликации, которые ему не созвучны» (р. 29)315.
Итак, долгим обходным путем мы вернулись к нашей теме несозвучного созвучия 316: первый источник несозвучного созвучия лежит в оппозиции трех способов, которые, взятые вместе, наделяют нарративные структуры объяснительной функцией 317. Другим источником несозвучного созвучия является столкновение нескольких модусов построения интриги не только у различных историков, но и внутри одного большого произведения.
194
В целом обнаруживается, что понятие нарративной структуры, ставшее для нас отправным пунктом, охватывает более обширную область, чем та, которую ему отводят «нарративистские» авторы, тогда как понятие интриги обретает необычную точность в силу своей противоположности понятиям рассказанной истории (story) и аргумента.
Но прежде всего следует иметь в виду, что тройная типология, на которую опирается эта теория историографического стиля, вовсе не притязает на какой-либо «логический» авторитет. Модусы построения интриги, в частности, являются продуктами традиции письма, придавшей им конфигурацию, которую использует историк. Этот аспект — традиционность — в конечном счете наиболее важен: историк, будучи писателем, обращается к публике, способной распознать традиционные формы искусства рассказа. Структуры — не застывшие правила. Это не классы, обусловленные априорной таксономией. Это — формы культурного наследия. Если можно сказать, что ни одно событие само по себе не является трагическим и только историк показывает его таковым, определенным образом кодируя его, то это потому, что произволу кодирования ставится предел не рассказанными событиями, а надеждой читателя встретить известные ему формы кодирования: «кодирование событий применительно к той или иной структуре интриги — один из имеющихся в распоряжении культуры способов придания смысла личному или общественному прошлому» («The Historical TextasLiteraryArtifact», p. 283). Таким образом, кодирование в большей мере определяется ожидаемым смысловым эффектом, чем кодируемым материалом.
Этот смысловой эффект состоит главным образом в превращении неизвестного в известное. Кодирование способствует этому в той мере, в какой историк разделяет со своей аудиторией понимание форм, «в которые должны облечься значимые ситуации человеческой жизни благодаря участию историка в специфическом процессе формирования смысла и в силу которых он является участником скорее данного культурного наследования, нежели другого» (ibid., p. 283)313.
Таким образом благодаря традиционной природе построения интриги воссоздается его динамический характер, даже если рассмотрению подлежал только его родовой характер. Впрочем, эта особенность уравновешивается непрерывной связью между хроникой, цепью мотивов, интригой, аргументом, идеологической импликацией, — связью, которую восстанавливает понятие историографического стиля. Вот почему можно — отчасти вопреки X. Уайту, но скорее благодаря ему — считать построение интриги операцией, которая динамизирует все уровни нарративной артикуляции. Построение интриги — нечто гораздо большее, нежели один уровень наряду с другими: именно оно осуществляет переход от рассказа к объяснению.
195
5. «Как пишут историю» 319
Мне показалось интересным вернуться в конце этой главы к французской историографии: к стоящей особняком во французском ландшафте работе Поля Вейна «Как пишут историю». У нее есть замечательное преимущество: снижение уровня научности истории сочетается в ней с апологией понятия интриги. Таким образом, Поль Вейн занимает особое место у слияния двух только что описанных течений мысли, хотя он опирается на Макса Вебера, а не на «нарративистское» англо-саксонское течение и сохраняет связь с логическим позитивизмом, которую разорвало это течение. Тем не менее, помещая его на этот стратегический перекресток, я надеюсь еще прибавить этой работе пикантности, которой она и так не лишена.
Действительно, эта книга может быть прочитана как умелое взаимоналожение двух мотивов: история есть «не что иное, как достоверный рассказ» (р. 13); история — слишком «подлунная» наука, что быть объяснимой посредством законов. Снижение объяснительных притязаний, возвышение нарративной способности: оба этих движения непрерывно уравновешиваются, как на качелях.
Возвышение нарративной способности: эта цель достигается, если соединить, как подобает, рассказ и интригу, чего никогда не пытались сделать ни Марк Блок, ни Люсьен Февр, ни Фернан Бродель, на даже Анри-Ирене Марру, для которого рассказ — это то, что создают сами акторы, предоставленные хаосу и неясности их собственного настоящего. Но именно потому, что рассказ конструируется, он ничего не воскрешает: «История — это книжное понятие, а не экзистенциал; это организация посредством понимания данных, которые соответствуют временности, не являющейся временностью Dasein» (р. 90); и еще: «История — это интеллектуальная деятельность, которая, используя общепризнанные литературные формы, служит целям простого любопытства» (р. 103). Ничто не связывает это любопытство с каким-либо экзистенциальным основанием320.
В каком-то смысле Вейн называет рассказом то, что Арон и Марру называли реконструкцией. Но изменение терминологии немаловажно. Связывая историческое понимание с повествовательной деятельностью, автор дает возможность продвинуть дальше описание «Объекта истории» (так называется первая часть книги). Действительно, если иметь в виду внутренний характер понятия «событие», обозначающего всякое индивидуальное неповторимое обстоятельство, — ничто не квалифицирует событие как историческое или физическое: «Действительное различие проходит не между историческими и физическими фактами, а между историографией и физикой» (р. 21). Физика подводит факты под законы, историография объединяет их в интриги. Построение интриги — это то, что квалифицирует событие как историческое: «Факты су-
196
ществуют только в интригах и только благодаря им, получая в них относительное значение, которое им придает логика человеческой драмы» (р. 70). И еще: «Поскольку всякое событие является столь же историческим, как и другое, можно совершенно свободно выкраивать событийное поле» (р. 83). Здесь Вейн присоединяется к «нарративистским» англоязычным авторам, концепции которых мы только что рассмотрели. Историческое событие — не только то, что происходит, но то, что может быть рассказано либо уже было рассказано в хрониках или легендах. Кроме того, историка не обескуражит работа над всего лишь фрагментарными документами: интрига создается только из того, что известно; интрига по природе своей — «искаженное знание».
Связывая таким образом событие с интригой, Поль Вейн лишает драматизма спор о событийности и несобытийности, начатый школой Анналов. Большая длительность столь же событийна, как и краткая, если интрига — это единственная мера события. Несобытийность свидетельствует лишь о различии между неопределенным полем событий и уже пройденной вдоль и поперек областью интриги: «Несобытийное — это события, которых еще не признали таковыми, к примеру, история земель, ментальностей, помешательства или поиска защищенности на протяжении веков. То есть несобытийной назовут историчность, которую мы не осознаем в качестве таковой» (р. 31).
Кроме того, если дать достаточно широкое определение того, что считают интригой, то в ее орбиту входит даже количественная история: интрига имеется всегда, когда история связывает вместе цели, материальные причины, случайности: интрига — это «очень человеческое и совсем не “научное” смешение материальных причин, целей и случайностей» (р. 46). Хронологический порядок для нее не имеет значения. По-моему, это определение вполне совместимо с понятием синтеза разнородного, предложенным в первой части нашей книги.
Коль скоро можно различить эту разнородную комбинацию, мы имеем дело с интригой. В этом смысле не-хронологические серии, серии items, исследуемые сторонниками количественной истории, остаются в области истории в силу своей сколь угодно тонкой связи с интригой. Связь между интригой и сериями items, которая недостаточно разъяснена автором, обеспечивается, на мой взгляд, понятием, заимствованным у Курно (на которого Арон ссылается в начале своей книги 1937 года), понятием взаимопересечения каузальных рядов: «Поле событий представляет собой взаимопересечение рядов» (р. 35). Но всякое ли взаимопересечение рядов является интригой?
П. Вейн считает возможным расширить понятие интриги до той точки, где понятие времени уже не является для него необходимым: «Какой бы стала историография, которая окончательно избавилась бы от последних остатков сингулярностей, от единств времени и места, чтобы целиком отдаться одному единству интриги? Именно это будет показа-
197
но в данной книге» (р. 84). Итак, автор хочет проследить до конца одну из возможностей, открытых аристотелевским понятием интриги, которое, как мы видели, само тоже игнорирует время, хотя и предполагает начало, середину и конец. Эта возможность ахроничности была использована и различными англоязычными авторами (см. выше: Л. О.Минк). Но эта возможная ахроничность связана с фундаментальной особенностью интриги, положенной Аристотелем в основу «Поэтики», — способностью обучать всеобщему. Выше мы видели, как Х. Уайт в полной мере использует эти родовые категориальные возможности построения интриги.
Ту же тональность я нашел у Поля Вейна, развивающего мнимый парадокс, что объектом истории является не индивидуальное, но типичное (spécifique). И вновь именно понятие интриги уводит нас от любой защиты истории как науки о конкретном. Ввести событие в интригу — это значит выразить нечто интеллигибельное, стало быть, типичное: «Все то, что можно сообщить об индивиде, обладает своего рода всеобщностью» (р. 73). «История — это описание того, что в событиях человеческой жизни является типичным, а значит, понимаемым» (р. 75). Этот тезис пересекается с тезисом об описании посредством items и тезисом о взаимопересечении рядов. Индивид — это перекресток серий items, при условии, что совокупность items еще является интригой.
Этот интеллигибельный компонент интриги ведет нас к другому аспекту работы П. Вейна: снижению объяснительных притязаний.
Снижение объяснительных притязаний: здесь Вейн становится провокатором. У истории, говорит он, есть критика и топика, но нет метода. Нет метода? Имеется в виду: нет правила, чтобы осуществить синтез фактов. Если историческое поле, как было сказано, полностью неопределенно, то все, что там находится, реально имело место, но там может быть проложено множество маршрутов. Искусство же их прокладывать относится к историческому жанру, какими бы различными способами его ни понимали на протяжении веков.
Единственная «логика», совместимая с понятием интриги, — это логика вероятного, терминологию которой Вейн заимствует у Аристотеля: наука и законы господствуют только в надлунной сфере, тогда как «подлунный мир — царство вероятного» (р. 44). Это равносильно утверждению, что история принадлежит подлунному миру и что она действует с помощью интриг: история «всегда будет интригой, потому что она будет человеческой, подлунной, потому что она не будет куском детерминизма» (р. 46). Пробабилизм — следствие присущей историку способности свободно выкраивать поле событий.
Но так как вероятное является характерной чертой самой интриги, нет оснований для различения рассказа, понимания и объяснения: «То, что называют объяснением, есть лишь способ, каким рассказ организуется в доступную пониманию интригу» (р. 111). Этого можно было ожи-
198
дать: в подлунной сфере не существует объяснения в научном смысле слова, то есть в том смысле, в котором закон объясняет факт: «Объяснить с точки зрения историка — значит “показать развертывание интриги, растолковать его”» (р. 112). Объяснение Революции — «это ее резюме и ничего более» (р. 114). Таким образом, подлунное объяснение не отличается от понимания. Разом исчезает проблема отношения между пониманием и объяснением, на которую потратил столько сил Раймон Арон. Что касается слова «причина», оторванного от слова «закон», Вейн употребляет его так же, как Морис Мандельбаум 321: «Причины — это различные эпизоды интриги» (р. 115); и еще: «Рассказ с самого начала каузален, доступен пониманию» (р. 118). В этом смысле «чем больше мы объясняем — тем лучше рассказываем» (р. 119). Это единственная глубина, доступная истории. Если кажется, что объяснение продвигается дальше, чем непосредственное понимание, это значит, что оно может прояснить моменты рассказа с трех точек зрения — случайности, материальной причины и свободы. «Мельчайший исторический “факт” содержит эти три элемента, если он является фактом человеческой жизни» (р. 121). Это значит, что историю нельзя полностью объяснить ни случайными пересечениями, ни экономическими причинами, ни ментальностями, проектами или идеями; не существует правила, чтобы расположить в определенном порядке эти три аспекта. А это равносильно утверждению, что у истории нет метода.
Кажущееся исключение из тезиса, гласящего, что в истории объяснить — значит растолковать, выступает в виде ретросказания (р. 176-209), той индуктивной операции, с помощью которой историк заполняет пробел в своем рассказе путем аналогии с подобной же последовательностью, но без разрыва в другой серии. Именно здесь объяснение, пожалуй, наиболее четко отделяется от понимания, поскольку ретросказание пускает в ход каузальное объяснение. Но оно, как представляется, вступает в игру именно тогда, когда для интриги недостает документов; в этом случае посредством ретросказания восходят к рассматриваемой причине (например: слишком громоздкая налоговая система сделала Людовика XIV непопулярным). Мы рассуждаем здесь от подобного к подобному, не имея гарантии того, что в каком-либо частном случае аналогий нам не изменит. Это дает повод напомнить, что подлунная причинность нерегулярна, расплывчата и может быть выражена лишь оборотами «чаще всего» и «за исключением»! Именно в этих узких границах вероятного ретросказание восполняет пробелы в наших документах. Рассуждение, на которое больше всего похоже ретросказание, — это серийный выпуск, практикуемый эпиграфистами, филологами и иконографистами. Для историка аналогом серии является сходство, обеспечиваемое относительным постоянством обычаев, конвенций, типов от одной цивилизации или эпохи к другой. Именно это постоянст-
199
во позволяет в общих чертах узнать, чего можно ожидать от людей той или иной эпохи.
Ретросказание не принуждает порывать с условиями подлунного познания. Оно ничуть не похоже на закон подведения под общее. Оно ближе к каузальному объяснению в смысле Дрея и Мандельбаума (мы вернемся к этому в следующей главе): «Историческое объяснение не является номологическим, оно носит каузальный характер» (р. 201). В конце концов именно это Аристотель и говорит об интриге: в ней «одно вследствие другого» превалирует над «одно после другого».
Однако можно задаться вопросом: всегда ли совпадают каузальное объяснение и понимание посредством интриги. Этот момент серьезно не обсуждался. Когда действие приводит к непредвиденным последствиям (а для историка, как подчеркивают — каждый по-своему — Данто и Люббе, это является нормальной ситуацией), — объяснение, похоже, свидетельствует о провале интриги. Автор, по-видимому, с этим соглашается: «Этот промежуток между намерением и следствием — место, которое мы отводим науке, когда пишем историю и творим ее» (р. 208). Вероятно, на это можно ответить, что интрига, не совпадая с перспективой определенного агента, но выражая «точку зрения» того, кто ее рассказывает, — если угодно, «голос повествователя», — также принимает во внимание непредвиденные последствия.
Теперь нужно оценить по справедливости два взаимодополняющих тезиса: у истории нет метода, но есть критика и топика.
Что такое критика? Она не является эквивалентом или субститутом метода. Как об этом говорит ее — кантианское — имя, это скорее бдительность, которую проявляет историк по отношению к используемым им понятиям. В этом плане П. Вейн проповедует бескомпромиссный номинализм: «Абстракции не могут быть действующими причинами, потому что их не существует... Не существует также и производительных сил, есть только люди, которые производят» (р. 138). Это резкое заявление нельзя, думается, отделять от высказанного выше тезиса о том, что история знает не индивидуальное, но типичное. Просто родовое не есть типичное. Здесь автор имеет в виду нечто вроде веберовских «идеальных типов», чей эвристический, а не объяснительный характер он подчеркивает. Именно потому, что они относятся к сфере эвристики, историк постоянно выверяет их, чтобы избежать искажений смысла, которые они влекут за собой. Понятия в истории — скорее разнородные представления, выделенные из предшествующих наименований и распространенные в предварительном порядке на аналогичные случаи; но непрерывности, на мысль о которых они наводят, обманчивы, а генеалогии неверны. Таков строй подлунных понятий, всегда ложных, ибо всегда неясных. А потому бдительность должна стать особенно строгой, когда история вступает, как ей и положено, на путь сравнения. Марк Блок справедливо
200
сравнивает в «Феодальном обществе» систему серважа в Европе и в Японии. Но сравнение не раскрывает более общей реальности и не предоставляет возможностей для более объяснительной истории. Это только эвристика, отсылающая к отдельным интригам: «чем мы заняты, если не пониманием интриг? И не существует двух способов понимания» (р. 157).
Остается топика. У истории нет метода, но есть критика и топика (р. 267). Слово это заимствовано, по примеру Вико, из аристотелевской теории topoi, или «общих мест», — теории, родственной риторике. Эти общие места, как известно, представляют собой резерв необходимых вопросов, которыми должен запастись оратор, чтобы успешно выступать перед ассамблеей или трибуналом. Чему может служить топика в истории? У нее есть лишь одна функция: «удлинение вопросника» (р. 253 сл.); и это удлинение вопросника — единственный прогресс, на который способна история. Но каким образом это можно сделать, если не посредством параллельного обогащения понятий? Нужно уравновесить номинализм, столь сильно связанный с теорией понимания, апологией прогресса в концептуализации, благодаря которому видение современного историка богаче, чем видение Фукидида. Конечно, Вейн формально не противоречит себе, поскольку он относит историческую топику к эвристике, то есть к искусству задавать вопросы, а не к объяснению, если понимать под ним искусство отвечать на вопросы. Но остается ли топика заключенной в эвристике, не прорывается ли она к объяснению? В наиболее частом сегодня случае несобытийной истории, скажем, «структурной» (р. 263) истории, именно топика позволяет историку отойти от точки зрения своих источников и концептуализировать события иначе, чем это сделали бы исторические агенты или их современники, а стало быть, рационализировать прочтение прошлого. Вейн, впрочем, очень хорошо говорит об этом: «Такая рационализация выражается в концептуализации жизненного мира, в удлинении топики» (р. 268).
Здесь Вейн предлагает нам принять одновременно два на первый взгляд различных тезиса: что в истории необходимо понимать только интриги и что удлинение вопросника равнозначно возрастающей концептуализации. В действительности, контраст между двумя тезисами ослабляется, если правильно интерпретировать оба утверждения. С одной стороны, нужно допустить, что понятие интриги не связано с событийной историей, что интрига имеется также и в структурной истории; расширенное таким образом, понимание интриги не только не противоречит прогрессу в концептуализации, но требует его. С другой стороны, нужно допустить, что концептуализация не дозволяет никакого смешения между подлунным познанием и наукой в сильном смысле слова. Именно в этом отношении топика остается эвристикой и не меняет фундаментального характера понимания, которое является пониманием интриг.
201
Для большей убедительности Поль Вейн должен был бы объяснить, как история может оставаться рассказом, когда она перестает быть событийной, — становясь при этом структурной, или сравнительной, или, наконец, объединяя в серии items, оторванные от временно́го континуума. Иначе говоря, вопрос, который ставится в книге Поля Вейна, заключается в том, до какого предела можно расширить понятие интриги, не лишая его присущего ему различительного характера. Этот вопрос адресован сегодня всем защитникам «нарративистской» теории истории. Англоязычные авторы смогли его избежать, поскольку их примеры чаще всего остаются наивными и не выходят за пределы событийной истории. Вот тогда, когда история перестает быть событийной, нарративистская теория действительно подвергается испытанию. Преимущество книги Поля Вейна состоит в том, что она доводит до этой критической точки идею, что история представляет собой только конструирование и понимание интриг.
202
III. Историческая интенциональность
Введение
Цель данной главы состоит в том, чтобы объяснить опосредованную связь, которую, на мой взгляд, необходимо сохранить между историографией и повествовательной компетентностью, проанализированной в третьей главе первой части книги.
Сопоставление двух предшествующих глав позволяет сделать вывод о том, что такая связь должна быть сохранена, но она не может быть непосредственной.
Исследование, содержащееся в первой главе, приводит к мысли об эпистемологическом разрыве между историческим познанием и компетентностью в прослеживании истории. Разрыв затрагивает эту компетентность на трех уровнях: уровне процедур, уровне сущностей и уровне временности.
На уровне процедур историография рождается как исследование — historia, Forschung, enquiry — из осуществляемого ею специфического применения объяснения. Даже если допустить вместе с Гэлли, что рассказ «само-объяснителен», история-наука выделяет из ткани рассказа процесс объяснения и возводит его в ранг отдельной проблематики. Это не значит, что рассказ совершенно не знает формы «почему» и «потому что»; но его связи остаются имманентными построению интриги. Благодаря историку форма объяснения приобретает автономность; она становится отчетливо выраженной целью процесса установления достоверности и обоснования. В этом плане историк находится в положении судьи: он попадает в реальную или потенциальную ситуацию оспаривания и пытается доказать, что определенное объяснение лучше какого-либо другого. То есть он ищет «гарантов», от которых в первую очередь исходит документальное подтверждение. Одно дело — объяснять, рассказывая. Другое дело — проблематизировать само объяснение, чтобы под-
203
вергнуть его обсуждению и суждению аудитории, если не универсальной, то по крайней мере имеющей репутацию компетентной, состоящей из людей, равных историку.
Эта автономизация исторического объяснения по отношению к наброскам объяснения, характерным для рассказа, имеет множество следствий, которые подчеркивают разрыв между историей и рассказом.
Первое следствие: с работой объяснения связана работа концептуализации, которую порой даже считают основным критерием историографии 322. Эта ключевая проблема может относиться только к дисциплине, у которой, согласно Полю Вейну, хотя и нет метода, но есть критика и топика. Не существует эпистемологии истории, которой не приходилось бы в тот или иной момент принимать участие в великом споре об (исторических) универсалиях и с трудом проделывать, как в средневековье, челночные операции между реализмом и номинализмом (Гэлли). До этого нарратору нет дела: он использует некоторые универсалии, но не подвергает их критике; ему совершенно неведома проблема, поставленная «удлинением вопросника» (П. Вейн) 323.
Второе следствие важнейшего статуса истории как исследования: каковы бы ни были границы исторической объективности, остается проблема объективности в истории. Согласно Морису Мандельбауму 324, суждение называется «объективным», «потому что мы рассматриваем его истинность как исключающую возможность того, что его отрицание является равно истинным» (р. 150). Эта претензия неосуществима, но она включена в сам проект исторического исследования. У объективности, которая имеется в виду, есть две стороны: прежде всего, можно ожидать, что сообщаемые в исторических сочинениях факты, взятые поочередно, согласуются друг с другом, как точки на географических картах при соблюдении одних и тех же правил проекции и масштаба, или как грани одного драгоценного камня. Тогда как нет никакого смысла ставить в один ряд сказки, романы, театральные пьесы, законным и неизбежным является вопрос о том, как история определенного периода согласуется с историей другого периода, история Франции с историей Англии и т.д., или как политическая либо военная история такой-то страны в такую-то эпоху согласуется с ее экономической, социальной, культурной и т.п. историей. Сокровенная мечта картографа или ювелира движет историческим предприятием. Даже если идея универсальной истории навсегда должна остаться Идеей в кантовском смысле — за невозможностью создать плоскостную проекцию в лейбницевском смысле, — работа, способная приблизить к этой идее конкретные результаты, достигнутые индивидуальным или коллективным исследованием, не является ни тщетной, ни бессмысленной. Этому стремлению к согласованию исторических фактов созвучна надежда, что результаты, достигнутые различными исследователями, могут совмещаться путем взаимных дополнений и поправок. Кредо объективности есть не что иное, как это
204
убеждение в том, что факты, описанные различными историями, могут согласовываться и результаты этих историй могут дополнять друг друга.
И последнее следствие: именно потому, что история стремится к объективности, она может ставить — как особую проблему — проблему границ объективности. Этот вопрос чужд простодушию и наивности нарратора. Нарратор скорее ждет от своей аудитории, по столь часто цитируемым словам Кольриджа, что она «добровольно отринет свое неверие» (a willing suspension of disbelief). Историк обращается к недоверчивому читателю, который ждет от него не только рассказа, но и подтверждения его подлинности. В этом смысле выявить среди способов исторического объяснения «идеологическую импликацию» (Хайден Уайт)325 — это значит быть способным распознать идеологию как таковую, то есть отделить ее от собственно способов аргументации, поместить ее под прицел критики идеологий. Это последнее следствие можно было бы назвать критической рефлексивностью исторического исследования.
Концептуализация, поиск объективности, усиление критики обозначают три этапа автономизации исторического объяснения по отношению к «само-объяснительному» характеру рассказа.
Этой автономизации объяснения соответствует сходная с ней автономизация сущностей, которые историк считает своим достаточным объектом. Тогда как в традиционном или мифическом рассказе, а также в хронике, предшествующей историографии, действие отнесено к агентам, которых можно идентифицировать, обозначить именем собственным, считать ответственными за приписанные им действия, история-наука соотносит себя с объектами нового типа, соответствующими ее способу объяснения. Идет ли речь о странах, обществах, цивилизациях, социальных классах, ментальностях, история ставит на место субъекта действия анонимные сущности в прямом смысле слова. Этот эпистемологический разрыв в плане сущностей завершается во французской школе Анналов, где политическая история оттесняется на второй план экономической, социальной и культурной историей. Место, еще недавно принадлежавшее героям исторического действия, которых Гегель называл великими людьми мировой истории, отныне занято общественными силами, чье действие не может быть дистрибутивным образом приписано индивидуальным агентам. Следовательно, новая история, по-видимому, существует без персонажей. Без персонажей она не может остаться рассказом.
Третий разрыв — результат двух предшествующих: он затрагивает эпистемологический статус исторического времени. Оно, похоже, не связано непосредственно со временем памяти, ожидания и осмотрительности индивидуальных агентов. Оно, по-видимому, больше не соотносится с живым настоящим субъективного сознания. Его структура стро-
205
го соответствует процедурам и сущностям, применяемым историей-наукой. С одной стороны, историческое время предстает распадающимся на последовательность однородных интервалов, носителей каузального или номологического объяснения; с другой стороны, оно рассеивается во множественности времен, шкала которых соответствует шкале рассматриваемых сущностей; краткое время события, полу-долгое время конъюнктуры, большая длительность цивилизаций, очень большая длительность форм символики, на которых зиждется сам социальный статус как таковой. Эти «времена истории», по выражению Броделя 326, очевидно, не имеют отчетливой связи со временем действия, с этой «внутривременностью», о которой мы сказали, вслед за Хайдеггером, что она всегда является временем благоприятным или неблагоприятным, временем «для» действия 327.
И все же, несмотря на этот тройной эпистемологический разрыв, история не может порвать всякую связь с рассказом, не утратив своего исторического характера. И наоборот, эта связь не может быть настолько непосредственной, чтобы история могла рассматриваться как один из видов рода «story» (Гэлли)328. Обе половины второй главы, каждая по-своему, продемонстрировали растущую потребность в диалектике нового типа между историческим исследованием и нарративной компетентностью.
С одной стороны, критика номологической модели, с которой мы начали, привела к диверсификации объяснения, делающей его менее чуждым нарративному пониманию, не отрицая, однако, объяснительной функции, благодаря которой история сохраняет свое место в кругу гуманитарных наук. Вначале мы видели, как номологическая модель была ослаблена под давлением критики; вследствие этого она стала менее монолитной и допускает теперь более разнообразные уровни научности приводимых обобщений, начиная с законов, заслуживающих этого названия, и кончая общими положениями здравого смысла, в использовании которых история близка к обыденному языку (И. Берлин); срединную позицию занимают обобщения диспозиционального характера, упоминаемые Г. Райлом и П. Гардинером 329. Затем мы рассмотрели «рациональное» объяснение, представшее в выгодном свете благодаря требованиям концептуализации, критической бдительности и установления достоверности, которые выдвигаются и любым другим способом объяснения. Наконец, мы проанализировали вместе с Г. Х. фон Вригтом каузальное объяснение, отличное от каузального анализа, и тип квазикаузалъного объяснения, отделяющегося от каузально-номологического объяснения и вбирающего в себя элементы телеологического объяснения. Продвигаясь по этим трем направлениям, объяснение, присущее историческому исследованию, преодолевает, по-видимому, часть расстояния, которое отделяет его от объяснения, характерного для рассказа.
206
На это ослабление и диверсификацию моделей объяснения, предложенных эпистемологией, анализ нарративных структур отвечает аналогичной попыткой усилить объяснительные возможности рассказа и в определенном смысле направить их навстречу движению объяснения в сторону повествования.
Выше я сказал, что полу-успех нарративистских теорий был также и полу-поражением. Это суждение не должно ослабить признания полу-успеха. Нарративистские тезисы, по-моему, глубоко справедливы в двух моментах.
Первое достижение: нарративисты с успехом доказывают, что рассказывать — значит уже объяснять. «Di’allēla» — «одно вследствие другого», которое, согласно Аристотелю, создает логическую связь интриги, — является отныне обязательной отправной точкой всякой дискуссии об историческом повествовании. У этого базового тезиса есть множество следствий. Если всякий рассказ осуществляет, посредством самой операции построения интриги, каузальную связь, это построение является уже победой над простой хронологией и делает возможным различение между историей и хроникой. Кроме того, если конструирование интриги — это дело суждения, то такое конструирование связывает повествование с нарратором, благодаря чему «точка зрения» нарратора отделяется от того понимания, которое могли иметь о своем вкладе в развитие интриги агенты или персонажи истории; вопреки классическому возражению, рассказ никак не связан со смутной и ограниченной перспективой агентов и непосредственных свидетелей событий; напротив, отстранение, конституирующее «точку зрения», делает возможным переход от нарратора к историку (Шолес и Келлог)330. Наконец, если построение интриги интегрирует в значимое единство столь разнородные компоненты, как обстоятельства, расчеты, действия, помощь и препятствия, наконец, результаты, тогда также является возможным, чтобы история учитывала непредвиденные результаты действия и создавала его описания, отличные от описания только под углом зрения интенциональности (Данто)331.
Второе достижение: нарративисты отвечают на диверсификацию и иерархизацию объяснительных моделей сопоставимыми с ними диверсификацией и иерархизацией объяснительных средств рассказа. Мы видели, как структура повествовательного предложения приспосабливается к определенному типу исторического рассказа, основанного на документальной датировке (Данто). Затем мы были свидетелями определенной диверсификации конфигурирующего акта (Минк)332; тот же автор продемонстрировал нам, как конфигурирующее объяснение само становится одной из модальностей объяснения наряду с другими, сохраняя связь с категориальным и теоретическим объяснением. Наконец, у X. Уайта333 «объяснительный эффект», характеризующий построение интриги, располагается вначале на пол пути между эффектом аргу-
207
ментации и эффектом нити истории (story-line), так что здесь происходит уже не только диверсификация, но взрыв нарративной функции. Затем объяснение посредством построения интриги, уже отделенное от объяснения, присущего рассказанной истории, входит в новую объяснительную конфигурацию, примыкая к объяснению через аргументацию и объяснению через идеологическую импликацию. Новое развертывание нарративных структур равнозначно тогда отрицанию «нарративистских» тезисов, вновь отнесенных к низшему уровню — уровню «нити истории».
Таким образом, чисто нарративистский тезис постигла та же участь, что и номологическую модель: возвращаясь в плоскость собственно исторического объяснения, нарративистская модель диверсифицировалась настолько, что распалась.
Такой поворот событий ведет к преддверию главной проблемы, которую можно сформулировать так: имелись ли у нарративистского тезиса, который был усовершенствован до того, что стал антинарративистским, какие-либо шансы заменить собой объяснительную модель? Ответим прямо: нет. Между нарративным объяснением и объяснением историческим по-прежнему существует лакуна; она-то и представляет собой само исследование. Именно из-за нее мы не можем считать историю одним из видов рода «story», как это делает Гэлли.
Однако признаки взаимного сближения между движением, влекущим объяснительную модель к повествованию, и движением повествовательных структур к историческому объяснению свидетельствуют о реальности проблемы, на которую нарративистский тезис дает слишком краткий ответ.
Решение проблемы связано с тем, что можно назвать методом возвратного вопрошания (questionnement à rebours)334. Этот метод, используемый Гуссерлем в «Кризисе», относится к ведению генетической феноменологии (под генетическим здесь имеется в виду генезис не в психологическом плане, но генезис смысла). Вопросы, которые Гуссерль ставит по поводу галилеевской и ньютоновской науки, мы ставим применительно к историческим наукам. Мы, в свою очередь, задаемся вопросом о том, что я отныне буду называть интенциональностью исторического познания, или сокращенно исторической интенциональностью. Под этим я понимаю смысл ноэтической направленности, создающей историческое качество истории и предохраняющей ее от растворения в знаниях, которые историография воспринимает благодаря своему браку по расчету с экономикой, географией, демографией, этнологией, социологией ментальностей и идеологий.
Наше возможное преимущество перед Гуссерлем, исследовавшим «жизненный мир», к которому отсылает, по его мнению, галилеевская наука, состоит в том, что возвратное вопрошание, примененное к историографическому знанию, отсылает к уже структурированному куль-
208
турному миру, а никак не к непосредственно жизненному. Оно отсылает к миру действия, уже конфигурированного повествовательной деятельностью, предшествующей с точки зрения смысла научной историографии.
Действительно, этой повествовательной деятельности уже присуща своя собственная диалектика, которая проводит ее через последовательные стадии мимесиса, начиная с префигураций, характеризующих сферу действия, через конфигурации, конституирующие построение интриги — в широком смысле аристотелевского mythos, — до рефигураций, обусловленных столкновением мира текста и жизненного мира.
Теперь моя рабочая гипотеза уточняется: я намереваюсь исследовать, какими косвенными путями парадокс исторического познания (к которому привели обе предшествующие главы) перемещает на высшую ступень сложности парадокс, конституирующий операцию нарративной конфигурации. Уже в силу своего срединного положения между верховьем и низовьем поэтического текста, нарративная операция являет взаимно противоположные черты, контраст которых усиливается историческим познанием: с одной стороны, эта операция рождается из разрыва, открывающего царство фабулы и кладущего начало расколу сферы реального действия, с другой — она отсылает к пониманию, имманентно присущему сфере действия, и к донарративным структурам реального действия 335.
Итак, вопрос заключается в следующем: с помощью каких опосредований историческому познанию удается перенести в свою собственную область двойную структуру конфигурирующей операции рассказа? Или: в силу каких опосредованных дериваций тройной эпистемологический разрыв, превращающий историю в исследование, становится результатом разрыва, создаваемого конфигурирующей операцией на уровне мимесис-ΙI, — и тем не менее по-прежнему косвенно ориентируется на сферу действия, сообразно собственным средствам интелл и гибельности, символизации и донарративной организации на уровне мимесис-1?
Эта задача тем более сложна, что следствием, если не условием, завоевания историей научной автономии, по-видимому, является заранее согласованное забвение ее опосредованного выведения из деятельности нарративной конфигурации и возвращения, через все более и более отдаленные от повествовательной основы формы, к практическому полю и его донарративным возможностям. В силу этого мой замысел также сближается с гуссерлевским исследованием, предпринятым в «Кризисе»: галилеевская наука тоже настолько порвала свои связи с донаучным миром, что сделала почти невозможной реактивацию активных и пассивных синтезов, конституирующих «жизненный мир». Ноу нашего исследования, быть может, есть и другое преимущество перед гуссерлевской генетической феноменологией, ориентированной главным образом — через феномен восприятия — на «структуру вещи»: это
209
преимущество состоит в обнаружении внутри самого исторического познания ряда посредников (relais) для возвратного вопрошания. В этом плане забвение деривации никогда не бывает столь полным, чтобы нельзя было с определенной степенью верности и точности ее реконструировать.
Эта реконструкция будет следовать тому порядку, в котором мы чуть выше представили модальности эпистемологического разрыва: автономия объяснительных процедур, автономия референтных сущностей, автономия времени — или, скорее, времен — истории.
Начав с объяснительных процедур, я хотел бы вернуться, найдя поддержку в исследованиях фон Вригта, к обсуждавшемуся выше вопросу о причинности в истории, точнее, о единичном причиновменении: не для того, чтобы в полемическом духе противопоставить его объяснению посредством законов, но, наоборот, чтобы различить в нем структуру перехода от объяснения посредством законов, часто отождествляемого с объяснением как таковым, к объяснению посредством построения интриги, которое часто отождествляют с пониманием. В этом смысле единичное причиновменение является не одним объяснением наряду с другими, но звеном всякого объяснения в истории. Стало быть, оно представляет собой искомого посредника между противоположными полюсами — объяснением и пониманием, — если воспользоваться устаревшей теперь терминологией; или, лучше, между номологическим объяснением и объяснением посредством построения интриги. Сходство между единичным причиновменением и построением интриги позволит говорить о первом, благодаря переносу по аналогии, в терминах квази-интриги.
Переходя к сущностям, полагаемым историческим дискурсом, я хотел бы показать, что не все они относятся к одному уровню, но что их можно упорядочить в соответствии с определенной иерархией. По-моему, история остается исторической в той мере, в какой все ее объекты отсылают к сущностям первого порядка—народам, странам, цивилизациям, — которые несут на себе неизгладимый отпечаток соучаствующей принадлежности (appartenance participative) конкретных агентов, относящихся к практической и повествовательной сферам. Эти сущности первого порядка служат переходным объектом между всеми артефактами, созданными историографией, и персонажами возможного рассказа. Они представляют собой квази-персонажей, способных направлять интенциональную отсылку с уровня истории-науки на уровень рассказа, а через рассказ — к агентам реального действия.
Между посредником в форме единичного причиновменения и посредником в форме сущностей первого порядка — между звеном объяснения и переходным объектом описания — существует тесное взаимодействие. Различение между обеими линиями деривации — выведением процедур и выведением сущностей — имеет поэтому чисто дидактиче-
210
ское значение, настолько переплетены эти линии. Однако важно считать их различными, чтобы лучше понять их взаимодополняемость и, если можно так сказать, взаимопорождение. Отсылка к первичным сущностям, которые я называю сущностями соучаствующей принадлежности, осуществляется в основном по каналу единичного причиновменения. В свою очередь, направленность, пронизывающая причиновменение, ориентирована интересом историка к участию исторических агентов в их собственной судьбе, даже если эта судьба ускользает от них вследствие аномальных эффектов, которые как раз и обусловливают отличие исторического познания от простого понимания внутреннего смысла, присущего действию. В силу этого квази-интрига и квази-персонаж относятся к одному и тому же промежуточному уровню и выполняют аналогичные функции посредника в возвратном движении вопроса от историографии к рассказу и за пределы рассказа, к реальной практике.
Последнее испытание моей рабочей гипотезы относительно исторической интенциональности представляется очевидным: оно касается эпистемологического статуса исторического времени по отношению к временности рассказа. Чтобы сохранить верность главному сюжету данной книги — повествовательности и временности, — наше исследование историографии должно продвинуться до этой точки. Важно показать две вещи: с одной стороны, что время, конструируемое историком, конструируется на втором, третьем, на энном уровне над конструируемой временностью, теория которой была изложена в первой части книги (мимесис-II); с другой стороны, что это конструируемое время, сколь бы искусственным оно ни было, постоянно отсылает к практической временности мимесис-Ι. Конструируемое над..., отсылающее к...: эти два взаимосвязанных отношения характеризуют также процедуры и сущности, создаваемые историографией. Параллелизм с двумя другими посредниками заходит еще дальше. Подобно тому как в исторической причинности и в сущностях первого порядка я ищу посредников, способных направлять отсылку структур исторического познания к работе нарративной конфигурации, которая сама отсылает к нарративным префигурациям практического поля, — сходным образом я хотел бы продемонстрировать в судьбе исторического события одновременно и симптом возрастающего отклонения исторического времени от времени рассказа и времени жизни, и симптом постоянной отсылки исторического времени через время рассказа ко времени действия.
Проводя анализ последовательно в трех этих планах, мы обратимся только к свидетельству историографии, доходящей до предела критической саморефлексии.
211
1. Единичное причиновменение
Единичное причиновменение — это процедура объяснения, осуществляющая переход от нарративной причинности (структура «одно вследствие другого», которую Аристотель отличал от «одно после другого») к объяснительной причинности, которая в номологической модели не отличается от объяснения при помощи законов.
Изучение этого перехода опирается на исследования У. Дрея и Г. Х. фон Вригта, описанные в начале предшествующей главы. Благодаря первому мы усвоили тезис, что каузальный анализ отдельного хода событий не сводится к применению каузального закона. Двойное испытание — индуктивное и прагматическое, — посредством которого подтверждаются права того или иного кандидата на роль причины, сближается с логикой причиновменения, разработанной Максом Вебером и Раймоном Ароном. Но здесь недостает согласования между теорией каузального анализа и теорией рационального анализа. Эту связь осуществил Г. Х. фон Вригт в исследовании квазикаузального объяснения. Рациональное объяснение отождествляется с элементами телеологического умозаключения, последовательно соединенными друг с другом в этом специфическом типе объяснения. Но телеологическое умозаключение, в свою очередь, базируется на нашем предварительном понимании интенциональности действия. А действие таким же образом отсылает к нашему знакомству с логической структурой «сделать что-что» (вызвать что-то, сделать так, чтобы что-то произошло). Но сделать так, чтобы что-то произошло, — значит вмешаться в ход событий, приводя в движение систему и подтверждая тем самым ее закрытость. Посредством этой серии обрамлений — телеологическое умозаключение, интенциональное понимание, практическое вмешательство — квазикаузальное объяснение, которое прилагается в качестве каузального объяснения только к индивидуальным проявлениям родовых феноменов (событий, процессов, состояний), в конечном счете отсылает к тому, что мы обозначаем теперь термином единичного причиновменения.
Более точное изложение логики единичного причиновменения содержится в критическом исследовании Макса Вебера, посвященном работе Эдуарда Майера «Zur Theorie und Methodik der Geschichte» (Halle, 1901)336; к нему следует добавить ключевое для нашей работы исследование Раймона Арона из третьего раздела его «Введения в философию истории» 337. Эта логика заключается главным образом в том, что при помощи воображения конструируется иной ход событий, затем взвешиваются вероятные последствия реального события, наконец, эти последствия сравниваются с реальным ходом событий. «Для того чтобы понять природу реальных (wirkliche) причинных связей, мы конструируем связи нереальные (unwirkliche)» (Макс Вебер, op. cit., р. 287 [с. 483]). У Аро-
212
на: «Всякий историк, чтобы объяснить то, что было, задается вопросом о том, что могло бы быть» (р. 164).
Именно это вероятностное воображаемое конструирование являет сходство, с одной стороны, с построением интриги, также представляющим собой вероятностное воображаемое конструирование, а с другой стороны — с объяснением посредством законов.
Проследим внимательнее за аргументацией Макса Вебера 338.
Возьмем решение Бисмарка развязать войну против Австро-Венгрии в 1866 году: «Вопрос, что могло бы случиться, если бы Бисмарк... не принял решения начать войну, — замечает Макс Вебер, — отнюдь не “праздный”» (S. 266) [с. 465]. Поймем правильно этот вопрос. Он заключается в следующем: «Какое каузальное значение следует придавать индивидуальному решению во всей совокупности бесконечного множества “моментов”, которые должны были бы быть именно в таком, а не ином соотношении для того, чтобы получился именно этот результат, и какое место оно, следовательно, должно занимать в историческом изложении событий» (ibid.) [там же]. Вот эта оговорка: «в таком, а не ином» — и свидетельствует о появлении на сцене воображения. Начиная с этого момента рассуждение движется среди нереальных прошедших условных наклонений. Но история перемещается в нереальное лишь для того, чтобы лучше различить в нем необходимое. Ставится вопрос: «...каких... последствий следовало бы “ожидать” при ином решении?» (S. 267) [с. 466]. Тогда в игру вступает исследование возможных или необходимых связей. Если историк может утверждать, что, изменяя или мысленно пропуская отдельное событие в комплексе исторических условий, он проследил бы иное развитие событий «в определенном исторически важном отношении» [с. 467], тогда он может вынести суждение о причиновменении, определяющее историческое значение названного события.
Это рассуждение, по-моему, ведет в двух направлениях: с одной стороны, к построению интриги, с другой — к научному объяснению.
Собственно говоря, ничто к тексте Макса Вебера не указывает на то, что автор обратил внимание на первое соотношение. Это мы должны его установить при помощи современных средств нарратологии. Но два замечания Макса Вебера представляют интерес в этом плане. Историк, говорит он вначале, находится и не находится в положении самого агента, который до совершения действия взвешивает возможные его способы, стоящую перед ним цель и те средства, которыми он располагает. Мы формулируем именно тот вопрос, который мог бы задать себе Бисмарк, но при этом нам известен исход событий; вот почему мы задаем его «со значительно большим шансом на успех» (S. 267) [с. 466], чем наш герой. Выражение «значительно больший шанс», конечно, предвещает вероятностную логику, о которой речь пойдет дальше; но не отсылает ли оно прежде всего к той удивительной лаборатории вероятного, какой явля-
213
ются парадигмы построения интриги? Макс Вебер замечает также, что историк и похож на криминалиста, и отличен от него: ведя расследование виновности, он расследует и вопрос о причинности; но к причиновменению он прибавляет и этическое вменение в вину; однако, что такое причиновменение, очищенное от этического вменения, если не испытание схем альтернативных интриг?
Но причиновменение на всех своих стадиях связано с научным объяснением. Прежде всего, объяснение предполагает детальный анализ факторов, нацеленный на отбор звеньев причинности, «которые должны войти в историческое изложение» (S. 269, прим. 1) [с. 491]. Конечно, этим «мысленным вычленением» движет наше историческое любопытство, то есть наш интерес к некоторому классу результатов. Это один из смыслов термина «важность»: в убийстве Цезаря историка интересуют только существенные последствия этого события для развития мировой истории, которые он считает наиболее важными. Но обсуждение, которое вновь увязло бы в споре о субъективности и объективности в истории, прошло бы мимо высокоинтеллектуального характера абстрагирующей операции, предшествующей деланию возможным (possibilisatiоn). Затем, мысленно модифицировать определенным образом тот или иной предварительно выделенный фактор — это значит конструировать альтернативные ходы событий, среди которых событие, важность которого взвешивается, является решающим. Тогда именно взвешивание последствий устраненного гипотетическим путем события придает логическую структуру каузальной аргументации. Но каким образом мы конструируем последствия, которые могло бы повлечь за собой воображаемое изъятие одного фактора, если не включая в рассуждение то, что Макс Вебер называет «эмпирическими правилами» (S. 276) [с. 473], то есть в конечном счете знание, которое следует назвать «номологическим» (S. 277) [там же]? Конечно, эти правила очень часто не превосходят уровня диспозиционального знания, как сказали бы Г. Райл и П. Гардинер: Макс Вебер имеет в виду именно правила, касающиеся «того, как люди обычно реагируют на данную ситуацию» (ibid.) [там же]. Тем не менее их достаточно, чтобы показать, каким образом законы могут, как говорилось выше, использоваться в истории, даже если они не установлены историей.
Эти две первые черты — анализ факторов и обращение к эмпирическим правилам — все же не полностью чужды нарративной «логике», особенно если переместить ее с поверхности текста в его глубинную грамматику, как мы увидим в третьей части. Подлинным показателем научности, какой способна достичь конструкция, одновременно нереальная и необходимая, является применение к сравнительному взвешиванию причин теории «объективной возможности», которую Макс Вебер заимствует у физиолога фон Криса 339. Именно эта третья черта обо-
214
значает реальную дистанцию между объяснением посредством рассказа и объяснением посредством причиновменения.
Рассматриваемая теория в основном нацелена на возведение нереальных конструкций в ранг суждения об объективной возможности, которое приписывает различным факторам причинности относительную вероятность и таким образом позволяет разместить эти факторы на одной шкале, хотя градации, которые устанавливает это суждение, не могут быть определены количественно, как это делается при помощи операции, называемой в узком смысле «исчислением вероятностей». Эта идея градуированной причинности придает причиновменению определенность, каковой совершенно лишена вероятность, упоминаемая Аристотелем в его теории интриги. Степени вероятности располагаются, таким образом, между нижним порогом, который определяет случайную причинность (например, в случае движения руки, бросающей игральные кости, и выпадения конкретной цифры), и верхним порогом, определяющим, по терминологии фон Криса, адекватную причинность (как в случае решения, принятого Бисмарком). Между двумя этими крайностями можно говорить о более или менее благоприятном влиянии определенного фактора. Опасность, очевидно, кроется в том, что посредством неявного антропоморфизма мы материализовали степени относительной вероятности, приписанные причинам, которые сопоставляет наше рассуждение, и придали им форму антагонистических тенденций, борющихся за преобразование возможности в реальность. Этому содействует обыденный язык, когда он вынуждает нас говорить, что какое-то событие благоприятствовало или препятствовало появлению другого события. Чтобы рассеять это недоразумение, достаточно вспомнить, что возможности представляют собой нереальные каузальные отношения, которые мы мысленно сконструировали, и что объективность «шансов» относится к сфере суждения о возможности.
Только в конце этого испытания фактор приобретает статус достаточной причины. Этот статус объективен в том смысле, что данный аргумент не относится к сфере компетенции исключительно психологии открытия гипотез, но (как бы ни обстояло дело с талантом, которым великий историк должен быть наделен не в меньшей мере, чем великий математик) составляет логическую структуру исторического познания или, согласно самому Максу Веберу, «прочный остов сведéния элементов действительности к их причинам» (S. 279) [с. 476] 340.
Мы видим, где существует непрерывность и где имеется прерывность между построением интриги и единичным причиновменением. Непрерывность существует на уровне роли воображения. В этом отношении о построении интриги можно было бы сказать то же, что Макс Вебер говорит о мысленном конструировании иного хода событий: «Для того чтобы понять природу реальных причинных связей, мы конструируем связи нереальные)) (S. 287) [с. 483). Прерывность же присуща
215
анализу факторов, введению эмпирических правил, и в особенности определению степеней вероятности, которое позволяет установить адекватную причинную обусловленность.
Это значит, что историк не является простым нарратором: он раскрывает мотивы, по которым он считает какой-то фактор — скорее, нежели некий другой, — достаточной причиной определенного хода событий. Поэт создает интригу, которая тоже держится на каузальном остове. Но этот остов не является объектом аргументации. Поэт только создает историю и объясняет, рассказывая. В этом смысле Нортроп Фрай справедливо заметил 341: поэт действует исходя из формы, историк — по направлению к форме. Один создает, другой аргументирует. Он аргументирует, ибо знает, что можно объяснить иначе. А знает он это, поскольку, подобно судье, находится в ситуации оспаривания и судебного процесса и поскольку его защитная речь никогда не заканчивается: ведь испытание имеет большую убедительную силу для исключения кандидатов на звание причины, как сказал бы Уильям Дрей, нежели для окончательного присуждения этого звания кому-то одному.
Однако, повторяем, родственная связь исторического объяснения с объяснением нарративным не может быть разорвана, поскольку адекватная причинность остается несводимой к одной логической необходимости. Одно и то же отношение непрерывности и прерывности связывает единичное каузальное объяснение и с объяснением через законы, и с построением интриги.
Возьмем вначале прерывность. Она лучше представлена в исследовании Р. Арона, чем у М. Вебера. В параграфе, посвященном отношению между причинностью и случайностью, Р. Арон не ограничивается тем, что помещает случайность на одном из концов шкалы ретроспективной вероятности, в противоположность адекватной вероятности. Определение случайного как того, чья объективная возможность почти ничтожна, значимо только для изолированных рядов. Перенятое у Курно рассмотрение фактов совпадения между рядами, или между системами и рядами, делает понятие случайности более выразительным, что подчеркивается относительностью вероятностной теории Макса Вебера: «Событие можно назвать случайным по отношению к одной совокупности антецедентов, и адекватным по отношению к другой. Оно случайно, поскольку многочисленные ряды пересекаются; оно рационально, поскольку на высшем уровне находится упорядоченное целое» (р. 178). Кроме того, следует учитывать и «неопределенность, связанную с разграничением систем и рядов, со множеством непредвидимых структур, которые волен сконструировать или вообразить ученый» (р. 179). Поэтому в рассуждении о ретроспективной вероятности случайность нельзя свести к простой противоположности адекватной причинности.
Что касается непрерывности между единичным каузальным объяснением и объяснением посредством законов, то она обозначена не менее
216
определенно, чем прерывность. В этом плане показательно отношение между историей и социологией. Раймон Арон определяет его так: «Социология характеризуется стремлением установить законы (или по крайней мере регулярности или общие положения), тогда как история ограничивается рассказом о событиях в их единичной последовательности» (р. 190). И еще: «Историческое исследование имеет дело с антецедентами единичного факта, социологическое исследование — с причинами факта, способного появиться вновь» (р. 229). Но тогда слово «причина» изменяет свой смысл: «Причина в глазах социологов — это постоянный антецедент» (р. 191). И все же взаимодействия между обеими модальностями причинности — причинностью исторической и социологической — более существенны, чем их расхождения. К тому же установление историком ретроспективной вероятности какой-либо исторической констелляции включает в себя в качестве номологического элемента эмпирические обобщения, а они, в свою очередь, направляют к исследованию регулярностей того, кого Раймон Арон называет «ученым» в противоположность «судье». Предпринятое во «Введении...» исследование социологической причинности имеет целью показать оригинальность этой формы причинности и одновременно ее зависимость по отношению к исторической причинности, то есть к единичному причиновменению. Таким образом, историческая причинность обладает странным статусом исследования, недостаточного по отношению к исследованию регулярностей и законов и избыточного по отношению к абстракциям социологии. Заимствуя у социологии регулярности, лежащие в основе пробабилизма, она тут же полагает внутренний предел претензии социологии на научность.
В силу этой эпистемологической двойственности исторический детерминизм, стремящийся встать еще на одну ступень выше социологического объяснения, в свою очередь подтачивается изнутри случайностью, которую сохраняет историческая причинность: «Каузальные отношения рассеиваются, они не организуются в систему таким образом, чтобы объяснять друг друга, как иерархизированные законы физической теории» (р. 207). В этом смысле социологическая причинность скорее отсылает к исторической причинности, чем поглощает ее: «Детерминизм, присущий отдельным частям, регулярным образом действует только в единичной констелляции, которая никогда в точности не повторяется» (р. 226). И еще: «Абстрактные отношения никогда не исчерпывают единичной констелляции» (р. 230).
Итак, нужно сделать вывод, что второй аспект осуществляемого единичным причиновменением опосредования между повествовательным уровнем и уровнем эпистемическим являет ту же диалектику непрерывности и прерывности, что и первый аспект: «Взаимодополняющие и одновременно различающиеся между собой, причинность социологическая и причинность историческая нуждаются друг в друге» (р. 190).
217
Здесь вновь находит подтверждение оригинальность Р. Арона по отношению к Максу Веберу, обусловленная философской направленностью, которая отличает его работу. Так, настойчивость, с какой подчеркивается зависимость детерминизма, свойственного отдельным частям, от единичной исторической причинности, глубоко гармонирует с «исторической философией» (напомним, что так называется книга Гастона Фессара), в которую встроена эпистемология «Введения в философию истории»; мы имеем в виду борьбу против иллюзии фатальности, создаваемой исторической ретроспекцией, и защиту случайности настоящего, необходимой для политического действия. Перенесенная на задний план этого большого философского проекта, логика ретроспективной вероятности обретает точное значение, представляющее непосредственный интерес для нашего исследования исторической временности: «Каузальное исследование, проводимое историком, — говорит Арон, — не столько обрисовывает крупные черты исторического рельефа, сколько сохраняет или воспроизводит в прошлом неопределенность будущего» (р. 181-182). И еще: «Нереальные конструкции должны оставаться составной частью науки, даже если они не выходят за рамки сомнительной правдоподобности, ибо они предоставляют единственный способ избежать ретроспективной иллюзии фатальности» (р. 186-187). Как это возможно? Нужно понять, что операция воображения, с помощью которой историк мысленно полагает один из исчезнувших или изменившихся антецедентов, а затем пытается сконструировать то, что, согласно этой гипотезе, могло бы быть прошлым, имеет значение, выходящее за пределы эпистемологии. Историк поступает здесь как нарратор, который вновь определяет— по отношению к некоему вымышленному настоящему — три измерения времени. Размышляя о другом событии, он противопоставляет ухронию гипнозу завершенности. Ретроспективная оценка вероятностей приобретает, таким образом, моральное и политическое значение, которое превосходит ее чисто эпистемологическое значение; она напоминает читателям истории: то, что «для историка является прошлым, для исторических персонажей было будущим» (р. 187). Благодаря своему вероятностному характеру каузальное объяснение вводит в прошлое непредвидимость, составляющую примету будущего, а в ретроспекцию — неопределенность события. Последние строки параграфа, озаглавленного «Границы и значение исторической причинности» (р. 183-189) и завершающего анализ исторической причинности, занимают, таким образом, стратегическое положение в структуре «Введения...»: «Предварительный расчет — это условие разумного образа действий, ретроспективных вероятностей правдивого рассказа. Если мы пренебрегаем решениями и мгновениями, жизненный мир заменяется природой или фатальностью. В этом смысле историческая наука, воскрешающая политику, становится современной своим героям» (р. 187).
218
Я хотел бы закончить эту речь в защиту исторической причинности как посредника между построением интриги и объяснением через законы, ответив на возражение, которое свяжет данное обсуждение с темой следующего параграфа, где пойдет разговор о сущностях, характерных для исторического познания.
Возражение это таково: если мы можем еще уловить родство между построением интриги и единичным причиновменением, то это обусловлено границами примера, избранного Максом Вебером: решение Бисмарка напасть на Австро-Венгрию в 1866 году. Однако не замыкает ли этот выбор с самого начала всякую аргументацию в политической сфере, то есть в плоскости событийной истории? Не вынуждает ли он ее быть только вариантом «рационального» объяснения? Нет, этого не происходит, если можно по аналогии распространить аргументацию на исторические события большего масштаба, где причина, оставаясь единичной, уже не представляет собой индивида.
Такое расширение по аналогии стало возможным благодаря самой природе вопроса, поставленного в связи с избранным примером 342. Даже когда историк задается вопросом об ответственности индивида за ход событий, он ясно отличает причиновменение, с одной стороны, от этической ответственности, а с другой — от номологического объяснения. По поводу первого момента нужно сказать, что «каузальный анализ никогда не дает оценочных суждений, а оценочное суждение — отнюдь не каузальное объяснение» (р. 225) [с. 425]. В примере, избранном Максом Вебером вслед за Э. Майером, причиновменение заключается в постановке вопроса: «почему это решение было именно в этот момент наиболее верным средством достичь поставленной цели — объединения Германии» (S. 223) [с. 423-424]. Употребление категорий средства и цели не должно создавать иллюзии: аргументация, конечно, содержит телеологические элементы, но в целом является каузальной. Она касается каузального значения, которое следует приписать решению, принятому в конкретном ходе событий, включающем и другие факторы, помимо рационального ядра рассматриваемого решения, и среди них — нерациональные мотивации всех главных действующих лиц, а также «лишенные смысла» факторы, связанные с физической природой. Только причиновменение может показать, в какой мере исход действия разочаровал участников или исказил их намерения. Расхождение между намерениями и последствиями как раз и является одним из аспектов каузального значения, приписываемого решению.
Эти замечания примыкают к тезису, который мы неоднократно излагали, о том, что каузальное объяснение, даже когда оно касается исторической роли индивидуального решения, отлично от феноменологии действия в той мере, в какой оно оценивает намерения под углом зрения не только целей, но и результатов. В этом смысле причиновменение по
219
Максу Веберу совпадает с квазикаузальным объяснением фон Вригта, содержащим телеологические и эпистемические элементы 343.
Итак, аргумент единичного причиновменения именно потому с полным основанием можно распространить на сцепления событий, причина которых носит не индивидуальный, а коллективный характер, что уже в избранном примере (историческое значение индивидуального решения) историческое причиновменение не равнозначно моральному вменению в вину.
Правда, возражение могло бы вновь появиться в иной форме: зачем, спрашивается, опять говорить о вменении, если больше нет речи о какой-либо моральной ответственности? Понятие вменения, думается, сохраняет диакритическую функцию, обеспечивая критерий для различения между каузальным объяснением и объяснением номотетическим. Даже когда ход событий, подлежащий каузальному объяснению, вводит в действие не индивидуальные факторы (как мы увидим впоследствии на других примерах), историк рассматривает его как единичный. Я бы сказал, что индивид (индивидуальное решение) — это лишь первый аналог единичной причины. Вот почему аргумент, взятый из анализа исторического значения индивидуального решения, приобретает ценность модели. Вот письма Гёте к Шарлотте фон Штайн (пример опять позаимствован из эссе Макса Вебера о теории истории Эдуарда Майера): одно дело — интерпретировать их каузальным образом, то есть показать, что факты, о которых свидетельствуют эти письма, являются реальными звеньями исторических каузальных связей, то есть развития личности, изображенного в произведении Гёте; другое дело — толковать их как иллюстрацию одного из способов понимания жизни или как случай из психологии эротизма. Оставаясь единичным, каузальное объяснение не ограничивается индивидуальной точкой зрения, ибо этот тип поведения может, в свою очередь, войти в каузальное целое истории немецкой культуры: в этом случае сам индивидуальный факт не является звеном исторического причинного ряда, но служит «выявлению фактов, необходимых в качестве компонентов таких причинных рядов» (S. 244) [с. 443-444]. Эти причинные ряды, в свою очередь, являются единичными, хотя и включают в себя типичные факты. Именно эта единичность причинных рядов обусловливает различие между причиновменением и номотетическим объяснением 344. Как раз потому, что каузальное объяснение единично, и в этом смысле реально, возникает вопрос о важности того или иного исторического фактора. Понятие важности приобретает значение только в каузальном объяснении, а не в объяснении номотетическом 345.
Тезис о том, что понятие единичного причиновменения в принципе может быть отнесено не только к индивидам, подтверждается другим примером, который Макс Вебер вновь заимствует у Э. Майера. Историк может задаваться вопросом об историческом значении битвы при Сала-
220
мине346, не разлагая это событие на множество индивидуальных действий. Битва при Саламине для историка в определенной речевой ситуации является событием уникальным в той мере, в какой она сама по себе может быть объектом единичного причиновменения. Это действительно так, если можно показать, что данное событие является выбором между двумя возможностями, вероятность которых поддается оценке, хотя и не количественной: с одной стороны, теократически-религиозной культурой, которая была бы навязана Греции в случае поражения (что можно реконструировать на основе других известных факторов и путем сравнения со сходными ситуациями, в частности, персидским протекторатом над евреями на обратном пути из изгнания); с другой стороны, свободным развитием эллинского духа. Победа при Саламине может считаться адекватной причиной этого развития; действительно, мысленно устраняя событие, устраняют и цепь иных факторов: создание аттического флота, усиление борьбы за свободу, историографическую любознательность и т.д. — все факторы, которые мы объединяем под названием «возможности», реализованной в данном событии. Пожалуй, именно значение, которое мы придаем уникальным культурным ценностям эллинского свободного духа, заставляет нас интересоваться мидийскими войнами. Но как раз создание — путем абстрагирования — «воображаемой картины» и анализ последствий события, полагаемого устраненным, составляют логическую структуру каузального аргумента. Таким образом, каузальный аргумент остается единичным причиновменением, даже если он больше не прилагается к индивидуальному решению.
Но собственное творчество Макса Вебера дает нам гораздо более показательный пример единичного причиновменения, не относящийся к сфере индивидуального решения и военно-политической истории. Аргументация, использованная в работе «Протестантская этика и дух капитализма», в точности соответствует методу каузального умозаключения, который мы только что описали. Рассмотренная в книге связь между определенными чертами протестантской этики и некоторыми особенностями капитализма представляет собой единичную причинную цепь, хотя речь здесь идет не об индивидах, взятых поочередно, а о ролях, ментальностях.и институтах. Кроме того, каузальная связь структурирует единичный процесс, который делает несущественным различие между точечным событием и большой длительностью. Тезис, защищаемый в данной работе Макса Вебера, является в этом плане примечательным случаем единичного причиновменения.
Но как артикулируется этот аргумент? Верный абстрагирующему методу, Вебер выделяет в феномене религии особый компонент — трудовую этику, а в феномене экономики — приобретательский дух, характеризуемый рациональным расчетом, точным приспособлением наличных средств к желаемым целям и приданием большего значения труду
221
как таковому. Тогда вопрос помещается в четкие рамки: речь идет не об объяснении возникновения капитализма как глобального феномена, но об особом видении мира, которое он предполагает. Религиозная концепция аскетического протестантизма сама рассматривается лишь под углом зрения адекватной причинности, обусловливающей дух капитализма. Если проблема очерчивается таким образом, возникает вопрос об адекватности причиновменения при отсутствии всякой регулярности номологического типа. Конечно, здесь применяются эмпирические обобщения, к примеру, утверждение, что доктрину предопределения, лишающую индивида конечной ответственности, можно поддерживать только в том случае, если ее уравновешивают некоторые факторы, дающие защиту от превратностей судьбы, — такие как вера в личный выбор, удостоверенный активным вовлечением в труд. Но подобные эмпирические обобщения являются лишь элементами аргументации, встроенными в индуктивное умозаключение, которое приводит к выводу о том, что причиной духа капитализма является протестантская этика, то есть к выводу о единичном причиновменении — в той мере, в какой две эти конфигурации и их сопряжение остаются в истории уникальными. Чтобы упрочить причиновменение, Макс Вебер совершает в точности те же действия, какие он рекомендует Эдуарду Майеру в посвященной ему статье. Он воображает ход истории, где рассмотренный духовный фактор отсутствовал бы и где другие факторы играли бы роль, которую, как предполагается, выполняет протестантская трудовая этика: среди этих других факторов следует принять во внимание рационализацию права, организацию торговли, централизацию политической власти, технические изобретения, развитие научного метода и т.д. Исчисление вероятностей подсказывает, что в отсутствие рассмотренного духовного фактора этих других факторов было бы недостаточно, чтобы произвести действие, о котором идет речь. Например, воцарение научного метода могло бы привести к сосредоточению энергии на специфической задаче— точному согласованию между средствами и целями. Но недоставало бы эмоциональной силы и широты распространения, что могла обеспечить только протестантская этика. Поэтому вероятность того, что научный метод способен был бы преобразовать традиционную этику в буржуазную этику труда, весьма незначительна. Аналогичное рассуждение следовало бы применить к другим кандидатам на роль причинности, прежде чем охарактеризовать протестантскую этику как адекватную причину развития духа капитализма. Вот почему адекватность причиновменения равнозначна доказательству не необходимости, но лишь вероятности.
Распространяя единичное причиновменение на историческое развитие, в котором нельзя уже выделить ни индивидуальных решений, ни точечных событий, мы достигли пункта, где историческое объяснение по видимости порывает свои связи с рассказом. И все же филиация, этапы
222
которой мы только что реконструировали путем вольного прочтения текста Макса Вебера и при содействии «Введения в философию истории» Раймона Арона, позволяет нам по аналогии применить понятие интриги ко всем формам единичного причиновменения. На мой взгляд, именно это оправдывает употребление термина «интрига» Полем Вейном, который обозначает так все единичные конфигурации, удовлетворяющие предложенному мною критерию построения интриги, — синтезу разнородного в обстоятельствах, намерениях, взаимодействиях, несчастье, удаче или неудаче. Впрочем, как мы видели, Поль Вейн приблизительно так и определяет интригу: как сопряжение целей, причин и случайностей. Все же, сохраняя связь с выдвинутым мною аргументом об опосредованном отношении исторического объяснения к структуре рассказа, я буду говорить о квази-интриге, чтобы подчеркнуть аналогический характер расширения единичного причиновменения исходя из его главного примера, каузального объяснения результатов индивидуального решения.
Эту аналогию мы и рассмотрим далее, перейдя от вопроса об объяснительных процедурах к вопросу о базовых сущностях исторического познания.
2. Сущности первого порядка в историографии
Из дидактических соображений я различил три подхода к возвратному вопрошанию: подход, отсылающий от объяснительных процедур научной истории к силе объяснения, заключенной в построении интриги рассказа; подход, отсылающий от сущностей, сконструированных историком, к персонажам рассказа; и, наконец, подход, отсылающий от многочисленных времен истории к временно́й диалектике рассказа.
Эти три подхода неразделимы, как и три описанные во введении к этой главе модальности эпистемологического разрыва, которые характеризуются не только 1) одним и тем же типом опосредованной филиации между историографией и нарративным пониманием, но также и 2) одним и тем же обращением к посредникам, которых сама историография предоставляет работе по реконструкции исторической интенциональности.
1). Прежде всего, мы подчеркиваем косвенный характер нарративной филиации, что находит свое подтверждение как в плане сущностей, так и в плане процедур. На мой взгляд, допущением, из которого здесь следует исходить, является эпистемологический разрыв между сущностями историографии и персонажами повествования. Какой-либо персонаж можно идентифицировать, обозначить именем собственным, считать ответственным за действия, которые ему приписываются; он их ав-
223
тор или жертва; из-за них он становится счастливым или несчастным. Но сущности, с которыми история соотносит перемены, подлежащие объяснению, не являются, если придерживаться ее эксплицитной эпистемологии, персонажами: социальные силы, оперирующие на заднем плане индивидуальных действий, в полном смысле слова анонимны. В этом и состоит данное допущение, чье значение, похоже, не признается той формой «эпистемологического индивидуализма», согласно которой всякое социальное изменение в принципе можно разложить на элементарные действия, приписываемые индивидам, которые являются их авторами и в конечном счете несут за них ответственность. Заблуждение методологического индивидуализма заключается в требовании принципиально редуцирующей операции, — что в действительности никогда не может привести к успеху. Я вижу в этом и выражение требования непосредственной деривации, не признающего специфической природы возвратного вопрошания, хотя только оно и применимо в этой области. Лишь опосредованная деривация может сохранить эпистемологический разрыв, не разрушая интенциональной направленности исторического познания-
2). Итак, вопрос состоит в том, действительно ли эта интенциональная направленность располагает на уровне исторических сущностей посредником, сходным с тем, каким на уровне объяснительных процедур является единичное причиновменение.
Такой посредник имеется; он выступает в форме сущностей первого порядка исторического познания, то есть социеталъных сущностей, которые, будучи неразложимыми на множество индивидуальных действий, все же по своей структуре и определению соотносятся с индивидами, могущими считаться персонажами рассказа. Во введении к данной главе я назвал эти сущности первого порядка сущностями соучаствующей принадлежности. Впоследствии мы дадим объяснение этому названию.
К этим-то сущностям первого порядка главным образом и прилагаются объяснительные процедуры, которые мы объединили под названием единичного причиновменения. Иначе говоря, процедурам опосредования между научным объяснением и объяснением через построение интриги соответствуют переходные объекты, осуществляющие опосредование между сущностями историографии и нарративными сущностями, которые мы называем персонажами рассказа. Соучаствующая принадлежность для этих сущностей — то же, что единичное причиновменение для процедур историографии.
Всякий историк — и пример Броделя, к которому мы вернемся в третьем разделе, это полностью подтверждает, — даже если он остерегается эпистемологии, придуманной философами, рано или поздно приходит к необходимости упорядочения сущностей, которые он использует в своем дискурсе. Генетическая феноменология сопровождает и проясня-
224
ет эту работу по упорядочиванию. Тогда как для профессионального историка упорядочение сущностей в достаточной мере оправдывается своей эвристической плодотворностью, генетическая феноменология пытается соотнести иерархизацию уровней дискурса с интенциональностъю исторического познания, с его конститутивной ноэтической направленностью. Для этого она стремится показать, что упорядочивание, осуществляемое историком, не является только методологическим приемом, но обладает собственной интеллигибельностъю, которую можно уяснить путем рефлексии. Эта интеллигибельность сводится к возможности проследить в двух направлениях иерархию, устанавливаемую историческим дискурсом между его референтными сущностями. Первый маршрут — если угодно, восходящий — обозначает возрастающее расхождение между планом рассказа и планом истории-науки. Второй — нисходящий — отмечает серию отсылок, которые вновь направляют анонимные сущности исторического дискурса к персонажам возможного рассказа. Интеллигибельность упорядочения вытекает из обратимости обоих направлений.
Именно это исследование интеллигибельности дает возможность определить базовые сущности исторического дискурса. Эти сущности соучаствующей принадлежности расположены в точке пересечения восходящего и нисходящего маршрутов. Такое стратегическое положение и делает их определение основой возвратного вопрошания.
1. Чтобы успешно осуществить замысел опосредованной деривации, нам следует обратиться за помощью к работе Мориса Мандельбаума «The Anatomy of Historical Knowledge», невзирая на враждебность ее автора по отношению к нарративистским тезисам 347. Он преподал мне два урока, которые я учел при разработке метода возвратного вопрошания. Первый касается упорядочения сущностей, на которые направлен дискурс историка. Второй связан с корреляцией между тем, что Мандельбаум считает сущностями первого порядка в историческом познании, и процедурой причиновменения, теорию которого мы построили: этот второй урок позволит соединить обе линии возвратного вопрошания — линию сущностей и линию процедур. Но начнем с рассуждения о базовых сущностях.
Эпистемология Мориса Мандельбаума равно удалена от модели подведения под законы и от нарративистской версии. Сторонникам первой модели он возражает, что, несмотря на типичный характер ситуаций и событий, о которых толкует история, и вопреки использованию ею обобщений, история преимущественно судит о «том, что действительно особым образом происходило в определенных местах на протяжении определенного промежутка времени... Стало быть, известный тезис, согласно которому историки скорее занимаются частностями, чем создают объяснительные обобщения, кажется мне вполне обоснованным» (р. 5). Иначе говоря, Мандельбаум принимает в расчет проведенное
225
Виндельбандом различие между науками идиографическими и номотетическими 348. Сторонникам второй модели автор возражает, что история — это исследование, то есть дисциплина, стремящаяся подтвердить подлинность своих высказываний, обосновать отношения, которые она устанавливает между событиями: вот почему, несмотря на интерес к единичным констелляциям, она интерполирует регулярности в свои цепочки отношений. Я не буду обсуждать эти допущения, которые достаточно хорошо согласуются с выводами первой и второй частей моей книги.
В этом контексте выдвигается тезис, который я хочу теперь рассмотреть: тезис о том, что минимальный объект истории принадлежит к социетальной сфере. История исследует мысли, чувства, действия индивида в специфическом аспекте их социального окружения: «Только в той мере, в какой индивиды рассматриваются по отношению к природе и к изменениям общества, существующего в определенное время и в определенном месте, они представляют интерес для историков» (р. 10). На первый взгляд этот тезис, взятый изолированно, только подтверждает наличие прерывности между уровнем истории и уровнем рассказа, персонажей которого надлежит идентифицировать как индивидов, ответственных за свои действия. Но более точное определение термина общество выводит нас к специфической проблематике базовых сущностей. Ее исходный пункт — различие между двумя модальностями историографии: «общей историей» и «специальными историями» (р. 11). Общая история изучает отдельные общества, такие как народы и страны, чье существование непрерывно. Специальные истории занимаются абстрактными аспектами культуры, такими как технология, искусство, наука, религия, — которые, не обладая сами непрерывным существованием, связаны между собой лишь инициативой историка, ответственного за определение того, что считать искусством, наукой, религией и т.д.
В силу своей противоположности понятию культуры понятие общества как предельного референта историографии получает определение, которое позволит мне в дальнейшем охарактеризовать его как переходный объект между уровнем рассказа и уровнем объяснительной истории.
Уточним понятие общества в его противопоставлении понятию культуры: «Общество, я полагаю, состоит из индивидов, которые живут в организованной общности, владеющей определенной территорией; организация подобной общности опирается на институты, служащие определению статуса различных индивидов и приписывающие им роли, выполнение которых необходимо для упрочения непрерывного существования общности» (р. 11).
Представляют интерес три компонента этого определения: первый связывает общность и ее длительность с местностями, второй соотносит ее с индивидами, приписывая им институционализированную роль, тре-
226
тий характеризует общность через ее непрерывное существование. Этот третий компонент позволит впоследствии перебросить мост между базовыми сущностями и процедурами каузальной связи, которые соответствуют им на этом уровне.
Понятие культуры охватывает все достижения, обусловленные созданием общества, включенные в индивидуальный обиход и переданные традицией: язык, технику, искусство, способы поведения, религиозные и философские верования, — в той мере, в какой эти разнообразные функции встроены в социальное наследие индивидов, живущих в определенном обществе.
Конечно, это различение между обществом и культурой не всегда можно провести. Почему, спрашивается, институты, в том числе системы родства, распределение благ и организация труда, которые определяют индивидуальные роли, отнесены к обществу, а не к культуре? Ответ дает третья характеристика общества, а именно то, что общество является отдельным и существует непрерывно; из этого следует, что тот или иной институт относится к обществу, а не к культуре, поскольку он представляет собой фактор интеграции отдельного общества, существующего непрерывным образом. Напротив, виды деятельности, определяющие культуру, являются абстракциями отдельных обществ, и их модальности группируются под одним и тем же классифицирующим понятием с помощью дефиниции, которую ему дают историки и которая может быть совершенно различной у разных авторов.
Это различение между историей отдельных обществ и историей классов деятельностей указывает на два крайних полюса набора промежуточных случаев. Так, феномен общества можно анализировать в разных аспектах: политическом, экономическом, социальном и др., — выделение, определение, отношения которых обусловлены методологическим выбором, превращающим их — равно как и деятельности, отнесенные к культуре, — в артефакты. Но коль скоро эти аспекты рассматриваются как «грани» отдельного общества, они в конечном счете характеризуют его; эти грани можно соотнести с глобальным социетальным феноменом благодаря его примечательной черте, а именно тому, что он конституируется сетью институтов и форм власти, которые в силу неопределенного удельного веса пригодны для исследования в переменном масштабе, по типу географических карт. Эта доступность социетального феномена для анализа под углом зрения аспектов, измерений или граней обеспечивает переход от общей истории (я предпочел бы сказать «глобальной») к специальным историям (или лучше: специализированным). Но одно дело — абстрагировать эти аспекты и группировать их в классы, которые становятся главной непосредственной темой специализированной истории, и другое дело — относить эти аспекты к отдельному обществу, характеризовать это общество все более содержательно и проницательно, воссоздавая таким путем его единичную
227
идентичность. Возможно и обратное рассуждение относительно специализированных историй: они каждый раз избирают основной темой «класс» отдельных деятельностей — технику, науку, искусство, литературу, философию, религию, идеологию; однако класс — это не конкретное целое, но артефакт метода. Так, историк искусства собирает в коллекцию разрозненные произведения согласно критериям той концепции искусства, которой он придерживается; однако это уточняющее ограничение не всецело подвластно историку искусства; произведения встраиваются в традиции и в сетки влияний, свидетельствующие об их укоренении в исторической непрерывности отдельных обществ, которая и делает возможной непрерывность заимствования. Тем самым специализированные истории отсылают к общей, или глобальной, истории.
Следовательно, в зависимости от того, ставится ли акцент на искусственном характере связей между культурными продуктами или на традициях, обусловливающих их причастность временно́й непрерывности отдельных обществ, исследование тяготеет к специализированной истории или к истории глобальной. Полуавтономия институтов и форм деятельности позволяет отнести их либо к единичным констелляциям, определяющим феномен общества, либо к классам продуктов и произведений, которые определяют феномен культуры 349.
Каким же образом понятие общества в смысле Мандельбаума может служить посредником для выведения исторических сущностей из персонажей рассказа? Подобно тому как единичное причиновменение обнаруживает родство с построением интриги (что дает основание говорить в связи с ним о квази-интриге и даже об интриге в широком смысле слова), так и общество, понимаемое как отдельная сущность, выступает в историческом дискурсе как квази-персонаж. Этот перенос по аналогии не сводится к риторическому эффекту. Он получает двоякое обоснование — в теории рассказа и в структуре социетального феномена.
В самом деле, с одной стороны, понятие персонажа, понимаемого как тот, кто совершает действие, вовсе не предполагает, чтобы персонаж был индивидом. Как покажет подробный литературный анализ в третьей части книги, место персонажа может занимать всякий, кто описывается в рассказе как грамматический субъект предиката действия в базовом повествовательном предложении «X делает R». В этом смысле история только продолжает и усиливает разъединение персонажа и реального актора, осуществляемое построением интриги. Можно даже сказать, что она способствует приданию персонажу его полного нарративного значения. Индивид, несущий ответственность, — лишь первый в ряду аналогичных индивидов, среди которых фигурируют народы, страны, классы и все общности, иллюстрирующие понятие единичного общества.
С другой стороны, самому социетальному феномену присуща основная черта, определяющая аналогическое расширение роли персонажа.
228
Дефиниция, которую Мандельбаум дает отдельному обществу, была бы неполной без косвенной референции к составляющим общество индивидам. Эта косвенная референция в свою очередь позволяет трактовать само общество как большого индивида, аналогичного индивидам, которые его составляют. Именно в этом смысле Платон говорил о полисе как о душе, изображенной крупными буквами, а Гуссерль в «Пятом картезианском размышлении» называет исторические общности «личностями более высокого порядка» 350.
В этом аргументе следует подчеркнуть два момента.
Первый момент связан с тем, что во всяком определении социетального феномена осуществляется косвенная референция к составляющим его индивидам. Второй момент касается содействия, которое оказывает эта косвенная референция аналогическому расширению роли персонажей до сущностей первого порядка исторического дискурса.
Косвенная референция к индивидам отражена в характеристиках, посредством которых Мандельбаум определяет общество: территориальная организация, институциональная структура, временная непрерывность. Все три характеристики отсылают к индивидам, которые живут на определенной территории, исполняют роли, предписываемые им институтами, и обеспечивают — через смену поколений — историческую непрерывность данного общества. Я называю эту референцию косвенной, поскольку она не является частью непосредственного дискурса историка, который вполне может ограничиться коллективными сущностями, не соотнося их эксплицитным образом с их индивидуальными компонентами. Но если в задачу истории как дисциплины, стремящейся к научности, не входит тематизация этой косвенной референции, то перед генетической феноменологией стоит цель открыть в феномене совместного бытия истоки связи между индивидами и отдельными обществами. Она обнаруживает эти истоки в феномене соучаствующей принадлежности, который соединяет исторические сущности первого порядка со сферой действия. Эта связь квалифицирует носителей действия как членов чего-то... Можно сказать, что эта связь реальна, онтологична, ибо она первична по отношению к ее осознанию данными членами; конечно, ее саму по себе можно распознать, то есть испытать и сообщить о ней; но такое распознавание базируется на самой этой связи, которую оно вносит в язык. Столь же настойчиво следует утверждать онтологическую первичность связи принадлежности и роли символических посредников — норм, обычаев, ритуалов и т.д., — которыми удостоверяется ее распознавание. Из этого следует, что ни уровни познания, ни модальности ее осознания не конституируют эту связь. Помня об этой оговорке, встанем теперь на точку зрения уровней сознания: соучаствующая принадлежность может переживаться с большей силой чувства, как в патриотизме, классовом сознании, местничестве; но она может быть забыта, не принята в расчет, скрыта, даже с горячностью отвергнута теми, кого
229
остальное общество называет отступниками и изменниками, либо теми, которые сами считают себя инакомыслящими, изгнанниками или людьми вне закона. Тогда задачей критики идеологий может быть обнаружение их скрытой верности обществу; но эта критика в свою очередь предполагает первичность связи по отношению к сознанию (и к возможности эксплицитного ее осознания). Как бы ни обстояло теперь дело с модальностями эксплицитного осознания, свидетельство о соучаствующей принадлежности может окрашиваться в самые разные, даже противоположные оттенки — между крайними полюсами одобрения и отвержения, поминания и отвращения (по выражению Франсуа Фюре из книги «Мыслить Французскую революцию» 351, к которой я вернусь в третьем разделе).
Тройная референция социетального феномена к индивиду, обнаруженная выше в определении, данном Мандельбаумом, несомненно производна от связи соучаствующей принадлежности, выявленной генетической феноменологией. Территориальной организации соответствует акт проживания, то есть определения человеческого пространства через совокупность устроительных актов: сооружения крова, обозначения и пересечения порога, совместной жизни, развития гостеприимства и т.д. Приписыванию статуса индивидам посредством институтов соответствуют многочисленные модальности принятия ролей членами группы, то есть способы труда, выполнения профессиональных обязанностей, связи работы и досуга, занятия общественного положения и места в классовых и властных отношениях. Увековечению социального существования соответствует связь между поколениями, которая сплетает воедино любовь и смерть и дает живущим не только современников, но и предков и потомков 352.
Остается вторая часть аргумента, согласно которой косвенная референция социетального феномена к индивидам служит обоснованием аналогического расширения роли персонажей до исторических сущностей первого порядка. В силу этой аналогии данные сущности могут быть описаны как логические субъекты глаголов действия и страдания. Взамен аналогия не требует ничего, помимо косвенной референции социетального феномена к индивидам. Когда мы говорим, что Франция делает или испытывает то-то, это вовсе не означает, что коллективная сущность, о которой идет речь, должна быть сведена к составляющим ее индивидам и что ее действия могут быть дистрибутивно приписаны ее членам, взятым поочередно. О терминологическом переносе от индивида к историографическим сущностям первого порядка нужно сказать, что он является только переносом по аналогии (и не содержит редукционизма) и в то же время он хорошо обоснован феноменом соучаствующей принадлежности.
Признание этой связи между косвенным характером референции к индивиду и аналогическим характером переноса терминов имеет опре-
230
деленные эпистемологические последствия: оно позволяет истории и другим социальным наукам избежать трудностей методологического индивидуализма. Придавая равное значение онтологическому и рефлексивному моментам, связь соучаствующей принадлежности придает равное значение группе и индивиду. Она показывает индивида в контексте того, что Ханна Арендт часто называла «публичной сферой явления». В этом смысле ни одна из трех конститутивных характеристик социетального феномена не может быть выведена из изолированного индивида: ни организация территории, ни институт ролей, ни непрерывность существования. В то же время ни одну из этих черт нельзя определить без референции к индивидуальному действию и взаимодействию между индивидами. Из этого вытекает, что переходный объект исторического познания обнаруживает непреодолимую полярность, которая и выражается в понятии соучаствующей принадлежности 353.
Понятие квази-персонажа, симметричное понятию квази-интриги, в равной мере связано с обоими аргументами: именно потому, что всякое общество состоит из индивидов, оно ведет себя на сцене истории как большой индивид, и историк может приписывать этим единичным сущностям инициативу в определенном ходе действий и историческую ответственность — в смысле Раймона Арона — за определенные результаты, даже не намеченные интенционально. Но именно потому, что техника рассказа научила нас отделять персонаж от индивида, исторический дискурс может осуществить этот перенос на синтаксическом уровне. Другими словами, историографические сущности первого порядка потому только представляют собой посредника между сущностями второго и даже третьего порядка и уровнем реального действия, что само нарративное понятие персонажа является посредником в плане конфигурации между этими сущностями первого порядка, исследуемыми историей, и действующими индивидами, которых предполагает реальная практика. Сущности первого порядка, изучаемые историком, ориентируются на сущности из сферы действия, о которых мы говорили в первой части (мимесис-Ι), лишь посредством нарративной категории персонажа, относящейся к сфере мимесис-ΙI.
2. Симметрия между теорией квази-персонажа и теорией квази-интриги связана, вполне естественно, с тем фактом, что полем приложения единичного причиновменения, в котором мы усмотрели процедуру перехода от исторического объяснения к объяснению нарративному, являются главным образом именно сущности первого порядка, исследуемые историческим дискурсом. Действительно, основная функция каузальной атрибуции заключается в восстановлении непрерывности процесса, единство развития которого по той или иной причине кажется прерванным, даже не существующим. А непрерывное существование, как мы
231
помним, является, согласно Морису Мандельбауму, основным признаком различия между обществом и культурой.
Эта функция каузального объяснения — один из главных тезисов книги Мориса Мандельбаума. Этот тезис решительно порывает с эмпиристской традицией, идущей от Юма, согласно которой причинность выражает регулярную связь между двумя типами логически различных событий; в соответствии с этой традицией, номотетический характер отношения причинности тесно связан с атомистическим характером понятий причины и следствия. Исходя из своего определения базового социального феномена посредством непрерывного существования, автор подвергает критике этот атомистический характер каузальной связи 354.
Уже на перцептивном уровне причинность выражает непрерывность единичного процесса: причина есть весь процесс целиком, следствие — его конечный пункт; для наблюдателя удар по мячу есть причина его движения; и причина включается в состав события. Только из соображений удобства мы изолируем от процесса в целом наиболее изменчивый фактор и тем самым делаем причину отличной от ее следствия: так, плохая погода — причина неурожая. Вопреки Юму нужно сказать, что «анализировать причину частного случая значит восходить к разнообразным факторам, которые совместно несут ответственность за то, что случай был именно таким, а не другим» (р. 74) 355.
Каузальное объяснение всегда сводится к «воссозданию аспектов единого процесса в его непрерывном протекании» (to constitute aspects of asingleongoingprocess, p. 76). Наоборот, объяснение при помощи одного отдельно взятого антецедента есть признак урезанного и сокращенного объяснения. Прагматическое преимущество таких урезанных объяснений не должно заставить забыть, что «причина есть полная совокупность реальных (actually ongoing) обстоятельств или событий, ведущих к данному отдельному следствию и ни к какому иному» (р. 93). В этом смысле существует логическая пропасть между каузальным объяснением, которое всегда касается факторов, отвечающих за частный случай, и формулировкой закона, касающегося неизменной связи между типами событий или свойств. У законов имеется неограниченное множество приложений, именно «потому, что они нацелены на установление связи не между реальными случаями, а между характерными свойствами случаев данного типа» (р. 98), или, если угодно, «скорее между типами факторов, нежели между типами реальных событий» (р. 100).
Из этого вытекают два вывода, значение которых для теории истории нельзя недооценивать. Первый касается включения регулярностей в единичную каузальную атрибуцию. Хотя для объяснения отдельного процесса прибегают к обобщениям, законам, это обобщение не заменяет собой единичности каузального объяснения; хотя мы говорим: х был убит пулей, пронзившей ему сердце, — физиологические законы, касающиеся кровообращения, связывают абстрактные факторы, а не конк-
232
ретные фазы реального процесса; они поставляют строительный раствор, а не материал. Законы прилагаются только seriatim к последовательности условий: нужно дать каузальное объяснение серии обстоятельств, ведущих к конечному результату, чтобы была возможность приложить к этим сериям законы 356.
Вывод второй: объяснение представляет результат непрерывного процесса как детерминированный необходимым образом, поскольку дано начальное состояние системы; ничто иное, кроме этого конкретного результата, не могло произойти. Но это не значит, что событие как таковое было детерминировано. Ведь детерминированным может быть назван только процесс, происходящий в закрытой системе. Для того, чтобы отождествить идею каузальной детерминации с идеей детерминизма, нужно рассмотреть весь универсум как единую систему. Нельзя сказать, что начальное состояние логически обусловливает свое следствие, ибо это следствие вытекает из того случайного факта, что каждое из обстоятельств, взятое в исходной точке, оказалось в такой-то момент в таком-то месте. Итак, каузальная необходимость есть необходимость условная: будучи данной, полная совокупность имевших место (а не каких-либо других) причинных условий была необходимой для того, чтобы имело место реально произведенное следствие. Два этих вывода подтверждают неустранимый, хотя и не исключительный, характер каузального объяснения 357.
Основная — и, на мой взгляд, не имеющая аналогов — особенность теории каузального объяснения Мориса Мандельбаума заключается, как я сказал, в ее тесной связи с анализом исторических сущностей первого порядка. Фактически именно общая история — в смысле, определенном выше, — наиболее полно иллюстрирует тройной тезис, касающийся каузального объяснения, — тезис о том, что причинность есть внутренняя связь непрерывного процесса; что обобщения в форме законов встроены в единичное каузальное объяснение; что каузальная необходимость условна и не предполагает никакой веры в детерминизм. Рассмотрим каждый из этих трех моментов.
Связь между каузальным рассуждением и непрерывным характером социальных феноменов легко объяснима: как говорилось выше, история переходит от описания к объяснению, как только вопрос почему освобождается от вопроса что и делается отдельной темой исследования; а вопрос почему становится автономным, как только анализ факторов, фаз, структур в свою очередь отказывается от претензий на глобальный охват целостного социального феномена. Каузальное объяснение должно тогда восстановить непрерывность, разорванную анализом.
Само это восстановление может следовать двумя путями, в зависимости оттого, делает ли оно акцент на временно́й непрерывности или на структурном единстве. В первом случае — скажем так, случае продольного анализа, — социальный феномен требует анализа и работы рекон-
233
струкции, поскольку цепь событий обладает примечательным свойством: она образует «неопределенно плотный ряд» (р. 123); это свойство допускает любые изменения масштаба; всякое событие может, таким образом, анализироваться как под-событие или интегрироваться в событие большего масштаба. В этом смысле различие между краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным представляет собой лишь временно́й аспект отношения части и целого, доминирующий в историческом объяснении 358.
Этим изменениям масштаба, наблюдаемым при продольном анализе, соответствуют столь же различные уровни в анализе структурном: общество представляет собой институциональную ткань с более или менее крупными петлями, которая допускает различные степени абстракции в институциональной топике; таким образом, конечным пунктом анализа можно считать проведенное Марксом глобальное разграничение между экономикой и идеологией, или между политическими, экономическими, социальными, культурными феноменами; но каждый из этих элементов можно также сделать и отправной точкой функционального анализа.
Обе линии анализа обладают широкой автономией, ибо «маловероятно, чтобы все аспекты социальной жизни и все аспекты культуры претерпевали синхронные изменения» (р. 142). Эти рассогласования содействуют расколу общей истории на специальные истории. В то же время этот раскол делает задачу общей истории более неотложной и специфичной: «Степень единства, которую можно обнаружить в каждую эпоху, становится противоположностью объяснительного принципа: сама эта черта нуждается в объяснении» (ibid.) Но эту степень единства нужно искать лишь в соотнесении частей: «Объяснение целого будет зависеть от понимания связей, которые существуют потому, что его частям придается определенная форма» (р. 142).
Что касается второго тезиса — о необходимости включения обобщений в единичное каузальное объяснение, — то он обусловлен аналитическим характером объяснения: историческое поле — это поле отношений, где никакая связь, будь то продольная или поперечная, не считается достоверной. Вот почему обобщения любого порядка, любого эпистемологического уровня и любого научного происхождения привлекаются для «цементирования» причинности; они в такой же мере касаются институциональных структур, как и предрасположенностей, которые делают человеческое поведение стабильным и относительно доступным предсказанию. Но эти обобщения исторически функционируют лишь при том условии, что они дают объяснение структурам и временны́м последовательностям-, связность которых обусловлена их причастностью к непрерывному целому.
Наконец, различие между условной каузальной необходимостью и универсальным детерминизмом — совершенно того же рода, что различие между общей историей и специальными историями. Поскольку от-
234
дельные общества, представляющие собой предел референции общей истории, неизбежно многочисленны, необходимость, на которую может претендовать историк, реконструируя непрерывность их последовательной или структурной организации, остается фрагментарной и в известной мере локальной. Рассуждение Мандельбаума примыкает здесь к рассуждению фон Вригта о закрытости систем, значении вмешательства агентов в саму операцию закрытия и невозможности для какого-либо субъекта быть одновременно наблюдателем системных связей и активным оператором, приводящим систему в движение. Мандельбаум принимает также веберовское различение адекватной причинности и логической необходимости. Наконец, он усиливает аргумент Раймона Арона, направленный против ретроспективной иллюзии фатальности, и его защиту фрагментарного детерминизма, открытого свободному политическому действию.
Но корень различия между условной каузальной необходимостью и универсальным детерминизмом следует искать в самой природе сущностей первого порядка, которые всегда являются единичными обществами. Что бы ни обозначалось этим словом — страна, класс, народ, общность, цивилизация, — соучаствующая принадлежность, лежащая в основе социетальной связи, порождает квази-персонажей, столь же многочисленных, как и квази-интриги, героями которых они являются. Подобно тому как для историка не существует единственной интриги, способной охватить все интриги, для него не существует также и единственного исторического персонажа, который был бы супер-героем историографии. Плюрализм народов и цивилизаций является неустранимым фактом опыта историка, ибо он является неустранимым фактом опыта тех, кто творит или претерпевает историю. Вот почему единичное причиновменение, осуществляемое в границах этого плюрализма, может претендовать лишь на некоторую каузальную необходимость, обусловленную допущением, что дано такое единичное общество, где существуют люди, действующие совместно.
3. Скажу кратко о сущностях второго и третьего порядка, конструируемых историком, а также о корреляции между процедурами объяснения и этими производными сущностями.
Хорошим руководством здесь вновь служит рассмотренный Морисом Мандельбаумом переход от общей истории к специальным историям. Мы помним характеристики, данные им культурным феноменам, которыми занимаются специальные истории: технологиям, наукам, искусствам, религиям и т.д. Эти феномены: 1) прерывны, 2) разграничены самим историком, который путем уточнения определяет то, что представляет собой культурный феномен того или иного класса, 3) следовательно, менее подвластны объективности, чем общая история. Поскольку моей темой здесь является не спор между объективностью и субъ-
235
ективностью в истории, а эпистемологический статус сущностей, конструируемых историком, я заключу в скобки все, что касается степени произвола, допускаемого специальными историями, и сосредоточу внимание на отношении деривации, которое связывает специальные истории с общей историей.
Эта деривация становится возможной благодаря анализу фаз и структур, который превалирует уже на уровне общей истории, а также благодаря обращению к общим терминам в процессе каузального объяснения.
Опираясь на эту двойную работу абстракции, историк без труда переместит свое внимание от социетального феномена в его непрерывности и единичности к культурным и родовым феноменам. Тогда историческую сцену займут новые сущности; они являются простыми коррелятами работы концептуализации, характеризующей научную историю. Необходимо понять, что эти сущности представляют собой классы, родовые существа, а не единичности; они в основном заимствуются из социальных наук, с которыми связана история: экономики, демографии, социологии организаций, социологии ментальностей и идеологий, политической науки и т.д. Историк тем скорее будет считать эти сущности историческими реальностями, чем больше ему удастся трактовать их как инварианты, а единичные общества — как их варианты или даже переменные величины.
Так поступает Поль Вейн в книге «Перечень различий» 359. Он конструирует инвариант «империализм», а в числе его вариантов — империализм, состоящий в занятии всего наличного пространства ради приобретения монополии на власть; единичность Древнего Рима станет тогда (без учета пространства и времени) одной из спецификаций инварианта, взятого за точку отсчета. Этот механизм мысли совершенно законен и имеет большую эвристическую и объяснительную силу. Ошибочным он становится, лишь когда забывают, что сущности второго порядка, такие как империализм, выводятся — если речь идет об их существовании — из сущностей первого порядка, к которым принадлежали и в которых участвовали своими действиями и взаимодействиями индивиды. Вероятно, историк может «поверить» в эти разумные существа, лишь забывая и переворачивая истинный порядок деривации. Достоинство аргумента Мориса Мандельбаума заключается в том, что он борется с этим забвением, напоминая, что история искусства, науки или любой другой функции данного общества сохраняет историческое значение лишь в том случае, если историк, по крайней мере имплицитно, держит в своем поле зрения конкретные сущности, от которых абстрагирована эта история. Другими словами, эта история имеет значение не сама по себе, но только благодаря референции к непрерывно существующим сущностям — носителям данной функции.
Результатом выведения сущностей второго порядка из сущностей первого порядка является многократно прослеженное нами выведение
236
номологического объяснения из единичного каузального объяснения. Я возвращаюсь не к самому этому аргументу, но к одному из его аспектов, который более непосредственно выражает родство двух линий деривации — линии процедур и линии сущностей. Я думаю об этом своего рода споре об универсалиях, который в сфере исторических исследований был обусловлен работой концептуализации, являющейся, как мы говорили во введении в этой главе, одним из результатов эпистемологического разрыва, порождающего историю как научное исследование. Высказанный Морисом Мандельбаумом тезис о том, что собственные объекты специальных историй представляют собой классы, а не единичности, оказывает поддержку умеренному номинализму, с позиций которого многие эпистемологи решают вопрос о статусе концептуального аппарата, применяемого новыми историками.
Анри-Ирене Марру в главе «Использование концептов» (op. cit., р. 140 сл.) различает пять больших типов понятий: а) история, говорит он, использует концепты, «претендующие на универсальность» (не столь редкие, как это допускает релятивистская критика), для обозначения того, что наименее изменчиво в человеке; со своей стороны, я свяжу с этим концептуальную сетку, конституирующую семантику действия (мимесис-Ι); Ь) для истории, кроме того, характерно «аналогическое или метафорическое употребление... единичного образа»: к примеру, если прилагательное «барочный» взять вне контекста и намеренно использовать для сравнения с периодами иными, чем собственно период барокко; с) наконец, перечень «специальных терминов, обозначающих институты, инструменты или орудия, образы действия, чувствования, мышления,— одним словом, факты цивилизации» (р. 151); граница их пригодности не всегда отчетлива — скажем, когда они экстраполируются с одной определенной области прошлого на другую: например, понятия «консул», «римская доблесть» и т.д.; d) более важен класс идеальных типов Макса Вебера, если под идеальным типом понимать «относительно общезначимую схему, которая конструируется историком из элементов, наблюдаемых при изучении частных случаев, органическую схему, состоящую из взаимозависимых частей... строго и точно выраженную историком в исчерпывающем определении» (р. 153-154): это, к примеру, понятие античного полиса, разработанное Фюстелем де Куланжем; но, замечает Марру, «идеальный тип имеет законное применение лишь в том случае, когда, как настойчиво подчеркивал Макс Вебер, историк полностью осознает его строго номиналистский характер» (р. 156); итак, следует постоянно остерегаться попыток овеществить «идеальные типы»; е) наконец, наступает черед таких определений, как классическая античность, Афины, Ренессанс, Барокко, Французская революция: «На этот раз речь идет о сингулярных терминах, не поддающихся исчерпывающей дефиниции, означающих нечто целое, например, более или менее обширный период истории определенной человеческой общности,
237
или истории искусства, мысли и т. д., то есть всей совокупности того, чего мы достигаем, познавая определенный таким образом объект» (р. 159).
На мой взгляд, этот последний класс — иного рода, чем предшествующие, поскольку он обозначает сущности третьего порядка, объединяющие в новые целостные образования сюжеты, процедуры и результаты специальных историй. Эти целостные образования нельзя сравнивать с конкретными целостностями, какими являются сущности первого порядка. Они отделены от них сложными процедурами специальных историй. Их синтетический характер противоположен решительно аналитическому духу, который направляет конструирование сущностей второго порядка. В этом смысле, вопреки видимой конкретности, данные сущности являются наиболее абстрактными из всех. Вот почему процедуры, доминирующие на этом уровне, дальше всего отстоят от процедур построения интриги, которые можно по аналогии распространить на коллективных «героев» общей истории 360.
Номинализм исторических концептов является, по-моему, эпистемологическим следствием, проистекающим из производного характера сущностей второго и третьего порядка. В этих сущностях мы имеем дело с «конструктами», чья база — нарративная, и уж подавно эмпирическая, — все менее и менее доступна распознаванию. Мы больше не можем различить в этих конструктах аналог того, что мы называем планом, целью, средством, стратегией или даже случаем и обстоятельством. Короче, на этом производном уровне нельзя больше говорить о квази-персонаже. Язык, соответствующий сущностям второго или третьего порядка, чересчур удален от языка рассказа, и еще более — от языка реального действия, — чтобы сохранить следы своей опосредованной деривации. Эта связь может быть реактивирована только путем выведения сущностей второго порядка из сущностей первого порядка.
Итак, лишь изощренный метод возвратного вопрошания может реконструировать каналы, по которым не только процедуры, но и сущности исторического исследования косвенно отсылают к нарративному пониманию. Лишь возвратное вопрошание выявляет основания интеллигибельности истории как исторической дисциплины 361.
3. Время истории и судьба события
Читателя не удивит, если я завершу свое исследование, посвященное эпистемологии историографии, вопросом об историческом времени: ведь в этом и заключалась цель всей второй части книги. Постановка проблемы эпистемологического статуса исторического времени по отношению к временности рассказа постоянно предвосхищалась в двух предыдущих параграфах. Единичное причиновменение оказалось тесно
238
связанным с осуществляемым историком полаганием сущностей первого порядка, одной из отличительных черт которых, в свою очередь, является непрерывное существование. Даже если эта черта не сводится к временно́й непрерывности, поскольку затрагивает все структурные аспекты отношений между частями и целым, все же понятие изменения, приложенное к структурным отношениям, постоянно приводит к вопросу об историческом времени.
Тезис, согласно которому и процедуры, и сущности, обусловленные характеризующим историю-науку эпистемологическим разрывом, косвенно отсылают к процедурам и сущностям нарративного уровня, — имеет ли данный тезис свой эквивалент также и в этом плане? Можно ли доказать, что время, конструируемое историком, выводится — через серию отклонений — из временности, свойственной рассказу? Решая эту проблему, я также искал необходимого посредника; я рассчитывал обнаружить его в присущем историкам крайне двусмысленном употреблении понятия события.
Чтобы доказать это, я вновь буду опираться на французскую историографию. Разумеется, я считаю установленным то, что было подробно показано выше, а именно, что история, изучающая большую длительность, добилась сегодня определенных преимуществ и стремится занять все поле исторического исследования 362. Приступая к защите долговременности с точки зрения судьбы события, я постараюсь выявить в этой сфере присущую истории диалектику между конфигурацией времени, осуществляемой посредством нарративной композиции, и временны́ми префигурациями практической жизни.
Во-первых, напомним, во что превращает событие «мифическая» конфигурация в аристотелевском смысле слова. Мы не забыли эпистемологические и онтологические постулаты, связанные с понятием события. Оставим пока в стороне онтологические постулаты, к которым мы вернемся в четвертой части, при обсуждении вопроса о референции истории к прошлому. Ограничимся эпистемологическими постулатами, имплицитно содержащимися в обиходном употреблении термина событие'. единичность, случайность, отклонение, — и постараемся переформулировать их в рамках нашей теории интриги (в сфере мимесис-II). Эта переформулировка связана с осуществляемым посредством интриги сопряжением события и рассказа. Как было показано выше, сами события обретают интеллигибельность, вытекающую из их вклада в развитие интриги. Отсюда следует, что понятия единичности, случайности, отклонения нуждаются в серьезной переработке...
Действительно, интриги как таковые являются одновременно единичными и не единичными. Они говорят о событиях, происходящих только в данной интриге; но имеются типы построения интриги, которые универсализируют событие.
239
Кроме того, интриги сочетают в себе случайность и правдоподобие, даже необходимость. Согласно «Поэтике» Аристотеля, события — как peripeteia — происходят неожиданно, например, изменяя счастье на несчастье; но интрига делает саму случайность компонентом того, что Гэлли с полным основанием называет followability рассказанной истории; и, как отмечает Луис О. Минк, скорее в ситуации рассказывания, нежели чтения истории в обратном порядке, от ее завершения к началу, мы понимаем, что все должно было «повернуться» так, как в действительности и произошло.
Наконец, в интригах соединяется подчинение парадигмам и отклонение от них. Процесс построения интриги балансирует между буквальным следованием нарративной традиции и бунтом против всякой унаследованной парадигмы. В этих пределах развертывается вся гамма комбинаций между седиментацией и изобретением нового. События в этом отношении повторяют судьбу интриги. Они также следуют правилу и разрушают правило, их генезис колеблется в ту и другую сторону от средней точки «правилосообразной деформации».
Таким образом, события, поскольку они рассказаны, являются единичными и типичными, случайными и ожидаемыми; они уклоняются от парадигм и платят им дань, пусть порой и в иронической форме.
Я полагаю, что исторические события не отличаются радикально от событий, очерченных интригой. Опосредованное выведение структур историографии из базовых структур рассказа, описанное в предшествующих разделах, наводит на мысль, что при помощи соответствующих процедур деривации можно было бы подвергнуть понятие исторического события такой же переформулировке, какая была применена к понятиям абсолютных единичности, случайности и отклонения, рассмотренным в контексте события-включенного-в-интригу.
Я хотел бы вернуться к «Письмам об истории» Фернана Броделя — вопреки или благодаря содержащемуся в них порицанию событийной истории, — чтобы показать, в каком смысле само понятие истории, исследующей большую длительность, производно от понятия драматического события, о котором только что шла речь, то есть события-включенного-в-интригу.
Моей исходной точкой станет неоспоримое достижение броделевской методологии — идея множественности социального времени. Тезис о «расслоении истории», если воспользоваться терминологией предисловия к «Средиземноморью...» («Écrits», р. 13), остается главным вкладом в теорию нарративного времени; на него-то и должен опираться метод возвратного вопрошания. Следует задаться вопросом: что позволяет мыслить само различие между «квази-неподвижной историей», «историей медленного ритма» и «историей в индивидуальном измерении», то есть той событийной историей, которую должна ниспровергнуть история, изучающая большую длительность.
240
Мне кажется, что ответ следует искать в принципе единства, который, вопреки различию длительностей, соединяет вместе три части работы Броделя. Читателя не может удовлетворить признание законного права каждой из этих частей на отдельное существование: «Каждая из них, — говорится в предисловии, — сама по себе является попыткой объяснения» (р. 11). Так же и название работы своей двойной референцией — с одной стороны, к Средиземноморью, а с другой, к Филиппу И, — подводит читателя к вопросу о том, каким образом большая длительность осуществляет переход от структуры к событию. Понять эту опосредующую функцию долговременности — значит, на мой взгляд, признать, что целое, конституированное тремя частями работы, носит характер интриги.
Я хотел бы подкрепить свою интерпретацию не только высказываниями о методе, объединенными в «Письмах об истории», но и внимательным прочтением работы «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» (я познакомился с ней в третьем издании 1976 г.). Это прочтение выявляет существенную роль переходных структур, которые обеспечивают связность всей работы. Именно эти структуры, в свою очередь, позволяют трактовать архитектонику всей работы в терминах квази-интриги.
Под переходной структурой я понимаю все процедуры анализа и изложения, благодаря которым произведение должно читаться от начала к концу и от конца к началу. В связи с этим я охотно сказал бы, что первая часть работы Броделя — вопреки преобладанию географии — сохраняет исторический характер как раз благодаря всем признакам, возвещающим вторую и третью части: тем самым возводится сцена, на которой остальная часть работы размещает персонажей своей драмы. Функция второй части, посвященной собственно большой длительности феноменов цивилизации, состоит, в свою очередь, в объединении обоих полюсов: Средиземноморья, референта первого тома, и Филиппа II, референта третьего тома. В этом смысле она является одновременно отдельным объектом и переходной структурой. Именно эта последняя функция обеспечивает ее единство с двумя обрамляющими ее частями.
Покажем это более подробно.
Возьмем первый уровень: здесь, по-видимому, темой является скорее пространство, нежели время. Внутреннее море — это то, что недвижимо. И тем не менее все здесь написанное принадлежит именно истории Средиземноморья 363. Вот три первые части, посвященные этому морю среди земель. Речь идет только об обитаемых или необитаемых пространствах, включая водную гладь. Человек здесь присутствует повсюду, а с ним — и множество симптоматических событий: так, гора здесь выступает как убежище и кров для свободных людей. Что касается прибрежных равнин, они всегда упоминаются в связи с колонизацией, дренажными работами, мелиорацией земель, рассредоточением населе-
241
ния, разного рода перемещениями: перегоном овец на летние пастбища, кочевничеством, вторжениями врагов 364. А вот моря, их побережья и острова: в этой гео-истории они также фигурируют в соотнесении с людьми и их навигацией. Они существуют здесь, чтобы их открывали, использовали, бороздили. Даже на первом уровне невозможно говорить об этом, не упоминая об отношениях политико-экономического господства (Венеция, Генуя и т.д.). Крупные конфликты между испанской и турецкой империями уже бросают тень на морские пейзажи. А вместе с отношениями силы начинаются события 365.
Таким образом, второй уровень не только предполагается, но и предвосхищается в первом: гео-история быстро превращается в гео-политику. Действительно, в первой части центральное место занимает полярность турецкой и испанской империй 366. Мореходные зоны с самого начала являются и зонами политическими 367. Можно попытаться сосредоточить взгляд на тихой жизни островов, с их медленным ритмом архаизма и новизны. Большая история постоянно причаливает к островам и связывает друг с другом полуострова 368, тогда как политическое первенство переходит от одного из них к другому, а «вместе с ним и все иные первенства— как экономического, так и цивилизационного характера» (I, р. 151). География столь мало автономна, что границы рассматриваемого пространства постоянно вновь очерчиваются историей 369. Средиземноморье оценивается по своей силе влияния; а этим уже предполагается феномен рынка. Пространство Средиземноморья нужно расширить до Сахары и до европейских перешейков. В самой середине первого тома автор смело заявляет: «Повторяем: не географические пространства творят историю, но люди, властители или открыватели этих пространств» (I, р. 206). Последняя глава этого тома, соответствующего первому уровню, тоже непосредственно ведет от единства природной среды к единству человеческой жизни, «которое является ориентиром для всей нашей книги» (I, р. 252). Вот работа людей («Не вода связывает области Средиземноморья, а морские народы»): она порождает пространство-движение, созданное из дорог, рынков, транспортного сообщения. Поэтому следует уже упомянуть банковское дело и промышленные и торговые фамилии, а в особенности города, основание которых приводит к изменению всего ландшафта 370.
Второй уровень, очевидно, представляет наивысший интерес для историка, изучающего большую длительность. Но следует установить, в какой мере этому уровню, взятому изолированно, недостает связности. Балансируя между планами структуры и конъюнктуры, он выводит на сцену три конкурирующие системы организации: систему постоянно возрастающей экономической конъюнктуры; систему политической физики, определяемую подвижной полярностью Испании и Турции; систему цивилизаций. Но три эти системы в точности не перекрывают друг друга; этим, быть может, объясняется тот факт, что, от одного изда-
242
ния к другому, Бродель делает все больше уступок унифицирующему материализму экономической конъюнктуры.
Уже начиная с экономики — первой организующей системы — под одним названием объединяются весьма различные проблемы: ограниченность пространства и числа людей в сопоставлении с численностью имперской администрации, значение притока драгоценных металлов, явления в финансовой сфере и изменения цен, наконец, торговля и транспорт. Определяя место этой первой системы, Бродель все более настойчиво ставит вопрос о том, на каком уровне располагается объединяющий фактор (если предположить, что он один): «Можно ли сконструировать модель средиземноморской экономики?» Да, если облечь плотью понятие «мир-экономика», толкуемое как «область, обладающая связностью» (I, р. 383), несмотря на ее неопределенные и изменчивые границы. Но это остается рискованным предприятием, поскольку не существует денежных мер для учета товарообмена. Кроме того, множество датированных событий, связанных с четырьмя вершинами четырехугольника Генуя-Милан-Венеция-Флоренция, и история других центров торговли свидетельствуют о том, что третий уровень постоянно пересекается со вторым. Именно развитие государства, связанное с ростом капитализма, принуждает долговременную историю экономик заняться событиями 371. Говоря о торговле и транспорте, Бродель вновь упоминает о своем замысле: «Нас интересует именно набросок целого» (I, р. 493). Но изучение торговли перцем, нехватки зерна, вторжения в Средиземноморье кораблей из Атлантики и т.д. побуждает прослеживать многие события (историю португальского перца, договоры Вельзеров и Фуггеров, борьбу соперничающих путей), выходя, однако, за внешние рамки рассказа 372. Обеспеченность средиземноморским зерном и его нехватка, «драма торговли зерном» (I, р. 530), прибытие атлантических парусников, оборачивающееся вторжением, — также датированные события («Как голландцы без единого выстрела взяли Севилью в 1570 году», I, р. 573). История вновь и вновь поднималась по склону события в направлении большой экономики, динамики миров-экономик, с помощью которых следовало объяснить события такого масштаба, как только что упомянутые.
На втором уровне должны разместиться и другие организующие принципы: империи, общества, цивилизации. Иногда создается впечатление, что именно из империй соткана ткань истории: «Драма Средиземноморья в XVI веке представляет собой прежде всего драму политического роста, этого выдвижения колоссов» (II, р. 9): Османов на Востоке, Габсбургов на Западе. Конечно, персонажи — Карл V, Сулейман — случайны; но не их империи. Однако, не отрицая индивидов и обстоятельства, нужно скорее обратить внимание на постоянно благоприятствовавшую обширным империям (с подъемом экономики XV и XVI веков) конъюнктуру и вообще на факторы, благоприятные и неблагоприятные
243
для крупных политических образований, возвышение и начало заката которых пришлись на XVI век 373. Вполне можно сказать, что иберийское единство вынуждалось именно конъюнктурой, как и создание имперской мистики, мистики завоевания и экспансии в Африку, а потом и в Америку. Но трудно удержаться, чтобы не воскликнуть перед лицом событий такого масштаба, как взятие турками Константинополя, затем Сирии и Египта: «Какое великое событие!» (II, р. 17). Трудно удержаться, чтобы не создать впервые портреты таких значительных персонажей, как Карл V и Филипп II, даже если написать при этом, что «отступление Филиппа II к Испании — это необходимое отступление к американским деньгам» (II, р. 25). Это не мешает историку мимоходом высказать сожаление, что Филипп II не перенес столицу в Лиссабон, а заперся в Мадриде. Если вопреки всему большая длительность берет верх, то в меру того, насколько взаимосвязаны судьба государства и судьба экономики. В отличие от Шумпетера, который ставит слишком сильный акцент на экономике, нужно придать такой же вес политике и ее институтам 374. Но политика говорит о себе, лишь говоря о факторах своего величия, о законодателях и их продажности, финансовых трудностях государств, фискальных войнах. У политического предприятия есть свои люди.
Но экономика и империи не занимают целиком все пространство второго уровня. Имеются еще и цивилизации: «Цивилизации — это самые сложные, самые противоречивые персонажи Средиземноморья» (р. 95), ибо они одновременно родственны друг другу и самобытны, подвижны и устойчивы, стремятся распространить свое влияние и упорно не желают воспринимать чужое. У Испании есть свое Барокко. Контрреформация — это ее Реформация: «Отвержение было сознательным, категорическим» (II, р. 105). Бродель замечательно характеризует эти «удивительные устойчивые образования»: «Цивилизация в основе своей является обработанным пространством, организованным людьми и историей. Вот почему существуют культурные границы, культурные пространства, отличающиеся исключительной долговечностью: все смешения мира здесь бессильны» (И, р. 107). Цивилизации смертны? Конечно, смертны, «но основы их продолжают существовать. Они подвержены разрушениям, но во всяком случае они в тысячу раз более прочны, чем мы полагаем. Они одолели тысячу мнимых смертей и несут свои неподвижные громады под монотонным течением веков» (II, р. 112). Однако в действие вступает другой фактор. Цивилизации многочисленны; именно в точках их контактов, разногласий и конфликтов вновь рождаются события: если речь идет об отказе испанцев от всякого смешения, то нужно рассказать и «о постепенном крушении иберийского ислама» (I, р. 118), и о «драме Гранады», и даже о том сохранившемся влиянии, благодаря которому можно еще вести речь о «Гранаде после Гранады» (р. 126) вплоть до полного искоренения 375. Затем нужно по той же схеме исследовать судьбу евреев, провести параллель между упорст-
244
вом маранов и упорством морисков 376. Но здесь опять необходимо подняться по склону событийности и уловить скрытую связь между мартирологом евреев и движением конъюнктуры. «Главная вина — это вина в полном упадке восточного мира» (р. 151). Дата 1492, перемещенная к концу периода медленного регресса, отчасти утрачивает, таким образом, свой мрачный ореол. Даже моральное осуждение здесь если не ослабляется, то во всяком случае несет в себе множество оттенков 377. Долговременные конъюнктуры цивилизаций переплетаются с экономическими конъюнктурами. Впрочем, отторжение ислама и иудаизма свидетельствует о специфике цивилизаций по отношению к экономикам. Наконец, и главным образом, нужно, не возвращаясь к «истории сражений», поместить в разряд феноменов большой длительности и формы войны. Но и здесь следует коснуться событий, чтобы оценить военную технику, взвесить военные расходы, разорявшие империи, и особенно чтобы увидеть в войне испытание долговечности цивилизаций. Идеологические конъюнктуры с противоположными знаками, которые утверждаются, а затем замещают друг друга, позволяют придать относительный вес событиям, таким как битва при Лепанто, которую главные участники и свидетели безмерно переоценили. Именно наложившиеся друг на друга конъюнктуры, носители событий, запечатлели на море и на суше столкновение экономик, империй, обществ и цивилизаций. Эта конкуренция между многочисленными принципами, организующими работу Броделя на втором уровне, не ускользнула от внимания автора. В конце второго тома — ив последних изданиях — он взвешивает «за» и «против» истории, направляемой только лишь экономической конъюнктурой или, скорее, историей разнообразных конъюнктур; ведь имеется не одна, а множество конъюнктур. Существует не одна экономическая конъюнктура, а столетний «тренд» (момент его отлива, впрочем, датируется по-разному в разных изданиях книги) и целая иерархия долгосрочных, полу-долгосрочных и краткосрочных конъюнктур. Но прежде всего нужно признать, что культурные конъюнктуры плохо совмещаются с конъюнктурами экономическими, даже на протяжении столетнего «тренда». Разве расцвет испанского золотого века не пришелся на пору величайшего векового отката назад? Как объяснить это цветение в позднюю осень? Историк в нерешительности: вопреки соблазнам экономической конъюнктуры он признает, что история вновь становится множественной, неопределенной... быть может, целое-то и утекает у нас между пальцев...
Итак, обе первые части работы способствуют тому, чтобы увенчать конструкцию историей событий, выводящей на сцену «политику и людей». Эта третья часть вовсе не является уступкой традиционной истории: в глобальной истории устойчивые структуры и медленные эволюции, может быть, и составляют главное, но «это главное не есть всё» (И, р. 223). Почему? Прежде всего потому, что события несут в себе сви-
245
детельство о глубинных пластах истории. Обе первые части, как мы видели, в огромной мере используют эти «событийные знаки» (ibid.), одновременно симптомы и свидетельства. Великий историк и здесь не боится заявить: «Я не враг события, и не более того» (ibid.). Но есть и другая причина: ведь на уровне самих событий ставится проблема связности (cohérence). Бродель двояким образом обосновывает неизбежность отбора, диктуемого этим уровнем объяснения. С одной стороны, историк принимает во внимание только важные события, придавшие значимость и своим последствиям. Бродель обнаруживает здесь, не называя ее, проблему единичного каузального объяснения, поставленную Вебером и Ароном, с ее логикой ретросказания и поиском «адекватности» 378. С другой стороны, историк не может пренебрегать суждением современников о важности событий, остерегаясь упустить из виду способ, которым люди прошлого интерпретировали свою историю. (Бродель упоминает здесь о разрыве, которым для французов является Сен-Бартельми.) Эти интерпретации также составляют часть исторического объекта.
Таким образом, становится невозможно объединить две последовательности — экономических конъюнктур и политических событий в широком смысле; вторую последовательность охотнее всего рассматривали современники, в особенности в том столетии, когда, наперекор всему, в игре первенствовала политика. До сих пор между этими цепочками существуют большие промежутки, которые, как мы видели, заполняет история империй, обществ, цивилизаций и войны 379.
Искусство Броделя состоит здесь в том, что он структурирует свою историю событий (и эта история не скупится на даты, битвы и договоры), не только разделяя их на периоды, подобно всем историкам, но вновь укореняя их в структурах и конъюнктурах, точно так же, как прежде он призывал события в свидетели структур и конъюнктур. Здесь событие объединяет и скрепляет конъюнктуры и структуры: «Филипп один был сводом этой империи, ее сил и ее слабостей» (И, р. 327). Эту политическую историю структурирует нечто вроде «политической физики, устанавливающей необходимое равновесие между большими линиями фронта, через которые турецкое могущество оказывает давление на внешний мир» (II, р. 451). Как только империя Филиппа отбрасывается к Атлантике и Америке, происходит широкое перемещение сил. Тогда «Испания покидает Средиземноморье» (II, р, 467). Одновременно и Средиземноморье уходит из большой истории 380.
Если даже рассказ ведется именно об этом, почему Броделю потребовалось завершить изложение пышными страницами с описанием смерти Филиппа II, последовавшей 13 сентября 1598 года? С точки зрения большой истории Средиземноморья эта смерть не представляет собой крупного события 381. Однако это было событие первостепенного значения для всех действующих лиц «на закате долгого правления, ка-
246
завшегося бесконечным его противникам» (II, р. 512). Но разве мы не говорили, что точка зрения современников также является объектом истории? Быть может, следует идти дальше — и этим замечанием мы вновь рискуем поставить под вопрос прекрасную архитектонику трех частей книги: смерть выявляет индивидуальную судьбу, которая не вписывается в точности в ткань объяснения, чьи критерии отличны от критериев времени смерти (temps mortel)382. Не будь смерти, обрывающей чью-то судьбу, как мы могли бы узнать, что история есть история людей?
Я прихожу к моему второму тезису — к тому, что три уровня работы Броделя в совокупности составляют квази-интригу — интригу в широком смысле, предложенном Полем Вейном.
Было бы ошибкой считать, что родство этой работы с нарративной моделью построения интриги проявляется лишь на третьем уровне; тем самым мы упустили бы из виду главное преимущество этого произведения, открывающего новое поприще для самого понятия интриги, а значит, для понятия события.
Я также не намерен искать эту новую формулу интриги только на среднем уровне, хотя на это наталкивают некоторые заявления самого Броделя: разве он не говорит о «речитативе конъюнктуры»? В экономической истории интригу могли бы составить ее циклический характер и роль, которую в ней играет понятие кризиса 383. Движение возрастания и убывания представляет, таким образом, полный интерцикл, измеряемый временем Европы и в большей или меньшей степени — временем всего мира. Третий том работы «Материальная цивилизация и капитализм», озаглавленный «Время мира», целиком строится на этом видении подъема и заката миров-экономик, подчиняющихся медленным ритмам конъюнктуры. Понятие «тренд» должно в таком случае занять место понятия интриги 384.
Однако я не склонен замыкаться в этом уравнении; ведь оно не только совершает такое же насилие над понятием цикла, как и над понятием интриги, но еще и не учитывает того, что происходит в работе Броделя на трех этих уровнях. Экономическая история годится для интриги, когда мы выбираем начальный и конечный срок, определяемые иными категориями, нежели конъюнктурная история, которая в принципе бесконечна, безгранична в полном смысле слова. Интрига должна включать в себя не только интеллигибельную сферу, но и протяженность, которая не может быть чрезмерной, иначе, как подчеркивает Аристотель в «Поэтике» (1451 а 1), ее нельзя будет охватить взором. Но что же ограничивает интригу Средиземноморья? Можно без колебаний сказать: закат Средиземноморья как коллективного героя на сцене мировой истории. А потому конец интриги здесь — это не смерть Филиппа II, это прекращение противостояния двух политических колоссов и перемещение истории к Атлантике и Северной Европе.
Эта глобальная интрига включает в себя три уровня. Но если рома-
247
нист — Толстой в «Войне и мире» — смешал все три уровня в едином повествовании, Бродель действует аналитически, путем разделения планов, оставляя взаимодействиям заботу о порождении имплицитного образа целого. Именно так получают виртуальную квази-интригу, расколотую на множество под-интриг, которые хотя и эксплицитны, но остаются фрагментарными и в этом смысле абстрактными.
Работу Броделя можно целиком отнести к сфере мимесиса действия благодаря содержащемуся в ней настойчивому напоминанию, что «не географические пространства творят историю, но люди, властители или открыватели этих пространств» (I, р. 206). Поэтому история конъюнктуры не может сама по себе создать интригу. На одном уровне — экономическом — нужно разместить экономики, а точнее, антагонизм двух миров-экономик. Мы уже цитировали это место из первой части: «Политика лишь копирует лежащую в ее основе реальность. Оба Средиземноморья, руководимые враждующими господами, в природном, экономическом, культурном отношениях отличны друг от друга, оба являются зонами истории» (I, р. 125). Тем самым уже подсказывается тема интриги: ключевая оппозиция между двумя Средиземноморьями и закат их столкновения 385. Если именно в этом состоит история, которую рассказывает Бродель, понятно, что ее второй уровень (также, вероятно, охватывающий все поле большой длительности) требует исследования не только экономик, но политической физики, которая единственно и определяет под-интригу столкновения империй и судьбы этого столкновения. В своей восходящей фазе «драма Средиземноморья в XV веке прежде всего является драмой политического роста, этого выдвижения колоссов» (11, р. 9). Кроме того, здесь вырисовывается крупная ставка: решается вопрос о том, кому будет принадлежать Атлантика — Реформации или испанцам. Когда турки и испанцы одновременно отворачиваются друг от друга, голос повествователя вопрошает: не пробил ли в Средиземноморье, раньше чем где-либо еще, час отступления империй? Это вопрошание необходимо, ибо, как и в драме, перипетия является носительницей случайности, то есть событий, которые могли бы сложиться иначе: «Закат Средиземноморья? Несомненно; но не только. Ведь у Испании имелись все возможности вновь решительно повернуться к Атлантике. Почему же она этого не сделала?» (II, р. 48). В свою очередь, под-интригу конфликта империй и выхода этого конфликта за пределы пространства Средиземноморья необходимо согласовать с под-интригой падения монолитных цивилизаций. Вспомним слова: «Цивилизации — самые сложные и самые противоречивые персонажи Средиземноморья» (II, р. 95)386. Выше говорилось о перипетиях этих столкновений: судьба морисков, судьба евреев, внешние войны и т.д. Теперь следует сказать о вкладе этих под-интриг в большую интригу. Упоминая о чередовании «в определенном порядке» (II, р. 170) внешних и внутренних войн, драматург пишет: «Оно указывает перспективы в середине за-
248
путанной истории, которую сразу удается прояснить, не прибегая к обману или иллюзии. Совершенно очевидно, что идеологические конъюнктуры с противоположным знаком утверждаются, а затем меняются местами» (II, р. 170). Итак, подобно Гомеру, выкроившему из истории Троянской войны целое, о котором он решил рассказать в «Илиаде», Бродель выкраивает в большом конфликте цивилизаций, обусловившем чередование Запада и Востока, конфликт, протагонистами которого являются Испания и Турция в эпоху Филиппа II, а темой служит закат Средиземноморья как зоны истории.
А раз так, то нужно признать, что большая интрига, создающая единство работы, является виртуальной; в силу дидактических соображений «три различные временности» (II, р. 515) должны оставаться разъединенными, ибо цель состоит в том, чтобы «постичь все разнородные времена прошлого в их более значительных отличиях, подсказать мысль об их сосуществовании, взаимодействиях, противоречиях, многообразной плотности» (ibid.)387. Но, будучи виртуальной, интрига тем не менее должна быть действующей. Она стала бы реальной только в том случае, если бы смогла, не совершая насилия, интегрировать в себя глобальную историю 388.
В конце концов Бродель при помощи своего аналитического и разделительного метода изобрел новый тип интриги', если верно, что интрига всегда до некоторой степени есть синтез разнородного, виртуальная интрига книги Броделя, сопрягая разнородные временности, противоречивые хронологии, учит нас объединять структуры, циклы и события 389. Эта виртуальная структура позволяет, однако, сравнить два противоположных прочтения «Средиземноморья»... Первое подчиняет событийную историю истории большой длительности, а большую длительность — географическому времени: основной акцент ставится тогда на Средиземноморье; но в этом случае географическое время рискует утратить свой исторический характер. При втором прочтении история остается исторической в той мере, в какой сам первый уровень определяется как исторический благодаря своей референции ко второму, а исторический характер второго уровня обусловливается его способностью служить опорой для третьего: тогда акцент ставится на Филиппе II; но событийная история лишается принципа необходимости и вероятности, который Аристотель связывал с правильно построенной интригой. Интрига, охватывающая три уровня, предоставляет обоим прочтениям равные права; благодаря ей они пересекаются в срединном положении — в истории большой длительности, которая становится тогда точкой неустойчивого равновесия между двумя прочтениями.
В моем понимании именно этот долгий окольный путь — через исследование квази-интриги — позволяет, наконец, вновь вернуться к понятию события, которое Бродель считает каноническим 390. На мой взгляд, событие не является непременно коротким и энергичным, напо-
249
добие вспышки. Событие — переменная величина интриги. А потому оно принадлежит не только третьему уровню, но и всем уровням, выполняя на них различные функции. На третьем уровне оно появляется со знаком необходимости или вероятности, свидетельствующим о переходе через два других уровня; именно так Лепанто теряет свой блеск и свое значение; смерть Филиппа II остается крупным событием лишь для под-интриги «Политика и люди»; это событие стремится стать не-событием, когда его перемещают в большую интригу борьбы политических гигантов и располагают на траектории, ведущей к закату Средиземноморья, которая обрывается лишь несколько десятилетий спустя. Впрочем, мы видели, что события распространяются также и на второй и даже на первый уровень; просто событие утрачивает здесь свой взрывной характер, обретая качества симптома или свидетельства.
Истина состоит в том, что именно в событии коренится отличие понятия структуры, используемого историком, от понятия структуры в социологии или экономике. Для историка событие постоянно влияет на структуры изнутри. Причем двояким образом: с одной стороны, все структуры изменяются не в одном и том же ритме. Когда «разные скорости жизни» («Écrits...», р. 73) больше не совпадают, их несогласие создает событие. К тому же обмены между многочисленными пространствами цивилизаций, заимствования и отторжения представляют собой квази-точечные феномены, которые не являются признаками цивилизации на всех ее уровнях одновременно: «Наш дух создается скорее не длительностью, но ее дроблениями» (р. 76). С другой стороны, историка, исследующего структуры, интересуют, в отличие от социолога, точки их разрыва, их внезапное или медленное разрушение, — короче, перспектива их угасания. Одряхление империй заботит Броделя не меньше, чем традиционного историка. В известном смысле «Средиземноморье...» — это близящееся к концу замедление, неспешное развитие главного события: ухода Средиземноморья из большой истории. Вновь на первый план выдвигается недолговечность человеческих творений, а вместе с ней и драматическое измерение, от которого большая длительность предполагала избавить историю.
У других французских историков школы Анналов я нашел заметки, которые — часто в неявной форме — свидетельствуют об этом возврате к событию по окольному пути большой длительности.
Так, в союзе истории и антропологии, за который ратует Ле Гофф и плодом которого является работа «За другое Средневековье», именно большая — очень большая длительность — выдвигается на авансцену («долгое Средневековье», «большая длительность, соответствующая нашей истории, почти равнозначная доиндустриальному обществу»). Но вместе с тем Ле Гофф не менее энергично, чем Бродель, сопротивляется соблазну вневременных моделей социологии. Во-первых, потому, что сама эта длительность не бессобытийна, но скорее маркирована по-
250
вторяющимися или ожидаемыми событиями (праздниками, церемониями, ритуалами и т.д.), напоминающими, что в исторических обществах есть нечто литургическое. Во-вторых, потому что этой большой длительности больше не существует: средневековая цивилизация справедливо была названа «переходным» обществом. Конечно, ментальности, на которых делает акцент историческая этнография, «менее всего подвержены изменению» в исторической эволюции (р. 339), но «ментальные системы исторически датируемы, даже если они несут в себе обломки архео-цивилизаций, близких сердцу Андре Вараньяка» (р. 340). Разумеется, история, чтобы остаться таковой в своем союзе с антропологией, не должна была бы «полагаться на вневременную этнологию» (р. 347). Поэтому историку не стоит брать на вооружение терминологию диахронии, заимствованную из лингвистики; и вправду, последняя оперирует «сообразно абстрактным системам трансформации, весьма отличным от схем эволюции, которые использует историк в своих попытках постичь становление изучаемых им конкретных обществ» (р. 346)391. Задача историка состоит скорее в преодолении «ложной дилеммы “структура-конъюнктура” и в особенности “структура-событие”» (р. 347).
Фактически, мне кажется, Ле Гофф предвосхищает тезис, согласно которому прошлое обязано своим историческим характером способности запечатляться в той памяти, которую Августин называл «настоящее прошлого». Ле Гофф характеризует свое Средневековье как «тотальное», «долгое», «глубокое»: «Это дистанция конституирующей памяти: время предков» (р. 11); «это первоначальное прошлое, где наша коллективная идентичность, предмет мучительных исканий современных обществ, обрела некоторые существенные характеристики» (р. 11). Что удивительного поэтому, если в такой конституирующей памяти большая длительность сжимается в квази-события? Разве наш историк не характеризует конфликт между временем церкви и временем торговцев, символизируемый столкновением между колоколами и башенными часами, «как одно из главных событий ментальной истории этих веков, где под воздействием изменения структур и экономических практик вырабатывается идеология современного мира» (р. 48). На самом деле именно «необходимое разделение и случайная встреча» этих двух времен создает событие.
Историк ментальностей сталкивается с теми же проблемами. Так, Жорж Дюби начинает с социологического, совершенно не нарративного анализа идеологий — он называет их глобализирующими, деформирующими, соперничающими, стабилизирующими, порождающими действия, — но видит, что событие проникает в структуры благодаря не только внешним заимствованиям, внутренним отторжениям и конфликтам, но и диссонансам, «нарушениям временности», которые возникают в точке сочленения объективных ситуаций, ментальных представлений и индивидуальных или коллективных форм поведения. Таким образом,
251
историк вынужден выделять «критические периоды, когда движение материальных и политических структур в конце концов отображается в плоскости идеологических систем и обостряет конфликт между ними» 392. Выше я сделал попытку охарактеризовать как квази-событие то, что Жорж Дюби называет здесь создаваемым полемикой «стимулом к ускорению» «внутри тенденций большой длительности, направляющих эволюцию господствующей идеологии» (р. 157).
А носителем квази-события, как я попытался доказать на примере Броделя, вновь является квази-интрига. Я хотел бы воспроизвести то же доказательство и применительно к творчеству Жоржа Дюби, сопоставив его упомянутую выше статью о методе «Социальная история и идеологии обществ» и применение его рабочих гипотез в одном из трудов, нагляднее всего показывающих, что автор понимает под историей идеологий. Я выбрал работу «Тройственная модель, или Мир воображения в эпоху феодализма» 393. Мне хотелось бы показать, каким образом автор здесь также драматизирует идеологическую структуру, конструируя квази-интригу, включающую начало, середину и конец. Рассматриваемая структура — это созданная при помощи воображения репрезентация всего общества в виде иерархии трех социальных разрядов: тех, кто молится, тех, кто воюет, и тех, кто кормит всех своим трудом. Сама эта формулировка заимствована у одного автора XVII века, Шарля Луазо, из его «Трактата о Разрядах и Простых Достоинствах», опубликованного в 1610 году. Но работа Дюби охватывает не шестивековой период, вехи которого указываются с помощью определений, схожих с определениями Луазо. Дюби, следуя, в свою очередь, по стопам автора «Илиады», выкроил из всех метаморфоз трифункционального образа историю, у которой есть начало — первые формулировки Адальберона Ланского и Герарда Камбрейского — и конец: битва при Бувине в 1214 г. Середину составляют перипетии, драматизирующие введение в историю этой идеологической репрезентации. Дюби берется за проблему, отличную от той, которую ставит перед собой Жорж Дюмезиль, неутомимый защитник трифункциональной схемы. Тогда как Дюмезиль стремится установить — путем сравнения различных исторических констелляций, — что эта схема коренится в латентных структурах человеческой мысли, и хочет понять, почему и как «человеческий дух непрестанно делает выбор между этими потаенными богатствами» 394, Дюби отвечает на эти вопросы Дюмезиля двумя другими вопросами, вопросами историка: где и когда? Ему важно показать, как этот образ «функционирует в идеологической системе в качестве одной из ее основных движущих сил» (р. 19); идеологическая система, о которой идет речь, — это нарождающийся, а потом — торжествующий феодализм. Чтобы описать этот процесс, Дюби конструирует то, что я называю квази-интригой, трифункциональный образ которой представляет собой, по его словам, «главное действующее лицо» (ibid.).
252
План, которому следует Дюби, весьма показателен в этом отношении. Поскольку речь идет о структуре, то есть о ментальном представлении, которое «противостояло всем натискам истории» (р. 16), он дает первой части книги название «Откровение», чтобы яснее подчеркнуть превосходство системы над фрагментарными представлениями. Но система уже сильно историзирована вариантами первых способов изложения и воссозданием их политического контекста в эпоху заката каролингской монархии и действующей в согласии с ней власти епископов. Лишь в конце этого первого исследования могут быть описаны связующие элементы «системы» (р. 77-81): постулат о совершенной связи между небом и землей; понятие разряда, ставшее атрибутом совершенного города; разделение разряда епископов и разряда королей; разделение господствующих групп: священников и дворян; прибавление к этому внутреннему раздвоению основных функций еще и третьего разряда, подчиненного класса; наконец, понятие взаимности, взаимного соответствия в иерархии, предполагающей троичную структуру.
Но простое описание этой системы свидетельствует о том, сколь двусмысленна трифункциональность и как мало походит она на подлинную систему. Сначала третья функция выступает как дополнение к двум бинарным оппозициям (епископ/король, священник/дворянин). Затем к этой внутренней бинарности господства прибавляется, как другая специфическая бинарная структура, отношение господ — подданных; этим обусловливается крайняя неустойчивость системы. Наконец, система включает в себя лишь три элемента, представленных ролями, столь же типизированными, как и у Дюмезиля. Только разряд остается ключевым словом. Понятно поэтому, отчего система столь легко становится добычей истории 395.
Прежде чем углубиться в саму интригу, Дюби осуществляет (в разделе «Генезис») своего рода ретроспекцию, которая прилагается к формированию системы начиная с Григория, Августина и Дионисия Ареопагита. Затем он показывает, каким образом мог произойти переход от теологической спекуляции о небесных иерархиях к политическому размышлению о порядке и разрядах (sur l’ordre et les ordres), сопрягающему божественный образец и тройственное распределение земных функций 396.
В действительности квази-интрига начинается, когда система подвергается испытанию со стороны «обстоятельств» (р. 153-207), переживает длительный «закат» (р. 207-325) и, наконец, возрождается; это «возрождение» (с р. 325 до конца) достигает кульминации в «принятии» системы, принятии не только символическом, но реальном и подтвержденном победой при Бувине короля, а значит, епископов, для которых и была сконструирована эта система.
Таковы три главные перипетии, среди которых Дюби размещает свою интригу. Но примечательно, что именно кризис, очевидно, пора-
253
жающий королевскую власть, служит связующей нитью рассказываемой истории 397. Это, прежде всего, — политический кризис. Но главным образом, в символическом плане, — состязание с системами-соперницами, также трехчастными, — еретической моделью, моделью Божьего мира, монашеской моделью, созданной в Клюни. Полемика, начало которой было положено соперничеством систем, и есть, собственно, то, что драматизирует модель. Триумф Клюни предвещает «закат славы» 398. К этому прибавляется и феодальная революция, которая влечет за собой перераспределение всех разрядов, освобождающее место третьему партнеру, крестьянству. В начале XI века соперничают не три, а четыре идеологические модели (р. 200): модель, которая одержит победу, и три вышеназванные конкурирующие модели.
Что же до идеологической модели Адальберона и Герарда, то она оказывается в странном положении; она не отражает, а, предвосхищает, — предвосхищает отток монашества, реставрацию епископата, возрождение монархического государства 399.
Именно это странное расхождение между тем, что, по видимости, продолжало существовать, и реальным предвосхищением определило «закат» системы, о котором рассказывается в четвертой части. Это «время монахов», пользующихся угасанием королевской власти Капетингов и, следовательно, института епископов. Но «закат» не есть исчезновение. Пора заката — это также и пора появления «новых времен»: времени сестерциев, времени купцов, времени клириков, времени мэтров и школяров.
О «возрождении» же свидетельствует то, что первый ранг занимают клирики в ущерб монахам, второй ранг — рыцари, оплот принцев, а третий — земледельцы. Но если период заката был для трифункциональной модели временем предвосхищения, то возрождение — временем отставания: «Препятствием, — говорит Дюби, — была королевская Франция... Препятствием был Париж, сокровище и символ королевской власти, состоявшей в союзе с папой, епископами, реформированной церковью, школами, коммунами, народом» (р. 370). Именно это делает возрождение последней перипетией. Только «принятие системы» приводит к завершению интриги в той мере, в какой оно обеспечивает примирение между желаемой моделью и реальным институтом: Бувин — средство этих новых достижений. Капетинг занял место каролинга. Но — удивительная вещь: при всей систематичности, которая, казалось бы, господствует в этой работе, король не составляет отдельной части в трехчастной схеме: «ибо сам он пребывает над порядком, то есть над тремя разрядами, образующими придворное общество» (р. 413).
Каковы бы ни были сомнения по поводу связности трифункциональной модели 400, интрига достигает завершения, когда символ перемещается из мечтательного воображения в воображение конституирующее 401. Именно «принятие» системы служит завершением рассказанной исто-
254
рии и одновременно придает смысл «середине», представленной триадой: «обстоятельство», «закат», «возрождение».
Именно это я и хотел доказать: квази-события, обозначающие кризисные периоды в истории идеологических систем, вписываются в квази-интриги, которые удостоверяют их повествовательный статус.
Но быстрее всего возврат к событию происходит в сфере политической истории. «Как можно мыслить такое событие, как Французская революция», — спрашивает Франсуа Фюре в начале (р. 9) работы, так и озаглавленной: «Мыслить Французскую революцию» 402.
Историк может мыслить ее, лишь преодолев альтернативу поминания и проклятия, сковывавшую его, пока он разделял «навязчивую идею о началах, на которых строится национальная история» (р. 14) с 1789 года. Тогда историк, движимый, как и всякий другой ученый, одним лишь интеллектуальным любопытством, благодаря этому отстранению может сделать попытку концептуализировать это событие, не разделяя веры действующих лиц в значение данного события как разрыва с прошлым и начала новых времен, — короче, не разделяя иллюзий Французской революции о ней самой. Но каким образом историк приходит к тому, чтобы мыслить Французскую революцию как событие! Примечательно, что это ему отчасти удается, лишь когда он соединяет два объяснения, которые по отдельности, а быть может и совместно, оставляют осадок, как раз и являющийся событием.
Мыслить Французскую революцию вместе с Токвилем — это значит видеть в ней не разрыв и начало, а завершение дела Монархии: разложение социального организма, обусловленное интересами государственного управления. Именно здесь историография решительно восстает против тирании исторического прошлого акторов с его мифами о началах. Фюре ставит вопрос как раз о расхождении между намерениями акторов и ролью, которую они играют. Как только анализ начинают вести при помощи ясных понятий, сразу же исчезает событие, по крайней мере как разрыв. Собственно говоря, анализ разрушает исторический рассказ: Токвиль, замечает Фюре, «исследует проблему, а не период» (р. 33).
Но событие исчезло не полностью: если Токвиль подводит итог Революции (Франсуа Фюре говорит: «революции-содержания»), остается еще объяснить сам процесс революции (по Франсуа Фюре, «революции-модальности»), то есть особую динамику коллективного действия, в силу которой, как полагал Токвиль, целей, поставленных революцией, можно было достичь лишь революционным путем, а не путем эволюции на английский манер. Но в этом-то и состоит событие. «Тем не менее событие революции сразу же полностью преобразует предшествующую ситуацию и создает новую модальность исторического действия, которая не является составной частью описания этой ситуации» (р. 39)
Значит, чтобы объяснить это появление на исторической сцене прак-
255
тической и идеологической модальности социального действия, которая не была заключена в чем-либо ей предшествовавшем, необходимо ввести вторую модель. Эта модель должна принять в расчет то, что делает из Революции «одну из основных форм осознания политического действия» (р. 41), — «постоянный перевес идеи над реальной историей, как если бы ее функцией было реструктурирование по частям социального целого с помощью воображения» (р. 42). Тем самым назван феномен якобинства.
На смену модели Токвиля приходит объяснительная модель Огюстена Кошена, призванная показать, как наряду с прежней политической чувствительностью была создана новая, которая сотворила новый мир исходя из индивида, а не из его институциональных групп, и исключительно благодаря связи с общественным мнением. О. Кошен фактически находит в «обществах мысли» матрицу концепции власти, базирующейся на принципе равенства, на преобразовании изолированных индивидов в народ — воображаемого единственного актора революции — и на ликвидации всякой преграды между народом и его самозваными глашатаями.
Но якобинство — это не просто идеология; это идеология, взявшая власть. Поэтому ни разрушение того, что историк считает «иллюзией политики», ни определение каналов, по которым эта новая власть воздействовала на общество, не исчерпывают собой события Революции. Серия расколов и заговоров — это чистой воды интриги в самом обычном смысле слова. Конечно, можно показать, как ментальность заговора проистекает из новой политической социабельности, которая превращает во врага всякого, кто не сумел занять символическое место власти, какой ее определяет система. В этом отношении страницы о заговоре как следствии новой политической символики в высшей степени блестящи и убедительны. И все же взятие власти, по-моему, остается событием, не выводимым из идеологической системы, которая определяет власть. События, хронология и великие люди вновь обретают силу под знаком заговора. Даже будучи выведенным из идеологической системы, заговор, я бы сказал, вновь вводит событие вместе с интригой. Ибо заговор — это, быть может, и элемент безумия, но безумия в действии, генератора событий.
Вот почему Термидор является событием, конечно, мыслимым, но только до определенной степени: «Это конец Революции, ибо это победа представительной законности над законностью революционной... и, как говорит Маркс, реванш реального общества над иллюзией политики» (р. 84). Но, на мой взгляд, «идеологическое кодирование» феномена Робеспьера, в свою очередь, не исчерпывает его исторического значения. Сказать, что Робеспьер олицетворяет собой идеологию — борьбу за одно воображаемое против другого, — это значит только, как в греческой трагедии, назвать тему, которая подходит для интриги. Но как раз
256
интрига и обусловливает то, что «именно в его лице революция произносит свою самую трагическую и самую чистую речь» (р. 86). Из якобинской идеологии вывели «самое чистое» в событии, но не «самое трагическое».
Поэтому я не рискнул бы сказать вместе с Франсуа Фюре, что Термидор, символизируя собой «реванш социального над идеологическим» (р. 104), ведет от Кошена к Токвилю, ибо Старый порядок в своем продолжении проходит не только через идеологический катализатор якобинства, но и через действия, порожденные этой политической иллюзией. В этом смысле вторая схема Французской революции, схема Огюстена Кошена, как и первая, схема Токвиля, не ведет к концу события. Никакая концептуальная реконструкция не сможет сделать так, чтобы преемственная связь со Старым порядком прошла через этап взятия власти воображаемым, пережитым как разрыв и начало. Само это взятие власти относится к области события. Именно благодаря взятию власти призрак начала также становится началом, если перевернуть формулу Франсуа Фюре 403.
Удалось ли автору «помыслить» такое событие, как Французская революция? В контексте моего анализа большой длительности у Броделя можно сказать, что работа объяснения воссоздает событие одновременно в трех формах: как осадок каждой из попыток объяснения (подобно тому как третья часть «Средиземноморья» Броделя является сразу и приложением, и дополнением), как диссонанс между объяснительными структурами и как жизнь и смерть структур.
Если бы открытие большой длительности не приводило — сообразно одной из этих трех модальностей — к событию, существовал бы риск того, что большая длительность лишит историческое время живой диалектики прошлого, настоящего и будущего. Долговременность может быть временем без настоящего, а также без прошлого и будущего: но тогда она уже не является историческим временем, а большая длительность только сводит историческое время ко времени природы. Следы этой попытки можно различить у самого Броделя, которому недостает философской рефлексии об отношении между тем, что он называет — несколько поспешно — субъективным временем философов, и долговременностью цивилизаций. Это означает, что открытие большой длительности может выражать забвение человеческого времени, которое всегда требует ориентира в настоящем. Если «событие на коротком дыхании» ставит заслон осознанию времени, творимого не нами, большая длительность также может поставить заслон времени, которым являемся мы сами.
Этих губительных последствий можно избежать лишь при условии сохранения аналогии между временем индивидов и временем цивилизаций: аналогии роста и упадка, созидания и смерти, аналогии судьбы.
257
На уровне временности эта аналогия имеет ту же природу, что и аналогия, которую мы пытались сохранить на уровне процедур между причиновменением и построением интриги, а потом на уровне сущностей — между обществами (или цивилизациями) и персонажами драмы. В этом смысле всякое изменение входит в историческое поле как квази-событие.
Это заявление вовсе не означает скрытого возврата к краткому событию, ставшему объектом критики со стороны истории большой длительности. Когда это событие «на коротком дыхании» не было отражением смутного сознания и иллюзий акторов, оно представляло собой некий методологический артефакт, даже выражение определенного видения мира. По этому поводу Бродель совершенно справедливо замечает: «Вопреки Ранке или Карлу Брауди, я утверждаю, что история-рассказ является не только методом, или объективным методом, но также и философией истории» («Préface...», «Écrits», р. 13).
При помощи понятия квази-события мы показываем, что расширение понятия события за пределы короткого и краткого времени коррелятивно подобному же расширению понятий интриги и персонажа. Квази-событие имеется там, где мы можем различить, пусть и очень опосредованно, неявно, квази-интригу и квази-персонажи. Событие в истории соответствует тому, что Аристотель в своей формальной теории построения интриги назвал переменой фортуны — metabolē. Повторим еще раз: событие — это то, что не только способствует развертыванию интриги, но и придает ему драматическую форму перемены фортуны.
Из этого родства квази-события и квази-интриги следует, что множественность исторических времен, отстаиваемая Броделем, является расширением главной характерной черты повествовательного времени, а именно — его способности комбинировать в различных пропорциях хронологический компонент эпизода и нехронологический компонент конфигурации. Можно считать, что на каждом из временны́х уровней, необходимых для исторического объяснения, происходит усиление этой диалектики. Пожалуй, можно сказать, что в интригах высокой сложности по-прежнему превалирует эпизодическое, связанное с кратким событием, а большая длительность символизирует собой первенство конфигурации. Но обретение событиями нового характера в результате работы по структурированию истории звучит как напоминание о том, что даже с самыми стабильными структурами что-то случается: в. частности, им случается умереть. Вот почему, несмотря на недомолвки, Бродель вынужден был завершить свою превосходную работу картиной смерти — конечно, не Средиземноморья, но Филиппа II.
258
Заключение
С позволения читателя я подведу итоги второй части своего исследования. В соответствии с намерениями, заявленными в III главе первой части, это исследование велось в достаточно четких границах.
Прежде всего мы проанализировали один из двух великих модусов повествования — историю. Из области рассмотрения было исключено все то, что мы поместим в третьей части под названием «Вымышленный рассказ»: от архаической эпопеи до современного романа. Итак, мы прошли лишь половину предстоящего нам пути.
Но следствием такого ограничения нашего анализа исторического рассказа стало не только отвлечение от других модусов повествования. Оно повлекло за собой и сужение проблематики самой истории. Действительно, стремление к истине, в силу которого история, по удачному выражению Поля Вейна, выдвигает претензии на звание «достоверного» рассказа, обретает все свое значение лишь тогда, когда его можно противопоставить намеренному устранению альтернативы между истинным и ложным, характерному для вымышленного рассказа 404. Я не отрицаю, что в основе этой противоположности между рассказом «истинным» и рассказом «полу-истинным, полу-ложным» лежит наивный критерий истины, который следует подвергнуть серьезному обсуждению в четвертой части.
В свою очередь, это первое ограничение влечет за собой второе, более важное, которое непосредственно касается отношения рассказа ко времени. Как только что было отмечено, мы, заключив в скобки стремление истории к истине, отказались тематизировать само по себе отношение истории к прошлому. Фактически мы намеренно воздержались от высказываний по поводу онтологического статуса исторического прошлого как бывшего. Так, обсуждая понятие события, мы тщательно отделили эпистемологические критерии, которые обычно связывают с этим понятием (уникальность, единичность, отклонение), от онтологических критериев, с помощью которых мы отличаем то, что является только вымышленным, от того, что действительно произошло (случаться,
259
заставлять происходить, отличать нечто новое от всего уже реально случившегося). Одновременно мы оставляем нерешенным вопрос об отношении истории как хранительницы человеческого прошлого к комплексу наших позиций перед лицом настоящего и будущего.
Следовательно, вопрос об историческом времени не был представлен во всей его полноте. Мы рассмотрели лишь аспекты времени, непосредственно предполагаемые в операциях конфигурации, которые роднят историю с рассказом. Даже обсуждение проблемы большой длительности осталось в границах эпистемологии, прилагаемой к конструкциям, характеризующим объяснение в истории. Мы обсуждали отношения между большой длительностью и событием, не делая попыток узнать, каково в действительности соотношение множественных форм временности, вычленяемых историком, с тем, что историк с недоверием называет субъективным временем философов, — подразумевается ли под этим бергсоновская длительность, абсолютный поток сознания по Гуссерлю или историчность по Хайдеггеру. Повторяем, вклад историографии в этот спор можно выявить, лишь рассмотрев и соответствующий вклад художественной литературы. Именно это мы объяснили, подчинив в III главе первой части вопрос о времени, рефигурируемом рассказом, в зависимость от решения проблемы перекрестной референции между истинным и вымышленным рассказом. Следует даже предположить, что благодаря своей большей свободе по отношению к событиям, действительно происшедшим в прошлом, вымысел демонстрирует возможности исследования временности, запретные для историка. Как мы скажем в третьей части книги, литературный вымысел способен создавать «фабулы по поводу времени», которые не являются только «временны́ми фабулами». Поэтому очевидно: чтобы вынести окончательное суждение об отношении истории ко времени, необходим долгий окольный путь через время вымысла.
Признание границ анализа, проведенного во второй части нашей книги, как мы надеемся, не снижает значимости достигнутых результатов. Оно просто напоминает о том, что все наше исследование держится в плоскости мимесис-II, не затрагивая функции осуществляемого этой миметической стадией опосредования между донарративным опытом и опытом, рефигурируемым работой рассказа во всех его формах.
Вся вторая часть нашей работы посвящена исследованию отношений между написанием истории и операцией построения интриги, которую Аристотель возвел в ранг основополагающей категории в искусстве сочинять произведения, подражающие действию. Если и вправду есть какой-то смысл в дальнейшем сопоставлении исторического и вымышленного рассказа, нужно было предварительно убедиться в том, что история принадлежит нарративному полю, определяемому вышеназванной конфигурирующей операцией. А это отношение — по мере того, как оно находит подтверждение, — оказывается необычайно сложным.
260
Чтобы его очертить, прежде всего пришлось прибегнуть в первой и второй главах к антитетической стратегии, сталкивающей номологические и нарративистские тезисы. В ходе этой полемики все тезисы были подвергнуты критике, которая после ряда уточнений дала возможность оценить в первом приближении отношение между историей и рассказом. Некоторые из этих уточнений появились лишь позже. Так, в первом разделе I главы защита несобытийной истории, которую французские историки считают несовместимой с нарративной интерпретацией истории, не получила непосредственного критического отклика, пока более тонкое понятие исторической интриги не позволило, в последнем разделе III главы, вернуть несобытийную историю в поле повествования. Но прежде всего необходимо было, отвергая наивно нарративное прочтение истории, поместить эту проблему в эпистемологическую ситуацию, наименее благоприятную для прямого и непосредственного отношения между историей и рассказом.
В то же время, хотя номологическая модель была сразу же подвергнута достаточно жесткой критике, прежде всего внутренней (в конце I главы), а потом и внешней (во II главе), эта двоякая критика не была чисто негативной. Исследование номологической модели привело нас к идее эпистемологического разрыва, который отделяет историческое объяснение, оснащенное обобщениями в форме закона, от простого нарративного понимания.
Признав однажды этот эпистемологический разрыв, мы уже больше не могли присоединиться к слишком простому тезису, согласно которому историография представляет собой один из видов рода рассказанной истории (story). Если даже в целом нарративистская интерпретация истории показалась нам более верной, чем интерпретация номологическая, все более и более утонченные нарративистские тезисы, изложенные нами во II главе, по-видимому, не воздали должного специфике истории в поле повествования. Основная ошибка нарративистов состоит в том, что они не учли в полной мере преобразования, отдалившие современную историографию от наивного повествовательного письма, и не смогли внедрить в повествовательную ткань истории объяснение через законы. И все же правота нарративистской интерпретации выражается в безусловно верном замечании, что собственно историческое качество истории сохраняется только благодаря связям — сколь бы скрытыми и тонкими они ни были, — которые по-прежнему соединяют историческое объяснение с нарративным пониманием, вопреки разделяющему их эпистемологическому разрыву.
Эта двойная задача — оценить по справедливости специфику исторического объяснения и сохранить принадлежность истории полю повествования — и вынудила нас дополнить в третьей главе антитетическую стратегию I и II глав методом возвратного вопрошания, родственным генетической феноменологии позднего Гуссерля. Этот метод нацелен на уяснение опосредованного характера филиации, соединяющей историю с нарративным пониманием; он реактивирует фазы деривации, обеспе-
261
чивающие эту связь. Строго говоря, возвратное вопрошание не относится уже к сфере собственно эпистемологии, и еще менее — к простой методологии на уровне ремесла историка. Оно связано с процессом порождения смысла, который исследует философ. Однако это порождение смысла не было бы возможным, если бы оно не находило себе опоры в эпистемологии и методологии исторических наук. Эти науки предоставляют посредников, способных осуществлять в каждом из рассмотренных трех планов реактивацию повествовательных основ научной историографии. Так, на единичном каузальном объяснении базируется структура перехода от объяснения посредством законов к пониманию посредством интриги. В свою очередь, сущности первого порядка, с которыми в конечном счете соотносится исторический дискурс, отсылают к модальностям соучаствующей принадлежности, обеспечивающим связь между историческим объектом и персонажами рассказа. Наконец, рассогласования ритма множественных временностей, сплетенных в глобальном становлении обществ, раскрывают глубокое родство между наименее точечными историческими изменениями и внезапными переменами фортуны, которые в рассказе считаются событиями.
Таким образом, ремесло историка, эпистемология исторических наук и генетическая феноменология объединяют свои возможности, чтобы реактивировать эту фундаментальную ноэтическую направленность истории, которую мы для краткости назвали исторической интенциональностью.
Мы еще не подчеркнули наиболее существенный результат критического рассмотрения историографии, который обусловлен ретроспективным применением этого анализа к исходной модели, предложенной в III главе первой части.
Конечно, существенные черты базовой модели сохранились в исследовании, проведенном во второй части: динамический характер операции конфигурации, примат порядка над последовательностью, соперничество между согласием и несогласием, схематизация при помощи повествования обобщений в форме закона, соперничество между седиментацией и инновациями в формировании традиций в ходе развития исторических наук. Но, как мы в свое время отмечали, от анализа, последовавшего за простом сопоставлением distentio animi Августина и аристотелевского mythos, можно было ожидать лишь того, что он даст «набросок, требующий еще расширения, критики и пересмотра».
Фактически наше исследование историографии не ограничилось подтверждением релевантности модели в ее приложении к столь существенной области повествовательной композиции. Хороший пример расширения модели дает сложность несогласного согласия, демонстрируемого историческим повествованием, — сложность, не имеющая аналогов в «Поэтике» Аристотеля. Идея синтеза разнородного, просто вы-
262
сказанная в первой части, полностью освобождается от ограничений, которые на нее еще накладывали литературные «жанры» и «типы» интриги, известные со времен Аристотеля. Можно было бы сказать, что в историографии «форма» несогласного согласия отделяется от «жанров» и «типов», с которыми она еще смешивается в «Поэтике».
Тем самым расширение исходной модели ведет к критике если не модели как таковой, то по крайней мере интерпретаций исторического объяснения, которые остаются слишком близкими к этой модели. Так происходит всякий раз, когда теория истории не отделяется в достаточной мере от теории действия и не отводит подобающего места обстоятельствам, анонимным силам и непредвиденным последствиям. Кто превращает действия в истории? — спрашивает философ. Именно эти факторы неподвластны простой реконструкции расчетов, производимых агентами действия, и придают построению интриги сложность, далеко превосходящую сложность ограниченной модели, связанной у Аристотеля с греческой трагедией (а также эпопеей и в меньшей мере комедией). Модель объяснения, предложенная фон Вригтом для согласования телеологических и номических элементов внутри смешанной модели, дает критерий критики, которой должна быть подвергнута чисто акциональная модель исторического объяснения.
Приведет ли меня теория история к пересмотру исходной модели? В известной мере — да. Об этом свидетельствуют понятия квази-интриги, квази-персонажа и квази-события, которые пришлось сконструировать, чтобы не нарушить очень опосредованную форму филиации, благодаря которой даже наименее нарративная историография в своем стиле письма сохраняет зависимость от нарративного понимания.
Говоря о квази-интриге, квази-персонаже и квази-событии, мы хотели поместить понятия, выработанные первоначально под знаком мимесис-II, в соседство с их точкой разрыва. Вспомним, насколько интрига, составляющая остов труда Броделя «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II», была скрыта в этом произведении и как трудно было ее реконструировать. Мы не забыли и об осмотрительности, которой требует обращение с именами собственными, когда они прилагаются к историческим сущностям первого порядка. Наконец, понятию события пришлось утратить свои привычные черты — краткость и внезапность, — чтобы встать в один ряд с несогласованностями и разрывами, которые отличают жизнь экономических, социальных, идеологических структур отдельного общества. Частица квази в выражениях «квази-интрига», «квази-персонаж», «квази-событие» свидетельствует об исключительно аналогическом характере употребления нарративных категорий в научной истории. Во всяком случае, эта аналогия выражает едва заметную связь, которая удерживает историю в зависимости от рассказа и таким образом позволяет сохранить само ее историческое измерение.
263
Примечания
1 «La Métaphore vive». Paris, Éditions du Seuil, 1974 (Прим. перев.).
2В переводе термина récit, широко применяемого французской семиотикой и литературоведением, в частности нарратологией, в нашей литературе нет единообразия. В зависимости от контекста он переводится как «рассказ», «рассказывание», «повествование», «повествовательный текст». В «Словаре терминов французского структурализма» (см.: «Структурализм: “за” и “против”». М., 1975, с. 458-459) сделано разъяснение, что термин récit в узком смысле понимается как тождественный «повествованию» (narration), а в широком смысле — как повествование + описание. В выпуске 7 сборника «Новое в зарубежной лингвистике» (М., 1978, с. 447) дается такое определение: «récit— специфически французский термин, означающий текст-рассказ или текст-описание (в отличие, например, от текста-диалога или научного текста)» (с. 471). Поскольку одним из ключевых моментов данной работы П. Рикёра является сопоставление «исторического рассказа» (récithistorique) и «вымышленного рассказа» (récit de fiction), или «истинного рассказа» (récit vrai) и «вымышленного рассказа», и слово récitв данных случаях, на наш взгляд, лучше передается термином «рассказ», а также поскольку в ряде мест попытка перевода его как «повествование» чревата сбоями в терминологии, мы, как правило, переводим здесь этот термин как «рассказ», a «narration» — как «повествование». — Прим. пер.
3 Начальная строка стихотворения Шарля Бодлера «Соответствия» (перевод наш. — Прим. перев.).
4 См.: Аристотель. Поэтика, 1459 а 5-9 (Прим. перев.).
5 Далее, в частности в главе III первой части, П. Рикёр скажет подробнее об используемых им терминах «префигурация» (предобразование), «конфигурация» (формообразование) и «рефигурация» (преобразование), которые он трактует как операции, участвующие в создании художественного произведения и осуществляющие взаимодействие между ним и сферой практического опыта (см.: И. С. Вдовина. От переводчика. В кн. П.Рикёр. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера. М., 1996, с. 247-251). — Прим. перев.
6 Перевод М. Е. Сергеенко. Здесь и далее мы опираемся на данный перевод «Исповеди» Августина. Цитаты даются по изданию: Августин Аврелий. Исповедь. Петр Абеляр. История моих бедствий. М., 1992. В тех случаях, когда в русском переводе отсутствуют существенные для Рикера смысловые акценты, мы следуем французскому переводу «Исповеди», на который он ссылается. — Прим. перев.
7 По-французски «обстоятельство» — circonstance: здесь тот же корень, что и в латинском слове circus, означающем «круг» (Прим. перев.)
8 В терминологическом отношении я опирался на работу Фрэнка Кермода «The Sense of an Ending. Studies in the Theory of Fiction» (Oxford University Press, 1966). которой посвящено отдельное исследование в третьей части данной книги.
9 Я пользовался французским переводом текста Августина, осуществленным Э. Треорелем и Ж. Буиссу для издания М. Скутеллы (Teubner, 1934), с введением и примечаниями А. Солнньяκa (Descléede Brouwer. «Bibliothèqueaugustinienne», t. XIV, 1962, p. 270-343). Весьма обязан я и научному комментарию Э.П.Майсрннга. «Augustin über Schöpfung, Ewigheit und Zeit. Das elfte Buch der Bekenntnisse». Leiden, E. J. Brill, 1979. Однако я в большей мере, чем он, настаиваю на апоретическом характере обсуждаемой проблемы, в особенности на диалектическом отношении между distentio и intentio, которое специально подчеркивает А. Солиньяк в своих «Дополнительных примечаниях» к переводу Треореля—Буиссу (р. 572-591). Не утратила своей остроты и работа Жана Гиттона «LeTempsetl'Eternité chezPlotinetsaintAugustin» (Paris, Vrin, 1933; 4-e éd., 1971). В ссылках на Плотина я пользовался введением и комментарием Вернера Байервальтеса «Plotinüber Ewigkeit undZeit(Ennéade III,7)» (Frankfurt, Klostermann, 1967). Советую также обратиться к работам Э. Жильсона «Notessurl’êtreetletempschezsaintAugustin» («Recherches augustiniennes»*Paris, 1929, p. 246-255) и Джона Каллахана «Four Views ofTime in Ancient Philosophy» (Harvard
264
University Press, 1948, p. 149-204). Об истории проблемы мгновения см. у П. Дюгема («LeSystèmeduMonde». Paris, Hermann. T. I, chap. V).
10Это размышление начинается в 1,1 и продолжается до 14,17, затем вновь возобновляется в 29,39 и идет вплоть до конца XI книги — до 31,41.
11 Ж. Гиттон, внимательно исследующий связь между временем и сознанием у Августина, отмечает, что апория времени является также и апорией «Я» (op. cit., р. 224). Он цитирует «Исповедь», X, 16,25: «Да, Господи, я работаю над этим и работаю над самим собой: я стал сам для себя землей, требующей тяжкого труда и обильного пота [у Ж. Гиттона: «земля труда и пота»]. Мы исследуем сейчас не небесные пространства, измеряем не расстояния между звездами... вот я, помнящий себя, я, душа (ego sum, qui memini, ego animus)».
12Это дерзкое утверждение, которое мы повторим в конце первой части нашей книги, станет предметом подробного обсуждения в четвертой части.
13 Далее мы цитируем. 14,17; 15,18 и т.д. Речь все время идет об XI книге «Исповеди».
14 В этом состоит существенное отличие времени от вечности: «...если бы настоящее всегда оставалось настоящим и не уходило в прошлое, то это было бы уже не время, а вечность» (там же). Однако тут же необходимо отметить, что каким бы ни было наше понимание вечности, аргументировать его можно, обратившись к нашему языковому опыту, который содержит слово «всегда». Настоящее не существует всегда. Так, «проходить» (passer) предполагает противоположное ему «пребывать» (Майеринг цитирует здесь sermo (проповедь, лат. Имеются в виду «Проповеди» («Sermones») Августина. —Прим. перев.) 108, где «проходить» многообразными способами противопоставляется «пребывать»). В ходе дальнейшей аргументации станет очевидным, как оттачивается определение настоящего.
15 Эта роль предвосхищения прекрасно показана Майерингом в его комментарии.
16 По поводу смеха Бога см. у Майеринга (S. 60-61).
17 В переводе М. Е. Сергеенко: «могут ли все сто лет быть в настоящем?» (Прим. перев.).
18 У Августина, как и в классической античности, нет слова для обозначения промежутков времени меньших, чем час. Майеринг (op. cit., S. 64) отсылаетздесь к работе: Н.Michel. La notion de l'heure dans l'Antiquité. — «Janus» (57). 1970, p. 115 sq.
19 Перевод дан но французскому тексту (Прим. перев.). Об аргументе неделимого мгновения, не имеющего протяженности, см. у Майеринга (op. cit., S. 63-64) ссылку на Секста Эмпирика. Споры стоиков хорошо изложены в работе Виктора Гольдшмидта «Système stoïcienetleTemps», p. 37 sq., 184 sq. Необходимо отметить, что Августин вполне осознает зависимость своего аналша от умозрительной аргументации: si quid intelligitur temporis... Ничто здесь не может быть отнесено к чистой феноменологии. Кроме того, отметим попутно появление у Августина понятия длительности, протяженности времени, но оно пока еще не сможет укорениться: «Если бы он [настоящий момент] длился, в нем можно было бы отделить прошлое от будущего» (nam si extenditur, dividitur... 15. 20).
20 Перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
21 Перевод М. Е. Сергеенко с небольшими изменениями (Прим. перев.).
22 Перевод М. Е. Сергеенко с изменениями. Мы переводим здесь и далее passerкак «проходить» (в настоящем времени, в значении «идти»), поскольку автор имеет в виду именно «переход», «прохождение». Несколько позже, на с. 32. он подчеркнет и связанный с идеен «прохождения» (passer) смысл «прекращения» (Прим. перев.).
23 Перевод М. Е. Сергеенко с изменениями (Прим. перев.).
24 Майеринг (op. cit., S. 66) видит в августиновском quaero (искать) греческое zetein (искать, исследовать. — Прим. перев.). которое отличает августиновскую апорию огтотального неведения скептиков. Ж.Гиттон усматривает ие греческий источник zetein в традиции древнееврейских мудрецов, нашедшей отражение в «Деяниях апостолов» (17, 26).
25 Лишь после решения первого парадокса (бытия/небытия) Августин сможет вновь, почти в тех же терминах, повторить это утверждение: «Мы измеряем время, пока оно проходит» (21. 27). (Перевод М. Е. Сергеенко с изменениями. — Прим. перев.) Итак, идея прохожде-
265
ния всякий раз возникает в связи с понятием меры. Но мы еще неспособны понять эту идею.
26 Следует различать аргумент о предсказании, способностью к которому наделены все люди, и аргумент о пророчестве, относящийся лишь к боговдохновленным пророкам; этот второй аргумент ставит другую проблему, проблему того, как Бог (или Слово) «объясняет» пророкам (19, 25). Об этом см. у Гиттона (op. cit., р. 261-270), который подчеркивает, что Августин в своем анализе expectatio (напряженное ожидание, предвидение, пат. — Прим. перев.) полностью порывает с языческой традицией предвидения и пророчества. В этом смысле пророчество — некий исключительный дар.
27 Перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
28 Перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
29 Здесь и ранее перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
30 Процитируем этот параграф целиком: «И правдиво рассказывая о прошлом, люди извлекают из памяти не сами события — они прошли, — а слова, родившиеся из образов их: прошлые события, затронув наши чувства, запечатлели в душе словно следы свои» (18, 23). (Перевод М. Е. Сергеенко с изменениями. — Прим. перев.) Удивляет обилие предлогов, выражающих локально-пространственные отношения: из (ех) памяти извлекают... слова, родившиеся из (ех) образов, которые запечатлены в (in) духе: «Детства моего... уже нет, оно в (in) прошлом, которого уже нет, но... я вижу образ его в (in) настоящем, ибо он до сих пор жив в (in) памяти моей» (там же). Вопрос «где?» («если... будущие н прошедшие вещи существуют, я хочу знать, где (ubicumque) они существуют») требует ответа «в».
31 Перевод М. Е. Сергеенко с изменениями (Прим. перев.).
32 Перевод М. Е. Сергеенко с небольшими изменениями (Прим. перев.).
33 А может быть, и более загадочен. Возьмем обдумывание будущего действия: как всякое ожидание, оно есть настоящее, тогда как будущего действия еще не существует. Но «знак»-«причина» здесь более сложен, чем простое предвидение. Ибо то, что я предвосхищаю, — это не только начало действия, но и его завершение; заранее располагаясь вне его начала, я вижу начало как прошлое его будущего завершения; тогда мы говорим об этом в futur antérieur: «Когда мы приступим (aggressi fuerimus) к нему и начнем осуществлять (agere coeperimus) предварительно обдуманное, тогда только действие и возникает, ибо тогда оно уже не в будущем, а в настоящем» (18,23). Futur présent предвосхищается здесьв futur antérieur. (Во французском переводеэтоместо выглядит так: «Quand nous l'aurons entreprise, quand ce que nous préméditons aura reçu de notre part un commencement de réalisation, alors cette action sera, parce qu’elle ne sera pas future mais présente». — Прим. перев.)Опираясь на систематическое исследование глагольных времен Харальдом Вайнрпхом в работе «Tempus», мы сможем продвинуть дальше этот анализ (см. третью часть, главу III).
34 Перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
35 Квазикинетический язык перехода от будущего к прошлому через насгоящее (см. ниже) еще больше упрочит этот квазипрострапственный язык.
36 Здесь и ранее перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
37 Майеринг подчеркивает здесь роль сосредоточенности, которая в конце книги окажется связанной с надеждой на неизменность, постоянство, придающее человеческому настоящему некоторое сходство с вечным настоящим Бога. Можно сказать, что книги I-IX — это подробно изложенная история поиска сосредоточенности и постоянства. Об этом см. в четвертой части нашей работы.
38 Перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
39 Такая замена объясняет, почему Августин больше не проводит различия между motus и mora: «Я спрашиваю, что такое день: само это движение (motus); срок (mora), в течение которого оно совершается, или и то, и другое» (23, 30). Итак, указанные три гипотезы устраняются, поиск смысла слова «день» прекращается, и данное различие утрачивает свое значение. Нельзя согласиться с Гитгоном (op. cit., р. 229), что для Августина «время — не motus, не тога, но более тога, чем motus». Distentio animi связано с mora не больше, чем с motus.
266
40 Перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
41 Эти колебания Августина связаны с двумя другими утверждениями: во-первых, что движение больших светил «отмечает» время; во-вторых, что для отличения момента, когда временно́й интервал начинается, от момента, когда он завершается, нужно «отметить» (notare) место, откуда исходит и куда приходит движущееся тело; иначе мы не можем сказать, «сколько времени продолжалось движение тела или части его от одного места до другого» (24, 31). Это понятие «метка», по-видимому, остается у Августина единственной точкой соприкосновения между временем и движением. Тогда возникает вопрос: чтобы пространственные метки выполняли функцию «отметок продолжительности времени», не следует ли связать меру времени с равномерным движением какого-то иного движущегося тела, нежели душа. Мы еще вернемся к этому непростому вопросу.
42 Перевод М. Е. Сергеенко с изменениями (Прим. перев.).
43 Об этом см. комментарий Байервальтеса ad loc. (Плотин. Эннеады, III, 7, 11,41) diastasis zoes(в переводе А.Ф.Лосева — «протяжение жизни [души]». — Прим. перев.); у А.Солиньяка (ор. cit., Notes complémentaires, р. 588-591) и Э. П. Майеринга (op. cit., S.90-93). Вольная обработка плотиновских терминов diastema(расстояние, промежуток, греч. — Прим. перев.) — diastasisв христианской среде восходит к Григорию Нисскому, как установил Дж.Каллахан, автор работы «Four Views of Time in Ancient Philosophy», в своей статье «Gregory of Nyssa and the Psychological View of Time». — Atti del XIICongresso internationale di filosofia. Venise, 1958 (Florence, 1960), p. 59. Подтверждение этого можно найти в работе: D.L.Balâs. Eternity andTime in Gregory of Nyssa's Contra Eunomium. In: «Gregory von Nyssa und die Philosophie». II-e Colloque internationalsur Grégoirede Nysse, 1972. Leiden: E J. Brill, 1976. На том же коллоквиуме T. Пол Вергезе утверждал, что понятие diastema в значительной мере служит критерием отличения божественной троицы оттварного мира: в Боге нет diastema между Отцом и Сыном, нет дистанции, нет пространства. Diastema отныне характеризует Сотворенное кактаковое и в особенности дистанцию между Творцом и тварью. (См.: T. Paul Verghese. Diastema and Diastasis in Gregory of Nyssa. Introduction to a Concept and the Posing of a Concept. — Ibid., p. 243-258.) Это — обработка плотиновских терминов в духе греческой патристики. Даже если предположить, что Августин был с нею знаком, это нисколько не умаляет его оригинальности: ведь только он попытался вывести distentio исключительно из протяженности души.
44 Перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
45 Отметим некоторое изменение в средствах выражения: чуть раньше Августин отказался измерять точечное настоящее, «quia nullo spatio tenditur», «потому что оно не имеет никакой протяженности» (26, 33). По моему мнению, «tenditur» возвещает intentio и — как ее противоположность — distentio. В самом деле, у точечного настоящего нег ни напряжения (tension), ни растяжения (distension): на эго способно только «время, которое проходит». Вот почему в следующем параграфе он сможет сказать о настоящем, поскольку оно проходит (praeteriens), что оно «вытягивается» в нечто, подобное промежутку времени. Речь уже идет не о точке, но о живом настоящем, одновременно напряженном п протяженном.
46Перевод дан пофранцузскомутексту: «Lorsqu'il aura cessé de raisonner, il sera déjà passé et ne sera plus quelque chose qui puisse être» (Прим. перев.).
47В подзаголовке к переводу 27, 34 Л. Солиньяк подчеркивает апоретический характер этой страницы: «Более глубокое исследование. Новые апории» (ор. cit.. р. 329).
48 Перевод М. Е. Сергеенко с изменениями (Прим. перев.). Если sensiturнаносит удар по скептикам, то quantum, как отмечает Майеринг (op. cit., S. 95), характеризует настороженное отношение к эпикурейцам, слишком доверяющим чувству. Августин занимает здесь промежуточную позицию, свойственную платонизму, взвешенное доверие к чувствам, контролируемым разумом.
49 Здесь мой анализ отличается от исследования Майерпнга, которое почти всецело посвящено противоположности между вечностью и временем и не подчеркивает внутренней диалектики времени, в частности, диалектики направленности (intention) и растяжения (distention). Действительно, как мы покажем далее, эту противоположность углубляет нацеленность на вечность, одушевляющая intentio. Напротив, Гиттон решительно настаива-
267
ет на этом напряжении духа, оборотной стороной которого является distentio: «Августин, развивая свою мысль, должен был приписать времени противоположные качества. Протяженность времени — это extensio, distentio, которое заключает в себе attentio, intentio. Тем самым время оказывается внутренне связанным с actio, духовной формой которого оно является» (op. cit., р. 232). Таким образом, мгновение — это «акт духа» (ibid., р. 234).
50 Французский глагол tendre, от которого произведено причастие tendue, означает и «стремиться», «направлять усилия», и «напрягать, натягивать» (это можно сопоставить, к примеру, с выражением «напряженное внимание»). Далее в тексте используются оба эти значения. — Прим. перев.
51 Во французском переводе — fait passer (Прим. перев.).
52 Перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
53 Faire passer c’est aussi passer (Прим. перев.).
54Перевод М. Е. Сергеенко с изменениями (Прим. перев.).
55 Перевод М. Е. Сергеенко с изменениями (Прим. перев.).
56Die Aufhebung—снятие (нем.), понятие гегелевской философии, означающее процесс, в котором наличные формы подвергаются отрицанию, но сохраняют свое значение как моменты более развитого целого. — Прим. перев.
57 Кант столкнется с той же загадкой активно проявляющей себя пассивности при обсуждении проблемы Selbstaffection (воздействия на самого себя, нем. —Прим. перев.) во втором издании «Критики чистого разума» (В 67-69). (См. «Трансцендентальная эстетика», § 8, И. — Прим. перев.) Я вернусь к этому в четвертой части (глава II).
58 Здесь могут возникнуть два других возражения. Во-первых, каково отношение между августиновским distentio animi и diastasis zoesПлотина? И, во-вторых, каково отношение всей книги XI к тому, что излагается в первых девяти книгах «Исповеди»? На первое возражение можно ответить так: в мои намерения не входит историческая трактовка отношения Августина и Плотина. Более того, я отдаю себе полный отчет в том, что правильное понимание изменений, которые претерпел плотиновский анализ времени, может разве что усложнить решение загадки, оставленной Августином в наследство потомкам. Правда, несколькими замечаниями здесь явно не отделаться. Чтобы восполнить этот пробел, я отсылаю читателя к комментарию А. Солиньяка и Майеринга к «Исповеди», а также к очерку Банервальтеса «EwigkeitundZeitbeiPlotin». Меня же в первую очередь интересует отношение между умозрительными суждениями о времени и содержанием первых девяти книг. Я вернусь к этому в четвертой части данной работы при обсуждении вопроса о повторении. Можно догадаться, о чем пойдет речь, если вспомнить о confessio, духом которой пронизано все сочинение Августина.
59 Поэтому не следует считать всего лишь риторическим украшением большую молитву в 2, 3 (французский переводчик вполне оправданно придал ей стихотворную форму): она содержит мелодическую основу, которую будут развивать и умозрение, и гимн:
«Тебе принадлежит день, Тебе принадлежит ночь:
По воле Твоей пролетают мгновения.
Дай нам простор этого времени,
Чтобы мы размышляли о тайнах Твоего закона,
И когда мы постучим в эту дверь, не закрывай ее.
Умозрение и гимн соединяются в «исповеди». Именно в исповедальном тоне в молитве в 2, 3 упомянут principium Книги Бытия 1,1:
Позволь доверить Тебе (confitear tibi) все, что я найду
В книгах Твоих, и услышать голос хвалы,
И испить Тебя, и созерцать чудо Твоего закона
От самого начала, когда Ты создал небо и землю,
До вечного царствия в священном граде Твоем!»
(Перевод дан по французскому тексту. — Прим. перев.)
60 Перевод дан по французскому тексту. — Прим. перев.
268
61 В этом знании сосредоточено и сходство, и радикальное различие между Плотином и Августином. Различие это обусловлено самой темой творения. Сколь глубоко это отличие, показывает Гиттон на нескольких весьма содержательных страницах (op. cit., р. 136-145): Августин, говорит он, «влил в форму, данную “Эннеадами”, вдохновение, чуждое Плотину, более того, противное его духу; вся плотиновская диалектика была направлена на то, чтобы отрицать подобное умонастоение, препятствовать его рождению или разрушать его» (р. 140). Из идеи творения возникает временно́й космос, круговорот времени, историческая религия. Таким образом, время оправдано, ибо оно обосновано. Что же до антропоморфизма, которого по видимости избегает плотиновский эманатизм, можно задаться вопросом, не являются ли метафорические средства материального антропоморфизма Августина более ценными, когда речь идет о творческой каузальности, нежели неоплатонический экземплярнзм, самотождественный и все же не избежавший антропоморфизма, более утонченного в силу своей сугубой формальности. Креационистская метафора держит нас в напряжении и в состоянии боевой готовности, тогда как экземплярам подкупает своим философским характером. (См. по этому поводу у Гиттона, op. cit., р. 198-199.) О «вечном творце временно́го тварного мира» см. исчерпывающий комментарий Майеринга (ор. cit., S. 17-57). Здесь мы найдем и все ссылки на «Тимея» и «Эннеады».
62 Эта онтологическая недостаточность выполняет иную функцию в аргументации, чем небытие в тезисе скептиков о времени, связанном с «еще не» будущего и с «уже не» прошлого, и тем не менее и на это небытие она накладывает отпечаток недостатка бытия, присущего статусу сотворенного мира: «Мы знаем, Господи, знаем, что не быть тем, чем был, и стать тем, чем не был, — это своего рода смерть и рождение» (7, 9). Отныне два прилагательных— «вечный» (и его синоним «бессмертный») и «временно́й» — противопоставляются. «Временно́й» значит «не-вечный». Дальше возникнет вопрос, идет ли речь об «отрицании» в обоих смыслах. Уже здесь, в 7, 9, вечное бытие предполагает не «уступать место», не «приходить на смену». О синонимах вечности (immortalitas, incorruptibilitas, incommutabilitas) (бессмертие, нетленность, неизменность, лат. —Прим. перев.) см. у Майеринга (op. cit., S. 32), который отсылает по этому поводу к «Тимею», 29 с. Запомним эти два первых момента функции-границы идеи вечности, содержащейся в обоих отрицаниях: Слово творит не как художник, не из имеющегося в наличии материала; Слово говорит не голосом, который звучит во времени.
63 Переводчик и интерпретатор «Исповеди» в «Bibliothèqueaugustinienne» указывают на цезуру между 9. 11 и 10, 12 и делят книгу XI следующим образом: I. Сотворение и творящее Слово (3, 5 — 10, 12). II. Проблема времени: а) до сотворения (10, 12— 14, 17); б) бытие времени и его измерение (14, 17 — 29, 39). В ходе анализа я пришел к необходимости объединить I и II а) в один раздел — наращивания distentio animi путем его сопоставления с вечностью. Кроме того, вопрос о нелепости видимости, берущий начало в 10, 12, принадлежит тому же апоретическому стилю, нашедшему выражение в вопросах «как?» (5. 7) и «каким образом» (6, 8), которые, на наш взгляд, вытекают из самого признания вечности. Наконец, апория и ответы на нее приведут к такому же углублению трактовки временности, начатой в 3, 5.
64 Уже Платон в «Гимее», 37 с исключил прошлое и будущее из вечности, хотя он не говорил еще о вечном настоящем. Майерииг (op. cit.. S.46) цитирует другие тексты Августина, которые интерпретируют stare и manere Бога как вечное настоящее. На с. 43 Майеринг подчеркивает, что Августин в 10. 12 отчасти принимает аргумент о том, что «воля... присуща Богу до начала творения... Воля Бога принадлежит к самой субстанции Его». Тот же комментатор сближает этот текст с текстом Плотина, «Эниеада» VI, 8, 14; VI, 9, 13. Он находит первое выражение вечного настоящего до его формулировки у Плотина в среднем платонизме Нумения (по этому поводу он отсылает к Байервальтесу. op. cit., S. 170-173), а потом у Григория Нисского и Афанасия Великого.
65 Сегодня мы плохо представляем себе, сколь ожесточенными, чтобы не сказать неистовыми, были споры, вызванные идеей творения во времени; Гиттон показывает, что они еще более обострялись конфликтом между буквальной экзегезой и экзегезой аллегорической, порожденной библейским рассказом о творении «в шесть дней» и особенно тем смыслом, который придавался «трем дням», предшествующим сотворению великих светил. См. об этом: Guitton, op. cit., р. 177-191.
269
66 См.: Исх 16, 23-26 (Прим. перев.).
67В оригинале: passer est moins que surpasser (прим. перев.).
68Речь здесь идет не о соответствии латинского перевода древнееврейскому оригиналу, а о его воздействии на философскую традицию.
69 А. Солиньяк (op. cit., р. 583-584) отсылает здесь к Этьену Жильсону, к его работе «Philosophie etIncarnation chez saint Augustin», где рассматриваются основные тексты Августина, касающиеся знаменитого стиха из Исхода, а также других стихов из Псалмов, в особенности sermo 7. А. Солиньяк комментирует: «Для Августина трансцендентность вечности по отношению ко времени — это трансцендентность личного Бога, который творит отдельные личности и беседует с ними. Это трансцендентность бытия, которое владеет собой в бесконечном настоящем, по отношению к экзистенции существ, чья случайность являет себя в непостоянствах времени» (op. cit., р. 584).
70 Я не касаюсь здесь вопроса о том, является ли сама идея вечности целиком позитивной, о чем говорят термины manere, stans, semper, totum esse praesens. В той мере, в какой «начинать», «прекращать», «проходить» — термины позитивные, в той же мере и вечность является негативным изображением времени, иным времени (l'autredutemps). Само выражение «вся полнота настоящего» отрицает, что настоящее Бога имеет прошлое и будущее. Но память и ожидание являются позитивными опытами в силу наличия образов-отпечатков и образов-знаков. «Вечное настоящее» представляется чисто позитивным понятием лишь благодаря своей омонимичности с настоящим, которое проходит. Чтобы назвать его вечным, нужно отрицать, что оно является переходом — пассивным или активным — от будущего к прошлому. Оно недвижно в той мере, в какой не представляет собой настоящего, через которое переходят. Вечность также мыслится негативно, как то, что не содержит времени, как то, что не является временны́м. Поэтому мы видим здесь двойное отрицание: нужно, чтобы я мог отрицать особенности моего временно́го опыта, дабы воспринимать его как недостаток по отношению к тому, что его отрицает. Именно это двойное взаимное отрицание, для которого вечность — это иное времени, более чем что-либо наращивает временно́й опыт.
71 Пьер Курсель в «Recherches surlesConfessions de saint Augustin» (Paris, deBoccard, 1950, chap. 1) настаивает на том, что термин «исповедь» (confession) у Августина шире «исповеди в грехах» и включает в себя исповедание веры и исповедание хвалы. Анализ времени и элегические сетования о distentio animi связаны со вторым и третьим смыслами confessio у Августина. Как мы увидим далее, сюда включается и повествование.
72 Несколько измененный перевод М.Е.Сергеенко: у Сергеенко: «в этой стране, где все от Тебя отпало» (Прим. перев.).
13 У Платона речь идет о беспокойстве Кормчего о том, чтобы космос, «волнуемый смутой... не погрузился в беспредельную пучину неподобного» (пер. С. Я. Шейиман-Топштейн). У Плотина: «область полнейшего неподобия» (так переводит, к примеру. T. Ю. Бородай). — Прим. перев
74 Выражение in regione dissimilitudinis стало сюжетом многих работ, упомянутых в важном дополнительном примечании № 16 А.Солпньяка(ор. cit., р. 689-693). Судьбу этого выражения от Платона до христианского средневековья, в частности, прослеживают Этьен Жильсон («Regio dissimilitudinis dePlaton à saint Bernard de Clairvaux». — Medieval Studies 9 (1947), p. 108-130) и Пьер Курсель в работе «Traditions néo-platoniciennes ettraditions chrétiennesdelarégiondedissemblance». — Archives d'HistoireLittéraireetDoctrinales du Moyen Age, 24 (1927), p. 5-33, воспроизведенной в качестве приложения в «Recherches surlesConfessions de saint Augustin».
75Латинское слово distentio означает и «растяжение», и «рассеяние» (Прим. перев.).
76 Перевод М. Е. Сергеенко с изменениями. — Прим. перев.
77 Перевод М. Е. Сергеенко с изменениями. — Прим. перев.
78 Следует ли вместе с Ж. Гиттоном (ор. cit., р. 237) различать «два внутренних движения, которые сознание может разделить, хотя они и взаимодействуют друг с другом: expectatio futurorum (предвидение будущего, лат. — Прим. перев.), переносящее нас в будущее, и extensio ad superiora (стремление к высшему, лат. — Прим. перев.), которое в конечном итоге
270
направляет нас к вечному»? Имеются ли здесь «две формы времени» (ibid.), вторую из которых иллюстрирует экстаз в Остии? Я так не думаю: необходимо учитывать и третий аспект вечности в опыте времени, о котором я скажу далее. Ж. Гитгон согласен с этим: что по сути отличает Августина от Плотина и от Спинозы, так это невозможность «онтологически отделить» (р. 243) extensio ad superiora, которое у Спинозы получит название amor intellectualis (интеллектуальная любовь [к Богу], лат. — Прим. перев.), от expectatio futurorum, которое у Спинозы становится duratio (длительностью, лат. —Прим. перев.). Экстаз в Остии это подтверждает: в отличие от неоплатонического экстаза, он является в равной мере и потерей сознания, и восхождением. Я вернусь к этому в четвертой части, повествование возможно там, где вечность притягивает и возвышает время, а не там, где она его уничтожает.
79 Перевод М.Е.Сергеенко с изменениями. — Прим. перев.
80 «Archives de philosophie», t. XXI. 1958, p. 323-385.
81К этому следует добавить и предостережение (admonitio), комментируемое А. Солиньяком (op. cit., р. 562).
82 Перевод М. Е. Сергеенко с изменениями. — Прим. перев.
83 Далее станет ясно, почему мы переводим mythos именно так.
84 Тем не менее нас будут интересовать все замечания (если их не переоценивать), сделанные Аристотелем в «Поэтике» по поводу отношений «поэтического» текста и реального «этического» мира.
85 G. F. Else. Aristotle's Poetics: The Argument. Harvard, 1957; Lucas. Aristotle. Poetics, introduction, commentaires et appendices. Oxford, 1968; L Golden, O. B. Hardison. Aristotle's Poetics. A Translation and Commentary for Students of Literature. Englewood Cliffs, N.Y., Prentice-Hall, 1968; Aristote. Poétique, (обработка текстаиперевод Ж.Арди). Paris, «Les Belles Lettres», 1969; Aristote. La Poétique (обработка текста, перевод, примечания РозелннДюпон-Рок и Жана Лалло. Paris. Ed. du Seuil, 1980. Я также многимобязантруду Джеймса М.Редфилда «Nature and Culture in the Iliad: The Tragedy of Hector» (The University of Chicago Press, 1975).
86Перевод дается по французскому тексту. Мы будем опираться на перевод М. Л. Гаспарова из четырехтомного собрания сочинений Аристотеля (т. 4. М., 1984), а в случае отсутствия в нем оттенков смысла, важных для П. Рикёра, — на французский текст. — Прим. перев.
87 Я пользуюсь здесь переводом Дюпон-Рок и Лалло, с единственной поправкой: mythos я перевожу как «интригу» по образцу английского термина plot. Перевод «история» также оправдан, однако я не сохраняю его, поскольку в моей работе термин «история» важен именно в смысле историографии. Французское слово «история» (histoire) не дает возможности провести различия, аналогичного тому, которое существует в английском языке между терминами storyи history. Зато слово «интрига» сразу же отсылает к своему эквиваленту — «упорядочение фактов», чего не дает перевод Ж.Арди mythos как «фабулы».
88 Перевод дается по французскому тексту (Прим. перев.).
89 Г. Элс ad 1447 а 8-18. Комментатор даже предлагает переводить термин mimēsisво множественном числе (например, в 1447 а 16) как imitatings, чтобы подчеркнуть, что миметический процесс является выражением самой поэтической деятельности. Окончание -sis, общее для poiesis, systasis. m’imēsis, указывает па процессуальный характер данных терминов.
90 Впрочем, «изображения красками и формами» (1447 а 19), упомянутые в главе 1, которая посвящена «как» репрезентации, а не ее «что» и не ее «способу» (см. далее), непрестанно предоставляют блестящие параллели, заимствованные из живописи.
91 «Трагедия есть подражание действию важному и законченному, имеющему [определенную] протяженность, [производимое] речью, услащенной по-разному в различных ее частях, [производимое] в действии, а не в повествовании (apangelia) и совершающее посредством сострадания и страха очищение (Katharsis) подобных страстей» (гл. 6, 1449 b 24-28). (Перевод М. Л. Гаспарова с изменениями. — Прим. перев.)
92 Перевод М. Л. Гаспарова с изменениями (Прим. перев.).
271
93 Перевод М. Л. Гаспарова с изменениями (прим. перев.).
94 Аристотель здесь возражает Платону, который, в свою очередь, спорит с Горгием (RedfiId, op. cit., p. 45 sq.). Последний восхваляет художников и актеров за их искусство обманывать («Dissoi logoi» и «Похвала Елене»). Сократ выводит из этого аргумент против искусства и предоставляемой им возможности манипулировать мнениями людей. Вся дискуссия о мимесисе в книге X «Государства» проходит под знаком этого недоверия к искусству. Существует знаменитое определение искусства как подражания подражанию, стоящего «на третьем месте от сущности» («Государство», X, 596 а — 597 е) (перевод А. П. Егунова. — Прим. пер.) и, сверх того, обреченного воспроизводить pathosдругих (604 е). Законодатель же может видеть в поэзии только противоположность философии. «Поэтика» является, таким образом, своего рода репликой на «Государство», X: подражание для Аристотеля — это деятельность, притом та, которая обучает.
95 «Средства» репрезентации, на которые здесь делается намек, хотя и более многочисленны, чем те, которые используются в трагедии, комедии и эпосе, но никогда не выходят за пределы искусства композиции.
96 Я предпочитаю эту гуссерлевскую терминологию соссюровской, используемой новейшими французскими переводчиками, которые считают mimēsisозначающим, a praxis — означаемым, исключая любой внелингвистический референт (Дюпон-Рок и Лалло, ad 1451 а 35, р. 219-220). Прежде всего, пара означающее-означаемое кажется мне — по соображениям, которые я заимствую у Бенвениста и излагаю в «Живой метафоре», — неподходящей для семантического ряда дискур-спредложение и, afortiori, — для семантического строя текста, выступающего как некое сочетание предложений. Кроме того, ноэтико-ноэматическое отношение не исключает референциального развития, представленного у Гуссерля проблематикой наполнения. (Здесь имеется в виду гуссерлевская концепция осуществления — наполнения — значения. — Прим. перев.) Далее я намереваюсь показать, что аристотелевский mimēsis не исчерпывается строгим ноэтико-ноэматическим соответствием между репрезентацией и репрезентируемым, но открывает путь исследованию референтов поэтической деятельности, которые интрига относит к верховью и низовью пары mimēsis-mythos.
97 Людям, лучшим или худшим в сравнении с чем? Текст гласит: «нежели нынешние» (1448а 18). В дальнейшем я буду обсуждать эту отсылку «Поэтики» к проявлению этического действия в «реальном» мире. Я свяжу ее с употреблением термина mimēsis, менее строго регулируемого ноэматпческой корреляцией с mythos. Отметим. что это обращение к этике имеет отношение ко всему полю миметической деятельности, в особенности в живописи. Различие между комедией и трагедией в этом смысле — лишь приложение критерия «как» к искусствам, использующим стихотворную речь (1448 а 1-18).
98 В своем комментарии к главе 3. посвященном способу осуществления mimēsis,Оле отмечает, что три способа— нарративный, смешанный и драматический —образуют свое! о рода прогрессию, которая делает драматический способ подражанием в собственном смысле слова, поскольку он непосредственно выражает человеческую панну, ведь сами персонажи совершают действие, становящееся объектом подражания, или репрезентации (op. cit., р. 101).
99 Перевод М. Л. Гаспарова с изменениями (Прим. перев.).
100Перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.)
101 Аристотель одновременно использует термины apangelia (гл. 3) и diēgēsis (гл. 23 п 26): «...эпос, который представляет собой рассказ (en detê epopoiia dia todiēgēsin)» (1459 b 26). (Перевод дан по французскому тексту. — Прим. пер.). Это выражение восходит к Платону («Государство». III. 392 с — 394 с). Но если у Платона «миметический» рассказ противопоставлен «простому» рассказу — как рассказ, который ведется от лица персонажа, прямому рассказу, у Аристотеля mimēsis становится основной категорией, охватывающей и драматическое сочинение, и сочинение диегетическое.
102 Перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
103 Дюпон-Рок и Лалло (op. cit., р. 370) в своем комментарии к главе 23 без колебаний говорят о «диететическом рассказе» и «нарративном рассказе», обозначая последним терми-
272
?????????????????????????????????????????????? 3 «?????»). ???????? говорить и о драматическом рассказе и тем самым признавать за термином «рассказ» родовой характер по отношению к двум его видам — драматическому и диегетическому.
104 Можно следующим образом смягчить противоречие двух суждений о зрелище, как и известную недобросовестность Аристотеля, который хочет подчеркнуть превосходство трагедии, не поступаясь ее формальной моделью, исключающей действительное воплощение ее на сцене. Вслед за Дюпон-Рок и Лалло можно сказать, с одной стороны (op. cit., р. 407-408), что театральное либретто до его воплощения в спектакле содержит все конститутивные черты миметической деятельности, а с другой стороны, что сам тип изложения драматического текста требует зрителя. Я сказал бы: либретто без спектакля — это предписание о постановке спектакля. Однако реальный спектакль не является необходимым для осуществления этого предписания. То же самое можно сказать относительно партитуры и ее оркестрового исполнения.
105 Перевод М.Л.Гаспарова с изменениями (Прим. перев.).
106 Перевод М.Л.Гаспарова с изменениями (Прим. перев.).
107Генри Джеймс, предисловиек «The Portrait of a Lady». In: «The Art of the Novel». New York, 1934, cd. R. P. BIackmuir, p. 42-48. (См.: Генри Джеймс. Предисловие к роману «Женский портрет» в Нью-Йоркском издании 1907-1909 гг. Перевод М. А. Шерешевской. В кн.: его же. Женский портрет. М., 1981, «Литературные памятники», с. 481-493. — Прим. перев.).
108F.Kermode. The Genesis of Secrecy. Harvard University Press, 1979, p. 81 sq. В этом же смысле Джеймс Редфилд замечает, что стержнем «Илиады» является гнев Ахилла и трагическая судьба Гектора. Но в эпосе, где у персонажей нет выраженного внутреннего мира, важно только взаимодействие характеров. Поэтому характер становится значимым, только если он служит построению интриги (ibid., р. 22). Нет больше спора о приоритете, если к тому же понимать под интригой «that implicit conceptual unity which has given the work its actual form» [«то имплицитное концептуальное единство, которое придает произведению его реальную форму»] (ibid., р. 23). Именно этой точки зрения я придерживаюсь в данной работе.
109 «Нами принято, что трагедия есть подражание действию законченному (teleios) и целому (holes), имеющему известную протяженность (megethos)» (1450 b 23-25). (Перевод М.Л.Гаспарова с изменениями. — Прим. перев.)
110 Эл с особенно настаивает на этом разделении логического и хронологического (см. комментарий ad 1450 b 21-34). Только учет внутренней необходимости делает из правдоподобного или необходимого «the grand lawof poetry» [«основной закон поэзии»] (op. eit., p. 282). Комментатор доходи г до признания в этой сжатой в уме временно́й схеме «а kind of Parinenidian "on" in the realm ofart» [«своего рода парменпдовского "toon" в сфере искусства»] (p. 294). Доказательство он находит в том, что, говоря об эпосе в гл. 23. Аристотель предостерегает против хроник, «в которых приходится описывать не единое действие, а единое время» (henoskhronou)» (1459 а 22-23). Этому «report of asingletime» («описанию единого времени») Аристотель противопоставляет своп универсалии, которые являются «timeless» [«вневременными»] ((р 574). Не думаю, что стоит заводить так далеко эту оппозицию между хронологическим и логическим, ибо эго чревато отрицанием связи между «Поэтикой» и «Этикой». Я со своей стороны попытаюсь в следующей главе выработать не-хронологическое понятие нарративной временности. Разве сам Элс не говорит о событиях, изображенных в драме, как о «events which arenot in time at least in the usual sense» [«событиях, которые не происходят во времени, по крайней мере в обычном его смысле»] (р. 574)? Также и драматическое время нельзя полностью игнорировать после того, как эпопее была приписана исключительная способность «сочинять многие части совершающимися одновременно (hama)» (1459 b27). Единая временная перспектива, которую предписывает действие, совершенное самими персонажами, заслуживает того, чтобы мы поразмыслили о времени драматического рассказа в его отличии от диететического рассказа, и о времени интриги, властвующем над тем и другим.
111 Перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
273
112 Перевод М. Л. Гаспарова с изменениями (прим. перев.).
113 Об «интеллектуальном ответе» на миметическую деятельность художника см. у Г. Элса (комментарий ad 1448 b4-24). Джеймс Редфилд также настаивает на этой обучающей функции подражания (op. cit., р. 52-55): вероятное по-своему универсально (р. 55-60); интрига ведет к познанию (р. 60-67). Тем самым «Поэтика» сохраняет тесную связь с риторикой V века и ее культурой аргументации. Но если на суде аргументация соединяется с рассказом, который сам подвержен случайности, то драма включает аргументацию в рассказ и конструирует условия события, исходя из интриги: «Wecan then define fiction as the outcome of a hypothetical inquiry into the intermediate causes of action, an inquiry which hasled the poet tothe discovery and communication in a story of some universal pattern of human probability and necessity» [«В таком случае мы можем определить вымысел как результат своего рода расследования промежуточных мотивов действия, расследования, которое приводит поэта к открытию и сообщению в виде рассказанной истории некоторых универсальных моделей возможности и необходимости, присущих человеческой жизни»] (р. 59-60). Таким образом, «fiction isthe outcome of akind of inquiry» [«вымысел есть результат своего рода расследования»] (р. 79): как это могло бы произойти? Кто мог бы так действовать? В этом же смысле высказывается Голден: «Through imitation, events are reduced to form andthus, however impure in themselves, the events portrayedare purified — clarified — into intelligibility» [«Благодаря подражанию события редуцируются к форме; таким образом изображаемые события, будучи сами по себе неочищенными, очищаются, просветляются, становятся доступными постижению»] (op. cit., р. 236).
114 Новейшие французские переводчики говорят «хроника», поскольку термин «история» они оставляют для перевода «mythos». Этот выбор имеет то преимущество, что делает возможным менее негативное суждение об историографии.
115 См. ниже, часть II, глава II, параграф «Конфигурирующий акт».
116 Перевод М. Л. Гаспарова с изменениями (Прим. перев.).
117Элс восклицает: «The maker of what happened! Not the maker of the actuality of events but of their logical structure, of their meaning: their having happened is accidental to their being composed» [«Творецтого, что случилось! Творец не реальности событий, но их логической структуры, их смысла: тот факт, что они случились, второстепенен в сравнении с тем. что они были сочинены»] (op. cit., р. 321).
118 Выше мы процитировали: «...действию законченному и целому, имеющему известную протяженность» (1450 b 24-25). В ближайшем контексте Аристотель комментирует только «целое» и «протяженность».
119 Перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
12ΰ Редфилд гак переводит 1452 а 1-4: «The imitation is not of a complete açlion but of things pitiable and fearful; such things most happen when they happen contrary to expectation because of one another (di’ allēla)». ПереводЭлса: «contrary to experience but because of one another». УЛеона Голдена: «unexpectedly, yet because of one another».
121 Дюпон-Рок иЛаллопереводят «peripeteia» как «le coup de théâtre» — «неожиданныйповорот, развязка» (Прим. перев.).
122 Сохраняет ли трагедия Эдипа для нас, кому ведома нить интриги и ее исход, характер peripeteia? Да, если определять неожиданность не через некое внешнее знание, а через отношение к ожиданию, порожденному внутренним ходом интриги: перемена существует в нашем ожидании, но создается она интригой (см. далее изложение проблемы отношения внутренней структуры произведения и склонностей аудитории).
123 Роль узнавания (reconnaissance) как изменения незнания на знание — в границах, о которых пойдет речь в следующей сноске, — состоит в том, чтобы компенсировать эффект неожиданности, содержащийся в peripeteia, ясностью, которую оно привносит. Избавляясь от самообмана, герой достигает своей истины, а зритель — знания этой истины. В этом смысле у Элса, быть может, есть резоны для сближения проблемы трагической ошибки и проблемы узнавания. Поскольку ошибка включает незнание и заблуждение, она действительно является оборотной стороной узнавания. Важной проблемой четвертой части моей книги станет наведение мостов между узнаванием, как его трактуют Аристотель и Гегель
274
(имеется в виду разработанное Гегелем в «Феноменологии духа» понятие «признание», Erkennung, также передаваемое во французском языке термином reconnaissance. —Прим. перев.), и повторением в хайдеггеровском смысле.
124Н.Lübbe. Was aus Handlungen Geschichten macht. In: «Vernüafliges Denken», изд. Jürgen Mittelstrass и Manfred Riedel, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1978, S. 237-250.
125Быть может, границы модели наиболее очевидны в случае узнавания, где переходы от незнания к знанию осуществляются внутри отношений дружбы или вражды лиц, «назначенных к счастью или к несчастью» (1452 а 31). Конечно, любовь простирается дальше, чем кровные отношения, но она создает весьма жесткое ограничение. Однако можно задаться вопросом: превращая любовь в единственную пружину действия, не воспроизводит ли современный роман, по крайней мере в той форме, которую он принял благодаря «Памеле» Ричардсона, то же ограничение, связанное с любовью или враждой, при помощи прояснения, которое само равнозначно аристотелевскому узнаванию (см.: третья часть, глава I).
126Дж.Редфилд: «Pathē and learning together constitute the characteristic value to us of a well-made narrative. I suspect that Aristote meant by katharsis exactly this combination of emotion and learning» [«Страсть иузнаваниесовместно составляют характерную, значимуюдля нас, черту искусного повествования. Я полагаю, что Аристотель понимал под катарсисом именно это сочетание чувства и узнавания»] (op. cit., р. 67).
127 Hamartia— не только предельный случай несогласия; с ней в немалой степени связан исследовательский характер трагического произведения. Она ставит проблему незаслуженного несчастья. Интерпретация трагической ошибки — задач а трагедии как «inquiry in the strenghts and weaknessesof culture» [«исследования сильных и слабых сторон культуры»] (Редфилд, op. cit., р. 489). Мы еще вернемся к роли поэтического произведения как разоблачителя «дисфункций» культуры (ibid., р. 111, прим. 1).
128 Элс справедливо отмечает, что это распознавание делает нас судьями: но мы выносим суждение как собратья по человеческому роду (as a court of fellow human beings), способные ошибаться, а не как министры юстиции. Тогда очистка сострадания и страха занимает место осуждения п отвращения. Более того, не мы совершаем очищение — это делает интрига (op. cit.. р. 437). Здесь вновь обнаруживается упомянутая выше связь между трагической ошибкой и узнаванием. Катарсис — это процесс, целиком подчиненный структуре и достигающий кульминации в узнавании.
129Голден переводит: «Since the poet should produce pleasure from (apo) pity and fear through (dia) imitation, it is apparent that this function must be worked into (on tois pragmasin empoieton) the incidents» (op. cit.. p. 23). Элс комментирует: «through the shaping of the work out of the emotions» [«придаваяформу своим сочинениямисходя из чувств»].
130 Я не прокомментировал различие между «завязкой» (dēsis) и развязкой (lusis), описанное в гл. 18. Единственный факт, который Аристотель включает в фазу завязки «внешних» по отношению к интриге событий, дает основания полагать, что это различие не следует помещать в ту же плоскость, что и другие черты сложной ин i риги; его даже не следует считать существенной чертой интриги, все критерии которой являются «внутренними». Вот почему критика понятия нарративного завершения, черпающая аргументы из апорий этого анализа (см. третью часть), достигает лишь периферической категории, чужеродной и, может быть, добавленной Аристотелем позже (Эле. op. cit., р. 520). а не сердцевины понятия «интрига».
131 Дж. Редфилд настойчиво подчеркивает связь этики и поэтики; об этой связи со всей очевидностью свидетельствуют общие для обеих дисциплин термины praxis, «действие», н ethos, «характеры». В более глубоком плане она касается достижения счастья. В самом деле, этика толкует счастье лишь как потенциальную возможность: она рассматривает его условия, а именно добродетели; но связь между добродетелями и условиями счастья остается случайной. Конструируя свои интриги, поэт придает интеллигибельность этой случайной связи. Отсюда и возникает парадокс: «Fiction is about unreal happiness and unhappiness, but these in their actuality» [«Вымысел трактует о не-реальиом счастье и несчастье, которые предстают как реальные»] (op. cit., р. 63). Такой ценой повествование «обучает» счастью и жизни, упомянутым в определении трагедии: «подражание не [пассивным] лю-
275
дям, но действию, жизни, счастью, [а счастье и] несчастье состоят в действии» (1450 а 17-18).
132 Перевод М. Л. Гаспарова с изменениями (прим. перев.).
133 Перевод дан по французскому тексту (Прим. перев.).
134 Позже мы увидим (третья часть, глава II), как Клод Бремон в своей «логике нарративных возможностей» употребляет эти понятия улучшения и ухудшения. Можно принять утверждение Дюпон-Рок и Лалло, что «Поэтика» инвертирует отношение приоритета между характерами и действием; в этике, говорят они, характеры первенствуют, в поэтике они отходят на второй план. «Инверсия отношения приоритета между агентом и действием непосредственно вытекает из определения драматической поэзии как репрезентации действия» (р. 196, об этом же р. 202-204). Однако можно согласиться с Элсом (ad1448 а 1-4) в том, что и в этике именно действие сообщает свои моральные качества характерам. В любом случае, как можно было бы воспринять перемену, о которой шла речь выше, если бы благодаря ей не сохранялся порядок первенства, инвертированный «Поэтикой»? Наши авторы, вероятно, согласились бы с этим: по их мнению, объект миметической деятельности (не только в этой главе, но, может быть, и до конца «Поэтики») сохраняет двойственный смысл объекта-модели (естественного объекта, которому подражают) и объекта-копии (артефакта, который создают). Они отмечают (ad1448 а 9): «Миметическая деятельность (те, кто подражает) устанавливает между обоими объектами, моделью и копией, сложное отношение; оно предполагает одновременно сходство и различие, идентификацию и трансформацию одного и того же движения» (р. 157).
135 1451 а 16-20 поразительно в этом отношении, так как здесь говорится о действиях, которые совершились в жизни одного-единственного человека, но «никак не складываются» в единое действие.
136 Редфилд замечает (op. cit., р. 31-35), что воспринятые из традиции истории героев, в отличие от историй богов, — это истории бедствий и страданий, иногда — преодоленных, чаще — претерпеваемых. В них говорится не об основании городов, а об их разрушении. Эпический поэт собирает «молву» о них, kleos, и вносит ее в свои записи. Трагический поэт, в свою очередь, черпает из этого запаса; с этой оговоркой «stories can be borrowed, plots cannot» [«истории могут быть заимствованы, интриги — нет»] (р. 58).
137 Моя позиция, обоснование которой содержится в следующей главе, близка к позиции Х. Р. Яусса в его работе «Pouruneesthétiquedelaréception», Paris, Gallimard, 1978, p. 21-80. По поводу «наслаждения» можно прочесть того же автора: «Aesthetische Erfahrung undliterarische Hermeneutik», München. WilhelmFinkVerlag, 1977, S. 24-211.
138Смешанный статус удовольствия — на стыке произведения и публики, — вероятно, объясняет, почему зрелище занимает в «Поэтике» такое неустойчивое положение. С одной стороны, оно названо «чуждым искусству»: «ведь сила трагедии сохраняется и без [сценического] состязания» (1450 b 16). С другой стороны, зрелище — эго одна из «частей» трагедии; казалось бы, оно несущественно, но на самом деле без него не обойтись, потому что текст обращается к зрителю, а когда его нет — к читателю. Аристотель не создает теории чтения, оно для него — лишь замена зрелища. Ибо кто, как не зритель или его субститут, читатель, может оценить нужную продолжительность произведения, в котором «можно... сразу охватить взглядом и начало и конец» (1459 b 19)? Удовольствие от познания рождается именно из этого «взгляда».
139W. Iser. The Implied Reader. Baltimore, London. The Johns Hopkins University Press, 1974, p. 274-294.
140Г. Элс: очищение производится самим процессом подражания. А поскольку интрига является подражанием, очищение осуществляется с помощью интриги. Намек на катарсис в главе 6 не является, стало быть, дополнением, но предполагает единую теорию интриги. По этому поводу см. статью Леона Голдена «Катарсис» («Transactions of the Am. Philological Assoc.» XLIII (1962), p. 51-60). Co своей стороны, ДжеймсРедфилдпишет: «Art... in so far as it achieves form, is a purification... As the work reaches closure, we come to see that every thing is as it should be, that nothing could be added or taken away. Thus the work takes us through impurity to purity; impurity has been met and overcome by the power of formal art» [«Искусст-
276
во... поскольку оно достигает формы, есть очищение. Когда произведение завершено, мы обнаруживаем, что каждая вещь такова, какой она должна быть, что ничего нельзя ни убавить, ни прибавить; таким образом, произведение ведет нас от неочищенности к очищенности; неочищенность бралась и преодолевалась силой искусства формы»] (р. 161). Очищение является скорее очисткой в той мере, в какой художник создает форму при помощи «редукции», согласно выражению, заимствованному у Леви-Стросса: «The mark of this reduction is artistic closure» [«Признаком этой редукции является художественная завершенность»] (р. 165). Коль скоро мир литературного произведения — «self-contained» [«самодостаточен»] (ibid.), то «art in imitating life can make intelligible (at the price of reduction) situations unintelligible inlife» [«искусство, подражая жизни, может сделать интеллигибельными (ценой редукции) ситуации, неинтеллигибельные в жизни»] (р. 166). Дюпон-Рок и Лалло с полным основанием переводят катарсис как «очистку» (см. их комментарий, с. 188-193).
141 «The Metaphorical Process as Cognition, Imagination, and Feeling», Critical Inquiry, The University of Chicago, vol. 5, n. 1 (1978), p. 143-159.
142Весь труд Джеймса Редфилда ориентирован этой темой влияния поэтического понимания на культуру. Культура определяется в таких терминах: «Those things which canbe made otherwiseby choice, effort, and the application of knowledge constitute the sphere of culture» [«Сферу культуры конституируют те вещи, которые в иных случаях создаются путем отбора, усилий и приложения знания»] (op. cit., р. 70). Оппозиция природы и культуры — это главным образом оппозиция необходимости и случайности: «Values and norms are... not constrains on action but (teleologically) the sources of action» [«Ценности и нормы... не принуждают к действию, но являются (в телеологическом смысле) источниками действия»] (р. 70). «Constraints constitute the sphere of nature; they are things which cannot be made otherwise» [«Сферу культуры конституируют принуждения; это вещи, которые невозможно сделать иным образом»] (р. 71). Из этого следует, что смысл произведения искусства находит свое завершение только в его воздействии на культуру. Для Дж. Редфилда это воздействие в существенной мере носит характер критики: драма рождается из двусмысленности культурных норм и ценностей; сосредоточивая внимание на норме, поэт представляет своей аудитории некую историю, которая является проблематичной, и ее производное, характер (р. 81): «The tragic poet thus tests the limits of culture... In tragedy culture itself becomes problematic» [«Трагический поэт нащупывает пределы культуры...В трагедии сама культура становится проблематичной»] (р. 84). Эпопея еще до нес осуществила эту функцию благодаря «эпической дистанции»: «Epic describes the heroic world to an audience which itself inhabits another, ordinary world» [«Эпическая поэзия описывает героический мир гой аудитории, которая живет в другом, обычном мире» (р. 36). Поэт становится учителем, когда начинает дезориентировать свою аудиторию, а потом, когда преподносит ей в своих песнопениях о героях упорядоченное изображение тем разрухи и беспорядка. Но он не решает жизненных дилемм. Так, в «Илиаде» траурная церемония примирения не открывает никакого смысла, но она демонстрирует отсутствие смысла у всякого военного предприятия: «Dramatic art rises from the dilemmasand contradictions oflife, but it makes no promise to resolve dilemmas: on the contrary, tragic art may well reach its highest formal perfectionat the moment when it reveals tous these dilemmasas universal, pervasiveand necessary» [«Драматическое искусство возникает из дилемм и противоречий жизни, но оно не сулит разрешения дилемм; напротив, искусство трагедии достигает, пожалуй, высшего совершенства формы в тот момент, когда открывает нам, что эти дилеммы всеобщи, всеобъемлющи и необходимы»] (р. 219). «Poetry offers [man] not gratification but intelligibility» [««Поэзия дает [человеку] не удовольствие, но вразумление»] (р. 220). Так происходит главным образом в случае незаслуженного страдания, усиленного трагической ошибкой: «Through the undeserved suffering of the characters of tragedy, the problem of culture is brought home to us» [«Незаслуженные страдания персонажей трагедии вновь ставят нас перед лицом проблем культуры»] (р. 87). Hamartia, бессознательное начало несогласия, есть также и бессознательное начало «обучения трагическим». В этом смысле можно рискнуть назвать искусство «отрицанием культуры» (р. 218-223). В четвертой части с помощью Ханса Роберта Яусса мы вернемся к этой функции литературного произведения — проблематизации жизненного мира культуры.
277
143См. мою статью в: «Sémantique de l'Action». Paris, Ed. du CNRS, 1977, p. 21-63.
144 О понятии базового действия см.: A.Danto. BasicAction. — «Am. Phil. Quarterly» 2,1965. О знании без наблюдения см.: E.Anscombe. Intention. Oxford, Blackwell, 1957. Наконец, о понятии вмешательства в его соотношении с понятием закрытой физической системы см: Н. von Wright. Explanation and Understanding. London, Routledge and Kegan Paul, 1971.
145Отношение между феноменологией и лингвистическим анализом я обсуждаю в работе «Sémantiquedel'action», p. 113-132.
146 C. Geertz. The Interpretation of Cultures. New York, Basic Books, 1973.
147В очерке, из которого я взял большую часть замечаний, касающихся символического опосредования действия, я проводил различие между конституирующим символизмом и символизмом репрезентативным («Lastructuresymbolique de l'action», in: «Symbolism». Conférence internationale de sociologie religieuse, CISR, Strasbourg, 1977, p. 29-50). Сегодня эти терминыкажутсямне непригодными. Кроме того, я отсылаю за дополнительной информацией к моему эссе «Imagination dans lediscoursetdansl'action». In: «Savoir, faire, espérer: les limites de la raison». Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 5, 1976, p. 207-228.
148Именно здесь принятый мною смысл слова «символ» соприкасается с обоими смыслами, которые я ранее устранил. Поскольку символика интерпретирует поведение, она также является системой обозначения, которая, подобно математической символике, сокращает множество отдельных действий и предписывает, подобно символике музыкальной, порядок исполнения или возможные его особенности. Но символ как интерпретант, руководящий тем, что Клиффорд Гирц называет «thick description» [насыщенным описанием], вводит в жест и поведение, интерпретацию которых определяет этот символ, еще и отношение двойного смысла. Эмпирическую конфигурацию жеста можно считать буквальным смыслом — носителем смысла фигурального. В конце концов этот смысл может проявиться, при некоторых, пока неясных условиях, как смысл, скрытый от расшифровки. Для чужака таким выступает любой общественный ритуал, поскольку ему нет нужды интерпретировать его эзотерическим и герметическим способом.
149См. мою статью «The Model of the Text. Meaningful Action Considered as a Text». — «Social Research», 38 (1971), 3, p. 529-562, перепечатанав «New Literary History», 5 (1973), 1, p. 91-117.
150 P. Winch. The Idea of a Social Science. London. Routledge and Kegan Paul, 1958. p. 40-65. (Рус. пер.: П. Уинч. Идея социальной науки. Μ.. 1996. — Прим. перев.)
151 Мы привели пример этого, говоря о трактовке Джеймсом Редфилдом в работе «Natureand Culture in the Iliad» отношения между искусством и культурой: см. выше, с. 277.
152 Мы опираемся здесь на русское издание «Бытия и времени» в переводе В .В. Бибихина (М., 1997). Далее цитаты даются по этому изданию. — Прим. перев.
153 В обзорном исследовании феноменологии времени в четвертой части киши я неоднократно буду возвращаться к роли «повторения».
154М.Heidegger. Sein und Zeit. Tübingen, Max Niemeyer, 101963, § 78-83, S. 404-437. Я перевожу Innerzeitigkeit как intratemporalité или être-«dans»-le temps. ДжонМаккерн ιι ЭдвардРобинсонпереводятэто термин какWithin-time-ness («Being and Time», New York, Harper and Row, 1962, p. 456-488).
155«Его (т.е. Dasein. — Прим. перев.) событиенаоснове датирующего толкования времени... день-деньское» («Sein Geschehen ist auf Grund der... datierenden Zeitauslegung ein Tagtägliches, op. cit.», S. 413) (англ, пер.: «Dasein historizes from day to day by reason of its way of interpreting time by dating it...», op. cit., p. 466). Здесь на память приходят размышления Августина о «дне», понятие о котором он не связывал лишь с обращением Солнца [вокруг Земли]. Хайдеггер не следует ему в этом вопросе: он проводит различие между «естественнейшей» мерой времени (ibid.) и всякими инструментальными и искусственными мерами. Время, «в» котором мы существуем, — это Weltzeit(мировое время) (op. cit., S. 419): «более объективное», чем любой возможный объект, оно является также и «более субъективным», чем любой возможный субъект. Его, таким образом, не существуетни снаружи, ни внутри.
278
156 «Das Jetzt-sagen aber ist die redende Artikulation eines Gegenwärtigens, das in der Einheit mit einem behaltenden Gewärtigen sich zeitigt» (op. cit., S. 416). (англ, пер.: «Saying now ... is the discursive Articulation of a making-present which temporalizes itself in a unity with a retentive awaiting», op. cit., p. 469).
157 «Das sich auslegende Gegenwärtigen, das heisst das in ‘‘jetzt” angesprochene Ausgelegte nennen wir “Zeit” (op. cit., S. 408) (англ, пер.: «The making-present which interprets itself... — in other words, that which has been interpreted and is addressed in the “now” — is what we call “time”», op. cit., p. 460).
158 W. Iser. Der Akt des Lesens. München, Wilhelm Fink, 1976, II, ch. III.
159Благодаря этому обобщению историк Поль Вейн смог определить интригу как комбинацию в различных пропорциях целей, причин и случайностей. Это определение стало путеводной нитью его историографии в работе «Как пишут историю» (см. ниже, вторая часть, гл. II). Дополняет эту дефиницию (но не противоречит ему) подход Г. Х. фон Вригта, который видит в историческом рассуждении комбинацию практических силлогизмов и каузальных связей, определяемых системными ограничениями (также см. ниже, вторая часть, гл. II). Следовательно, при разных подходах интрига сочетает разнородные ряды.
160 Я заимствую у Луиса О. Минка понятие «configurational act» — конфигурирующий акт, — которое он применяет к историческому пониманию, а я распространяю на вес поле нарративного понимания (L.О.Mink. The Autonomy of Historical Understanding. — «History and Theory», vol. V, № 1, 1965, p. 24-47). См. ниже, вторая часть, гл. II и далее.
161 Ниже мы рассмотрим другие импликации рефлективного характера суждения в области истории. См. вторую часть, гл. III.
162 Понятие «followability» я заимствую у У .Б. Гэлли: «Philosophy and the Historical Understanding», New York, Schoken Books, 1964. Во второй части книги будет рассмотрен центральный тезис труда Гэлли — о том, что историография (history) есть один из видов рода рассказанной истории (story).
163 Но эта типология не устраняет в высшей степени временно́го характера схематизма. Вспомним, каким образом Кант соотносит структуру схематизма с тем, что он называет определениями времени a priori. « ..схемы суть не что иное, как априорные определения времени, подчиненные правилам и относящиеся (в применении ко всем возможным предметам, согласно порядку категорий) к временно́му ряду, к содержанию времени, к порядку времени и. наконец, к совокупности времени» («Критика чистого разума», I. ч. II, кн. И, гл. I. О схематизме чистых рассудочных понятий. В кy.: И. Кант. Соч. в шести томах. Т. 3. М., 1964, с. 227. — Прим. перев.). Кант признавал только определения времени, вносящие вклад в объективную структуру физического мира. Схематизм нарративной функции предполагает определения нового типа, а именно те. которые мы только что обозначили как диалектику эпизодических и конфигурирующих черт построения интриги.
164 Термин sédimentation (букв, «выпадение в осадок») восходит к Гуссерлю и применяется в современном литературоведении. В феноменологии он обозначает «освоение и закрепление в качестве освоенных новых форм сознания и культуры: смыслов, стилей и т. д» (примечание переводчика в кн.: П. Рикер. Герменевтика, этика, политика. М., 1995, с. 66). — Прим. перев.
165 Шолес и Келлог в книге «The Natureof Narrative», Oxford UniversityPress. 1968. с полным основанием предваряют свое исследование нарративных категорий историческим обзором искусства повествования на Западе. То. что я называю схематизмом построения интриги, существует лишь в этом историческом развитии. Вот почему Эрик Ауэрбах в замечательной работе «Мимесис» примеряет свой анализ и оценку репрезентации реальности в западной культуре к образцам многочисленных, но строго ограниченных текстов.
166 Аристотель замечает, что мы знаем только универсалии: единичное невыразимо. Носоздаем мы единичные вещи. См.: G. G. Granger. Essai sur la philosophie de style. Paris, Arman Colin, 1968, p. 5-16.
167Ухрония — uchronie — термин, образованный П. Рикёром по аналогии со словом «утопия» и обозначающий несуществующее время, в отличие от ахронии — отсутствия времени (Прим. перев.).
279
168 R. Schafer. A New Language for Psychoanalysis, New Haven, Yale UP., 1976.
169 W. Schapp. In Geschichten verstrickt. Wiesbaden, В.Heymann, 1976.
170 F. Kermode. The Genesis of Secrecy — On the Interpretation of Narrative. Harvard University Press, 1979.
171 Cm. Mk 4, 11.— Прим. nepeв.
172 См., например; «Никомахова этика», 1174 b 25 — 1175 a 5 (Прим. nepeв.)..
173См. прим. 1 (Прим. nepeв.)
174Понятие достоверности у Греймаса даст нам замечательный пример возвращения этой диалектики в теорию, которая безоговорочно исключает всякое обращение к внешнему референту. См.: A. -J. Greimas, J. Courtés. Véridiction. — «Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du language», p. 417.
175 «La Métaphore vive», VII.
176Обовсем этом см., нарядус седьмым очерком «Живой метафоры», резюме моихтезисов в «Interpretation Theory», Fort Worth, The Texas Christian University Press, 1976, p. 36-37, 40-44, 80, 88.
177 E. Fink. De la Phénoménologie (1966); перев. на франц. — Didier Frank, Paris, Minuit, 1974, § 34; H.-G. Gadamer. Wahrheit und Methode. Tübingen, J.С.В. Mohr, I960, 1-re partie, II, франц. перевод: «Vérité et Méthode». Paris. Éd. duSeuil. (Рус. пер.: «Истина и метод», Μ., 1988. — Прим. nepeв.).
178«La tâche de l’herméneutique». — «Exegèsis: Problèmes de la méthode et exercices de lecture», éd. par Francois Bovon et Grégoire Rouiller. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1975. p. 179-200. Англ, перевод—«Philosophy Today», 17 (1973), p. 112-128. перепечатанв сборнике моихстатей «Hermeneutics and the Human Sciences», éd. et trad, par J. B. Tompson, Cambridge University Press et Éditions Maison des sciences de l'homme, 1981, p. 43-62.
179Слова Нельсона Гудмена в «The Languagesof Art» о том, что литературные произведения постоянно создают и воссоздают мир, в особенности применимы к повествовательным произведениям, в той мере, в какой poiēsisпостроения интриги является действием, которое, кроме того, направлено на действие. Именно здесь в наибольшей степени применима эта формула из первой части работы Гудмена «Reality Remade», так же как и его максима: мыслить произведения под углом зрения миров и миры под углом зрения произведений.
180М.Heidegger. Gesammtausgabe, Bd. 24. Die Grundprobleme der Phänomenologie. Frankfurt, Klostermann, 1975, §19.
181Уподобив выше практическое время мимесис-Ι последней из производных форм временности согласно «Бытию и времени» — Innerzeitichkeit, «впутривременности» или «бытию-«во»-времени». — мы выбрали порядок, обратный «Бытию и времени», то есть порядок «Grundprobleme».
182 Перевод М. Е. Сергеенко с изменениями (Прим. перев.).
183 Это не исключает возможности описания исторического объяснения как «смешанного»: в этом отношении я разделяю тезис Г. Х. фон Бригга, которому будет посвящена часть главы II. Но «смешанное» — не значит неясное или двусмысленное. «Сметанное» — отнюдь не компромисс, ибо оно было тщательно сконструировано как таковое в соответствующем ему эпистемологическом плане.
184 «Expliquer et comprendre». — «Revue philosophique de Louvain», 75 (1977), p. 126-147.
185Пьер Шоню писал в 1960 году: «Эпистемология — это соблазн, который нужно уметь решительно преодолевать. Разве опыт последних лет не доказал, что она может быть первым подвернувшимся под руку решением для тех, кто с наслаждением затерялся в ней, — одно-два блестящих исключения лишь подтверждают правило, — симптомом исследования, которое топчется на месте и становится бесплодным? В лучшем случае было бы целесообразно, чтобы несколько главных представителей течения (на это звание мы ни в коем случае не претендуем) посвятили себя этому, — с целью лучше защитить крепких ремесленников строящегося знания (единственный титул, на который мы могли бы претендо-
280
вать) от опасных соблазнов этой нежной Капу» («Histoirequantitative, Histoiresérielle». Paris, ArmandColin, 1978, p. 10).
186Некоторые фрагменты этого раздела представляют собой сокращенное изложение более подробных исследований, которым посвящен мой очерк «TheContribution of French Historiography to the Theory of History», — «The Zaharoff Lecture (1978-1979)», Oxford, Clarendon Press, 1980. Напротив, в главе III содержится анализ работ французских историков, который не нашел места в «Zaharoff Lecture».
187Я цитирую 16-е издание: «Introduction à la philosophie de l’histoire: essai sur les limites de l’objectivité historique». Paris, NRF, Gallimard, «Bibliothèque des Idées», 1957.
188 Ch.-V. Langlois et Ch. Seignobos. Introduction aux études historiques. Paris, 1898.
189 H.-I. Marrou. De la connaissance historique. Paris, Éd. du Seuil, 1954.
190«В понимании, относящемся к прошлому, нет ничего специфического; это тот же процесс, который совершается при понимании другого в настоящем, к примеру (ибо чаще всего и в лучшем случае рассматриваемый документ представляет собой некий ‘‘текст"), при понимании артикулированной речи» (р. 83). Для Марру переход от индивидуальной памяти к историческому прошлому не составляет проблемы, в той мере, в какой действительно существует разрыв между привязанностью к себе и открытостью другому.
191 Здесь Марру отдаляется от одного из мыслителей, вызывавших у него наибольшее восхищение, — от Коллингвуда. Но, быть может, перечитывание Коллингвуда привело бы его к тезису, защищаемому нами в этой работе (см. ниже, четвертую часть).
192 Как раз цитируя Арона, Марру пишет: «Но нет, не существует исторической реальности, — данной в готовом виде до науки, — которую следовало бы просто верно воспроизвести» (Арон, op. cit., р. 120): история — результат созидательного усилия, посредством которого историк — познающий субъект — устанавливает это отношение между прошлым, которое он вспоминает, и настоящим, которое ему принадлежит» (р. 50-51).
193 Кратко об истории основания, предшественниках и развитии школы Анналов см. в статье: .1. Le Goff. L'histoire nouvelle. — «Nouvelle Histoire». Encyclopédie dirigée par Jacques Le Goff, Roger Chartier, Jacques Revel. Paris, Retz-CEPL, 1978, p. 210-241.
194Эта работа выдержала семь изданий: последнее содержит представляющее значительный интерес предисловие Жоржа Дюби (Paris, Armand Colin. 1974). (Русское издание: М. Блок. Апология истории, или Ремесло историка. М„ 1986. Далее цитаты в тексте даются по этому изданию в переводе Е. М. Лысенко. — Прим. перев.)
195 В четвертой части я вернусь к вопросу об отношении между «историей, людьми и временем», который исследует Марк Блок в первой главе своей книги. То, что историку известно из прошлого лишь то, что есть в нем человеческого и что можно определить как «науку о людях во времени» (с. 18, 29): что историческое время одновременно является непрерывным и несходным: что история должна избегать навязчивой идеи истоков: что познание настоящего было бы невозможно без познания прошлого и наоборот, — все эти темы вновь выдвинутся на первый план, когда мы обратимся к вопросу о референтах истории. Здесь мы остановимся лишь на суждениях эпистемологического характера, которые связаны у Марка Блока с его размышлениями о предмете и прежде всею о статусе понятий след и свидетельство. Безусловно, эго ею отвага соединила главные его методологические замечания с определением истории как «познания по следам», по удачному выражению Франсуа Симпана. Но следы, на которых основывается наука о людях во времени, — это прежде всего «показания свидетелей» (с. 30). Отныне «историческое наблюдение» (название главы II) и «критика» (название главы III) будут главным образом направлены на типологию и критериологию свидетельства. Примечательно, что в «Апологии истории» рассказ появляется только как один из видов свидетельств, критикой которых занят историк, а именно, намеренных свидетельств, чья цель — информировать читателя, а не как литературная форма произведения, которое пишет историк (слово «рассказ» встречается на с. 33, 37, 64, 67).
196 Значительная роль, которую играла фальшивка в средневековой истории, вероятно, объясняет также тот размах, который приобрела критика свидетельства.
197 «Оценить вероятность какого-либо события — значит установить, сколько у него есть
281
шансов произойти» (с. 71). Марк Блок сближается с Вебером и Ароном, отмечая своеобразие такого способа рассуждения, когда предвидение как бы прикладывается к свершившемуся прошлому: «Поскольку линия настоящего тут мысленно отодвинута назад, мы получим будущее в прошедшем, состоящее из части того, что для нас теперь является прошлым» (с. 72).
198 «В конечном счете критика свидетельства... основана на инстинктивной метафизике подобного и различного, единичного и множественного» (с. 66). Таким образом, она сводится к использованию «принципа ограниченного сходства» (с. 68).
199 Только однажды рассказ связывается со стадией реконструкции, и делается это под прикрытием цитаты из Мишле: «Но мне надо было охватить великое жизненное движение, так как все эти различные элементы входили в единство рассказа» (с. 88). (Перевод Е. М. Лысенко с изменениями. —Прим. перев.) Быть может, самым большим недостатком «Апологии истории» является рефлексия о способе, каким вопрос об объяснении — стало быть, о причинности в истории — сочленяется с вопросом о наблюдении, стало быть, об историческом факте и о событии. Именно в этой точке сочленения рефлексия о рассказе и о связи события и рассказа могла бы многое прояснить.
200 F. Braudel. La Méditerranée et le Monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Paris, ArmandColin, 1949. До четвертого издания в 1979 году этот труд дважды подвергался существенной переработке. Кроме того, автор объединил в одном томе следующие работы: «Écritssurl'histoire», Paris, Flammarion, 1969, отрывки из предисловия к «Méditerranée...», «Leçon inaugurale» au Collège de France (1950), знаменитую статью из «Анналов», посвященную «большой длительности» (1958), а также другие очерки об отношениях истории с иными науками о человеке.
201 «Leçon inaugurale» au Collège de France (1933). In: «Combats pour l'histoire», Paris, Armand Colin, 1953, p. 7. В энциклопедии «NouvelleHistoire» нет статьи «рассказ» пли «нарративное».
202P. Lacombe. De l'histoire considérée comme une science. Paris, Hachette, 1894; F. Simiand. Méthode historique et science sociale. —«Revue de synthèse historique», 1903, p. 1-22, 129, 157; H. Berr. L'Histoire traditionnelle et la Synthèse historique. Paris, Alcan, 1921.
203 P. Chaunu. Séville et l'Atlantique (1504-1650), 12 vol. Paris. SEVPEN, 1955-1960.
204Статья «L'Histoire et les sciences sociales. La longue durée» впервыебыла опубликованав «Анналах...» (oct.-dec. 1958. p. 725-753), а затемв «Ecrits sur l'histoire». P.. 1969. (В русском переводе статья напечатана (без третьей части, «Коммуникация и социальная математика») в сборнике «Философия и методология истории» (М., 1977. с. 115-142, перевод Ю. А. Асеева). -Прим. перев.)
205 Далее (гл. III. с. 240-250) я проведу сравнение пракзического подхода Броделя, продемонстрированного им в книге «Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа И», с теоретическими декларациями «Писем об истории», рассмотрением которых я ограничиваюсь в данной главе.
206 P. Chaunu. Histoire quantitative. Histoire sérielle.
207Понятие конъюнктуры, введенное экономистами, «выражает стремление преодолеть введенную статистиками прерывность разных статистических кривых, чтобы постичь взаимозависимость всех переменных п изолированных факторов в данный момент; и чтобы проследить (а значит — предвидеть) их эволюцию во времени» (статья «Струкзура/Конъюнктура» в «NouvelleHistoire», op cit., p. 525).
208 Introduction générale. — «Crise de l’économie française à la tin de l'Ancien Régime et au début de la Révolution française». Paris, PUF, 1944. Эта работа стала «рассуждением о методе» экономической истории.
209 По свидетельству Пьера Шоню, «Лабрусс очертил границы значения конъюнктуры, которая имеет право голоса только внутри структуры» («Histoirequantitative, Histoiresérielle», p. 125).
210«Вначале была экономика, но в центре всего находился человек, человек перед лицом самого себя, а значит, перед лицом смерти, в череде поколений, то есть в демографии»
282
(P.Chaunu. La voie démographique et ses dépassements. — «Histoire quantitative, Histoire sérielle», p. 169).
211ТрудП.Губера «Beauvais et le Beauvaisis de 1600 à 1730» (Paris, SEVPEN, 1960), переизданныйпод названием «Cent Mille Provinciaux au XVII-e siècle» (Paris, Flammarion, 1968), демонстрирует примерполной интеграции демографической и экономическойистории в рамкахрегиональной монографии. Быть может, именно демографическая история дала возможность связать с идеей структуры идею синтеза цивилизации и выделить такую пятивековую систему, охватывающую период от рубежа XIII до начала XX века, то есть до конца аграрной Европы. По очертания этой системы цивилизации вырисовываются только тогда, когда демография не ограничивается подсчетом людей и стремится выявить не природные, а культурные характеристики, определяющие сложное равновесие этой системы.
212 «Civilisation matérielle, Économie et Capitalisme (XV-e — XVIII-e Siècle)». T. I. Les Structures du quotidien. T II. Les Jeux de l'échange. T. III. Le temps du monde. Paris, Armand Colin, 1967-1979. (Рус. пер.: M. 1986-1992).
213См. ниже, гл. Ill, с. 240-250.
214 J. Le Goff. Pour un autre Moyen Age. Temps, travail et culture en Occident: Dix-huit Essais. Paris, Gallimard, 1977. Этот труд относится к сфере истории большой длительности: автор с удовольствием упоминает «долгое Средневековье», «большую длительность, соответствующую нашей истории» (р. 10). В четвертой части своей работы я вернусь к некоторым заявлениям Ле Гоффа по поводу отношения этого «тотального», «долгого», «глубинного» Средневековья и современности.
215 Отказываясь «полагаться на вневременную этнологию» (р. 347), Ле Гофф утверждает, что диахрония оперирует «в согласии с абстрактными системами трансформации, весьма отличными от схем эволюции, которые историк использует в своих попытках постичь становление изучаемых им конкретных обществ» (р. 346). По его мнению, проблема состоит в том. чтобы преодолеть «ошибочную дилемму структура-конъюнктура, и в особенности — структура-событие» (р. 347).
216 См. ниже. гл. III. с. 238 сл.
217См.: M. Vovelle. Piété baroque et Déchristianisation en Provence au XVIII-e siècle, les attitudes devant la mort d'après les clauses des testaments. Paris, Plon, 1973. P. Chaunu. La Mort à Paris, XVI-e. XVII-e, XVIII-e siècles. Paris, Fayard, 1978.
218 «Histoire sociale et idéologie des sociétés». In: «Faire de l'histoire», под редакцией Жака Ле Гоффа и Пьера Нора. Paris. Gallimard, 1974. T. I. Nouveaux Problèmes, p. 149.
219Ph. Ariès. L'Homme devant la mort. Paris, Éd. du Seuil, 1977. (Рус. пер.: Ф. Арисс. Человек перед лицом смерти. М., 1992 —Прим. nepeв.)
220 Мишель Вовель подводит критический итог приобретениям и потерям двадцатилетней истории «большой длительности» со времени выхода знаменитой статьи Фернана Броделя «История и большая длительность» («L'histoireetlalonguedurée». — «Nouvelle Histoire». 1958, p. 316-343). Признавая, что «смерть некоей историзирующей истории является сегодня свершившимся фактом» (р. 318). он задается вопросом, исчезло ли событие, искоренявшееся Броделем, из сферы истории. Вовель выражает сомнение в том. что модель расслоения времен, применяемая Броделем, может быть перенесена на другие области истории. начиная с истории социальной. С одной стороны, разнородность ритмов и разрывы между длительностями ведут к разрушению идеи всеобщей истории. С другой стороны, поляризация между квази-неподвижностью крупных ментальных структур и возвращением события, связанным с недавним освоением идей разрыва, травмы, революции, ставит под вопрос саму идею градуированной шкалы длительности. Таким образом, самая современная история, похоже, пребывает в поисках новой диалектики короткого и долгого времени, некоего «согласования времен» (р. 341). В главе III второй части я вернусь к данной проблеме, которая, быть может, должна решаться не в плане ремесла историка, но на уровне более тонкой рефлексии об исторической интенциональности. Вне этой рефлексии интеллектуальная честность историка состоит, вероятно, в отвержении как неподвижной истории, так и события-разрыва, и предоставлении в этом широком промежутке свободы
283
разнообразию исторических времен, в соответствии с рассматриваемым объектом и избранным методом. Например, один и тот же автор, Эмманюэль Леруа Ладюри, поочередно выводит на сцену то кратковременность и даже нарративную форму (см. его знаменитую работу «Montaillou, villageoccitande 1294 à 1324», Paris, Gallimard, 1975, то большую длительность (см. книгу «Paysans duLanguedoc», Mouton, 1966; сокращенное издание — Flammarion, 1959) — и даже очень большую длительность («Histoireduclimatdepuisl'AnMil» и «Territoire de l'historien», четвертая часть — история без людей: «Climat, nouveau domaine deClio», Paris, Gallimard, 1973).
221 W. Windelband. Geschichte und Naturwissenschaft. Discours de Strasbourg, 1894, перепечатанов: «Präludien: Aufsätze und Reden zur Philosophie und ihrer Geschichte», vol. II. Tübingen, J.B.C. Mohr, 1921, p. 136-160.
222 Cm.: R. Aron. La Philosophie critique de l'histoire. Dilthey, Rickert, Simmel, Weber. 1938,4-e ed., Paris, Vrin, 1969, в частностизамечанияоб отношениях ВиндельбандаиРиккерта, ibid., р. 306-307.
223 C. G. Hempel. The Function of General Laws in History. — «The Journal of Philosophy», 39, 1942, p. 35-48; статья перепечатанав: P. Gardiner (ed.). Theories of History. New York, The Free Press, Press, 1959, p. 344-356. (Мы опираемся на русское издание: К. Г. Гемпель. Функция общих законов в истории. В кн.: его же. Логика объяснения. М., 1998, с. 16-31, перевод О. А. Назаровой. Далее цитаты даются по этому изданию. — Прим. перев.)
224 «General laws have quite analogous functions in history and the natural sciences» (op. cit., p. 345).
225 «By a general law we should here understand a statement of universal conditional form which is capable of being confirmed by suitable empirical findings», op. cit., p. 345 («Функция общих законов...», с. 16).
226В.Russel. On the Notion of Cause. — «Proc, of the Aristotelian Society», 13, 1912-1913, p. 1-26.
227 Отказ придатьчеткийстатус каузальномуотношениюнаправленпротив Мориса Мандельбаума, который в работе «The Problem of Historical Knowledge» (New York, Geveright, 1938, ch. Vil, VIII) попытался отделить causal explanation, осуществляемое историками, от causal analysis, тождественного объяснению посредством научных законов (см.: К. Г. Гемпель. Цит. соч., с. 19). В главе 111 мы вернемся к тезису Мандельбаума в его более поздней формулировке.
228 Ch. Frankel. Explanation and Interpretation in History. — «Philosophy of Science», 24(1957), p. 137-155, перепечатанов: P. Gardiner (ed.). Op. cit., p. 409: «Singular statements asserting the occurrence of unique events at specific places and times».
229 Ibid., p. 410. В сущности, историки «give an account of individual events that have occured once and only once».
230В действительности этот путь был открыт самим Гемпелем и его понятием «набросок объяснения». Нужно понять эту стратегию, чтобы в полной мере оценить последствия разрыва, созданного работой Уильяма Дрея «Laws and Explanationin History» (Oxford, University Press, 1957), к которой мы вернемся позже.
231 Учет «слабой» модели объяснения послужит нам достаточным основанием для того, чтобы не делать уступок непосредственно нарративистскому тезису и прибегнуть к более опосредованному методу соотнесения объяснения с пониманием.
232 Противники номологической модели увидят здесь указание на то, что объяснение в истории связано с предварительной интеллигибельностью рассказа, которую оно усиливает как бы посредством интерполяции.
233 P. Gardiner. The Nature of Historical Explanation. London, Clarendon U. Press, 1952, 1961.
234 E. Nagel. Some Issues in the Logic of Historical Analysis. — «The Scientific Monthly», 1952, p. 162-169. Перепечатано в: P.Gardiner (ed.). Theories of History, p. 373-386.
235Примечательно, что вопрос об избирательности никогда не соотносится с этой специфической чертой истории, — с тем, что историк принадлежит области своих собственных
284
объектов по-иному, чем физик принадлежит физическому миру. Мы вернемся к этому в четвертой части.
236 Здесь вновь показательно, что обойден вопрос о том, почему в истории возникает проблема важности. Тот факт, что взвешивание степеней важности связано с логикой относительных гарантий, не обсуждается. Защищая модель, Нагель дополняет ее. И это должна принять в расчет диалектика объяснения и понимания. Но поскольку не вызывает сомнений, что взвешивание касается истории как «исследования», постольку остается вопрос о месте исследования в общем процессе исторического понимания.
237 «There is substantial agreement among men experienced in relevant matters on the relative probabilities to be assigned to many hypotheses». E. Nagel, op. cit., p. 385.
238 Ch. Frankel. Explanation and Interpretation in History. In: P. Gardiner (ed.). Theories of History, p. 408-427.
239 «They point to the need for filling in the details of sketchy generalizations...» (ibid., p. 411).
240 «Indeed, what is interesting is not that historical explanation fails to meet an ideal of full explanation, but rather that, on many occasions, it seems fully to satisfy our demand for an explanation» (ibid., p. 412).
241Далее мы увидим, что эту важную уступку можно использовать и по-иному. Способы использования ее Чарлзом Франкелом приводят к ослаблению модели, граничащему с отказом от нее. Так, он соглашается с утверждением Исайи Берлина (I. Berlin. Historical Inevitability. Four Essays. Oxford University Press, 1969. On Liberty — перепечатанов: P. Gardiner (ed.). The Philosophy of History, p. 161-186), что если история регистрируется в обыденном языке, если читатель не ждет специфически научного языка, это значит, что успех объяснения измеряется не строгостью теории, но «by the account he gives of concrete affairs» [«отчетом, который он дает по поводу конкретных дел»]. Каузальные объяснения и объяснения здравого смысла соприкасаются здесь с правилами мудрости (власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютно). Это близко к нарратbвистской теории: «Мы ждем от историка, что он хорошо расскажет историю (story) и вдохнет в нее жизнь» (р. 414).
242 В главе III мы вернемся к различным значениям понятия причины в истории.
243 Здесь опять аргумент соприкасается с нарратbвистской концепцией: выбор историком конечных результатов назван «the frame of his story» [«обрамлением рассказанной bм истории»] (р. 421). Обсуждая вопрос об «истинной» причине, Франксл, следуя в этом отношении Гардинеру, показывает, что когда разногласия касаются не перспективы, а связей, они затрагивают то, «что следовало или не следовало включать в рассказанную историком историю, чтобы сделать эту «рассказанную историю» адекватным ответом на поставленный вопрос» («about what... should or should not be included in the historians story to make that story an adequate answer to the question that has been raised», p. 427). Когда историк предлагает свою интерпретацию некоего периода пли института, «он рассказывает историю (story) о ряде каузально связанных событий, которыеимеютзначимыеили не-значимые последствия» («he is telling a story of a sequence of causally related events that have consequences of value or dis-value», p. 421).
244Мы вернемся в четвертой части к этому вопросу об отношениях между объяснением прошлого и действием в настоящем, который теория прогресса вывела на первый план философии истории. Изданной стадии обсуждения единственная цель состоит в выяснении того, не должен ли выбор конечных результатов прежде всего соответствовать правильной каузальной связи на уровне фактов.
245 Прекрасный текст Чарлза Франкела свидетельствует об этом хрупком равновесии между методологическим плюрализмом и неодобрительным отношением к скептицизму: благосклонно отозвавшись об интерпретациях с точки зрения конечных результатов, Чарлз Франкел замечает: если предлагаемая истории схема связывается, как подобает, с фактами, с ограниченными причинами, с возможностями, открытыми благодаря обстоятельствам, и если, с другой стороны, историк не является узким фанатиком, но человеком с широким кругозором и великодушным, тогда «история, которая освещается ясным и мудрым представлением о том, чем может быть человеческая жизнь, в целом предпочтительнее
285
бесстрастной историибез вовлеченности, без руководящегоидеала, без иронии или слез, которые сопутствуют приложениямэтого идеала к перечню человеческих дел» («history which is lit by some clear and circumspect idea of what human life can be is generally preferred to the history that is impassive, that never commits itself, and that lacks a guiding ideal or the irony or tears thas go with applying such an ideal to the record of human affairs», p. 424). Весь либерализм и гуманизм Чарлза Франкела выражены в этих фразах.
246 См. прим. 230.
247 Мы вернемся к понятию каузального объяснения в гл. III, с. 212 и далее.
248 Французское слово «subsomption» образовано от глагола «subsumer», означающего «мыслить (индивидуальный объект) как часть какого-либо целого» (прим. перев.)
249 Для полной убедительности аргумент должен звучать так: чтобы возможно было приложить seriatim (последовательно, лат. —Прим. перев.) физические и механические законы, действующие при аварии и сами по себе не предполагающие никакого временно́го порядка, авария должна быть воссоздана поэтапно. Именно в силу такого приложения познание законов составляет необходимое условие объяснения. Автор не придал такой формы своему аргументу, поскольку он взял за модель механика, который, не будучи физиком, все же прекрасно понимает каждую фазу аварии. Но механики существуют потому, что существуют физики. Если автор хочет приравнять знание историка к навыкам механика, то он рискует просто солидаризироваться с прагматистской концепцией объяснения в истории, заменяющей концепцию теоретическую. Работа У. Дрея несет на себе многочисленные следы этой концепции (op. cit., р. 70-76).
250«No matter how complicated the expressionwith which we complete a statementof the form "E because...»; it ispart of the “logic” of such “because” statements that additions tothe explanatory clause are never ruled out by our acceptance of the original statement» [«Вне зависимости от того, насколько сложным является выражение, которым мы завершаем утверждения типа "Е потому что”, оно представляет собой часть “логики” утверждений типа "потому что”, добавление которых к объясняющему предложению никогда не зависит от нашего принятия первоначального утверждения»] (р. 35).
251 Этот аргумент, как мы увидим, можно без труда присоединить к тезису, что событие, будучи тем, что способствует развитию интриги, является, подобно ей, одновременно единичным и типичным.
252См.: К.Popper. The Open Society and its Enemies. London, Routledge and Kegan Paul, 1952, p. 262 (рус. пер.: К. Поппер. Открытое общество и его враги. М., 1992. — Прим. пер.): текст, цитируемый Дреем, — ор. cit., р. 2. Для многих авторов задаваться вопросом о причинности в истории — значит просто вновь впадать в дискуссию (р. 40 sq.) о месте законов в истории, понимая под причинами либо в точности то же, что и под законами (тогда лучше избегать слова «причина», потому что сам этот термин является двусмысленным), либо особый род законов, «каузальные законы», — тогда мы имеем только каузальную версию модели: сказать «х есть причина у» — значит сказать «всякий раз, когда х. тогда у».
253 Мы использовали здесь работу Коллингвуда «Ап Essay on Metaphysics» (Oxford. Clarendon Press, 1948), где он различает три смысла этого термина. Согласно первому смыслу, присущим истории и изначальным является лишь то, что одна личность поступает так, чтобы другая личность действовала определенным образом, давая ей мотив для этих действий. Согласно второму смыслу, причина вещи — эго «рукоятка» (the handle), позволяющая нам держать ее в руках: это главным образом то, что мы властны вызвать или предотвратить (к примеру, причина малярии — укус комара). Второй смысл можно вывести из первого, распространяя понятие результата человеческих действий на поведение любого существа. Коллингвуд исключает второй смысл из истории, оставляя его практическим наукам о природе, открывающим каузальные законы путем эксперимента. У. Дрей, однако, отчасти сохраняет этот смысл в своем прагматическом критерии каузальной атрибуции, но заключает его в рамки специфической деятельности суждения. Третий смысл определяет отношение между двумя событиями или состояниями вещей на основании логической необходимости: он равнозначен смыслу понятия «достаточное условие».
254 С помощью Макса Вебера и Раймона Арона мы разовьем этот анализ в третьей главе.
286
255 Мы переводим таким образом термин «imputationcausale», чтобы сохранить важный для П. Рикёра смысловой оттенок, сближающий процедуру установления причины с процедурами «вменения», используемыми в юриспруденции. Слово imputation», кроме того, означает «причисление к», «приписывание» (Прим. перев.).
256Харт (H. L. A. Hart. The Ascription of Responsibility and Rights. — «Proc. of the Aristotelian Society. London, (49), 1948, p. 171-194) и Тулмин(S. Toulmin. The Uses of Arguments. Cambridge, Cambridge University Press, 1958) предлагают сблизить объяснение и оправдание одного «claim» [иска] против другого «claim», обеспечивая ему «warrants» [гарантии].
257 Я вернусь к этой защите единичного причиновменения, когда речь пойдет о моей собственной попытке соединить историческое объяснение с нарративным пониманием. Единичное причиновменение может составлять посредствующее звено между уровнями, поскольку, с одной стороны, оно уже является объяснением, а с другой — опирается на нарративную базу. Но этот аспект проблемы в книге У. Дрея упоминается лишь мимоходом: «То give and defend a causal explanation in history is scarcely ever to bring what is explained under a law, and almost always involves a descriptive account, a narrative, of the actual course of events, in order to justify the judgementthat the condition indicated was indeed the cause» [«Выдвижение и защита каузального объяснения в истории едва ли является подведением объясняемого под некий закон, а почти всегда включает отчет-описание, нарратив, действительного хода событий, с целью обосновать суждение о том, что указанное условие действительно было причиной»] (op. cit., р. 113-114). Необходимо также отметить упоминание о диагнозе как медицинском эквиваленте единичного причиновменения в истории.
258 «The Rationale of Actions», p. 118-155.
259В этом плане цель У. Дрея состоит в «make sense» [придании смысла], но при помощи аргументов, независимых от суждений Коллингвуда об историческом понимании (р. 122)
260 «Taken in isolation, it is very seldom beyond all doubt whether a given explanatory statement of the form «He did x because of y» is to be taken in the rational sense, or not... The particular «because» does not carry its language level on itsface; this has to be determined by other means» [«Если рассматривать вопрос изолированно, в очень редких ситуациях не возникает сомнения, понимать ли данное объяснительное утверждение типа «он сделал х, потому что у» в рациональном смысле или пет... Сам по себе союз «потому что» не несет на себе признака своего языкового уровня: этот уровень может быть определен другими средствами»] (р. 133). Двусмысленность терма «потому что» усиливается, если принять во внимание его использование в объяснении посредством диспозиций, которое Гилберт Райл отличает от объяснения посредством эмпирических законов («The Nature of Historical Explanation», p. 89-90, 96-97).
261 По этому поводу см.: H. Lübbe. Was aus Handlungen Geschichten macht. In: «Vernünftiges Denken, Studien zur praktischen Philosophie und Wissenschaftstheorie». S. 237-268.
262 G. H. von Wright. Explanation and Understanding. (Рус. пер.: Г. Х. фон Вригт. Объяснение п понимание. В кн.: его же. Логико-философские исследования. Избранные труды. М., 1986. с. 40-241; перевод Е. Н. Тарусиной. Цитаты далее даются по этому изданию. — Прим. neрев.)
263 «Norm and Action». Routledge and Kegan Paul, London, 1963; «An Essay in Deontic Logic and the General Theory of Action». North Holland. Amsterdam. 1968.
264 ФонВригт придает наибольшеезначениекритике этой дихотомиис трех сторон: вработахУ. Дрея («Laws and Explanation in History», 1957), Э. Энскомб («Intention», Oxford, В.Blackwell, 1957), П. Уинча («The Idea of a Social Science», London, Routledge and Kegan Paul, 1958) иЧ.Тейлора («The Explanation of Behaviour», London, Routledge and Kegan Paul. 1964). Кроме того, он проявляет живой интерес к сближению течений, остающихся в русле аналитической философии, и параллельных им, которые он наблюдает на европейском континенте в герменевтической или диалектико-герменевтической традиции. В перспективе этих взаимных влияний фон Вригт ждет от философии Витгенштейна воздействия на герменевтическую философию, равного тому воздействию, которое она оказала на аналитическую философию, способствуя таким образом сближению обеих традиций. Он расценивает как благоприятный симптом ориентацию герменевтики на проблемы языка: разъ-
287
единяя «понимание» и «эмпатию», новая герменевтическая философия, в частности философия Гадамера, превращает понимание в «категорию скорее семантическую, нежели психологическую» (р. 30).
265См.: J.-L. Petit. La Narrativité et le Concept de l'éxplication en histoire. In: «Narrativité». Paris, ed. duCNRS, 1980, p. 187 sq.
266«Объяснение и понимание», с. 79-86.
267 Фон Вригт включает понятие события в понятие положения дел: «Событие представляет собой пару последовательных положений дел» (с. 50). Это определение обосновывается в предшествующей работе фон Вригта «Norm and Action», chap. II, sect. 6.
268Кроме того, причинность, даже освобожденная от всякой антропоморфной интерпретации, сохраняет имплицитную связь с человеческим действием, ибо мы охотно называем причиной либо то, что достаточно сделать, чтобы получить следствие, либо то, что необходимо уничтожить, чтобы следствие исчезло. В этом смысле сформулировать отношение между событиями в терминах причинности — значит сформулировать его в аспекте возможного действия. Автор, таким образом, соглашается с Коллингвудовым описанием причины как «рукоятки» (handle). Мы вернемся к этой проблеме не-юмовских употреблений идеи причины в главе III в компании с Максом Вебером, Раймоном Ароном и Морисом Мандельбаумом.
269 A. Danto. What Can We Do? — «The Journal of Philosophy» 60. 1963: Basic Actions. — «American Philosophical Quarterly» 2, 1965.
270Я оставляю в стороне подробный анализ, с помощью которого фон Вригт пытается усовершенствовать теорию практического вывода, идущую от Аристотеля и развиваемую в наши дни Э. Энскомб, Ч. Тейлором и Малкольмом. Аргумент, который фон Вригт называет «аргументом логической связи», в противоположность аргументу не логической, то есть внешней каузальной связи, по его мнению, не был достаточно убедительно представлен его предшественниками. Фон Вригт ставит проблему в терминах верификации. Вопрос двойствен: как, спросим мы, можно подтвердить, что у агента была определенная интенция? Впрочем, как можно выяснить, что его образ действий — из числа тех. интенция которых, как полагают, является причиной? Аргументация здесь такова: если па первый вопрос, как представляется, нельзя ответить, не отвечая на второй, тогда интенция и действие не будут логически независимыми: «Именно такая взаимозависимость верификации посылок и верификации заключения практического силлогизма и докаливает справедливость аргумента логической связи» (с. 146). Я не буду резюмировать доказательство этого кругового отношения, ибо это не представляет интереса для моей темы.
271 Здесь я отвлекаюсь от дискуссии о сходстве между телеологическим и каузальным объяснением. Я говорю об этом лишь постольку, поскольку аргументация подтверждает несводимость первого ко второму. Данный аргумент состоит в том, что оба объяснения имеют не один и гот же экспланандум; речь идет о феноменах, пометенных в различные описания: в каузальном объяснении эго телесные движения; в телеологическом — интенциональное поведение. Не имея общего экспланандума, оба объяснения являются сравнимыми. Наоборот, исключается возможность принять одновременно оба объяснения: таким образом, я не могу в одно и то же время поднять руку и наблюдать, например, на экране изменения, происходящие в моем мозгу. Когда я наблюдаю, я позволяю вещам происходить; когда я действую, я заставляю их происходить. То есть это противоречие в терминах — позволять чему-то происходить и в то же время заставлять его происходить при одних и тех же обстоятельствах. Следовательно, никто не может наблюдать причины результатов своих собственных базовых действий (в принятом выше смысле слова «результат»). Несводимые одно к другому, сравнимые между собой, каузальное и телеологическое объяснения сливаются в том смысле, который мы придаем действию: «Можно сказать, что концептуальный базис действия составляет отчасти наше незнание (неосведомленность) о влиянии причин, а отчасти наша уверенность в том, что только в результате нашего действия могут произойти определенные изменения» (с. 159).
272 Цитата дана по изданию: Л. Витгенштейн. Философские работы (часть 1). М., 1994, с. 192. Перевод М. С. Козловой и Ю. А. Асеева (прим. перев.).
288
273 Важное замечание фон Вригта (с. 235-236), следующего в этом Витгенштейну, показывает, что он сопротивляется всякой лингвистической реформе, целью которой было бы исключение из истории каузальной терминологии из-за возможности смешения ее с каузальными категориями, связанными исключительно с гемпелевской моделью. Один вопрос — применима ли к истории каузальная терминология, другой — прилагается ли к этой дисциплине такая-то каузальная категория.
274 Этот первый тип можно изобразить с помощью следующей схемы (с. 167):
275 Этот второй тип можно изобразить такой схемой (с. 168):
276 Квазикаузальное историческое объяснение можно представить так (с. 173):
277 Независимость двух событий, замечает фон Вригт, спорна, если описанное событие — это то, что Первая мировая воина «разразилась»: не есть ли это «коллигативное выражение», полное описание которого включает и инцидент в Сараево? (Термин «коллигация» (colligation), образованный от глагола colligate — «связывай, обобщать факты» — и обозначающий подведение отельных исторических событии под общее понятие, предложили Уэвелл и Уолш. См. далее, с. 181. — Прим. перев.) Дискуссия будет бесконечной, если мы упустим из виду, что событие является зависимым пли независимым всегда лишь при определенном описании. В этом смысле квазикаузальное объяснение обусловлено главным образом аналитическим описанием событий. Мандельбаум наверняка напомнил бы здесь, что это атомистическое употребление причинности диктуется глобальным охватом непрерывных процессов, затрагивающих континуальные сущности тина страны (см. ниже, гл. III. с. 225 ел).
278 Ср. первая часть, гл. III. о временны́х импликациях мимесис-II.
279Ср. ниже, гл. III.
280 А. С. Danto. Analytical Philosophy of History. Cambridge University Press, 1965.
281Это определение задачи аналитической философии сближается с произнесенной Стросоном в начале работы «Individus» речью в защиту дескриптивной метафизики, которую
289
он противополагает метафизике ревизионистской. В то же время это участие дескриптивной метафизики в анализе концептуальной и языковой сетки резко противопоставляется тенденции французского структурализма рассматривать концептуальную и языковую сетку как замкнутую на самой себе и исключающую всякую внелингвистическую референцию. Приложенная к истории, эта концепция стремится превратить событие в простой «эффект дискурса». Этот лингвистический идеализм совершенно чужд аналитической философии, для которой анализ наших способов мышления и говорения о мире и дескриптивная метафизика взаимно обратимы. В этом вопросе аналитическая философия больше сближается с герменевтической философией, хотя последняя охотнее следует от объяснения исторического бытия к языку, соответствующему этому историческому бытию.
282 В четвертой части книги я вернусь к вопросу о свидетельстве как несводимой категории отношения к прошлому.
283 Позже мы вернемся к этому различению, которое здесь не находит места: оно касается не различия эпистемологического плана, а различного отношения к прошлому: для Кроче хроника—это история, оторванная от живого настоящего и приложенная к мертвому прошлому. История как таковая глубоко связана с настоящим и с действием: именно в этом смысле всякая история современна. Это утверждение рассматривается не в контексте конфликта методов или конфликта между методом и истиной, но в контексте отношений между исторической ретроспекцией и предвосхищением будущего, связанным с действием; эта проблема будет обсуждаться в четвертой части нашей книги.
284 Возможно, что это действительно так в случае «consequential significance»: «Если предшествующее событие не было значимым по отношению к последующему событию в истории, оно не принадлежит этой истории» (р. 134). Но существуют другие формы значения или важности, для которых структура текста и структура фразы накладываются друг на друга не так легко: значимость или важность прагматическая, теоретическая, поучительная и т.д.
285 A. Danto, ch. X: «Historical Explanation : The Problem of General Laws» (op. cit., p. 201 sq.).
286См. прим. 162.
287Первая часть, гл. III, мимесис-II.
288 Этот диагноз подтверждается тем, какое место Гэлли отводит симпатии в рамках того, что я называю субъективной телеологией,: по мнению Гэлли, нашими ожиданиями руководит не некая истина индуктивного характера, а наша симпатия или антипатия: втянутые однажды в качественную историю, «we are pulled along by it, and pulled at by a far more compelling part of our human make-up than our intellectual presumptions and expectations» [«мы затягиваемся в нее, причем с гораздо большей силой нас влечет наша человеческая природа, чем наши интеллектуальные предположения и ожидания»] (р. 45). Существует риск, что забота об отделении анализа от логики номологической модели на самом деле подтолкнет его в сторону психологии, ориентированной на эмоциональный ответ; к сожалению, именно это соскальзывание Гэлли к психологии облегчает гемпельянцам критику его работы. По-моему, подобный интерес к психологическим условиям восприятия произведения (повествовательного или иного) не является предосудительным; он уместен именно в герменевтике, для которой смысл произведения завершается в чтении; но согласно исследованию отношений между мимесис-II и мимесис-III, предложенному мною в первой части, правила приемлемости должны быть сформулированы одновременно в произведении и вне его. К тому же из теории рассказа не может быть исключено понятие интереса, к которому я вернусь в четвертой части. Принимать, воспринимать — это значит быть заинтересованным.
289 «History is a species of the genus story» (op. cit., p. 66).
290В своей критике номинализма Гэлли сближается с сообществом историков школы Анналов: «Historical understanding therefore is not founded on individual kings — or chaps — but on those changes in a given society which can be seen to make sense in the light of our general knowledge of how institutions work, of what can be and what cannot be done by means of them» [«Поэтому основой исторического понимания являются не отдельные короли или простолюдины, но те изменения в данном обществе, которые могут рассматриваться как смысло-
290
образующие в свете наших общих представлений о том, как функционируют разные институты, о том, что может или не может быть сделано с их помощью»] (op. cit., р. 83).
291 Гэлли (op. cit., р. 98) охотно цитирует слова генерала де Голля из книги «Лезвие шпаги»: «Действие нужно строить именно на случайностях» (изд. 1959, р. 98).
292 L.О.Mink. The Autonomy of Historical Understanding. Перепечатано в: W. Dray. Philosophical Analysis and History. Harper and Row, 1966, p. 160-192 (яцитируюэто издание).
293 «Philosophical Analysis and Historical Understanding». — «Review of Metaphysics», 20 (1968), p. 667-698. Минк открыто говорит о влиянии нанегоработ Мортона Уайта («Foundation of Historical Knowledge», 1965), Артура Данто («Analytical Philosophy of History», 1965) и У. Б. Гэлли («Philosophy and the Historical Understanding» (1964).
294Этот аргумент прекрасно согласуется с анализом «повествовательного предложения» у Данто, проводимым с позиции оригинальной теории описания; история, как мы помним, это одно из описаний человеческих действий (или страстей), а именно описание предшествующих событий при описании событий последующих, неизвестных лицам, действующим (или претерпевающим действие) в первой ситуации. Согласно Минку, об историческом понимании нужно говорить больше, а не меньше— в той мере, в какой переописание прошлого предполагает использование недавно разработанных техник познания (экономической, психоаналитической и т.д.), и в особенности новых средств концептуального анализа (например, когда мы говорим о «римском пролетариате»). Поэтому к защищаемой Данто временно́й асимметрии между предшествующим событием, получившим описание, и последующим событием, при описании которого описывается первое, нужно добавить концептуальную асимметрию между системами мысли, доступными агентам, и системами мысли, введенными впоследствии историками. Этот вид переописания является, как и переописание Данто, описанием post eventum (после наступления события, лат. —Прим. иерее.). Но оно ставит акцент скорее на процессе реконструкции в произведении, нежели на дуальности событий, предполагаемой повествовательными предложениями. Таким образом, «историческое суждение» говорит больше, чем «повествовательное предложение».
295 «We retrace forward what we have already traced backward» (op. cit., p. 687). (Поскольку retrace означает и «возвращаться по пройденному пути», и «прослеживать», эту фразу можно перевести и так: «Мы прослеживаем, продвигаясь вперед, то, что уже проследили, идя в противоположном направлении». — Прим. перев.)
296 В статье 1970 года («History and Fiction as Modes of Comprehension». — «New Literary History», 1979, p. 541-558) мы читаем: «... различие между ‘‘прослеживать историю*’ и ‘‘проследить историю” есть нечто большее, чем случайное различие между настоящим и прошедшим опытом» (с. 546); логика наррации отражает «не то, чем являются структуры или родовые черты рассказов, не то, что обозначается словом “прослеживать”, но то, что обозначается словом “проследить историю”» (ibid.).
297 «Philosophical Analysis and Historical Understanding», p. 686.
298 «History and Fiction as Modes of Comprehension».
299Имеется в виду идеальный порядок мира, пребывающий как единовременное целое в божественной мысли. Перевод дан по французскому тексту. См. также: Боэций. Утешение философией. В кн.: его же. «Утешение философией» и другие трактаты. М., 1990, кн. пятая, VI, а также: Г. Г. Майоров. Судьба и дело Боэция. Там же, с. 407-413. — Прим. перев.
300Правда, Минк двояким образом уточняет тезис о том. что с точки зрения этой идеальной цели можно судить о всяком частном понимании. Во-первых, существуют различные описания этой идеальной цели понимания: лапласовская модель мира, предсказуемого в мельчайших деталях, не совпадает с synopsis(общей картиной, обзором, греч. — Прим. перев.) Платона в книге VII «Государства». Во-вторых, эти описания являются экстраполяциями трех различных и взаимоисключающих способов понимания. Но эти два уточнения не затрагивают основного аргумента, утверждающего, что целью понимания является упразднение характера seriatim опыта в totum simul понимания.
301Н. White. Metahistory: The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe. Baltimore and London. The Johns Hopkins University Press, 1973. Введение ккнигеозаглавлено: «The Poetics of History» (p. 1-42).
291
302 M. de Certeau. L'Écriture de l'histoire. Paris, Gallimard, 1975.
303Встатье 1974 года, озаглавленной «The Historical Text as Literary Artifact» — «Clio», III/3,1974, p. 277-303, перепечатаннойв: «The Writing of History» (Robert A. Canary & Henri Kozicki (ed.), 1978, University of Wisconsin Press), Х. Уайттак определяет вербальное искусство: «a model of structures and processes that are long past and cannot therefore be subjected to either experimental or objectal controls» [«Модель структур и процессов, которые давно осталисьвпрошлом и немогутпоэтому подвергаться контролю нисостороны эксперимента, ни состороныобъекта»] («Clio», р. 278). В этом смыслеисторическиерассказыявляются «verbal fictions, the contents of which are as much invented as found and the forms of which have more in common with their counterparts in literature than they have with those in the sciences» [«вербальнымивымыслами, чье содержание в тойже мере выдумано, в какой найденов действительности, а формыболее сходны сиханалогамив литературе, нежеливестественныхнауках»] (ibid.).
304 N. Frye. New Directions from Old. In: «Fables of Identity». New York, Harcourt, Brau, and World, 1963, p. 55.
305 «My method in short is formalist...» [«Мой метод, в сущности, формальный...»] («Metahistory», p. 3). Мы увидим, в каком смысле теория emplotment отличает этот формализм от французского структурализма и сближает его с подходом Нортропа Фрая, который мы обсудим в третьей части.
306-307 H. White. The Structure of Historical Narrative. — «Clio» I (1972), p. 5-19. B «Metahistory» «chronicle» предшествует «story», а «модус аргументации» дополняется «модусом идеологической импликации».
308 «Организация посредством мотивов является тогда одним из аспектов определения story, она обеспечивает тип объяснения, который имеет в виду Минк, говоря, что историки дают “понимание событий” в своих историях, "конфигурируя” их» («The Structure of Historical Narrative», p. 15). «Metahistory» подтверждает: «преобразование хроники в рассказанную историю (story) осуществляется посредством характеристики некоторых событий, содержащихся в хронике, под углом зрения начальных, конечных или промежуточных мотивов» (р. 5). Storyв противоположность хронике — «motifically encoded» [«закодирована в соответствии с определенными мотивами»] (р. 6). Я не вполне согласен с этой редукцией поля конфигурирующего акта, как его понимает Минк, к story. Уайт полагает, что он нашел подтверждение этой корреляции между конфигурирующим актом и объяснением при помощи story в проведенном Минком разграничении между конфигурирующим пониманием, категориальным пониманием и теоретическим пониманием. Он считает возможным отнести категориальный способ к объяснению посредством emplotment, а тематический — к объяснению посредством аргументации («The Structure of Historical Narrative», p. 18). Помимо того, что оба трехчленных деления — у Минка и Уайта — не перекрывают друг друга, в них практически не принимается в расчет проведенный Минком анализ конфигурирующего акта, чье поле приложения сводится к организации story при исключении emplotment и argument. Как и мое понятие интриги, конфигурирующий акт Минка, мне кажется, охватывает три области, различаемые Уайтом. По-моему, ключ к расхождению лежит в обратной редукции, которую Уайт навязывает объяснению посредством построения интриги, а именно в отождествлении интриги с типом, то есть категорией интриги, к которой принадлежит рассказанная история. Эта редукция представляется мне произвольной.
309 Эта регрессия от story к хронике, а затем от хроники к историческому полю в «Metahistory» схожа с проводимой Гуссерлем в «Генетической феноменологии» регрессией от активных синтезов к пассивным, всегда предварительным. В обоих случаях возникает вопрос о том, что предшествует всякому синтезу, активному или пассивному. Этот вселяющий тревогу вопрос привел Гуссерля к проблематике Lebenswelt. X. Уайта, как мы увидим в четвертой части, он ведет к совершенно иной проблематике, а именно к тропологической артикуляции, которая «префигурирует» (ibid.) историческое поле и открывает его нарративным структурам. Понятие исторического поля служит не только низшей границей в классификации нарративных структур, оно знаменует собой более фундаментальный переход от изучения «объяснительных эффектов» рассказа к изучению его «репрезентативной» функции.
292
310 «The Structure of Historical Narrative», p. 16.
311О деталях этой конструкции и ее иллюстрации на примере творчества великих историков XIX века см.: «Metahistory», р. 13-21 и passim.
312 «Под “идеологией” я понимаю совокупность предписаний по занятию положения в данном мире социальной praxis и по воздействию на него... Эти предписания базируются на аргументах, притязающих на авторитет “науки” или “реализма”» («Metahistory», р. 22). Х. Уайт присоединяется здесь к философам Франкфуртской школы, а также их последователям — К. О. Апелю и Ю. Хабермасу, как и ко многим антропологам, например, Клиффорду Гирцу, и даже некоторым марксистам, скажем, Грамши и Альтюссеру, — пытающимся освободить понятие идеологии от чисто уничижительных коннотаций, которыми его наделил Маркс в «Немецкой идеологии».
313 Может возникнуть вопрос о том, чем обусловлено единство нарративного, — настолько разрозненной кажется его область. Как и всегда, обращение к этимологии («The Structure of Historical Narrative», p. 12-13) ничего не проясняет; narratio римлян слишком полисемично и зависимо от соответствующих контекстов; что же до корня na-, общего для всех модусов сознательности, он не дает более никакого определяющего критерия. Гораздо интереснее следующая подсказка: за всякой способностью к познанию стоит познающий, за всяким повествованием — нарратор; не следовало ли бы тогда искать единства и различия объяснительных эффектов в голосе повествователя? «We might say then that a narrative is any literary form in which the voice of the narrator rises against a background of ignorance, incomprehension, or forgetfulness to direct our attention, purposefully, to a segment of experience organised in a particular way» [«В таком случае мы могли бы сказать, что нарративом является всякая литературная форма, где голос рассказчика выделяется на фоне неведения, непонимания или забывчивости, чтобы сознательно привлечь наше внимание к фрагменту особым образом организованного опыта»] (ibid., р. 13). Но тогда единство повествовательного жанра следует искать не в нарративных структурах и в их высказывании, а в повествовании как акте высказывания. Мы вернемся к этому в третьей части.
314 В «Metahistory» (р. 29) автор предлагает таблицу видов сродства, которые определяют его собственное прочтение трудов четырех великих историков и четырех философов истории, которым в основном и посвящена его работа.
315 Всегда сохраняется возможность соскальзывания от одной конфигурации к другой. Одна и та же совокупность событий может привести к трагической или комической истории, в зависимости от произведенного историком выбора структуры интриги, подобно тому как для одного класса, — по словам Маркса в «18 Брюмера Луи Бонапарта», — трагедией может быть то, что для другого является фарсом («The Historical Text as Literary Artifact», p. 281).
316В связи с этим Хайден Уайт в работе «Structure and Historical Narrative» (p. 20) воздает должное Фрэнку Кермоуду и его книге «Смысл конечной точки» («The Sense of an Ending»).
317Теория тропов, о которой я здесь ничего не говорю, придает дополнительное измерение историческому стилю. Но она ничего не добавляет к собственно объяснению («Metahistoгу», р. 31 -52 и «The Historical Text as Literary Artifact», p. 286-303, где говорится о миметическом аспекте рассказа). Я вернусь к этому вопросу в четвертой части в рамках обсуждения отношений между воображаемым и реальным в понятии прошлого.
318 Эта роль традиции в нарративном кодировании позволяет дать ответ на возражение, что три типологии, используемые теорией историографического стиля, являются заимствованными. Об унаследованных формах кодирования следует сказать то же, что было сказано о законах: историк их не устанавливает, он их использует. Потому-то распознавание традиционной формы и может получить в истории ценность объяснения: Уайт сравнивает этот процесс нового знакомства с событиями, субъект которых стал чуждым самому себе, с тем, что происходит в психотерапии («The Historical Text...», p. 284-285). Это сравнение имеет двоякий смысл, поскольку зачастую оказывается, что события, с которыми историк пытается нас познакомить, были забыты по причине их травмирующего характера.
319 P. Veyne. Comment on écrit l’histoire, сдополнением: «Foucault révolutionne l'histoire». Pa-
293
ris, Éd. du Seuil, 1971. Болееполныйобзор этой работысм. в моем очерке: «'fhe Contribution of French Historiography to the Theory of History». См., помимо этого: R. Aron. Comment l'historien écrit l'épistémologie: à propos du livre de Paul Veyne. — «Annales», 1971, n. 6, nov.-déc., p. 1319-1354.
320Ни Арон, ни тем более Марру не могли бы так решительно перерезать пуповину, которая еще соединяет историю с пониманием другого, то есть с определенным аспектом жизни.
321 См. ниже, гл. III.
322 P. Veyne. L'histoire conceptualisante. In: «Faire de l'histoire» (под редакциейЖака Ле ГоффаиПьера Нора), Paris, Gallimard, 1974, p. 62-92. См. выше упоминание о пространном анализе Марком Блоком проблемы «терминологии» в истории (гл. I, 1).
323См. выше, с. 201.
324 M. Mandelbaum. The Anatomy of Historical Knowledge. Baltimore, London, The Johns Hopkins University Press, 1977, p. 150.
325См. выше, c. 191.
326См. выше, c. 120 и далее.
327См. выше, первая часть, гл. III.
328 См. прим. 289.
329 См. выше. с. 136.
330 См. ниже, часть III.
331 См. выше, с. 166 сл.
332 См. выше, с. 184-185.
333 См. выше, с. 189-190.
334 Так переводит этот термин И. С. Вдовина (см.: «От переводчика». В кн.: П. Рикёр. Герменевтика и психоанализ. Религия и вера, с. 244). — Прим. перев.
335 В четвертой части книги я рассмотрю другую сторону парадокса: возвращение повествовательной композиции в сферу действия, — что содержит в зародыше классическую проблему отношения истории, науки о прошлом, к теперешнему действию, главным образом политическому, открытому в будущее.
336 «Études critiques pour servir à la logique des sciences de la «culture»». — «Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik», t. XXII, перепечатанов: «Ges. Aufsätze zur Wissenschaftslehre», 2 ed., Tubingen, Mohr, 1951: французскийперевод Жюльена Фрейнда: in «Essais sur la théorie de la science», Paris, Plon. 1965, p. 215-323. (Далее мы опираемся на издание: М. Вебер. Критические исследования в области логики наук о культуре. В кн.: его же. Избранные произведения. М., 1990, с. 416-485. Перевод М. И. Левиной. В круглых скобках далее указываются страницы немецкого издания, а в квадратных — страницы русского перевода. — Прим. перев.)
337 Здесь Арон отводит существенное место исторической причинности. Гастон Фессар в работе «Историческая философия Раймона Арона» (Julliard, 1980) дает наглядное представление о типе доводов, изложенных во «Введении», при помощи смелого сравнения с «Духовными опытами» Игнатия Лойолы (см., в частности, р. 55-86, посвященные реконструкции этапов исследования и вариантов «Введения...»). Анализ исторической причинности непосредственно примыкает к теории понимания, которой посвящен второй раздел, его заключение, касающееся «границ понимания» (p. 153-156). Помещенный в начале третьего раздела, озаглавленного «Исторический детерминизм и каузальное мышление», этот анализ открывает собой исследование, ведущееся в три этапа, соответственно позициям судьи, ученого, философа. На первом этапе речь идет о «причинности в единичной временно́й последовательности», на втором — о «регулярностях и законах», на третьем — о «структуре исторического детерминизма» (р. 160). Последний этап, в свою очередь, ведет к преддверию четвертой, собственно философской части: «История и Истина». Итак, исследование причинности ограничено двояким образом: во-первых, местом третьего раздела в общей структуре произведения, а во-вторых, — внутри третьего раздела—местом, за-
294
нимаемым исторической причинностью по отношению к социологической причинности и так называемым законам истории. Едва ли возможно было лучше подчеркнуть присущую исторической причинности функцию перехода от понимания, обладающего всеми чертами нарративного понимания, к социологической причинности, которой присущи все особенности номологического объяснения.
338 Мы находим ее во второй части эссе Макса Вебера, озаглавленной «Объективная возможность и адекватная причинная обусловленность в историческом рассмотрении каузальности» (S. 266-323) [с. 464-485]. Впоследствии мы вернемся к первой части этого эссе. Раймон Арон начинает собственное исследование изложением «логической схемы» аргумента, который он называет «ретроспективной вероятностью» (р. 163-169). Мы увидим, что именно внес Арон в собственно логический анализ.
339 Ср. пространные замечания на S. 269 [с. 467-468] об употреблении фон Крисом пробабилистского аргумента и его переносе в плоскость криминалистики и юриспруденции,
340 Перевод М. И. Левиной с изменениями (Прим. перев).
341 См. выше, с. 189.
342 Это обсуждение уводит нас назад, к первой части эссе Макса Вебера, озаглавленной «Éléments pour une discussion des idées d'Edouard Meyer» (S. 215-265). (В русском переводе: «Уяснение позиций в полемике с Эдуардом Манером». В кн.: М. Вебер. Цит. соч., с. 416-463. — Прим. перев.)
343 В этом же смысле Арон различает моральную, юридическую и историческую ответственность: «Моралист имеет в виду намерения, историк — действия, юрист сопоставляет намерения и действия и измеряет их в юридических понятиях» (р. 170). «Исторически ответственным является тот, чьи действия положили начало или привели к событию, истоки которого мы исследуем» (ibid.). Этим историк, полагаю, способствует отделению понятия вменения (imputation) от понятия обвинения (incrimination): «Воина... с точки зрения историка не является преступлением» (р. 173). Если добавить, что причнновменение следует отличать также от психологической интерпретации намерений, то нужно будет признать, что эти различения очень изощренны и неубедительны. Это объясняет гон Гаймона Арона, весьма отличающийся от тона Макса Вебера: ют проводит свое исследование намного увереннее. Раймон Арон более чуток к тому, что усложняет и до некоторой степени запутывает «логическую схему». Мы уже имели возможность убедиться в этом при анализе случайности.
344 Макс Вебер имеет здесь в виду проведенное Виндельбандом в ректорской речи в Страсбурге («Geschichte und Naturwissenschaft», 1894) различие между номотетическим методом (свойственным наукам о природе) и идеографическим методом (свойственным наукам о культуре).
345 Макс Вебер указывает на по различие, противопоставляя Real-Grund, реальное основание, и Erkenntnisgrund, основание познания: «Для истории индивидуальные единичные компоненты действительности суть не только средство познания, но н его объект, а конкретные каузальные связи принимаются в расчет не как средство познания, а как реальное основание» (S. 237) [с. 436].
346 У М. Вебера речь идет о битве при Марафоне. См.: М. Вебер. Цит. соч.. с. 471-476. — Прим. перев.
347М.Mandelbaum. The Anatomy of Historical Knowledge. Baltimore, The Johns Hopkins University Press. 1977.
348 W. Windelband. Präludien (Tübingen, Mohr, 519l5), 2. S. 144-145. (Русскийперевод: В. Виндельбанд. Прелюдии. Философские речи и статьи. В кн.: его же. Избранное. Дух и история. М., 1995, с. 20-293 (перевод М. И. Левиной). — Прим. перев.)
349 Несомненно, что Морис Мандельбаум ввел это различение с целью разрешить спор об объективности в истории, начало которому было положено его собственной работой 1938 г. «The Problem of Historical Knowledge». Действительно, большей объективности можно ожидать скорее от «общей», нежели от «специальной» истории, поскольку непрерывное существование ее объекта дается предварительно только в работе выкраивания и корреляции, осуществляемой историком. То есть здесь в принципе возможно согласовать (over-
295
locking) две различные точки зрения на одни и те же события или согласовать между собой грани (политическую, экономическую, социальную, культурную) одних и тех же событий. Специализированные истории гораздо более отчетливо связаны с дискуссионными концепциями историков, выдвигающих столь различные критерии классификации. Поэтому к ним значительно труднее применить процедуры подкрепления, очищения, опровержения, на которых зиждется объективность общей истории. Меня же здесь интересует не спор об объективности, а возможности, которые предоставляет генетической феноменологии, прилагаемой к сущностям исторического дискурса, различение между единичностью обществ и общностью культурных феноменов.
350 Вероятно, имеется в виду: Платон. Государство, кн. 2,368d-369a. См.: Г. Гуссерль. Картезианские размышления. СПб., 1998, с. 252. Перевод Д. В. Скляднева. — Прим. перев.
351 F. Furet. Penser la Révolution française. Paris, Gallimard, 1978; см. ниже, c. 255 и далее.
352В четвертой части книги я вернусь к этой тройной временно́й структуре социальной реальности, столь мастерски проанализированной Альфредом Шюцем. У самого Мориса Мандельбаума есть аргумент в пользу этой косвенной референции. Он согласен с тем, что объяснение, будучи аналитическим и прерывным, не могло бы взять на себя функцию реконструкции обобщающего и непрерывного процесса отдельного общества, если бы историк не был уже знаком с этими глобальными изменениями благодаря своему собственному опыту жизни в обществе: «The original basis for our understanding of societal structures is then the experience of an individual in growing up in his society, and the enlargement of horizons that comes through a knowledge of other societies» [«Первичной основой нашего понимания социальных структур является в таком случае опыт, который приобретает индивид, вырастая в обществе, и расширение горизонтов благодаря познанию других обществ»] (р. 116). Историография, напоминает Мандельбаум, не возникает из ничего. Она не исходит из множества фактов, ожидающих работы исторического синтеза, чтобы обрести структуру; история всегда рождается из предшествующей истории, которую она исправляет. И на заднем плане этой первоначальной истории вырисовывается социальная практика со своими внутренними противоречиями и внешними вызовами.
353 В четвертой части мы вернемся к онтологии совместного бытия, предполагаемою данным аргументом. Мы зададимся вопросом, удалось ли Гуссерлю в конце «Пятого размышления» вывести личностей высшего порядка из интерсубъективности. Мы также поставим вопрос о том, позволяет ли определение «социального действия», данное Максом Вебером в начале работы «Экономика и общество», избежать трудностей методологического индивидуализма. Я уже сейчас должен отметить большое значение, которое имела для меня работа Альфреда Шюца «Феноменология социального бытия». Шюц наделе не ограничился примирением Гуссерля и Вебера, он интегрировал разработанные ими понятия интерубъективности и социального действия в понятие совместного бытия, заимствованное у Хайдеггера, не утратив свойственной этим мэтрам силы анализа и не удовольствовавшись простым эклектическим объединением их концепции. Феноменология социального бытия, разработанная Альфредом Шюцем, получает серьезное подкрепление со стороны антропологии Герберта Мида, Ричарда Тернера и Клиффорда Гирца, которым я обязан не менее. чем Альфреду Шюцу.
354 Здесь Морис Мандельбаум во многом опирается на работу: H. L. A. Hart. A. М. Honoré. Causation in the Law (Oxford, Clarendon Press. 1959). «It is no exaggeration to say that since its appearance in 1959 the whole tenor of discussions of causation in anglo-american philosophy has changed» [«Без преувеличения можно сказать, что со времени ее появления в 1959 г. изменилось все содержание дискуссий о каузальности в англо-американской философии»] (р. 50). Однако Морис Мандельбаум не разделяет мнения этих авторов, что каузальное объяснение и формулировки общих законов прилагаются к двум различным областям познания: с одной стороны, к истории и праву, с другой — к естественным наукам. Опираясь скорее на исследования Дж. Л. Маккая («The Cement of the Universe: a Study of Causation», Oxford, Clarendon Press, 1974), M. Мандельбаум отмечает не просто дихотомию между двумя обширными сферами приложения законов, но последовательность уровней объяснения (безотносительно к областям приложения), которая берет начало в восприятии каузальных связей и далее — через причиновменение на уровне суждения — возвышается до установ-
296
ления законов, «цементирующих» каузальную связь. Этот тезис, сблизившись было с тезисом У. Дрея, отдаляется от него: вместе с Дреем и наперекор защитникам номотетической модели Мандельбаум утверждает первичность и неустранимость единичного причиновменения; вопреки Дрею он решительно отвергает противопоставление единичной причинности и регулярности и утверждает, что объяснение посредством законов «цементирует» причиновменение.
355 Уточнение: то, что следствие не отличается от причины, позволяет сблизить этот анализ с конструированием нереальных последовательностей в рассуждении о ретроспективной вероятности в духе Вебера и Арона.
356 Этот аргумент важен для приведенного Гемпелем примера о взрыве радиатора с водой низкой температуры: действующие в этом случае физические законы не все одновременно (all at once) прилагаются к исходным условиям; они прилагаются к серии обстоятельств; это — инструментарий каузального объяснения, а не субституты такого объяснения (Р» 04).
357 Данный аргумент сходен с аргументом Г. Х. фон Вригта, касающимся объяснения в закрытых системах; см. выше, с. 159.
358 Понятие неограниченно изменчивой плотности позволит нам в следующем параграфе вернуться к вопросу о несобытийной истории. Оно уже теперь позволяет нам утверждать, что краткосрочное и долгосрочное в истории всегда взаимозаменяемы. «Средиземноморье...» Броделя и «Римский карнавал» Леруа Ладюри прекрасно иллюстрируют эту взаимозаменяемость. возможность которой обусловливается степенями плотности временно́й ткани истории.
359 P. Veyne. L'Inventaire des Différences, «Leçon inaugurale» au Collège de France. Éd. du Seuil, 1976. Более подробнояговорю об этой работев: «The Contribution of French Historiography to the Theory of History».
360Анри Марру: «При применении разработанной Максом Вебером терминологии историческое познание обнаруживает свой радикальный номинализм, гораздо более радикальный, чем это представлял — вопреки своему символу веры — сам Вебер» (р. 158-159). И, в частности, говоря об отдельных терминах, составляющих его пятый класс понятий, Марру замечает: «Использование таких понятий совершенно оправданно, во всяком случае если постараться сохранить их строго номиналистский характер» (р. 159).
361 Читатель может высказать сожаление по поводу того, что мы рассматривали каузальный анализ в истории в трех различных контекстах: во-первых, с Уильямом Дреем в рамках дискуссии о помологической модели: во-вторых, с Максом Вебером и Раймоном Ароном. в аспекте процедур, осуществляющих переход от рассказа к объяснению, и. в-третьих, с Мандельбаумом в связи со статусом сущностей первого порядка. Я не считал возможным избежать этой тройственности. Речь идет о трех различных проблематиках. первая обусловливается появлением в аналитической философии модели подведения под общее, с которой не сталкивались Макс Вебер и Раймон Арон: вторая вытекает из поставленного в немецкой традиции Verstehenвопроса о степени научности, на которую могут претендовать идиографические науки, чья автономия не оспаривается: третья связана с новым циклом проблем, истоки которых лежат в соответствии между двумя видами непрерывности: непрерывностью прошлых сущностей. рассматриваемых историком в плане существования. и непрерывностью каузального процесса в эпистемологическом плане.
362 Чтобы соотнести это обсуждение с проблемами, которые рассматривались в двух предшествующих разделах, я лишь напомню о тесной связи между этим главным допущением и другими инновациями, которых требует школа Анналов: революция в области документов. удлинение вопросника, примат проблематики над данным историческим «фактом», решительный поворот исследования в сторону концептуализации. В этом смысле большая длительность — лишь один из компонентов глобального перемещения фронта исторического исследования. Но у нее есть свои собственные критерии, нуждающиеся в обсуждении.
363 Размещенное под знаком определенной географии, особо внимательной к данным человеческой жизни, исследование первого уровня «также и в еще большей мере является
297
исследованием определенной истории» (I, р. 21). Эта «история в замедленном ритме, раскрывающая непреходящие ценности» (ibid.) использует географию как посредника. Поразительно, что автор почти на 200 страниц растягивает размышления о «природном единстве» Средиземноморья; можно признать, что «само Средиземноморье не несет ответственности за солнце, которое его освещает» (I, р. 212), но природное единство, о котором здесь идет речь, это прежде всего постоянство ограничений — враждебность моря, суровость зим, палящее солнце — и все то, что создает идентичность человека Средиземноморья, восполняющего все эти недостатки, приурочивающего к сезонам свои войны, свои промыслы и заговоры под знаком вечной троицы — пшеницы, оливкового дерева, виноградника: «Одна и та же аграрная цивилизация, одна и та же победа людей над физической средой» (I, р. 215).
364 «Человек — труженик этой долгой истории» (I, р. 57). «Вся Испания вырывает своих людей из привычной обстановки ради этих южных, открытых морю стран» (I, р. 75). «Для завершения всех этих процессов требуются столетия» (I, р. 92). Короче, «географическое наблюдение этой большой длительности ведет нас к самым медленным колебаниям, какие только известны истории» (I, р. 93).
365 «Новое событие — это массовое прибытие нордических кораблей начиная с 1590-х годов» (I, р. 109). Нельзя не упомянуть также и войну в Гранаде...
366 «Каждое из этих великих Средиземноморий в известной мере было создано этим двойным империализмом» (I, р. 125).
367 «Политика лишь копирует лежащую в ее основе реальность. Оба Средиземноморья, руководимые враждующими господами, в природном, экономическом, культурном отношениях отличны друг от друга, оба являются зонами истории» (I, р. ,25).
368 «Эти связи, эти двойные жизни, то приходя в упадок, то утверждаясь, выражают историю моря» (I, р. 151).
369 «Средиземноморье (I, и самое большое Средиземноморье, которое его сопровождает) таково, каким его делают люди, колесо их судьбы определяет его судьбу, расширяет и сужает ее область» (1, р. 155).
370 В дискурсе географа-историка развитие города влечет за собой обилие дат (I, р. 310-312), столь содержательна история городов, противостоящая территориальным условиям, разбухающая пли тающая по воле экономической конъюнктуры. Да. города «говорят "эволюция”, “конъюнктура”» (1, р. 322) на фоне констант, непрерывностей и повторений, полагаемых первой ступенью анализа.
371 В главе о драгоценных металлах, монетах и цепах (I. р. 420 sq.) нельзя не датировать изменения торговой практики, приток и отток металлов: «Важное событие— продвижение португальцев вдоль высокого берега Африки» (1, р. 427). И далее: «В трудные годы войны —1557-1558 — приходы кораблей, груженных металлами, были самыми крупными событиями порта Анвер» (I, р. 437). Здесь кишат даты, обозначающие продвижение металлов на западных дорогах. Датируются разорения королевств (1596, 1607 и т.п.). Конечно, главная цель Броделя — уловить тем самым постоянные побудительные причины, чтобы подтвердить объяснительную схему; но для этого надо пересечь событийную историю с ее датами, именами собственными, назвать Филиппа II и исследовать его решения. Так третий уровень отбрасывает свою тень на второй уровень вследствие интерференций между политикой и войной, с одной стороны, и экономикой — с другой.
372 «Все эти события, связанные с войной за перец и пряности, рискуют заслонить собой проблему в целом, видимую в мировом масштабе, — проблему серебряных рудников от Америки до Моллюка пли до западной оконечности острова Суматра» (I, р. 515).
373 «Нет ничего сложнее этой хронологии, которая не связана с событиями, а является лишь диагнозом, аускультацией, с обычной возможностью врачебных ошибок» (II, р. 10).
374 Государство, как и капитализм, — «это плод сложной эволюции. В реальности конъюнктура в широком смысле слова также воспринимает в своем движении политические устои, благоприятствует им или отказывается от них» (II, р. 28).
375 «Из всех решений Испания выбрала наиболее радикальное: депортацию, полное искоренение растения из своей почвы» (II, р. 130).
298
376 Мараны — в средневековой Испании и Португалии — евреи, официально принявшие христианство. В 1492 г. в Испании был издан указ, обязывавший иудеев перейти в католичество или покинуть страну. Мориски — мусульманское население, которое после падения Гранадского эмирата (1492) осталось на Пиренейском полуострове и было насильственным путем обращено в христианство. — Прим. перев.
377 «Какова была бы цивилизация, которая однажды в прошлом предпочла себе другую?.. Конъюнктура тоже несет за это свою долю ответственности» (II, р. 153).
378 Так, например, битва при Лепанто, ничтожные последствия которой высмеял еще Вольтер, была «самым громким из военных событий XVI века в Средиземноморье. Но эта огромная победа техники и мужества с трудом находит место в обычных перспективах истории» (р. 383). Лепанто, вероятно, не остался бы без последствий, если бы Испания приложила к этому усилия. В общем, «Лепанто ничему не послужил» (II, р. 423). (В 1571 г. в заливе Лепанто испано-венецианская эскадра одержала победу над турецким флотом, плодами которой Филипп И, однако, не сумел воспользоваться в полной мере. — Прим. перев.) Отметим в связи с этим прекрасные страницы, посвященные расчетам Дон Жуана — «труженика судьбы» (И, р. 365): объяснительная сила здесь в точности соответствует модели рационального объяснения Уильяма Дрея, как и веберовской модели объяснения посредством противоположных допущений.
379 Мы видим, как Бродель время от времени вновь вступает в войну против истории событий и поддается искушению истории конъюнктур; это происходит не только в связи с Лепанто, как было сказано выше, но и когда он сталкивается с мощным феноменом отказа двух политических монстров от борьбы и с общим закатом войны: пренебрегла ли тогда Испания своей географической миссией, отказавшись от Африки? «Но остается вести все эти довольно бесплодные тяжбы. Завтра историки конъюнктуры вновь вернутся к ним и. быть может, наделят их каким-то смыслом» (р. 430).
380 Говоря об упущенной в 1601 г. возможности, Бродель замечает: «По-своему упадок великой войны является как бы предвестником самого упадка Средиземноморья, который отчетливо выражается н уже становится очевидным в последние годы XVI века» (II, р. 512).
381 «Я не думаю, что слово "Средиземноморье» с тем содержанием, которое мы в пего вкладываем, когда-либо всплывало в его сознании. Подлинная география не входила в образование принцев. Имеются все доводы в пользу того, что эта долгая агония, закончившаяся в сентябре 98 года, не была великим событием средиземноморской истории... Тем самым вновь обозначается расстояние, отделяющее биографическую историю от истории структур и еще больше — от истории пространств» (II. р. 514).
382 «Этого человека следует понимать именно в аспекте религиозной жизни, быть может, самой атмосферы кармелитской революции» (II. р. 513).
383 В статье «История и общественные науки» читаем: «Появился новый способ исторического повествования, «речитатив» экономической конъюнктуры, цикла или, положим, «интерцикла», предлагающий нам воспользоваться в качестве временны́х единиц десятилетиями. двадцатилетиями пли в крайнем случае пятидесятилетиями классического цикла Кондратьева» («История и общественные науки». В кн.: «Философия п методология истории». М., 1977, с. 21. Перевод Ю. А. Асеева. — Прим. перев.). В «The Cambridge Economical History of Europe», t. IV. Бродель так определяетцикл: «Because the word cycle might be applied to a seasonal movement we should not be misled. The term designates a double movement, a rise and a fall with a peak in between which, in the strictest sense of the term, is called a crisis» [«Нас не должен вводитьвзаблуждениетот фа кг, что понятиецикламожет быть примененок какому-либо периодическому изменению. Этот термин обозначает двойное движение — подъем и спад с кульминацией в промежутке, которая в строгом смысле слова именуется кризисом»] (р. 430). В неизданной работе М. Рипа я обнаружил ссылку на этот текст, как и подсказку, что понятие цикла сходно с аристотелевским mythosв двух отношениях: цикл конституирует мимесис экономической жизни (разумеется, в смысле мимесис-II) и представляет собой опосредующее сочленение — перипетию — между двумя интерциклами, — именно то, что обозначается понятием кризиса.
384Название «Время мира» («Temps du monde», Paris, Armand Colin, 1979), по мнению ca-
299
мого автора, обещает больше, чем может содержать в себе («Предисловие», с. 7). (Мы цитируем по русскому переводу Л. Е. Куббеля: Ф. Бродель. Время мира. М., 1992. — Прим. перев.) При всем стремлении Броделя уловить историю мира в «ее хронологическом развертывании и в разнообразных ее временны́х характеристиках», это название, однако, не охватывает в целом историю людей. «Это особое время в зависимости от мест и эпох управляло определенными пространствами и определенными реальностями. Но другие реальности и иные пространства от него ускользали и оставались ему чужды... Но даже в странах, передовых в экономическом и социальном смысле, время мира не всё определяло» (с. 8). Это связано с тем, что здесь в центре внимания Броделя находится история избранных им секторов, материальная и экономическая. В этих установленных границах историк учится рассуждать путем «сравнения в мировом масштабе — единственно доказательном» (с. 9). С такой высоты историк может попытаться «совладать со временем, с этого момента нашим главным или даже единственным противником» (с. 10). И вновь именно большая длительность делает возможным соединение последовательных опытов Европы, заслуживающих того, чтобы их рассмотрели как миры-экономики 1) в медленно изменяющемся пространстве; 2) применительно к некоторым главным столичным городам (Венеция, Амстердам и т.д.), которые один за другим завоевывают первенство; 3) наконец, согласно принципу иерархизации зон коммуникации. Этот замысел разделения времени (и пространства) сообразно ритмам конъюнктуры, вековым трендом которых «более всего пренебрегали из всех циклов» (с. 72), — оказывается самым плодотворным. Для моего собственного размышления о времени важно следующее: «Вековая тенденция (trend. — Перев.) есть процесс кумулятивный. Она добавляется к самой себе; все происходит так, словно бы она мало-помалу повышает массу цен и экономической активности до какого-то момента или же с таким же упорством действует в противоположном направлении, приступив к их общему понижению, незаметному, медленному, но долгосрочному. От года к году она едва ощутима; но одно столетие сменяет другое — и она оказывается важным действующим лицом» (с. 72). Образ наводнения с подъемом и спадом вод больше интригует, чем объясняет: «Последнее слово ускользает от нас, а вместе с ним — и точное значение таких долговременных циклов, которые, по-видимому, подчиняются определенным, неведомым нам законам или правилам» (с. 77). Следует ли в таком случае сказать, что то, что, по-видимому, больше всего объясняет, в то же время заставляет меньше всего понимать? Это станет темой обсуждения в четвертой части нашей книги, где мы попытаемся придать смысл тому, что здесь является лишь свидетельством, даже трюизмом: «...краткое время и время длительное сосуществуют н неразделимы... Ибо мы в одно н то же время живем и в кратком времени, и в длительном времени» (с. 79-80).
385 «Ведь именно эти глубинные потребности, нарушения и восстановления равновесия, эти вынужденные обмены издавна приводили все в движение и всем управляли» (I, р. 126). Немного далее автор говорит о «схеме целого» (II, р. 210): уход Средиземноморья из большой истории, его замедленное отступление, продолжавшееся вплоть до середины XVII века. Описывая процесс постепенной замены городов-государств городами-столицами, Бродель пишет: «Они говорят "эволюция”, "конъюнктура”, предоставляя нам заранее угадывать линию судьбы: об этом отходе возвещают множество признаков идущего к концу XVI века; ускорит его XVII век» (I, р. 322).
386 Говоря о формах войны, особенно о внешних войнах (крестоносцы, джихады), автор еще раз напоминает об участии в них цивилизаций, этих «больших персонажей» (II, р. 170). Персонажи, как и события, вполне классически определяются здесь сообразно их вкладу в основную интригу.
387 Я задаюсь вопросом, не считал ли Бродель возможным обойти проблему единства всей своей работы, доверив физическому времени заботу об объединении фрагментов раздробленной длительности. В «Письмах» читаем: «Но эти фрагменты воссоединяются в конце нашего труда. Большая длительность, конъюнктура, событие легко согласуются друг с другом, ибо все они измеряются одним масштабом» (р. 76). Каким масштабом, если не масштабом физического времени? «Для историка все начинается и все кончается временем, временем математическим и демиургическим, над которым легко было бы посмеяться, временем, внешним для людей, “экзогенным”, как сказали бы экономисты, которое подгоняет, принуждает людей, уносит с собой их отдельные времена, окрашенные в раз-
300
личные цвета: да, властное время мира» (р. 76-77). Но тогда большая длительность становится одним из путей, по которым историческое время ведет ко времени космическому, а не способом умножения его длительностей и скоростей. Конечно, именно на фоне космического времени историческое время возводит свои сооружения. Но унифицирующий принцип «отдельных времен, окрашенных в разные цвета», следует искать в физическом времени. Я вернусь к этому в четвертой части.
388 Полифония создается из десятков форм темпоральности, каждая из которых предполагает отдельную историю. «Только их сумма, охваченная совокупностью наук о человеке (эта науки, будучи обращены в прошлое, оказывают услуги нашему ремеслу), составляет глобальную историю, образ которой столь сложно восстановить в его полноте» (II, р. 515). Чтобы создать такой глобальный образ, историку следовало бы смотреть на вещи одновременно глазами географа, путешественника и романиста; здесь Бродель с признательностью называет имена Габриэля Аудисио, Жана Жионо, Карло Леви, Лоуренса Даррела, Андре Шамсона.
389 В связи с вопросом о структуре и структурализме заслуживает особого внимания смелая декларация, завершающая книгу (II, р. 520).
390 В заключении к большой работе историк в последний раз высказывает подозрения по поводу этих «коротких и патетических событий — фактов, почитавшихся традиционной историей» (II, р. 519).
391 «Специалист по изменению (говоря “трансформация”, историк вновь максимально сближается с этнологией, при условии отказа от диахронии), историк должен остерегаться утраты восприимчивости к изменению» (р. 347).
392 G. Duby. Histoire sociale et idéologies des sociétés. In: «Faire de l'histoire», I, p. 157. Здесь cсамого начала речь идет о том, как это внимание к временны́м модальностям изменения приводит к концептуальной реконструкции цепи событий, таких как крестовый поход.
393 G. Duby. Les Trois Ordres ou l'Imaginaire du féodalisme. Paris, Gallimard. 1978.
394 G. Dumézil. Les Dieux souverains des Indo-Européens. Paris, 1977, p. 210: цитируетсяв.G. Duby. Op. cit., p. 17.
395«Добавление третьей функции обусловлено принципом необходимою неравенства. Вот почему трифункциональная схема размещается в начале пли в конце речи о повиновении и о структуре общества, верхи которого превосходно управляют, а низы пресмыкаются в грехе. Троичность рождается из сопряжения различий, причиной которых являются ordo (существуют священники и все остальные) и natura (существуют благородные и рабы)» (р. 81).
396 «Воссоздание генеалогии системы помогает понять ее структуру и место, отведенное трифункциональному образу» (р 87).
397 «Кризис. Идеологические образования открываются взгляду историка в периоды бурных изменений. В эти важные моменты те, кто владеет еловом, беспрестанно говорят. Теперь выйдем из мастерской — быть может, для того, чтобы лучше попять, почему в извилинах памяти и в случайностях действия именно гак были использованы орудия, так был переработан материал» (p. 151).
398 «Постулат о социальной трифункциональности также был направлен против монахов, в особенности тех, кого зачаровал Клюни. Он был выдвинут в момент торжества реформированного монархизма» (р. 177).
399 «Перед ней (моделью. — Перев.) было будущее. Однако, когда она была провозглашена епископами Камбрейским и Ланским, имелись все основания полагать, что она опоздала. Поэтому она долго не была общепринятой» (р. 205).
400 На самом деле именно бинарный принцип неравенства просуществует до 1789 года. Функциональная трехчастность скорее действует «в сфере, отделяющей монарха от народа, помогая монарху держать народ в узде» (р. 424).
401 «Я решил закончить это исследование Бувином: это не своего рода привычка, не моя переоценка события. Я убежден, что там, в 1214 г., завершается первоначальная история трифункционального образа, который затем, выкристаллизованный, спроецированный на
301
все королевство Франции, готовится выйти из сферы воображаемого и воплотиться в институте» (р. 414). И далее: «Я останавливаюсь, ибо в этот момент постулат трифункциональности возвращается к своим истокам» (р. 423).
402 См. прим. 351.
403 К тому же в заключении прекрасной обобщающей главы книги он в скрытой форме соглашается с этим: «Но Французская революция — это не переход, это начало и призрак начала. Именно то уникальное, что имеется в ней, определяет ее историческое значение; впрочем, «уникальное”-то и стало универсальным: это первый опыт демократии» (р. 109). Разве это признание, касающееся события, не таит в себе другое признание, связанное с отношением между объяснением и рассказом, а в конечном счете — с самим отношением отстранения? Если это уникальное, по крайней мере в нашей теперешней политической реальности, стало универсальным, то не следует ли сказать, что отступление на небольшое расстояние отдаляет от поминания, а на большое — приближает к нему.
404 Напомню в связи с этим одну терминологическую конвенцию, которой я стараюсь придерживаться: я не считаю термин «вымысел» синонимом «воображаемой конфигурации». Последняя является операцией, общей для историографии и художественной литературы: на этом основании она отнесена к сфере мимесис-II. Зато термин вымысел я определяю как антитезу истинному рассказу: он вписывается в одно из двух направлений референции рассказа и относится к мимесис-III, проблематика которого в отчетливой форме будет рассмотрена только в четвертой части. Как я сказал выше, этот выбор имеет свои недостатки: многие авторы не проводят никакого различия между вымыслом и конфигурацией, поскольку всякая конфигурация вымышленна, то есть не дана в материале, который упорядочивается рассказом. Эти авторы с полным правом могут считать всякий рассказ вымыслом в той мере, в какой они не принимают во внимание целостность нарративного жанра. Не учитывая притязаний истории на создание истинного рассказа, они не нуждаются в различающем термине для разделения обеих референциальных модальностей, между которыми в целом и распределяются нарративные конфигурации.
302
Указатель имен
Абеляр П. 264
Августин Блаженный9, 13-27, 29, 30-39, 40, 42, 50, 65, 67, 75, 76, 83, 89, 100-105, 186, 251, 253, 262, 264-271
Адальберон Панский 252, 254
Альтюссер Л. 293
Амвросий Медиоланский 28
Апель К. О. 293
Арди Ж. 271
Арендт X. 231
Ариес Ф. 130, 283
Аристарх Самосский 169
Аристотель 8, 9, 13-16, 25, 26, 32, 42-58, 60-67, 70, 73, 80, 81,84, 85, 87, 94, 102, 131, 151, 153, 168, 176, 179, 182, 183, 186, 188, 190, 198, 200, 207, 212, 215, 240, 247, 249, 258, 260, 262-264, 271-276, 279, 288
Арон Р. 113, 115-119, 137, 192, 196, 197, 199, 212, 213, 216, 217, 218, 223, 231,235, 246, 281, 282, 284, 286, 288, 294, 295, 297
Асеев Ю. А. 282, 288, 299
Аудисио Г. 301
Ауэрбах Э. 188, 279
Афанасий Великий 269
Байен Д. 10
Байервальтес В. 264, 267-269
Барт Р. 94
303
Бенвенист Э. 95, 272
Беньямин В. 97
Берлин И. 206, 285
Берр А. 121,282
Бибихин В. В. 278
Бисмарк О. 213,215,219
Блок М. 115, 118-120, 127, 196, 200, 281,282,294
Бодлер Ш. 264
Бородай Т. Ю. 270
Борос С. 39
Боэций 185, 291
Брауди К. 258
Бремон К. 276
Бродель Ф. 120-122, 124-127, 129, 196, 206, 240, 241, 243-250, 252, 257, 258, 263, 282, 283, 297-301
Буиссу Ж. 264
Буркхардт Я. 187, 193, 194
Бут В. 188
Вайнрих X.266
Валь Ф. 10
Вальдес М. 10
Вараньяк А. 282
Вдовина И. С. 264, 294
Вебер М. 113, 116, 119, 131, 196, 212-216, 218-223, 237, 246, 282, 286, 288, 295-297
Вейн П. 131, 190, 196-202, 204, 223, 236, 247, 259, 293, 294, 297
Вергезе Т. П. 267
Вико Д. 201
Виндельбанд В. 131,226, 284, 295
Витгенштейн Л. 154, 161, 287-289
304
Вовель Μ. 130, 283
Вольтер 299
Вригт Г. X. фон 153, 154, 157, 158, 160-162, 164, 165, 206, 210, 212, 220, 235, 263, 279, 280, 287-289, 297
Гадамер Х.-Г. 87, 95, 99, 280, 288
Галилей Г. 153
Гардинер П. 136, 206,214, 284, 285
Гаспаров М. Л. 271-274, 276
Гегель Г. В. Ф. 73, 74, 121, 123, 187, 205, 274, 275
Гемпель К. Г. 132-135, 139, 150, 172, 190, 284, 297
Герард Камбрейский 252, 254
Геродот 52
Гёльдерлин Ф. 97
Гёте И. В. фон 220
Гирц К. 71, 72, 278, 293, 296
Гиттон Ж. 264-267, 269-271
Голден Л. 63, 271,274-276
Голль Ш. де 291
Гольдшмидт В. 265
Гомбрих Э. X. 190
Гомер 51, 249
Горгий 272
Грамши А. 293
Греймас А.-Ж. 70, 280
Григорий Нисский 253, 267, 269
Губер П. 283
Гудмен Н. 280
Гуссерль Э. 27, 102-104, 208, 229, 260, 261,272, 279, 292, 296
Гэлли У. Б. 173-178, 182, 183, 203, 204, 206, 208, 240, 279, 290, 291
305
Дагонье Ф. 98
Данто А. С. 158, 159, 166-168, 170-173, 200, 207, 278, 288-291
Даррел Л. 301
Джеймс Г. 49, 273
Джойс Д. 94
Дидро Д. 169
Дильтей В. 104, 113
Дионисий Ареопагит 253
Дрей У. 132, 141, 142, 145, 146, 148-153, 163, 170, 173, 179, 200, 212, 216, 284, 286, 287, 291, 297, 299
Дюби Ж. 119, 130, 251-254, 281,301
Дюгем П. 265
Дюмезиль Ж. 252, 253, 301
Дюпон-Рок Р. 44, 54, 62, 63, 271-276
Егунов А. Н. 272
Жильсон Э. 264, 270
Жионо Ж. 301
Зиммель Г. 113
Изер В. 63, 79, 94
Ингарден Р. 94
Иоанн Безземельный 116
Каллахан Д. 264, 267
Каннингем Н. 10
Кант И. 82, 84, 180, 185, 268, 279
Карл V 243, 244
306
Кассирер Э. 71
Кафка Ф. 93
Келлог Р. 188, 207, 279
Кермоуд Ф. 49, 83, 89, 92, 264, 280, 293
Козлова М. С. 288
Коллингвуд Р. Дж. 149, 281, 286
Колльер Г. П. В. 10
Колумб X. 152
Кольридж С.Т. 205
Коперник Н. 169
Кошен О. 256, 257
Крис Й. фон 214, 215, 295
Кроче Б. 171, 187, 290
Куббель Л. Е. 300
Кузнец С. 126
Куланж Ф. де 237
Курно А. 197, 216
Курсель П. 270
Лабрусс Э. 126, 127
Лакомб П. 121, 282
Лалло Ж. 44, 54, 62,63, 271-276
Ланглуа Ш. В. 116, 281
Лаплас П. С. 184
Леви К. 301
Леви-Стросс К. 124, 129, 277
Левина М. И. 294, 295
Ле Гофф Ж. 128, 129, 250, 251,283, 294
Леруа Ладюри Э. 284, 297
Лойола И. 294
Луазо Ш. 252
307
Лукас Ф.Л.44, 271
Лысенко Е.М. 281,282
Люббе Г. 56, 200, 275, 287
Людовик XIV 143, 144, 148, 199
Майер Э. 212,219, 220, 222, 295
Майеринг Э.П. 20, 25, 264-269
Майоров Г.Г. 291
Маккай Д.Л. 296
Маккери Д. 278
Малкольм Н. 288
Мандельбаум М.199, 200, 204, 225, 228-230, 232, 233, 235-237, 284, 288, 289, 294-297
Манхейм К. 191
Марк, апостол евангелист 92, 93
Маркс К. 140, 187, 234, 256, 293
Марру А.-И. 7, 113, 116-118, 192, 196, 237, 281,294, 297
Марчевски Ж. 126
Мерло-Понти М. 27
Мид Г. 296
Минк Л. О.53, 180-185, 187, 198, 207, 240, 279, 291, 292
Минковский Э. 37
Мишле Ж.187, 194, 282
Мосс М. 121
Навин Д. 10
Нагель Э. 137, 138, 284, 285
Назарова О. А. 284
Ницше Ф. 88, 187
Нора П. 283, 294
Нумений 269
308
Остин Ж.-Л. 77
Павел, апостол 39, 104
Пеппер С. 191
Пирс Ч. С.171
Платон 16, 25, 36, 40, 46, 98, 153, 184, 229, 269, 270, 272, 291, 296
Плотин 16, 25, 27, 35, 37, 38, 264, 267-271
Поппер К. Р. 145, 286
Пропп В. Я. 49, 70
Райл Г. 136, 206, 214, 287
Ранке Л. фон 120, 123, 187, 191, 193, 194, 258
Рассел Б. 133, 284
Редфилд Д. М. 63, 271,273-278
Рикёр П. 264, 271, 279, 287, 294
Риккерт Г.113, 284
Рип М. 299
Ричардсон С. 275
Робеспьер М. 256
Робинсон Э. 278
Секст Эмпирик 265
Сеньобос Ш. 116, 281
Сергеенко Μ. Е.264-268, 270, 271, 280
Серто М. де 187, 292
Симиан Ф.121,281
Симон Р. 119
Скляднев Д.В. 296
Скутелла М. 264
Сократ 272
Солиньяк А. 264, 267, 268, 270, 271
Соссюр Ф. де 95
309
Софокл 56, 74
Спиноза Б.271
Стросон П. Ф. 289
Сулейман 243
Тарусина Е. Н. 287,
Тейлор Ч. 287, 288
Тернер Р. 296
Тойнби А. Д. 113, 124, 189
Токвиль А. А. К. де 187, 191, 193, 194, 255-257
Толстой Л. Н. 248
Трайчке X. фон 123
Треорель Э. 264
Тулмин С.287
Уайт М. 291
Уайт Х. 164, 187-193, 195, 198, 205, 207, 291-293
Уайтхед А. Н. 152
Уилс Х. Г. 189
Уинч П. 72, 278, 287
Уолш У. 171, 181, 289
Уэвелл У. 181, 289
Февр Л. 115, 120, 127, 196
Фессар Г. 218, 294
Филипп II 120, 241, 244, 246, 247, 249, 250, 258, 263, 298, 299
Финк О. 98, 280
Фосийон А. 119
Фрай Н. 10, 83, 84, 188, 193, 216, 292
Франкел Ч. 135, 138, 139, 284-286
Фрейд З. 91
310
Фрейнд Ж.294
Фукидид 188, 201
Фюре Ф. 230, 255, 257, 296
Хабермас Ю. 115, 293
Хайдеггер М. 27, 68, 75-78, 102-105, 186, 206, 260, 278-280, 296
Хардисон О. Б. 44, 271
Харт Г. Л. А. 286, 296
Цезарь Ю. 214
Шамсон А. 301
Шапп В. 91, 280
Шафер Р. 91,280
Шейнман-Топштейн С. Я. 270
Шерешевская М. А. 273
Шолес Р. 188, 207, 279
Шоню П. 122, 125, 129, 130, 280, 282, 283
Шоню Ю. 122
Шпенглер О. 113, 189
Штайн Ш. фон 220
Шумпетер Й. 244
Шюц А. 296
Элс Г. Ф. 44,51,54, 56, 57, 63, 271-276
Энскомб Э. 288
Юм Д. 232
Яусс X. Р. 94, 276, 277
311
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
