13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Мень Александр, протоиерей
Мень А,, прот. В поисках пути, истины жизни. т. II. Магизм и единобожие
протоиерей Александр Мень
ИСТОРИЯ
РЕЛИГИИ
В ПОИСКАХ
ПУТИ, ИСТИНЫ
ЖИЗНИ
ТОМ
II
МАГИЗМ И ЕДИНОБОЖИЕ
Москва
1991
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
Оглавление перемещено в начало.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение 6
ДОИСТОРИЧЕСКИЙ МИР
Глава первая. НАЧАЛО РЕЛИГИИ. БОГИНЯ-МАТЬ. Ослабление духовной интуиции человека. Сознание вины. Жертвоприношения. Первобытный пантеизм. Мана. Душа мира. Всеобщность культа Богини-Матери. Роль женщины в первобытной религии. Религия Матери и матриархат ... 15
Глава вторая. В МИРЕ ДЕМОНОВ И ДУХОВ. Осознание единства человека и природы. Оборотни. Тотемизм. Анимизм. Проблема первобытного мышления. Одухотворенность мира. Пандемонизм. Фетишизм и идолопоклонство 26
Глава третья. ДОИСТОРИЧЕСКИЕ МИСТИКИ. Религиозные переживания и обряд. Коллективный экстатизм. Шаманство: истоки и распространение. Шаманы и религия. Ясновидение шаманов. Сокровенные психические силы. Врачевание. Подготовка шамана. Камлание. Двойственность шаманизма 36
Глава четвертая. МАГИЧЕСКОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ. Древность магии. Магия и сверхъестественное. Промысловая и хозяйственная магия. Магия, направленная на человека. Магия как двойник науки. Магическое происхождение власти. Обрядовый детерминизм и «коллективные представления» 51
ПЕРВЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Глава пятая. ОТ МАГОВ К ОБОЖЕСТВЛЕННЫМ ЦАРЯМ. Египет в IV — III тысячелетии до н. э. Магизм и длительность доисторической эпохи. Город. Египет: хозяйство, религия, магия. Клан Гора. Объединение Египта и обожествление фараонов. Социальный строй Египта и Магизм. Жрецы. Мемфисское богословие. Царская религия солнца 61
Глава шестая. ГРОБНИЦЫ И ЖИЗНЬ. Египет в III—II тысячелетии до н. э. Представления египтян о посмертной судьбе человека. Заупокойный культ и погребения. Падение Царства Пирамид. Рост скептицизма. «Песнь арфиста». «Беседа разочарованного со своей душой». Идея загробного воздаяния. Монотеистическая тенденция. Амон Фиванский 72
Глава седьмая. ЗЕМЛЯ СЕННААРСКАЯ. Государства Двуречья между IV и II тысячелетиями. Шумеры и аккадцы. Борьба с природой и «городская революция». Социальный строй Шумера. Шумерская космология. Пантеон и демонология. Человек во Вселенной. Урукагина. Саргон Аккадский. Первый «божественный царь». Пессимизм: поэмы об Адапе и Этане. Эпос о Гильгамеше. «Беседа господина и раба». Личная религиозность 79
ВОСТОК И ЗАПАД ВО ВТОРОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ ДО Н. Э.
Глава восьмая. ПАСТУШЕСКИЕ НАРОДЫ. АРЬИ В ИНДИИ. Ок. 2000 — 1700 гг. Великое переселение народов. Вавилонское царство. Племена арьев. Древнеарийская религия. Дьяушпитар. Риг-Веда. Индия и арьи. Адити. Бог неба Варуна. Закон Риты. Генотеизм. Сознание греха. Угроза язычества 99
Глава девятая. ЛЮДИ, СТИХИИ И БОГИ. Индия, 1700—1500 гг. Индия и ее завоеватели. Рост индо-арийской культуры. Ранневедический пантеон. Экстатический культ Сомы. Индра. Торжество политеизма. Индийский Магизм. Пуруша. Катенотеизм. Начало философии. Единое ... 109
Глава десятая. НАЧАЛО ВЕТХОГО ЗАВЕТА. АВРААМ. Двуречье — Ханаан, ок. 1850—1800 гг. Авраам и Народ Завета. Призвание Израиля. Религия Авраама. Вавилонское влияние. Завет и Обетование. Этический элемент в Авраамовой религии. Сказание о Содоме. Сказание о жертвоприношении Авраама. Вера в Грядущее 119
Глава одиннадцатая. СЫНЫ ИЗРАИЛЯ. Ханаан — Египет, ок. 1750—1680 гг. Переселение Иакова в Ханаан. Сыны Израиля. Образ жизни израильских колен. Вторжение гиксов в Египет. Сыны Израиля в Египте. Сказания о патриархах 133
Глава двенадцатая. БОЖЕСТВЕННОЕ СОЛНЦЕ. Египет, 1580—1418 гг. Восстание Фиваиды. Изгнание гиксов. Египетская экспансия и возвышение Амона-Ра. Тяготение царей к старой религии Солнца. Личность Аменхотепа IV. Начало реформации Аменхотепа. Новое имя и новая столица 140
Глава тринадцатая. «ЕРЕТИК ИЗ АХЕТАТОНА». Египет, 1418—1406 гг. Богослужение в Ахетатоне. Гимн Атону. Религия Эхнатона. Универсализм атонизма. Амарнское искусство. Оппозиция реформам. Окружение Эхнатона. Конец реформации 149
Глава четырнадцатая. ТАЙНА ЛАБИРИНТА. Остров Крит, ок. 1600—1400 гг. Критяне — предшественники греков. Миф о Минотавре. Открытие критской цивилизации. Лабиринт. Владычество Миносов на морях. Царь-маг. Культ быка. Минотавр и Молох. Великая Мать. Критские жрицы. Бог растительности. Упадок и гибель миносской державы ... 159
Глава пятнадцатая. УТРО ЭЛЛАДЫ. ОЛИМПИЙЦЫ. Греция, до 1400 г. Эллинские племена и пеласги. Природа Греции. Оргиастические культы. Религия пастухов. Пан, наяды: следы первобытных верований. Магия. Ахейское общество. Микены. Ахейский племенной пантеон. Теогония. Новое поклонение богам. Зевс и Олимпийцы 169
Глава шестнадцатая. БОРЬБА БОГОВ И ТИТАНОВ. Греция, ок. 1400—1200 гг. Титаномахия. Значение победы антропоморфных богов. Ахейская религия. Миф о Прометее. Жертвы, магия, табу. Войны ахейцев. Троя. Идея Судьбы. Оракулы и гадания. Представления греков о посмертии. Ослабление Микен после похода на Трою. Нашествие дорийцев 182
НАРОД ЗАВЕТА
Глава семнадцатая. «ДОМ РАБСТВА». МОИСЕЙ. Египет, ок. 1300—1230 гг. Судьбы монотеизма. Монотеистическая струя в Египте после Эхнатона. Израиль в Египте. Строительная деятельность Сети I и Рамсеса II. Израильтяне под игом. Появление Моисея. Личность Моисея. Призвание. Ягве — Бог отцов. Проповедь об Исходе. Мернептах и смуты в Египте. Исход 201
Глава восемнадцатая. ПУТЬ К СИНАЮ. Египет — Синай, весна и лето ок. 1230 г. Переход через Тростниковое море. Песнь Моисея и стела Мернептаха. Израиль углубляется в пустыню. Задачи Моисея. Трудности путешествия. Испытания и помощь. Столкновение с бедуинами. У подножья Синая 214
Глава девятнадцатая. ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ. Синай, ок. 1230—1200 гг. Идеи Завета или Союза. Что такое Тора? Декалог. Бог живой, Бог- избавитель. Запрет изображений. Этический монотеизм. Неподготовленность народа. Золотой телец. Ковчег Завета. Попытки пробиться в Ханаан. Жизнь в Кадеше. Новое поколение. На равнинах Моава. Смерть Моисея 224
Глава двадцатая. ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ. Ханаан, ок. 1200—1125 гг. Природа Палестины. Население и религия Ханаана. Священная война. Иисус Навин. Захват городов на запад от Иордана. Разобщенность колен. Борьба с хананеями. Девора 240
Глава двадцать первая. БОГ ИЗРАИЛЕВ И ВААЛЫ. Палестина, 1125 —1025 гг. Переход Израиля к оседлости. Языческие соблазны. Двоеверие. Нападения кочевников. Гедеон и царство в Офре. Книга Завета. Упадок религии Ягве. Эфод, Урим и Тумим. Натиск филистимлян. Сыны пророческие. Истоки библейского профетизма. Самуил. Необходимость центреализации 250
Глава двадцать вторая. ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО. СИОНСКИЙ ЗАВЕТ. Палестина, 1020—950 гг. Теократия и библейское учение о власти. Избрание Саула на царство. Харизматический характер власти Саула. Разрыв Саула с Самуилом. Преследование Саулом Давида. Смерть Саула и воцарение Давида. Религия Давида. Основание Иерусалима. Пророчество Нафана. Сионский Завет. Обличение Давида Нафаном. Соломон и его храм. Завершение дела Давида 261
Глава двадцать третья. СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ. Израильское царство, 950—930 гг. Экономический расцвет Израильского царства при Соломоне. Культурный расцвет. Литература. Идея Священной Истории. Ягвистическая запись Св. Истории. Язык и стиль Ягвиста. Миф и история у Ягвиста. Личный Бог. Антропоцентризм. Двуединство человека и единство человеческого рода. Грехопадение. Каин и Авель. Исполины и Потоп. Завет с Авраамом на Синае. Ягвист и мессианство 281
Глава двадцать четвертая. БОРЬБА ЗА ВЕРУ. ПРОРОК И ЦАРЬ. Израиль и Иудея, 930—850 гг. Рост иноземных влияний при Соломоне. Оппозиция. Распад Израильского царства. Храмы Северного царства. Священные быки. Династия Омри. Царь Ахав и Иезавель. Ваал Финикийский. Гонение на пророков. Пророк Илия. Засуха и испытание веры на Кармиле. Илия в Синайской пустыне. Защитник угнетенных. Последние дни. Наступление Эры Великих Учителей 306
ПРИЛОЖЕНИЯ
1. Библейская наука и проблема боговдохновенности 323
2. О библейской религии и библейских чудесах 332
3. Происхождение Пятикнижия 335
4. О библейских источниках послемоисеевого периода 344
5. Был ли Давид единственным автором псалмов? 348
6. Авраам, Иосиф, Моисей: их историчность 352
7. К вопросу о хронологии Исхода 358
8. Библия и учение о Грехопадении 362
Примечания 410
Библиография 444
Библейские имена и названия городов 454
Хронология 455
Создали два града, две любви:
град земной — любовь к себе до
презрения к Богу, град же небесный —
любовь к Богу до презрения к себе.
Блаж. Августин.
О граде Божием
ВВЕДЕНИЕ
Бог, сотворивший мир... от одной
крови произвел весь род человеческий
для обитания по всему лицу земли...
дабы они искали Бога, не ощутят
ли Его, и не найдут ли, хотя Он
и недалеко от каждого из нас:
ибо мы Им живем, и движемся, и существуем.
Апостол Павел
(Деяния 17, 24)
В предыдущей книге, где речь шла о сущности и происхождении религии, слово «религия» употреблялось в единственном числе. Теперь же нам предстоит встретиться с удивительным многообразием религиозного мира человека. Африканские боги-предки и пантеистическое Божество Ксенофана, чувственные культы Сирии и брахманский аскетизм, радения шаманов и эллинистические мистерии, демоны Вавилона и иранский Бог Света, сонмы языческих божеств и суровый монотеизм Ветхого Завета. Кажется, что между ними общего? Не исключают ли они друг друга? Если бросить даже беглый взгляд на эту пеструю картину верований, то легко может показаться, что ни о какой единой «религии» говорить невозможно.
И тем не менее в мировом религиозном спектре можно усмотреть и некое существенное единство. Оно определяется самой природой религии, которая опирается на живой опыт веры. Вера же есть прежде всего состояние духа, рожденное переживанием реальности Высшего. В ней пробуждается особого рода интуитивное знание, совершается нечто подобное встрече, звучит таинственный призыв. Человек отвечает на этот призыв: религиозные учения с их метафизикой и с их этикой и являются такими ответами. В них не только осмысляется мистическое видение веры, но и делается попытка установить «обратную связь» с той
6
сокровенной Сущностью, которая коснулась человека своим веянием. В самом же чувстве присутствия Божественного большинство религий обнаруживают внутреннюю общность.
Но если это так и если едина Реальность, к которой приобщается человек в религиозном опыте, то встает вопрос: как объяснить возникновение столь многих «ответов»? Почему опыт истолковывается столь различно?
Первый ответ на этот вопрос ссылается на несомненное сходство многих верований. «Разнообразие религий, — говорят его сторонники, — явление периферическое, поверхностное. На самом же деле по существу есть лишь одна истинная Религия, разлитая всюду под разными формами». Такое решение как будто бы кладет конец нетерпимости и узости, помогая везде находить духовные сокровища. Наиболее последовательно придерживались этой точки зрения индийские мыслители: Рамакришна, Вивекананда, Радхакришнан 1). Но и Европе она не осталась чужда; мы находим ее у многих деистов и теософов, к ней приближались Лессинг и Новалис, Эмерсон и Толстой.
Несмотря на известную привлекательность подобного подхода к религиям, нетрудно убедиться, что он неизбежно приводит к их обезличиванию и к выхолащиванию живого богатства конкретных вероучений. Кроме того, стирание границ, вольно или невольно, ведет к замалчиванию важных противоречий в религиях. Ведь такие учения, как, например, буддизм и христианство, сходны скорее в чертах второстепенных, в главном же они едва ли не противоположны.
Сторонники второго взгляда, считающие себя строгими последователями Библии, впадают в другую крайность. Они признают, что есть лишь единственное Откровение, данное Израилю и от избранного народа перешедшее к Сверх-Израилю, т. е. Церкви. Все, что лежит за пределами этого духовного потока, объявляется либо чисто человеческими домыслами, либо суевериями. Нельзя отрицать, что этот взгляд, действительно, получает некоторое обоснование в Библии. Суровая исключительность, свойственная ей местами, была отзвуком напряженных духовных битв, когда Израиль отстаивал свою веру перед лицом наступавшего язычества и христиане бросили вызов античному миру. С особой страстностью этот радикализм проповедовал Тертуллиан и некоторые другие раннехристианские писатели. В наши дни его возродил известный протестантский богослов Карл Барт 2). Тем не менее было бы неверным отождествлять это порождение кризисных эпох с целостным духом библейского учения.
Священное Писание, взятое в полном своём объеме, открывает возможность более широкого понимания религиозной истории мира. Ветхий Завет признавал возможность Откровения, даруемого язычникам. Достаточно напомнить имена Мелхиседека, Валаама, Иова 3). Характерно, что последний еврейский мыслитель времен независимой Иудеи — Филон — высоко ставил античную религи-
7
озную философию 4). В Новом Завете, как мы увидим ниже, апостол Павел недвусмысленно указывал на возможность хотя бы частичного богопознания у язычников.
Отцы и учители Церкви разделяли эту мысль, так же, как и отношение Филона к античной философии. Св. Юстин Мученик, Афинагор, свв. Феофил и Климент Александрийские, Минуций Феликс и другие христианские писатели воспринимали идеи Платона, Пифагора, Аристотеля и стоиков как наследие, естественно принадлежащее Церкви 5).
Если от далекого прошлого мы обратимся к временам более поздним, то убедимся, что эта тенденция в христианстве не только не угасла, но постоянно возрастает. В частности, в православном сознании она проявляется довольно ярко. Так, преподобный Серафим Саровский в своей беседе с Мотовиловым говорил: «Как и в еврейском священном любезном Богу народе, и в язычниках, неведущих Господа, все-таки сохранилось ведение Божие» 6). А известный русский проповедник XIX в. святитель Иннокентий Херсонский сравнивал представителей разных религий с обитателями разных поясов земли. «Христианство, — писал он, — по отношению к прочим религиям есть то же, что свет полдневный у людей, живущих под экватором, по отношению к свету солнечному у обитателей других частей земного шара. Свет один и тот же; различие только в степени» 7).
Эту же аналогию с солнечным светом в применении к религиям использовал и Вл. Соловьев. Для него история верований была постепенным раскрытием Истины людям. «Религиозный прогресс, — писал он, — не может состоять в том, чтобы чистая ложь сменилась чистой истиной, ибо в таком случае эта последняя являлась бы разом и целиком без перехода, без прогресса — и при этом возникал бы вопрос: почему это внезапное явление истины имело место в данный момент, а не во всякий другой?» 8).
В XX столетии русская религиозная мысль осталась верной этой точке зрения. Говоря об основателях дохристианских религий, русский богослов А. Туберовский писал: «Они находятся под преимущественным мистическим воздействием; их религиозный опыт не умещается в традиционно народные рамки... В своих наиболее глубоких переживаниях они достигали поразительных интуиций» 9). Еще более определенно высказывается Н. Бердяев. «Не только демоны, — говорит он, — открывали себя языческим народам и терзали их, но открывался им божественный свет, открывалось Божество в природе и в родовой народной жизни. Лишь еврейскому народу дано было непосредственное предвосхищение Христа и прямое движение к Нему. Но у всех народов было пророческое предчувствие и предвидение, что должно быть искупление и спасение мира» 10). С разными оттенками эту мысль развивали о. С. Булгаков и С. Франк, о. П. Флоренский и Н. Арсеньев, о. В. Зеньковский и о. А. Ельчанинов и многие другие.
Здесь существует полное единомыслие между православными
8
и католическими богословами. Такой, например, известный ученый, как кардинал Ж. Даниелу, писал, что в дохристианских культах, учениях и мистике мы должны признать «выражение откровения Бога, взывающего к каждой человеческой душе посредством космоса, совести и духа» 11). В Западной церкви общепризнанный характер это утверждение получило посредством постановления II Ватиканского Собора. Декларация Собора, касающаяся нехристианских верований, гласит: «Католическая Церковь не отвергает ничего, что истинно и свято в этих религиях» 12).
Таково третье, подлинно христианское решение проблемы, которое преодолевает как теософское обезличивание религий, так и неоправданную узость псевдобиблеизма. Оно ведет не только к признанию ценного ядра в древних учениях, но и к осмыслению религиозных поисков человечества в свете Истории Спасения. Центральное положение Христа в духовной динамике мира делает ее путем, пусть зигзагообразным и неровным, но тем не менее устремленным к свету Богочеловека.
* * *
Начало христианскому пониманию религиозной истории было положено апостолом Павлом 13). Он утверждал, что отпадение человека от Бога повергло его во мрак идолопоклонства, но что это, однако, не остановило поисков неведомого Божества среди людей. Апостол указывал на двойственный характер религиозного процесса в истории. С одной стороны, в нем обнаруживается деградация и затмение Истины, но с другой — виден путь восхождения.
Первоначальное непосредственное ощущение Бога ослабевало, оттесняемое язычеством. Эта нисходящая линия есть результат ложного самоутверждения человека, восставшего против Творца. Стремление к автономии, запечатленное в библейском сказании о Древе Познания, раскрывается апостолом как корень Грехопадения. Желание «быть как Бог» отдалило человека от Источника Жизни и поработило его демонам и стихиям. Оно не только породило многобожие, но и вскормило магию, магическое миросозерцание.
Магизм усматривал во Вселенной некие неизменные законы и силы, овладение которыми якобы сулило человеку благоденствие. Он был более всего заинтересован теми внешними выгодами, которые люди могут извлечь, подчиняя себе видимый и невидимый мир. Подлинная религиозная жажда была чужда Магизму, ставившему на место молитвы, веры и любви волхвование, заклятие, принуждение. В этом проявлялась его глубинная связь с Грехопадением, с притязаниями человека утвердить свою волю выше воли Божественной.
Но стихия Магизма не смогла окончательно захлестнуть человека, ибо грех не угасил искры Божией, вложенной в него.
9
Поэтому уже в древнейших культурах мы сталкиваемся с первыми попытками сбросить власть магии и обрести утраченного Бога. Символом этой тоски по Небу апостол Павел избрал жертвенник «Неведомому Богу», увиденный им в Афинах. Такое телеологическое понимание религиозной истории позволяет различать в ней иерархию ценностей и своего рода этапы, подготовлявшие мир к принятию Благой Вести. Отцы Церкви придавали большое значение этому предварению Евангелия в дохристианском мире. «Философия, — говорил Климент Александрийский, — была таким же детоводителем эллинов ко Христу, каким закон был для иудеев» 14).
Самым большим достижением древних мистиков и философов явилось их возвращение, пусть и неполное, к единобожию, которое вновь возрождалось после веков безраздельного господства язычества.
Таким образом, в религиозно-историческом процессе обнаруживаются два противоположных пути: путь от Бога и путь к Богу. И если упадок и магический политеизм суть плоды замутненного грехом сознания, то в богоискании осуществляется «великий факт исторического откровения, действие спасающего Бога, Божественный план воспитания человека, возможность духовного роста человечества и его поступательного движения к высшим ступеням» 15).
Борьба Магизма с Единобожием не ограничивается древним миром. В ней проявляется извечное противостояние двух полярных сил религиозной жизни. Анри Бергсон в своей замечательной книге «Les deux sources de la morale et de la Religion» (1932) называет эти два начала «статической» религией и религией «динамической». В терминологии Н. Бердяева это — «объективированная», «социоморфная» религия и религия Духа 16). М. Тареев определил магический тип верований как состояние «религиозной вражды», которое преодолевается раскрытием «религии бого-сыновства» 17).
Этой духовной борьбе и поискам посвящена настоящая книга. В ней мы проследим, как ручеек Единобожия пробивался через преграды язычества и магии, познакомимся с духовной историей классического Востока, Индии и Греции. Но в центре картины будет израильская религия, и это не случайно.
Откровение Ветхого Завета уникально, даже если смотреть на него просто как на одну из древних религий. Только здесь звучит голос единого, надмирного и одновременно всеобъемлющего и личного Бога. Если предвосхищение Евангелия можно найти у многих философов и учителей, то единственными Его предтечами в прямом смысле слова были пророки Израиля. Огненный рубеж отделяет естественное, интуитивное богопознание от библейской Теофании, от самоявления Бога в Ветхом Завете, от завершенного Богочеловеком Завета Нового. «Христианство и иудейство, — как верно замечает Ж. Даниелу, — не являются
10
следствием имманентной эволюции религиозного гения человечества, лишь сравнительно высокоразвитым ее проявлением. Они представляют собой вторжение в историю трансцендентного Бога, который вводит человека в сферу, прежде для него закрытую. В этом смысле можно, вслед за Гвардини, противопоставить Откровение и религию. Библия — результат Божественного Откровения, направленного людям всех религий» 18).
Однако было бы ошибкой мыслить Откровение в виде некоего одностороннего воздействия на человека. Церковь всегда усматривала в нем богочеловеческую тайну, ибо оно есть преломление небесного света в духе сынов земли. В самой Библии мы находим пример органического соединения Божественного и человеческого. В ней отражен долгий путь раскрытия полноты Слова Божия, процесс постепенного очищения и просветления несовершенной природы человека. Поэтому так важно исследование исторической и литературной формы Библии, которому служит критическая библейская наука.
* * *
До возникновения критической библеистики толкователи Писания исходили либо из буквального его понимания, либо из аллегорического. Буквальное — нередко приводило к соблазнам, недоразумениям и ошибкам. Аллегорическое же — оставляло слишком много простора для произвольных догадок. Библейская наука помогла преодолеть эти крайности. Литературная критика текста священных книг и сравнение их с памятниками Востока способствовали как уточнению прямого смысла Библии, так и пониманию ее духовного провозвестия.
Начало критической библеистике было положено католическими и протестантскими богословами, а также внеконфессиональными религиозными мыслителями. В настоящее время ее выводы и методы получили полное признание в западном богословии. Православные библеисты в силу исторических причин дольше других стояли в стороне от новых школ, но в конце концов необходимость библейской критики была признана и многими выдающимися представителями православной мысли. Среди них С. Трубецкой, Вл. Соловьев, С. Булгаков, Б. Тураев, А. Ельчанинов, Н. Бердяев, В. Веллас, Н. Арсеньев и др. Особенно нужно отметить выступление известного богослова, историка и церковно-общественного деятеля А. Карташева, который выпустил специальную книгу о ветхозаветной критике. В ней он призвал православных богословов оставить устаревшие концепции и пользоваться критическим методом в изучении Священного Писания. «Тут, — подчеркивал он, — миссионерский долг и подвиг веры и церкви» 19). По проложенному им пути идет в своих работах ректор Православного института в Париже о. А. Князев.
11
Итак, в целом современные богословы не усматривают в совершенстовании методов литературно-критического анализа Библии посягательства на ее духовный авторитет. Уже одно это должно заставить задуматься апологетов отживших представлений, которые еще нередки, особенно среди православных и протестантов. Думается, что наш религиозный долг гораздо больше заключается в поисках истины, нежели в том, чтобы любой ценой сохранить старые представления.
Библейская критика помогает более полно восстановить картину ветхозаветной истории, устраняет бесчисленные затруднения, с которыми сталкивалось богословие в докритический период, и поэтому она играет и будет в будущем играть важную роль в общехристианском сознании.
* * *
Предлагаемая книга не есть узкоспециальный труд, и менее всего это учебное пособие. Она, как и остальные части цикла, была задумана скорее в духе повести или даже поэмы. Однако читатель не найдет здесь ничего такого, что не опиралось бы на первоисточники и на выводы современных исследований.
Для того чтобы рассеять недоумения, связанные с библейской критикой, в конце книги дан ряд приложений, посвященных основным проблемам изучения Библии. При цитировании Священного Писания в основу был положен синодальный перевод, но для уяснения смысла некоторые места (особенно поэтические) были переведены автором заново по критическому изданию Ветхого Завета 20).
Мне хотелось бы, чтобы эта книга не была воспринята просто как повесть о далеком прошлом. Как бы ни изменялся мир, есть проблемы, которые всегда будут волновать людей. Поиски, ошибки и духовные прозрения человечества не могут оставить нас равнодушными, особенно сейчас, в эпоху кризисов, разочарований и новых жестоких заблуждений. Сегодня для многих наступает время сделать внутренний выбор. И высшей наградой для автора было бы сознание того, что встреча с далекими предшественниками хотя бы в чем-то помогла нашим современникам в их поисках Пути, Истины и Жизни.
12
Часть I
ДОИСТОРИЧЕСКИЙ
МИР
Глава первая
НАЧАЛО РЕЛИГИИ. БОГИНЯ-МАТЬ
Земля-Владычица! К тебе чело склонил я,
И сквозь покров благоуханный твой
Родного сердца пламень ощутил я,
Услышал трепет жизни мировой.
Вл. Соловьев
Кто не замечал той удивительной перемены, которая происходит в природе при наступлении ночи?
Эта перемена особенно чувствуется в летнем лесу. Днем его оглушает многоголосое щебетанье птиц; легкий ветер, раздвигая ветви берез, открывает безоблачную синеву; солнечные блики проскальзывают сквозь зеленый сумрак листьев, играют среди мха. Поляны напоминают уголки тихого и величественного храма. Яркие пятна бабочек и цветов, стрекотание кузнечиков, аромат медуницы — все это сливается в радостную симфонию жизни, которая захватывает каждого и невольно заставляет дышать полной грудью...
Совсем иначе выглядит тот же лес ночью. Деревья приобретают зловещие и фантастические очертания, голоса ночных птиц похожи на жалобные стоны, каждый шорох пугает и заставляет настораживаться, все проникнуто тайной угрозой и враждебностью, а мертвенный свет луны придает порой этой картине оттенок, близкий к видению бреда или кошмара. Природа, такая гармоничная и дружелюбная при свете солнца, внезапно как бы поднимается против человека, готовая мстить, уподобляясь древнему чудовищу, с которого сняты чары заклятия.
Этот контраст мог бы стать символом той перемены, которая произошла в мироощущении наших далеких предков на
15
заре человечества. Врата мировой тайны закрылись перед ними, их стало покидать ясновидение и духовная власть над царством природы. Они очутились одни в огромном враждебном мировом лесу, обреченные на тяжелую борьбу и испытания.
Не только свой хлеб человек стал добывать «в поте лица», но и духовные богатства ему пришлось завоевывать напряженными усилиями многих поколений. Перед ним лежала скорбная дорога исторического развития, на которой ему предстояло падать и вставать, ошибаться и приближаться к истине, искать и преодолевать преграды.
Величие и красота истории человеческих поисков утраченного Бога заключается в том, что человек всегда испытывал неудовлетворенность, никогда (пусть и бессознательно) не забывал той «райской страны», которую покинул. Тогда, когда он впервые осознал себя в мире, он «говорил с Богом лицом к лицу». Теперь эта непосредственность общения нарушилась. Духовная катастрофа воздвигла стену между людьми и Небом. Но человек не утратил своего богоподобия, не утратил способности хотя бы в слабой степени познавать Бога. На ранних этапах в первобытном богопознании еще ясно жило ощущение Божественного Единства. Мы уже видели, что у многих примитивных племен, сохранивших быт своих далеких предков, сохранились и следы первоначального единобожия 21). Даже у народов, вступивших на путь развития цивилизации, мы сможем обнаружить следы этой древнейшей веры.
Но каков бы ни был культ, каковы бы ни были формы богопочитания — это не было уже первоначальное лицезрение Единого. Религия — т. е. восстановление связи между человеком и Богом — начинается в истории человечества после Грехопадения. «Пафос религии, — говорит С. Булгаков, — есть пафос расстояния, и вопль ее — вопль богооставленности» 22). То, что едино, нет нужды связывать, связь возникает как результат стремления преодолеть разрыв. Человек каменного века, как и человек наших дней, остро чувствует тяжесть Великого Разрыва. А на протяжении веков он порой увеличивался и пропасть углублялась. Происходило это не потому, что Бог покидал человека, но потому, что человек удалялся от Бога. Правда, уже с самых первых шагов мы находим выражение чувства вины перед Богом и желание ее искупить. Библия не случайно в начале всякого проявления религиозного чувства, т. е. культа, ставит жертвоприношение 23). В нем отразилось пусть смутное, но сильное стремление человека загладить свой грех и восстановить единство с Богом. Жертвуя Незримому часть своей пищи, которая добывалась с таким трудом, люди как бы заявляли о своей готовности следовать велениям Высшей Воли.
Но обрести прежнюю гармонию было труднее, чем потерять ее. Поэтому мы видим, как люди в своей повседневной жизни все больше и больше уделяют внимания природному миру. Ду-
16
ховные силы, которые связаны со стихиями, начинают казаться им более близкими, более нужными помощниками в жизни. Ведь от них зависит успех охоты, они властители очага и рода.
Постепенно Бог в сознании первобытного человека начинает отступать на задний план, становится далеким и безличным. Характерно, что у большинства племен, даже сохранивших следы древнего единобожия, мы почти не видим культа Высшего Божества. О Нем знают, что Оно существует, но Оно бесконечно удалено от мира, от жизни людей и кажется безразличным к их судьбам 24).
У некоторых народов образ Бога еще больше расплывается и сохраняется лишь в виде смутного представления о некой мировой духовной силе. Она безлична, ибо человек уже утратил личный контакт с ней. К этой силе, в сущности, невозможно обращаться с молитвой, хотя в какой-то степени она все же влияет на жизнь.
Так, индейцы-алгонкины под именем Маниту почитают не столько личного Бога, сколько надмирную Силу 25). Представления о ней мы встречаем и у жителей Малайи. Эта Сила носит определенно сверхъестественный характер. Ее называют Мана 26). У папуасов, по свидетельству Миклухо-Маклая, эта таинственная стихия именуется Оним.
По воззрениям австралийских аборигенов, существует некая «Вангарр — вечная, неопределенная, безликая сила, которая проявила себя во дни создания и продолжает оказывать благотворное влияние на жизнь по сей день» 27). Эскимосы так называют эту сверхъестественную энергию — Хила 28). У африканских народов мы также находим понятие о Мана. У обитателей Западного Судана ее имя — Ньяма, у пигмеев — Мегбе, у зулусов — Умойя, у угандийцев — Жок, у северных конголезцев — Элима. Некоторые ученые даже считали, что этот культ — характерная особенность всех африканских религий 29). Весьма интересно и глубоко по смыслу представление о Высшем начале у североамериканских индейцев. «Религиозная вера дакотов, — пишет один исследователь, — не в божествах как таковых, она — в таинственном непознаваемом Нечто, которого они суть воплощения... Каждый будет поклоняться некоторым из этих божеств и пренебрегать другими, но величайшим объектом поклонения, каков бы ни был его проводник, является Таку Вакан, который сверхъестественен и таинственен. Ни один термин не может выразить полного смысла дакотского слова «Вакан». Оно охватывает полноту Тайны, скрытую власть и божественность» 30). Эта сила, которая у ирокезов называется Оренда, у юленгоров — Вангарр, пронизывает собой всю природу 31). Она объединяет в духовном единстве людей, животных, растения, камни. Она тождественна с идеей Мана у полинезийцев.
Сила эта распределяется в мире неравномерно, люди могут обладать ею в большей или в меньшей степени. Тот человек,
17
которого сопровождает удача, который отличается ловкостью и красотой, — тот имеет «много Маны». Она может передаваться от одного предмета к другому, человек может стать причастен к ней посредством прикосновения и посвящения 32).
Наряду с этим процессом обезличивания Высшего Единства, превращения его в неопределенную Силу все большую и большую роль в первобытном мировоззрении начинает играть Всеобщая стихия природы, или Душа мира.
* * *
Вл. Соловьев в своем исследовании о мифологии дал блестящий анализ этого выделения из Божественного Единства Богини- Матери. Она начинает рисоваться как общая Родительница всех живущих, как супруга Божественного Отца 33).
В противоположность далекому Богу, утратившему черты личного существа, это женское божество вполне конкретно и неустанно печется о нуждах людей. Она — владычица леса и моря, посылающая удачу в охоте и дающая изобилие. В этом веровании нашло свое воплощение острое чувство мистичности природы, одухотворенности всего мироздания.
Археология дает нам поразительные свидетельства всеобщего распространения культа Богини-Матери в эпоху каменного века. На огромном пространстве от Пиренеев до Сибири и по сей день находят женские фигурки, вырезанные из камня или кости. Все эти изображения, древнейшее из которых найдено в Австрии, условно называют «венерами». Всех их объединяет одна важная черта. Руки, ноги, лицо — едва намечены. Главное, что привлекает первобытного художника, — это органы деторождения и кормления. Выдвигалось предположение, что древние женщины, как женщины некоторых современных примитивных племен, имели в действительности такие огромные груди и отвислые животы. Но если признать, что в «венерах» отразилось лишь стремление к реализму, то остается предположить, что у первобытных женщин не было лица и были крошечные руки.
«Порою, — писал П. Флоренский о «венерах», — подчеркивание особенностей женского организма превосходит пределы даже шаржировки, и статуэтка изображает уже женский безголовый торс, в котором особенно выделены бедра и груди. Наконец, последний предел упрощения — статуэтка, представляющая одни только груди, — чистая деятельность рождения и вскармливания без малейшего намека на мышление. Это — древнейшее воплощение идеи «вечной женственности» 34).
Разгадка необычайных черт в фигурках «венер» кроется в том, что они были, как думает большинство исследователей, культовыми изображениями. Это не что иное, как идолы или амулеты Богини-Матери.
18

Статуэтка, изображающая женское божество
(каменный век, Виллендорф, Австрия)
19
Изображения «венер» обильны и в исторических слоях. Они найдены и в доарийской Индии, и в доизраильской Палестине, и в Финикии, и в Шумере. Сходство их сразу бросается в глаза 35). Создается впечатление, что культ Матери носил почти универсальный характер.
Это подтверждает и этнография. У народов, сохранивших пережитки отдаленных неолитических времен, почти повсеместно находим культ всеобщей Матери.
У маори она именуется Пэпа, Мать-земля, супруга Бога Небесного 36) . У эвенков Подкаменной Тунгуски — Бугады Энинитын. Она мыслится хозяйкой Вселенной и одновременно матерью зверей и людей. Кетское женское божество Томам (ам — дословно «мать») функционально подобно эвенкийской Бугады Энинитын 37). Другое название эвенкийской богини — Бугады Мушун 38).
В Индии она известна под именами Шакти и Пракрити. В одном древнем индийском тексте она прямо связывается с ростом и рождением. А на одной печати из Хараппы (доарийский период) можно рассмотреть изображение женщины, из лона которой поднимается растение 39).
В Передней Азии и Африке Великая Богиня-Мать почиталась почти у всех культурных народов периода начала письменности. «Та, которая рождает плоды земли» — египетская Исида, малоазиатская Кибела, чья скорбь несет умирание растительности, ее двойник в Элладе — Деметра, карфагенская Танит, сидонская Астарта, Артемида Эфесская, изображавшаяся с десятком грудей, как бы готовая накормить весь мир, — все это лишь перевоплощения древней Матери мира. В языческой Руси слово «Мать-земля» имело не просто метафорическое значение. Оно обозначало душу природы, богиню, супругу «Хозяина неба».
Богиня-Мать правит всеми природными процессами. Это она заставляет оживать семя, погруженное в землю; она вселяет любовь в людей и животных, ей поют песни в дни весеннего ухаживания птицы. По ее мановению распускаются цветы и наливаются плоды. Ее радость — это радость всего живущего; ее глаза смотрят на нас с небесной лазури, ее рука нежно ласкает листву, она проносится над миром в дуновении весеннего ветра.
Имеем ли мы право считать эту веру древних лишь плодом невежества и заблуждений? Не свидетельствует ли она о том, что Душа Природы была ближе и понятней людям, которые обладали более сильной интуицией, чем мы? Да впрочем, и в более поздние времена в религии и философии идея Души мира не умерла. Она продолжала жить и в мировоззрении греков, и в мистической философии новой Европы. Она звучит горячим убеждением в известных словах Тютчева:
Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик;
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...
20
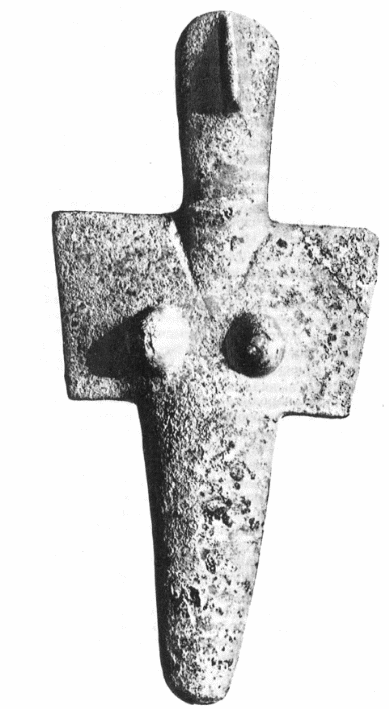
Символ плодородия
(каменный век)
21
* * *
Теперь становится понятным тот факт, что в глубокой древности жреческие функции принадлежали преимущественно женщинам. Так, у северных индейцев заклинания совершались женщинами. У некоторых индейцев существует сказание о том, что «обряды плодородия» были учреждены женщинами. По одному ирокезскому преданию, первая женщина, основательница земледелия, умирая, завещала протащить свое тело по земле, и там, где оно касалось почвы, вырастал обильный урожай. Шаманок и жриц знают наиболее примитивные культуры 40). Там, где это явление уже исчезло, можно найти следы его. Так, у чукчей и других северных народов шаман-мужчина одевался в женскую одежду 41). А таинственные фрески с о. Крита свидетельствуют о том, что в особо священные моменты мужчина должен был облачаться в женский костюм 42).
Да и кто, как не женщина — живое воплощение мировой Матери, должна держать в руках тайны культа? Не носит ли она в своем теле тайну рождения? Главенство женщин в религии было у галлов, древних германцев и многих других народов. Культ плодородия, который стоял у истоков религии Диониса, также возглавлялся жрицами. А римские весталки в древности имели гораздо большее значение, чем впоследствии. Вспомним, что важнейший греческий оракул в Дельфах основывался на прорицаниях жрицы.
Многочисленные народные поверья о колдуньях, ворожеях и ведьмах есть лишь отголосок тех древних времен, когда жертвоприношение, заклятия и магия были в руках у женщин.
Вполне естественно, что при таком важном культовом значении женщин они оказывались в роли вождей и руководителей племени. Как отзвук этих времен можно рассматривать власть Великой Жрицы на о. Крите. Хотя в настоящее время ученые не пришли к единому мнению относительно происхождения матриархата, тем не менее ясно, что он был свойствен большинству древних племен.
Матриархальные верования проливают свет на те изображения каменного века, где женщина ставится рядом с бизоном, оленем или другим промысловым зверем. Это магические символы, связанные с заклинаниями, которые произносили женщины перед охотой. Если судить по наскальным рельефам Лосселя, то можно предполагать, что существовали особые охотничьи обряды, совершаемые хором женщин 43).
Материалистические авторы пытаются дать свое объяснение матриархату. С одной стороны, они готовы выводить его из «производственных отношений», а с другой — ссылаются на групповой брак, известный у некоторых отсталых племен, при котором трудно установить, кто отец ребенка. При групповом браке линия родства велась по матери. Но так как групповой брак совре-
22
менных отсталых племен довольно сложное и, в сущности, позднее явление, то высказывалось предположение о первоначальном промискуитете, т. е. беспорядочных половых отношениях в первобытном обществе 44).
На это можно возразить, что, во-первых, от родства по материнской линии до главенства женщины в племени еще очень далеко, а во-вторых — гипотеза о первоначальном промискуитете, в сущности, ничем не доказана.
Если хотят видеть здесь «наследие животных предков», то не следует забывать, что у многих животных и, в частности, у антропоидов мы находим зачатки семьи (с главенством самца). Даже такие далекие от человека существа, как копытные, хищники или некоторые виды птиц, на периоды спаривания и воспитания детенышей образуют пары, которые часто приобретают постоянный характер.
Когда думают, что любовь двоих — это какое-то высшее достижение цивилизованного человека, то в этом глубоко ошибаются. Близкое знакомство с бытом отсталых народов заставило признать у них те же чувства, что и у нас. Для примера приведем одну австралийскую легенду. «Жили в далекие времена юноша и девушка. Они очень любили друг друга. Когда юноша достиг совершеннолетия, его внезапно оторвали от дома и от девушки: он должен был пройти обряды посвящения, продолжающиеся год или больше. Разлука сильно подействовала на девушку. Она смутно представляла себе те болезненные испытания, которые ждали ее возлюбленного, и боялась за него. Когда началось посвящение и всем женщинам приказали удалиться, девушка, нарушив самый суровый закон аборигенов, под покровом темноты пробралась к священному месту. Поздно вечером один из стариков увел юношу в сторону от стоянки. Там они устроились на ночь. Но парень не мог спать — очень болели свежие раны. При виде страданий своего возлюбленного девушке захотелось увести его от стариков и уйти с ним куда-нибудь далеко-далеко, где бы они могли жить спокойно и счастливо. Подобравшись поближе к костру, она, чтобы привлечь внимание юноши, стала подражать крикам зверей. Когда юноша заметил ее, девушка велела ему следовать за собой. Но не успели они очутиться вместе, как проснулся страж и начал разжигать костер. Зная, что их обоих ожидает смерть, если их поймают, девушка обвила руками юношу и полетела с ним на небо» 45). Эти австралийские Ромео и Джульетта достаточно ярко показывают, что человеческое сердце всегда и всюду живет по своим законам. Путешественники очень часто с удивлением отмечали, что отношения мужчин и женщин у самых диких племен удивительно похожи на те, которые имеют место у нас. Об этом свидетельствует, например, английский исследователь Адриен Коуэлл, побывавший среди туземцев непроходимых лесов Южной Америки 46). Эти наблюдения не дают нам права считать, что первобытный мужчина
23
обращался со своей женой хуже, чем его потомки. Скорее наоборот — подчиненное положение женщины есть результат более позднего этапа, периода патриархата.
Моногамный брак был обнаружен у пигмеев Конго и у диких туземцев Малакки, у одного из наиболее примитивных племен Колумбии и у народа ведда — обитателей Цейлона, у папуасов Доре, у туземцев Канарских островов и многих австралийских племен 47).
Разумеется, при этом достаточно развито и чувство верности, и чувство ревности. А. Коуэлл в беседах с туземцами убедился, что и у них есть измены и свои Отелло. «Ведь муж убьет, если узнает», — говорил один из туземцев, рассказывая о своих похождениях 48).
* * *
Исследования этнографов показали, что полигамия и полиандрия в целом были вторичными явлениями, которые обязаны своим возникновением особым, специфическим условиям жизни того или иного народа, того или иного племени. И даже в случаях узаконенной полигамии всегда выделяется «главная» или «старшая» жена, в чем легко усмотреть отзвук изначальной моногамии.
«Оказались слабыми все аргументы, — говорит В. Вундт, — при помощи которых старались из существующего положения первобытных народов вывести первоначальное состояние человечества в виде орды, обходившейся без брака и семьи. Скорее и при групповом браке, который ценится как важнейшая часть этого доказательства, и при более простых формах полигамии факты везде указывают на моногамию как на основу развития этих образований» 49).
Пусть естественная моногамия сохранилась не везде и не всегда, пусть история человеческой семьи сложна и запутанна, ясно одно: поскольку групповой брак не был изначальным и всеобщим, он и не мог послужить основой для возникновения матриархальных представлений.
Не в производственных отношениях и хозяйстве и не в особенностях первобытного брака следует усматривать корень матриархата. Возрастание роли женщины в доисторическом обществе было, несомненно, связано с расцветом культа Богини-Матери и ведущей ролью шаманок и жриц.
Эту связь на примере доисторической Греции с удивительным проникновением в дух верований проследил Вяч. Иванов. «Чем в отдаленнейшую восходим мы древность, — писал он, — тем величавее рисуется нам образ вещуньи коренных изначальных тайн бытия, владычицы над прозябающей из их темного лона жизнью, придверницы рождений и похорон, родительницы, восприемницы, кормилицы младенца, плакальщицы и умастительницы умершего.
24
...Эпоха наибольшей чуткости к подсознательному и верности темной, отрицающей индивидуализацию Земле была эпохой владычества матерей... Всякое исследование истории женских божеств, под каким бы именем ни таилась Многоимянная, ...наводит нас на следы первоначального феми-монотеизма, женского единобожия. Все женские божественные лики суть разновидность единой богини, а эта богиня — женское начало мира, один пол, возведенный в абсолют» 50).
И подобно тому, как родоначальница племени была его общей матерью, так и первобытный культ Богини-Матери породил все последующие формы язычества.
25
Глава вторая
В МИРЕ ДЕМОНОВ И ДУХОВ
Все полно богов.
Фалес Милетский
Богиня-Мать — всеобщая прародительница. Из ее лона вышли растения, животные, люди. Поэтому в мышлении первобытного человека живет чувство родства, которое связывает все живые существа. Для охотников каменного века зубры и медведи, орлы и бобры — это такие же дети природы, как и они сами. Даже опасные звери, даже объекты промысла представлялись им таковыми. Следы этого чувства мы находим у многих примитивных народов.
Когда эвенки охотятся на медведя, они окружают его берлогу, произнося формулы «уговоров», и, когда медведь убит, долго извиняются перед ним и уверяют, что они не виноваты в его гибели 51). У северных народов есть обычай, по которому после раздела туши тюленя какую-нибудь часть ее бросают в воду со словами: «Тюлень ушел в море!» Черепа убитых зверей приносят в дом и всячески ублажают их, как дорогих «гостей». Охотники танцуют вокруг и поют: «Не мы вас убили, нет, нет! Камни скатились с горы и убили вас» 52).
Идея братства человека и животного нашла свое выражение в широко распространенных мифах, согласно которым предки людей имели смешанные человеко-звериные черты. Индейцы верят, что эти существа могли легко менять свой облик. В подобных легендах прочно установилось понятие «животные-люди» 53).
По верованиями австралийцев, эти получеловеческие предки бродили по всей стране урабунна, совершая священные обряды, а впоследствии некоторые из них превратились в мужчин и женщин.
26
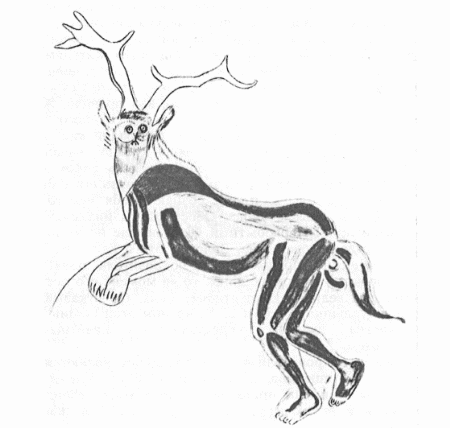
Первобытный рисунок, изображающий человеко-зверя
В этом мифе звучит как бы смутная догадка об общности происхождения животных и людей 54).
Звероподобные духи обитают на земле и поныне. «Старик по имени Покатегемун, — рассказывает один этнограф, — в особом видении встретил своего покровителя. Покровитель имел человеческий образ и дал ему свое благословение. Только уже уходя, это существо вдруг закричало: «Кванк, кванк, кванк!» Тогда Покатегемун заметил, что это, в сущности, утка и что даже тело ее наполовину белое, наполовину черное». Такие превращения весьма часты в рассказах шаманов и духовидцев.
В пещерах — местах обитания первобытных людей — обнаружено много странных рисунков. Они изображают невероятных чудовищ с ногами людей и мордами коз, с оленьими рогами и человеческим туловищем. Некоторые полагали, что это портреты загримированных колдунов. Но даже если согласиться с таким толкованием, то легко догадаться, что сам этот необычный костюм заклинателя ведет свое происхождение от мифа о человеко-зверях.
27
Кроме того, некоторые рисунки дают настолько фантастическое переплетение звериных и человеческих признаков, что трудно предполагать здесь какую-либо маскировку. Очевидно, вера в зооморфных предков восходит еще к пещерным жителям 55).
Эта вера оказала огромное влияние на общественный уклад древних людей. Она объясняет возникновение такого своеобразного явления, как тотемизм 56). Тотем — это, как правило, животное, которое считается предком и покровителем данного племени. Тотемизм характерен почти для всех австралийских племен 57). В его основе лежит вера в то, что люди кровно связаны с миром животных, а данное племя — с определенным видом животного 58). Одна из важных черт тотемизма — это связь его с ощущением коллективности. Семья, племя сознают себя чем-то единым в самом глубоком смысле слова. Обостренный индивидуализм — детище цивилизации. Первобытный человек еще не утерял ключа к тайне Единства человечества. Залогом этого единства является общий тотемический предок и дух-покровитель рода 59). Когда ребенок становится членом общины, то «в момент его посвящения открывается эта великая коллективная сила. Он отказывается от своей индивидуальности, чтобы стать членом этой общины... которая сопричастна... духу и отождествляется с животным миром через свой тотем» 60).
Тотемными покровителями у австралийцев являются обычно кенгуру, опоссум, ящерица, летучая мышь и пр. Члены тотемической общины не имеют права употреблять мясо «своих» зверей в пищу. Хотя в исключительных случаях это допускается как часть ритуала 61).
Некоторые ученые выдвигали гипотезу, что тотемы — это не что иное, как объекты охоты племени или животные, внушающие особый страх 62). Но это не соответствует действительности. Животные-тотемы — совсем не обязательно опасны и ценны для промысла. С. Токарев совершенно справедливо отмечает, что «нельзя видеть основу тотемизма в этой «хозяйственной» его стороне» 63).
Источник тотемизма — вера в духовное единство с природой. Он имел широкое распространение в различных частях света. Следы его обнаруживаются не только у примитивных племен Азии, Африки и Америки, но и у цивилизованных исторических народов. Запрет на убийство коровы в Индии, табу на свиней у израильтян и мусульман — отдаленные отголоски седой старины, когда эти животные были священными тотемами.
Кроме коллективного родового Тотема, существовали и тотемы индивидуальные. Связь человека с избранным духом-покровителем, которую мы находим в религии африканцев, эскимосов, индейцев, не менее древняя, чем групповой тотемизм 64).
Постепенно групповые тотемы стали утрачивать свой звероподобный характер, превращаясь в духов-патронов племени или народа.
28
* * *
Было бы неправильно считать тотемизм какой-то особой формой религии. Он — лишь проявление особого мирочувствия, когда вся природа предстает перед человеком одушевленной. Сила «Маны» пронизывает ее повсюду, видимый мир есть тело невидимой Божественной Силы. Именно этот анимизм есть религиозная основа тотемизма 65).
Что же поддерживало это мирочувствие в первобытном человеке? Страх — отвечают нам. Человек боялся ядовитых змей, хищных зверей, боялся поэтому темноты. Крики ночных птиц он относил за счет лесных духов. Но такое объяснение естественно в устах человека городской цивилизации. Наивно было бы думать, что люди, веками охотившиеся в лесах и тундрах, так плохо знали их жизнь, что легко принимали филина за лешего, а обезьяну за злого духа.
Всякий охотник чувствует себя в лесу как дома. Каждый след, каждый звук знакомы ему. Из поколения в поколение передавался опыт охотников. Их сведения о природе до сих пор во многом оставляют позади знания европейских ученых. И поэтому считать, что просто страх внушал древним людям веру в духовные существа, по крайней мере неосторожно.
Исследователь, который изучал дикое племя кубу (Суматра), спросил одного из них:
— Ходил ли ты когда-нибудь по лесу?
— Да, часто.
— Слыхал ли там стоны и вздохи?
— Да.
— Что же ты думал?
— Что трещит дерево.
— Не слыхал ли ты криков?
— Да.
— Что же ты подумал?
— Что кричит зверь.
— А если ты не знаешь, какой зверь кричит?
— Я знаю все звериные голоса...
— Значит, ночью в лесу ты ничего не боишься?
— Ничего.
— И ты никогда не встречал там ничего неизвестного, что могло бы тебя испугать?
— Нет, я знаю все... 66).
Такие вопросы можно было бы задать охотникам многих уголков земного шара, и результат был бы тот же.
Правда, в жизни первобытных людей страх имеет место. Но это реальный страх. Страх голода, неудачи в охоте, встречи с опасными животными. Разумеется, в суровых условиях Арктики или тропиков причин реального страха больше, чем в умеренных странах. И тем не менее мы не видим, чтобы обитатели этих
29
стран были менее религиозны, чем эскимосы или африканцы. Следовательно, корни веры в духовный мир нужно искать в чем-то другом.
* * *
Эдуард Тэйлор считал, что «древние дикари-философы, вероятно, прежде всего сделали само собой напрашивающееся заключение, что у каждого человека есть жизнь и есть призрак» 67). И этот «анимизм» они перенесли на природу. Но мы уже видели, что «философствующий дикарь» — это миф. Исследования мышления современных примитивных племен показали, что не рефлексия и не «философия» руководят первобытными людьми, а иррациональная интуиция. Они видят мир «полным духов» не потому, что размышляли о нем, а потому, что ощущали мистическую тайну в природе.
И если мы обратимся к религии «дикарей» в ее конкретных проявлениях, то, по словам Л. Леви-Брюля, убедимся, что их вера в сверхъестественный мир не выступает как «заключение, сделанное путем рассуждения». Духовный мир для них «реален и даже более глубоко реален, чем мир общедоступного и обыденного опыта. Этот второй мир тоже является объектом опыта, но опыта сверхъестественного, имеющего, значит, высшую ценность. Одним словом, согласно Вирцу, как и согласно Тэйлору, существование сверхчувственной реальности «умозаключается». Мне же, напротив, кажется, что она является непосредственно данной. Там, где ему видится деятельность разума и мыслительных способностей, я констатирую то, что он сам в нескольких местах называет чувством, другими словами, опыт» 68).
Первобытный человек видел повсюду сокрытую одушевленность: и в стволах деревьев, и в лесных животных, и в беге облаков. Для него взаимодействие вещей в мире — это не только взаимодействие видимого, но в то же время — и более всего — взаимодействие невидимого. В журчащем ручье, в пламени костра обитали духи, враждебные или добрые, а иногда и нейтральные. Стихии не казались ему чем-то бездушным. Невидимый мир не составлял для него какого-то изолированного плана бытия. Он был тут же, рядом, он подразумевался во всем. «Для первобытного мышления, — пишет Леви-Брюль, — не существует двух миров, соприкасающихся друг с другом, отличных, но вместе с тем связанных, более или менее проникающих друг в друга. Для первобытного мышления существует только один мир. Всякая действительность мистична, как и всякое действие, следовательно, мистичным является и всякое восприятие» 69). Духи оказываются гениями-покровителями каждого клочка земли, имея в своей власти все явления природы, совершающиеся в данном месте, и все события в жизни людей, живущих в их пределах. Число их бесконечно. Они наполняют весь мир, и нет в природе силы или
30
предмета, начиная от моря до комка земли на поле, которые бы не имели своего божества. Они охраняют холмы, рощи, реки, ключи, тропинки и хижины. Им известно каждое действие человека, все нужды и интересы местности, находящейся под их властью 70).
Таким образом, не просто страх перед природой или неведение относительно голосов животных и птиц становятся источником веры в одухотворенность мира. Если такой страх и появлялся, то он был скорее результатом чувства этой одухотворенности. Не просто зверь, гора или дерево являлись причиной мистического страха человека, а то, как он воспринимал их.
* * *
«Животные, которым гиляки оказывают поклонение, — пишет Л. Штернберг, — не самостоятельные боги, даже не боги вообще, это лишь подчиненные настоящих божеств, хозяев той или иной стихии, тех или иных животных... Боги эти живут в лесах, горах, на дней морей и ведут такую же жизнь, как и сами гиляки. В каждой стихии распоряжается один из этих богов, «ыхь» — хозяин. Вот эти-то хозяева и посылают гиляку по сезонам все, что ему нужно: соболей, медведей, лососей, тюленей» 71).
Само собой разумеется, что эти души стихий, эта таинственная Вселенная гораздо больше заботила и интересовала доисторического охотника, чем далекое и туманное Божество. Вступить в дружественный союз с духами леса, приобрести невидимых помощников и покровителей — вот что было жизненно важно.
Характерен такой случай. Один эскимос, приближаясь к ловушке, услышал тревожный крик ворона. Он насторожился и не стал двигаться дальше. Это спасло ему жизнь. К ловушке подошел гигантский медведь, который растерзал попавшегося в нее ворона. После того как зверь удалился, охотник подобрал останки птицы и, зашив их в мешочек, превратил в амулет. Он был уверен, что дух ворона стал его защитником 72).
Конечно, во всем этом немало бессмыслицы и невежества, но глубинная основа первобытного мироощущения заслуживает самого серьезного подхода и отношения. Если мы утратили способность видеть скрытую жизнь природы, то это еще не означает неправоту наших предков, а говорит лишь об ослаблении в нас древней интуиции.
Особое отношение было у первобытных людей к душам умерших. Если даже в наш скептический век оккультные феномены вызывают все меньше и меньше насмешек, то легко представить себе, какое впечатление могли произвести они на людей доисторических времен. Они убеждались, что иные духи умерших превращаются в бродячие тени, которые вселяют ужас. Для того чтобы предотвратить это, применялись самые разнообразные меры предосторожности. Тела покойников связывали, над ними произносили заклятия, а если это не помогало, их извлекали
31
из земли и пронзали копьями, чтобы они перестали тревожить живых 73).
Сейчас трудно установить, как понимали древние люди отношение душ умерших к стихийным духам. Скорее всего они в какой-то степени отождествлялись. Полагали, что после смерти душа становится членом таинственного синклита окружающей человека природы 74). Даже и сейчас в нас подсознательно живет чувство, что умершие обретают какое-то высшее знание и могущество. Смерть накладывает отпечаток величия даже на ничтожных людей. И естественно, что души прародителей, великих вождей и шаманов древности оказались объектами особого поклонения. Они становились высшими покровителями рода наряду с тотемным предком, порой вытесняя его.
* * *
Какое же можно дать определение этой «религии духов»? Заключалась ли она в поклонении силам природы или в поклонении душам умерших? Правильнее будет сказать, что ни один из этих элементов не занимал в ней господствующего положения. Религия современных примитивных народов содержит в себе в равной степени и то и другое. Поэтому наиболее точным будет здесь определение Вл. Соловьева, данное в его исследовании о первобытном язычестве. Эту веру, в которой природа признавалась оживотворенной, в которой чтили тотемных покровителей и предков, в которой был и культ умерших, он назвал смутным пандемонизмом 75). Этот пандемонизм отодвигает на задний план не только Божество, но и саму Богиню-Мать. Торжествует принцип плюрализма, согласно которому все и всюду имеет свое особое духовное начало.
Это воззрение распространяется буквально на весь видимый мир. По представлению австралийских аборигенов, «вся та часть вселенной, которая представляет интерес для человека, объясняется существованием различных душ: эти последние время от времени принимают облик человека или биологических видов в явлении природы: они появляются перед людьми во сне и в видениях, как в воплощенном, так и в бесформенном состоянии. Это значит, что между духами и определенной формой их воплощения нет прочной связи. Духи могут символизироваться как предметами, сделанными рукой человека, так и естественными видами» 76).
Здесь — корни того странного, на первый взгляд, верования, которое получило в науке название фетишизма. Фетиши, т. е. священные предметы, сопровождают всю жизнь первобытного человека 77). Это может быть и камень, и зуб животного, и даже череп родственника. В них обитают духи, и человек, обладающий фетишем, заручается их поддержкой. Как и тотемизм, вера в фетиши не есть какая-то особая религия, как думали некоторые
32
исследователи. «Ясно, — говорит В. Шмидт, — что фетишизм сам по себе нигде не существует, и поэтому нет никаких этнологических оснований помещать его в качестве самостоятельной ступени в самом начале религии» 78). Многие ученые сомневаются в правомерности даже самого термина «фетишизм» 79).
То, что неодушевленному предмету придается сакральное значение, вытекает из общей веры в одушевленность мира, в то, что «Мана» может распределяться в мире неравномерно, что один предмет может иметь больше силы, а другой меньше.
Очень часто фетишизм связан с верой в тотемы; священными предметами оказываются эмблемы духа-покровителя. В Австралии такими родовыми святынями являются чуринги. Это обычные каменные или деревянные дощечки, расписанные символическими знаками 80).
Чуринги хранятся в особых местах, сокрытых от непосвященных. Время от времени старейшины осматривают их. На фотографиях, которые удалось снять некоторым исследователям, мы видим бородатых вождей, которые с глубокой серьезностью и с выражением сознания значительности момента созерцают чуринги. Еще бы! Ведь в этих дощечках заключены тайные силы, которые управляют племенем и охраняют его. Чуринга — это живое существо. «Это совсем не кусок дерева или камня, это нечто совсем иное. Чуринга интимно связана с предком, она испытывает чувства, подобно нам: эти чувства или эмоции можно успокаивать, поглаживая чурингу рукой, т. е. таким же путем, каким успокаивают волнения живых людей» 81).
Иногда какой-нибудь фетиш приобретает значение талисмана. Он противопоставляет силе — силу, вредоносному влиянию — свое, защитное. Вера в значение таких амулетов проходит через все века человеческой истории. Найденные в одной ориньякской стоянке хвосты мамонтов и лапки песцов, очевидно, имели такое «охранительное» значение 82). Амулеты защищают человека от воздействия злых духов, от опасности и неудачи. Путешественников, побывавших у африканского племени тома, поразило обилие этих сакральных знаков. «В каждой деревне, — рассказывают они, — мы видим ритуальные предметы, которых до сих пор не замечали. На могилах предков лежат кресты из бревен, просверленные посредине и нанизанные на длинный стержень, словно наложенные один на другой турникеты. На площадках стоят колышки, около них кучкой положены кольца. На хижинах по стенам прикреплены пучки лиан-вьюнков. Под крышами висят гирлянды гибких лиан. Все эти талисманы защищают селение или семью от огня, от смерти, от болезней» 83).
Охотники имеют свои особые амулеты, женщины — свои, дети — свои. Иногда выбор фетиша оказывается совершенно случайным. Один туземец рассказывал, что, спасаясь от врага, он споткнулся о камень; он взял его с собой и с тех пор почитал как фетиш. Известный русский путешественник С. Крашенинников
33
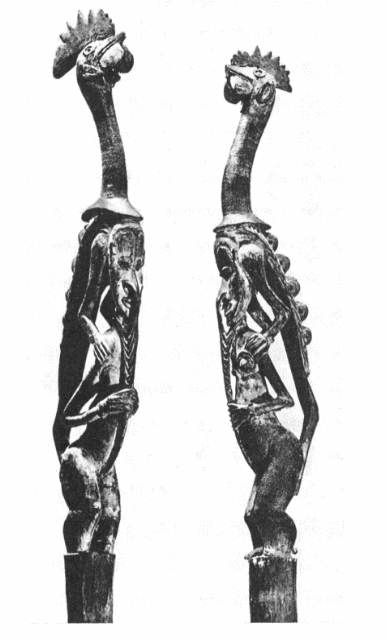
Праздничные резные украшения
(Новая Гвинея)
34
рассказывает о том, как некий коряк приобрел себе фетиш-жену. Он нашел на реке камень, и когда взял его в руки, «то камень на него как будто человек дунул». Он испугался и бросил камень. После этого он заболел и, решив, что болезнь связана с его поступком, стал искать камень. Скоро он нашел его, но на другом месте. Он взял камень себе в дом, сделал ему платье и считал своей женой 84).
Иногда человек убеждается, что фетиш бесполезен. Тогда обманувшему его предмету приходится претерпеть наказание. Его бьют, истязают или просто выбрасывают 85).
Постепенно фетиши приобретают человекоподобный облик. На них грубо намечают черты человека — предка или духа. Такие фигурки особенно характерны для африканских народов. Это прототипы будущих идолов.
У северных индейцев мы видим превращение тотемного знака сначала в идола, а затем в геральдический символ племени. В лесах Америки до сих пор стоят эти изумительные по красоте изваяния. Тотемные столбы индейцев являются подлинными шедеврами мирового искусства. Их фантастические узоры, причудливо переплетаясь, создают жуткие и манящие образы родовых духов. Человеческие маски громоздятся на звериные тела, крылья птиц соседствуют с извивающимися хвостами легендарных чудовищ. И все это играет яркими красками 86).
В развитом язычестве божество или демон уже не отожествляется с самим изображением. Считают, что оно лишь носит в себе часть силы первообраза. Но элемент фетишизации сохраняется долго, и еще в древневосточных и античных культах мы находим следы того представления, что бог обитает внутри своего кумира.
Но мы крайне обеднили бы понятие о первобытной религии, если бы стали утверждать, что попытка установить контакт с духовным миром ограничивалась талисманами, фетишами или тотемными изображениями.
Существовал и мистический путь общения с духами, который и составляет главный непреходящий интерес в первобытной религии.
«Стихийному пандемонизму религиозного мировоззрения, — пишет Вл. Соловьев, — соответствует так называемое шаманство в области религиозного культа» 87). Нужно думать, что с течением веков духовная интуиция у первобытных людей ослабевала. И поэтому из их среды стали выделяться люди, обладающие особой мистической и оккультной одаренностью. На них была возложена миссия посредников между человеческим родом и окружающим его миром демонов и духов.
35
Глава третья
ДОИСТОРИЧЕСКИЕ МИСТИКИ
Все было ясно для первых людей,
тайны природы не были так скрыты
от них, как от нас.
Яков Беме
Всякая религия складывается из трех основных элементов: мировоззрения, жизненных нормативов и мистического чувства, которое находит внешнее выражение в культе. Первый элемент обращен к интеллекту человека, второй — к его волевым устремлениям, а третий — к его эмоциональной сфере и интуиции. Причем этот последний является основополагающим. Поэтому-то культ, в какую бы он форму ни облекался, играет в религии такую важную роль. «Внутреннее содержание культа, — пишет один французский психолог, — составляет непрерывное общение с Божеством с помощью осязательных средств; без культа можно знать о существовании Бога или богов, знать их приказания, но только посредством культа можно беседовать с Божеством» 88).
Разумеется, под словом «культ» мы здесь должны понимать нечто очень широкое. Даже в тех религиях, где внешние их выражения сведены к минимуму, все же какой-то «культ» существует. Человеку свойственно связывать свои внутренние переживания с какими-то действиями, во что-то их «облекать». Отсюда и слово «обряд» (от «облечь», «обрядить»). В общении между собой люди никогда не могут избежать хотя бы самой простой формы обряда. Обряд помогает не только человеческим контактам, но и нашей устремленности к Высшему.
В этой главе мы рассмотрим доисторический культ в его главных формах, рассмотрим те пути, по которым душа наших далеких предков поднималась к невидимому миру.
Метафизическая катастрофа, которая оторвала человечество от полноты непосредственного созерцания Бога, привела к оскуде-
36
нию духовной интуиции. Поэтому, стремясь обрести утерянное, люди стали искать способы вернуться к прежнему состоянию. Одним из таких способов стало искусственное вызывание экстаза при помощи плясок, ритмичной музыки, массовых радений. Это была попытка как бы приступом овладеть крепостью духа.
В восторженном опьянении, которое вызывали коллективные ритуалы, люди кружились в такт ударам первобытных барабанов; все обыденное переставало существовать, казалось, что душа летит далеко и освобождается от гнетущих пут. По существу, это была попытка механическим путем обрести духовную свободу и могущество. Но в этой попытке, при всей ее надрывности, трогательна та сила неутомимой жажды высшего, которая не давала человеку погрязнуть в беспросветном, полуживотном состоянии. Пожалуй, и эпидемия исступленных танцев в наши дни тоже есть, пусть уродливое, отражение духовной неудовлетворенности и стремления вырваться за пределы обыденности.
Массовые радения принадлежат глубочайшей древности, и у нынешних примитивных народов от них остались лишь некоторые следы 89).
У большинства же «диких» народов мы застаем уже следующую стадию развития — шаманизм. Здесь на первое место выступают избранники, те, кто пытается проложить путь к сверхчеловеческим силам. Ясновидцы, мистики, прорицатели хранят и совершенствуют «архаическую технику экстаза». На этом этапе духовной истории утверждается вера в то, что высшими тайнами «обладают люди, исключительно одаренные по своей организации, являющиеся посредниками между своими соплеменниками и этими загадочными силами» 90).
Хотя слово «шаман» сибирского происхождения, оно прилагается обычно как обобщающая категория ко всем духовидцам и экстатикам, какое бы местное название они ни носили 91). Сейчас невозможно установить, где впервые зародился шаманизм. Очевидно, он возник независимо у разных народов. Зачатки его восходят, вероятно, к очень ранним временам, и постепенно он становится явлением повсеместным. Мы находим его у примитивных тасманийцев и у кубу, в Меланезии и в Северной Америке, на Огненной Земле и у африканцев, в Сибири и у народов Алтая 92). В последнее время это интереснейшее явление доисторической религии исчезает быстрее других живых следов прошлого. Шаманы Северо-Восточной Азии вынуждены были отступить перед натиском бурных общественных и политических изменений в Сибири, око-юму негритосов и их африканские собратья почти вымерли под влиянием европейской цивилизации. Колонисты, как правило, грубо попирали древние священные традиции туземных культур. Нередки были случаи, когда решительные методы некоторых миссионеров прошлого (особенно протестантских) приводили к быстрому и бесследному исчезновению шаманизма. Однако среди многих туземных народов шаманы и заклинатели
37
еще существуют и пользуются прежним влиянием. Сведения о них, а также данные об уже исчезнувших шаманах дают возможность в какой-то степени восстановить картину этой древней попытки проникнуть за завесу бытия.
Существует немало гипотез о возникновении и характере шаманства. Одни считают его древнейшей религией, другие связывают с магией, третьи видят в нем очень позднее явление религиозной истории. Выдвигается предположение, что шаманизм обязан своим возникновением психическим болезням. Истерия и эпилептические припадки больных людей вызывали суеверное благоговение, и таким образом шаманизм якобы оказывается своеобразным «культом сумасшествия» 93). Но такая трактовка является односторонней. Не подлежит сомнению, что в шаманизме действительно было много патологических элементов, но одним этим объяснить его универсальное распространение и влияние на культуру невозможно. Туземцы действительно боятся душевнобольных, но, как правило, они их не «почитают», а убивают. Не говоря о том, что они становятся опасны, в них видят одержимых демонами и стараются от них избавиться 94). Кроме того, если бы речь шла только о заболеваниях, то теряла бы всякий смысл «архаическая техника экстаза», не нужны были бы те методы, которыми человек вызывает в себе состояние сосредоточения, транса и каталепсии. Теперь установлено, что современные люди, обладающие телепатическими способностями, и индийские йоги могут произвольно вызывать в себе эти особые состояния и при этом психика их вполне нормальна.
* * *
Был ли шаманизм особой религией? Против этого свидетельствует тот факт, что шаманы часто существуют наряду с развитой религией и жречеством 95). Шаманизм известен и параллельно с тотемическими представлениями, и с первобытным монотеизмом, и с религией Богини-Матери и продолжает существовать в историческую эпоху наряду с самыми различными религиями Запада и Востока 96). Поэтому В. Харузина справедливо утверждает, что «шаманство не есть стадия религиозной мысли; оно не есть религиозная система, предполагающая комплекс религиозных представлений. Шаманство есть только одно проявление религиозных верований народа, нередко уже очень сложных, покоящихся иногда на политеистических воззрениях» 97).
В шаманстве сохраняется, в качестве пережитка, представление о Всеобщем Божественном Отце, но главным образом его мистическое восприятие обращено к Великой Матери, душе мира и к многообразным низшим духовным существам. Это те силы, существование которых очевидно для ясновидческого зрения, о которых постоянно говорят Беме, Сведенборг, Штейнер, оккультисты и мистики.
38
Субъективная эмоциональная сторона шаманизма нередко характеризуется ощущением великой космической радости причастия к мировой Душе, которое мы позднее находим в греческом дионисизме. Объективно за религиозным опытом шамана стоят скорее всего скрытые носители одухотворенности мироздания из сферы трансфизического бытия 98).
О том, что мироощущение и мистика шаманизма не есть плод лишь болезни и заблуждений, красноречиво свидетельствует его практическая значимость в жизни туземных народов на протяжении веков.
* * *
Экстатические состояния транса делают шамана медиумом и ясновидцем, к нему прибегают и для разрешения различных житейских вопросов. Он безошибочно указывает, где найти в тайге пропавшего оленя, куда нужно отправиться для того, чтобы иметь успех в охоте.
Для того чтобы показать роль шамана в жизни первобытного общества, приведем факт, имевший место в Центральной Африке и сообщенный одним молодым врачом, жившим в тропиках и близко наблюдавшим быт «дикарей» 99).
В племени гола было совершено несколько убийств, виновника которых обнаружить не удалось. Когда были исчерпаны все обычные методы розыска, вождь племени Бойма-Куи обратился к так называемому «Большому таинству Прута». Все жители деревни сошлись на поляне перед хижиной собраний, куда привели женщину-заклинательницу. «Ее небольшая голова с почти мужскими чертами сидела на жилистой шее. Большие пронзительные глаза были запрятаны в глубокие глазницы. Расставив ноги, она опустила перед собой наклонно к земле длинный прут. Направо и налево от нее присели на корточках две другие женщины. Перед ней молча и неподвижно застыли четверо мужчин и одна женщина — родственники убитого. По знаку Бойма-Куи одна из сидящих женщин начала медленно и ритмично постукивать маленькой палочкой по пруту колдуньи. Мертвая тишина на площади производила непривычное для этих мест тягостное впечатление. Негритянка непрерывно смотрела на свой прут, зажатый в неподвижно вытянутых руках. Темп ударов палочкой по пруту все усиливался. Руки и тело колдуньи как бы окостенели. Она закатила глаза и начала в такт бить прутом по земле. Дикие судороги свели сильное тело женщины, она упала на бок и покатилась по земле, продолжая бить прутом в тяжелом гипнотическом трансе. Окружающие в страхе отпрянули назад... Словно ожидавшая этого момента ведьма полупрыжком настигла сидевшую рядом с четырьмя мужчинами женщину и, словно обезумев от жестокости, начала наносить ей неистовые удары прутом, пока бедная жертва с криком не упала на землю, а мужчины, как от змеи,
39
не отскочили от нее в сторону». Это странное «следствие», несмотря на всю его дикость в глазах европейца, привело, однако, к положительному результату. Обвиненная призналась, и благодаря ей удалось разоблачить и других участников преступления.
В этом эпизоде легко увидеть проявление телепатических способностей заклинателя. Разумеется, как и в любом подобном явлении, в шаманизме было немало шарлатанства и фокусничества. Но ведь подобные обманы имели место и в парапсихологии. Они не могут служить опровержением действительных способностей шамана.
Об удивительных психических силах шаманов было написано много. Самые непредубежденные исследователи приводят многочисленные личные наблюдения из этой области. Вот что рассказывает этнограф В. Богораз — убежденный позитивист — о своей встрече с шаманом на одном из островов Аляски 100):
«Шаманство на острове пришло в упадок, так как американцы смотрят на него неодобрительно. В сущности, остался один шаман, Ассунарак, потомок старого шаманского рода, глубокий старик. После многих отнекиваний он показал мне несколько образчиков своего искусства... Он предложил мне набросить на его голые плечи концы большого красного американского одеяла. Руки шамана были скрещены на груди, но одеяло каким-то чудом прильнуло к его спине.
«Держи крепче!» — приказал он, нагнулся и пополз из внутреннего помещения. Я крепко держал одеяло за два свободных конца. Одеяло натянулось и потянуло меня за собой. Я уперся ногами в нижнюю поперечину, скреплявшую остов шатра. И вот, о диво, весь шатер начал вставать дыбом. Справа и слева блеснула луна. Я упорствовал. Весь шатер перекосился. Груда посуды, лежавшая в углу на шкурах, со звоном рассыпалась. Наконец, и ушат с тающим снегом и водой опрокинулся и пролился. Тогда, устрашенный, я выпустил концы одеяла. Старик немедленно уполз из шатра, как змея, и крикнул мне оттуда с торжеством: «А что, одеяло-то — мое!...»
Это гипнотическое воздействие особенно проявляется во время медиумических сеансов шамана, называемых в Сибири камланием. «Многие, — пишет один исследователь, — утверждали всерьез, что видели и ощущали наяву все, о чем говорил шаман». «Шаман, находясь во время камлания в особом истерическом трансе, и в самом деле может совершать необычные действия, которые человек в нормальном состоянии проделать не в силах» 101).
Ненцы (самоеды) нередко присутствуют при «таинственном действии кудесника, напоминающем спиритические сеансы. Заклинатель велит присутствующим связать ему руки и ноги, закрыть ставни и призывает подвластных духов. В темной юрте слышатся всевозможные голоса и звуки. Когда весь шум оканчивается, отворяется дверь юрты — и шаман входит со двора, не связанный ни по рукам, ни по ногам» 102).
40
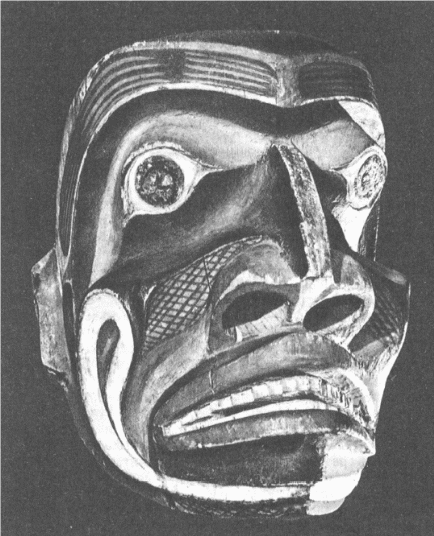
Ритуальная маска шамана
(Америка)
41
* * *
Кроме явлений телепатии и внушения в шаманской практике имеют место и феномены телекинеза. Об одном странном случае подобного рода сообщает американский биолог Ф. Моуэт, долго живший среди вымирающего эскимосского племени ихалюмтов.
«Как-то осенью после полудня, — пишет он, — на второй год моего пребывания в стране Баррене, мы с Энди спокойно сидели в хижине у Залива Ветров, пили чай и болтали. Внезапно наша хижина сильно затряслась — примерно так же, как трясет в зубах крысу злая собака. Мы вскочили и выбежали за дверь, уверенные, что произошло землетрясение. Однако на берегу реки ничего подозрительного мы не заметили. Небольшое стадо оленей мирно отдыхало на противоположном берегу. Сентябрьский день был тих и навевал дремоту. Сбитые с толку и несколько обеспокоенные, мы вернулись к прерванному чаепитию. Едва мы уселись, как хижина снова затряслась. Жестяные кружки упали со стола, заткнутые за стропила распялки с шумом полетели на пол. Встревоженные не на шутку, мы опять выскочили из хижины и опять не обнаружили ничего, что бы объяснило неожиданное сотрясение хижины». Изумленные путешественники побежали к палаткам эскимосов, но те ничего не знали и ничего не заметили. А один из них посоветовал сходить к шаману Какуми. «Тут недалеко за холмом живет Какуми, — сказал он. — Может быть, он знает, что случилось. Похоже, это дело рук дьявола».
«Я направился к жилищу Какуми, — продолжает Моуэт, — и, когда спросил его, тот ответил сразу же, словно ожидал моего прихода и знал, что я приду. «Это был Апопа, — объяснил он, — озорник Апопа. Он пролетел здесь, и я заметил, как задрожал воздух, и понял, что он совсем близко...» 103).
В другом месте Моуэт рассказывал, как эскимос Утек вылечил его «наговоренной водой». Однажды у путешественника сделались сильные рези. Тогда Утек после длительных колебаний смущенно попросил Моуэта испытать его «средство». Не желая обидеть эскимоса, тот согласился. Утек налил чистую воду в жестяную кружку и стал петь заклинания. «Он очень хотел помочь мне, но в то же время его мучил страх подвергнуть насмешкам и себя, и свои убеждения». Действие воды оказалось мгновенным 104).
Много необычайных фактов сообщают этнографы о таинственных способностях туземцев. Так, жители островов Фиджи во время священного танца без всякого вреда ходят по камням, раскаленным добела 105). У бушменов пустыни Калахари известно убийство при помощи одного внушения 106). П. Гэсо, рассказывая о своей жизни среди африканского племени тома, приводит такой случай. Когда он со своими товарищами отдыхал в хижине, их поразили необычные звуки. Их слышали все трое. Рядом с ними спал шаман Вуане. «Вдруг царапающие звуки возобнов-
42
ляются с еще большей настойчивостью. С пронзительным скрипом открывается дверь. На пороге стоит Вуане в коротком бубу, в коротких штанах и с непокрытой головой. Но ведь он — у моих ног, на своей циновке. Он лежит на боку, повернувшись ко мне спиной. Я вижу его бритый затылок. Между нами на земле стоит лампа, горящая тускло, как ночник. Я не смею пошевелиться и, затаив дыхание, смотрю на Вуане. Он какое-то мгновение колеблется, наклоняется, проходит под гамаками Тони и Вериля и медленно укладывается в самого себя. Вся эта сцена разыгрывается за несколько секунд». Трое французов оказались очевидцами странного явления. «Нельзя найти никакого разумного объяснения этой коллективной галлюцинации, — говорит далее Гэсо. — Вериль, единственный из всех нас разбирающийся в спиритизме, оказался в это время единственным, кто безмятежно спал. Он находит это сверхъестественное приключение почти банальным» 107). Действительно, перед нами характерный случай феномена, известного как «произвольный выход в астрал».
«Обычно, — пишет А. Элъкин, — знахари являются одновременно и медиумами. Этого, конечно, и следовало ожидать, ибо самая важная часть их подготовки состоит в испытаниях, во время которых они якобы видят души умерших людей и других Духов» 108). Если даже среди европейцев, в значительной степени утративших древние способности человека, известны многообразные парапсихические явления, то тем более вероятно встретить их у туземцев. Именно эти способности, в связи с верой в духовный мир, и составляют реальную основу шаманизма.
Эдуард Тэйлор с наивным высокомерием человека XIX века спрашивал: «Не обладают ли индийский знахарь, татарский некромант, шотландский духовидец и бостонский медиум одинаковой верой и знанием, которые, может быть, в высшей степени истинны и важны, но которые тем не менее отброшены великим умственным движением двух последних столетий, как не имеющие никакой цены? Но в таком случае не есть ли то, чем мы обычно хвалимся и что называем новым просвещением, — не есть ли это на самом деле упадок знаний?» 109). И он уверен, что ответ будет отрицательным. Между тем его убежденность в высшей и абсолютной ценности «нового просвещения» есть лишь плод его собственной веры в Прогресс, веры, которая теперь уже не кажется столь незыблемой. Конечно, у «дикаря» нет паровой машины, нет тем более атомного двигателя, но являются ли эти достижения «нового просвещения» результатом духовного прогресса? Не теряет ли человек вместе с цивилизацией многие свои древние духовные способности? Идея регресса казалась Тэйлору немыслимой, но мы теперь хорошо знаем, что рост материальной цивилизации вовсе не обязательно способствует духовному росту и тем более не является условием для него. Цивилизация как бы говорит устами Великого инквизитора: «Мы дадим вам хлеб и возьмем вашу свободу».
43
Разумеется, сам по себе рост материальной цивилизации не есть зло. Он становится злом, когда вытесняет духовные ценности. А этот соблазн человек почти никогда не в силах преодолеть. Одним словом, я здесь не защищаю первобытного образа жизни, а только хочу сказать, что наличие ракет и холодильников не дает права «цивилизованному» человеку считать себя духовно выше всех тех, кто был лишен этих благ технического века.
* * *
То, что доисторические шаманы и медиумы оказывались носителями необычайных дарований и сил, создавало им прочный авторитет в народе. Ведь не нужно забывать, что шаманизм нередко служил житейским целям. Если бы эвенкам или индейцам слишком часто приходилось разочаровываться в реальном могуществе и духовной силе шаманов, то шаманство давно бы исчезло. Между тем еще в XIX и XX веках оно было настолько жизнеспособно, что оказывало энергичное сопротивление напору буддизма, христианства и коммунизма 110).
Следует заметить, что неудача для шаманов — настоящая трагедия. Она не только роняет авторитет, но приводит часто к его полному падению или даже изгнанию. Он считается ответственным за неудачу, и его обвиняют в злонамеренности 111).
Особенно это относится к тем шаманам, которые берутся лечить людей. Далеко не все шаманы занимаются этим, хотя нередко один человек совмещает в своем лице и прорицателя, и медиума, и врача-знахаря. Не нужно, впрочем, думать, что шаманское «лечение» — чистое суеверие. Очень часто оно дает удивительные результаты. Так, этнограф Ч. Маунтфорд описывает случай, когда австралийский шаман путем внушения вылечил женщину 112). «В Ирракала, — рассказывает об Австралии У. Чеслинг, — разразилась эпидемия дизентерии. Я с отчаяния решил напоить обитателей стойбища (их было около двухсот) касторкой, велел сжечь их шалаши и разбить новое стойбище на противоположном берегу ручья». Больше за лекарством никто не пришел. «Оказалось, что маррнгит-заклинатель «изгнал духа болезни» 113). Эта процедура описывается во многих исследованиях и имеет общие черты у всех народов. Она сводится к тому, что заклинатель поет гимны и делает вид, что высасывает болезнь. И здесь проявляется могущественная сила внушения 114). Впрочем, нередко шаманы отказываются лечить физические недуги. Так, в Якутии специальными «шаманскими болезнями» считают нервные. Именно их в первую очередь берутся излечивать заклинатели 115).
В антирелигиозной литературе очень часто приходится сталкиваться с утверждением, что шаманы «грабили и разоряли народ», что они бессовестно эксплуатировали невежественных людей и обирали их как только можно. А между тем в шаманской древней присяге есть такие слова: «Если позовут тебя вместе бо-
44
гатый и бедный, то иди сперва к бедному и не требуй много за труды» 116). Такой благородный принцип сделал бы честь любому современному медику. Напомним, что шаманы, применяя свои способы лечения, никогда не отрицали значения европейских лекарств.
* * *
Как человек становится шаманом? Им может стать не каждый. У северных народов существует поверье, что тотемические духи-предки избирают себе в качестве медиумов либо потомков шаманов, либо особо полюбившихся им людей. Таким образом, решение стать шаманом исходит в первую очередь не от человека. Сами духи призывают его на служение. К. Расмуссен так рассказывает о мистическом призвании его друга шамана Игыо-гарьюка:
«В молодости Игьюгарьюка часто посещали сновидения. Странные существа говорили с ним во сне, и, когда он пробуждался, сновидения стояли перед ним, как живые». Тогда сородичи поняли, что он одарен особой восприимчивостью к воздействиям нездешних сил, и было решено, что он призван стать шаманом 117). Будущий заклинатель всеми силами противился своему мистическому дару, тщетно пытаясь освободиться от него. У большинства медиумов-шаманов подобное сопротивление приводит к ужасным галлюцинациям, припадкам, и тягостное состояние длится до тех пор, пока избранный не изъявит согласия на общение с духами. В противном случае дело кончается тяжким заболеванием. «Я бы умер, если бы не сделался шаманом», — говорил один гиляк. А якутский шаман, который под влиянием миссионера перестал вызывать духов, жаловался русскому исследователю: «Это нам даром не проходит; наши господа (духи) сердятся всякий раз на нас, и плохо нам впоследствии достается, мы не можем оставить этого, не можем не шаманить» 118).
Готовясь к своему служению, будущий шаман удаляется далеко от стойбища. Его оставляют надолго в пещере или в шалаше одного без пищи и питья. В эти дни он должен сосредоточиться на мысли о Великом Духе и своем духе-покровителе. «Истинную мудрость, — говорил шаман Игьюгарьюк, — можно приобрести лишь вдали от людей в великом уединении, и постигается она лишь путем страданий. Только нужда и страдания могут открыть уму человека то, что скрыто от других» 119). Через несколько дней посвященному дают немного пищи, а потом испытание снова продолжается.
«Игьюгарьюк рассказывал: за эти тридцать дней он натерпелся такого холода и голода, так истомился, что временами «умирал ненадолго». Но он все время думал о Великом Духе, стараясь гнать от себя мысли о людях и повседневных событиях. И лишь под конец явился к нему дух-пособник в образе женщины.
45
Явилась она, когда он спал, и ему чудилось, что она носится над ним... Затем пост повторился» 120).
Совершенно так же происходит посвящение в шаманы и у других народов. У австралийцев, например, «ирунштариния», дух-покровитель, являясь избраннику, вынимает внутренние органы у посвящаемого и заменяет другими. Человек чувствует полное перерождение всего своего тела и духа 121). Невольно вспоминается библейский пророк, воспетый Пушкиным, который пережил такое же перевоплощение. Здесь речь идет не о метафоре, а о подлинном потрясении, которое испытывает все существо человека. Таким образом, применяя определенные искусственные приемы, шаман достигает того, что к нему возвращается крупица древнего ясновидения. Но это ясновидение не проникает дальше низшего мира стихийных духов.
* * *
Шаманы всего мира, от Огненной Земли до Гренландии и от Чукотки до Австралии, связывают свое служение духовному миру с особыми обрядами. В момент призывания невидимых сил заклинатель должен отрешиться от своей повседневной жизни, иметь определенную символическую одежду, головные украшения, жезл или бубен. Последний играет более важную роль, чем думают некоторые исследователи. Не случайно во многих странах его считают обязательным атрибутом шамана. Изготовление его связано с особым ритуалом, части его имеют символическое значение. Североамериканские индейцы на бубнах рисуют красной краской тотемических предков-животных; эвенки делают изображения духов. Бубен — это не просто музыкальный инструмент. Он выполняет роль своеобразного медиумического орудия, привлекающего духов 122).
Вызывание духов, камлание, происходит чаще всего в особых, специально для этого оборудованных помещениях. Но иногда оно совершается на открытом воздухе. Во время камлания шаман прибегает к музыке как к средству, которое заставляет сердце человека трепетать и биться в унисон с незримыми стихийными силами. Эта музыка нередко производит огромное впечатление даже на европейца. Так, по свидетельству Гэсо, звуки священной мелодии племени тома, которую не должны слышать непосвященные, — это «какие-то вздохи допотопных чудовищ, нечеловеческая музыка первых веков существования земли, рождающая в душе невыразимую тоску» 123).
В пении сибирских шаманов порой звучат слова не известного никому языка, который непонятен и самому шаману. Иногда гимн превращается в призывание и заклятие 124).
Придите, придите,
Духи волшебства,
Если вы не придете,
То я сам к вам отправлюсь...
46
Музыка камлания, рассказывает один очевидец, «вначале нежная, неуловимая и произвольная, как шум приближающейся бури, все растет и крепнет; по ней зигзагами, точно молнии, пробегают дикие окрики: каркают вороны, смеются гагары, жалуются чайки, посвистывают кулики, соколы да орлы. Все те, кто летает высоко над землей, ближе к небу, видимо, обеспокоены ожидаемым появлением, наполняя юрту своим жалобным криком. Музыка растет и достигает апогея, удары по барабану, частые, сильные, сливаются в один непрерывный, все возрастающий гул: колокольчики, погремушки, бубенчики гремят и звенят не уставая; это уже не буря, а целый водопад звуков, готовый потопить сознание присутствующих» 125).
Камлание часто сопровождается танцем, который заканчивается тем, что шаман приходит в состояние транса. Вот как описывает это явление И. Бъерре, наблюдавший его в пустыне Калахари 126):
«Бушмены не поклоняются луне, но ее фантастический свет вызывает в них сильную потребность обратиться к Великому Духу. В пустыне, где безлунные ночи гнетут человека, луна на редкость сильно влияет на его ум. Физическая сила ее притяжения, заставляющая многие миллиарды тонн воды перекатываться по земной поверхности в приливах и отливах, трогает и чувствительную душу первобытного человека, который под ее неотразимым таинственным влиянием танцует и поет о своих мечтах. В эти ночи полной луны, когда пустыня купается в призрачном серебристом свете, а воздух подрагивает в такт монотонной песне и топоту ног, я сам чувствовал на себе чары луны. Ритмическая песня без слов звучала часами. Как бесконечно бегущие волны, она парализовала ум. Казалось, человек покинул свое бренное тело, и ему чудятся фантастические видения, время прекратило свой бег. В песне слышались страстные желания и печаль, она проникала куда-то в подсознание и пробуждала все это пережитое и давно забытое. Песня доносилась издалека, как будто из древних кочевий Африки...
Затем началось нечто совсем необычное. Цонома и Кейгей завыли и зарычали по-звериному... Цонома побежал, издавая пронзительные вопли. В свете луны было видно, как он бегает вокруг поселения. Вдруг, громко взвизгнув, он метнулся между сидящими на корточках женщинами, побежал босыми ногами по тлеющим углям костра... Он стонал, дрожал и наконец свалился без чувств».
Каталептическое состояние, которое охватывает шамана, он сам толкует мистически. Он утверждает, что во время транса он поднимается или опускается в запредельные сферы и беседует с духами. Он возвращается оттуда, окруженный сонмом загадочных существ, которые наполняют его жилище. Приходя в себя, заклинатель поет древние песни, в которых выражается радость слияния с силами бытия, с миром духов. Это чувство передается
47
всем присутствующим. «Когда она пела, — говорили об одной эскимосской шаманке, — то себя не помнила от радости, и все в жилье тоже, так как их души освобождались от всего, что их давило. Они поднимали руки и отбрасывали прочь всякую злобу и ложь» 127). Но далеко не всегда возвращение было столь мирным.
«Пробуждение шамана от транса, — говорит Ф. Моуэт, — происходит иной раз чрезвычайно бурно. Он вскакивает на ноги, одержимый совершенно необъяснимой физической силой. В этот момент полдюжины человек не могли удержать его; он может прорваться сквозь стенку палатки и исчезнуть в темноте, а затем вернуться окровавленным и в последней степени изнеможденным. Шаману, выходящему из транса, случается нанести себе телесное повреждение, которое было бы роковым для обыкновенного человека. Однако у шамана такие раны всегда заживают» 128).
Транс фиджийского шамана сопровождается стонами, вздутием вен. «Прорицатель с вращающимися выпученными глазами, бледным лицом, с посинелыми губами, обливаясь потом, с видом совершенно бешеного человека высказывает совершенно неестественным голосом волю божества» 129).
Эта одержимость часто сопровождается нервными припадками или некоторыми видами истерии, но от этого далеко до вывода, что всякий транс доисторических мистиков — только патология. Не являются ли нередко болезненные процессы в душе стимулом для проявления некоторых высших способностей человека? Следует с большой осторожностью судить о шаманизме, ибо в нем, как и в других родственных явлениях, патология нередко соседствует с гениальностью и подлинным созерцанием незримого.
Шаманизму изначала была присуща двойственность. С одной стороны, «доисторические мистики» были предтечами носителей свободного религиозного вдохновения исторических времен. Все пророки, харизматики, все духовно-творческие зачинатели нового психологически, субъективно принадлежали тому потоку религиозной жизни, который начинается с экстатиков каменного века. То, что веками воспитывалось в мистике Индии, что нашло завершение в орфизме и неоплатонизме, имеет корень в этой высшей одухотворенной стороне шаманизма. Семитическое пророчество, бывшее естественной почвой, на которой вырос библейский профетизм, также коренится в нем 130).
Шаманизм сопротивлялся угасанию духовных сил в человеке, тренировал его «внутреннее зрение», совершенствовал методы экстаза и созерцания. Таинственный невидимый мир открывался в нем не только через «предание» и миф, но был «дан в непосредственном опыте» 131).
С шаманами в мир вступают первые религиозные вожди. «Роль индивидуальных качеств, — отмечает известный этнограф В. Харузина,— чрезвычайно сильна в шаманстве» 132). А следовательно, здесь мы имеем дело с начальной стадией личного рели-
48
гиозного чувства и призвания. Духовидцы были живыми свидетелями иной реальности, которая обычно недоступна человеку. Один путешественник так описывает эвенкийского шамана из Туруханского края: «Он имел, при восприимчивости и впечатлительности своей натуры, пылкое воображение, веру в духов и таинственное с ними общение; миросозерцание его было исключительное... Бледный, истомленный, с острым проницательным взглядом, человек этот производил странное впечатление» 133).
К. Расмуссен не напрасно называл шаманов «искателями правды». Они были носителями наиболее заветных верований и духовных ценностей своего народа. Они нередко были и его наставниками в добре. А. Элькин свидетельствует, что после «посвящения» знахари-ясновидцы «остаются под глубоким впечатлением своих духовных преимуществ» и это укрепляет в них чувство нравственной ответственности. «В Восточной Австралии, — говорит ученый, — знахаря называют кураджи, что означает мудрец. Среди знахарей могут попасться и шарлатаны, как это отмечали первые исследователи, но то же самое можно сказать о любой профессии. Однако тот, кто прошел через обрядовые и духовные испытания, пережив смерть и «возвращение к жизни», должен руководствоваться в своем поведении высокими идеалами» 134). Эта этика прорицателей тесно связана и с их ролью целителей. Исследователь загадочного племени айну (Дальний Восток) писал: «Постоянное стремление облегчить страдания своих ближних развивает в айнских шаманах более высокий строй мыслей и альтруистические чувства. Разговор с шаманом всегда представляет интерес, так как он обладает живой фантазией, которая часто уносит его за пределы повседневной жизни. Он часто доступнее... чувству сострадания к чужим горестям» 135).
Кристофер Даусон особенно подчеркивает большую религиозно-социальную роль шаманства в истории. Уважение, которым окружен провидец, по его мнению, есть первое проявление победы духа над силой. Он подчеркивает, что институт шаманства открывал пути для духовно одаренных личностей. «В Северной Америке, — говорит Даусон, — шаман часто и пророк, возглавляющий свой народ во время социальных кризисов... Все великие племенные движения в Северной Америке можно вывести из учения неких пророков, которые притязали на своего рода мессианское откровение. Такова была проповедь Текумсе и его брата «Пророка» — людей благородного характера и возвышенного образа мыслей» 136).
Однако в шаманизме есть и другая струя, которая в первобытных культурах проявлялась очень сильно. Она обнаруживает разлом и раздвоение в мистическом сознании. Не случайно шаманизм называли «черной верой». То, что мы знаем о шаманах различных стран и о характере их откровений, позволяет сделать вывод, что их «сверхъестественный опыт» (если оставить в стороне обман и патологию) был, очевидно, чаще всего опытом оккульт-
49
ным. Темные демонические силы овладевали человеком и через него оказывали пагубное влияние на религию и культуру. В шаманизме очень распространены явления, которые были известны в европейском темном оккультизме. Нередко шаманский культ выливался прямо в преклонение перед злыми силами и демонами. Этому не приходится удивляться. Люди боялись злых духов и старались завлечь их на свою сторону. Зло обладало даже своеобразным очарованием, что было причиной многих страшных страниц религиозной истории древности. Кровавые ритуальные оргии в дебрях Африки, человеческие жертвоприношения в Мексике, ритуальный каннибализм — все это трудно признать результатом врожденной жестокости. Эти чудовищные извращения коренились в глубинах мистического зла, которое встает на пути человеческих исканий как соблазн и испытание. Каннибализм, по словам Г. Честертона, «не первобытный и даже не зверский, т. е. звериный обычай. Каннибализм искусственен и даже изыскан, как истинное «искусство для искусства». Люди едят людей совсем не потому, что не видят здесь ничего плохого. Они прекрасно знают, что это ужасно, и поэтому едят» 137).
Между прочим, думается, что старинные легенды о девушках, которых отдают в жертву дракону, не есть сплошной вымысел. Как полагают, даже в наши дни в некоторых изолированных озерах сохранились гигантские представители чудовищного царства рептилий прошлого. Возможно, подобные редкие пресмыкающиеся были известны и в древности. Их окружали суеверным страхом и приносили им в жертву людей до тех пор, пока какой-нибудь смельчак не убивал ящера. Отсюда — сказания о рыцарях-избавителях.
На демонические черты первобытных шаманских культов указывает одно любопытное якутское сказание, согласно которому первый Великий Шаман был противником Бога 138). Через весь шаманский мистицизм настойчиво проходит мысль о том, что духовный мир нужно подчинить человеку, заставить его служить себе. Эскимосские шаманы, например, в дни своей подготовки ждут духа-покровителя, чтобы вступить с ним в схватку и покорить его 139). Камлание часто есть приказ духам явиться на зов повелителя 140). Здесь происходит извращение религиозного инстинкта, человек вновь и вновь стремится утвердить свою власть и волю над Высшим. Для этого он ищет и, как ему кажется, находит верные способы и пути. Так зарождается магия, о которой речь будет в следующей главе.
Итак, шаманизм — не простое суеверие, а одна из древних попыток человека прорваться к потерянному Эдему. Но чаще всего эти попытки приводили его на скользкий путь оккультизма, и, стремясь овладеть миром низших духов, он сам оказывался в их власти.
50
Глава четвертая
МАГИЧЕСКОЕ МИРОСОЗЕРЦАНИЕ
Весь мир подвластен богам, боги
подвластны заклинаниям, заклинания—
брахманам. Наши боги — брахманы.
Индийская поговорка
В двадцатых годах нашего столетия известный французский исследователь пещер Норберт Кастере сделал интересное открытие. Спустившись в один труднодоступный грот, он обнаружил в нем фигурки медведя, лошади, тигров, вылепленные из глины. Вокруг на стенах были высечены контуры мамонтов, оленей и других доисторических животных. На полу валялись обломки кремниевого оружия и были видны следы ног. Так впервые за много тысяч лет люди оказались в жилище или святилище своих далеких предков.
Особенно привлекло внимание исследователей то обстоятельство, что у некоторых статуэток были отрублены головы. На глиняных фигурах виднелись следы многочисленных ударов. Медведь, например, был весь испещрен ударами стрел и дротиков 141). Для чего первобытный художник так уродовал свои великолепные произведения? Просто с досады? Или это была игра?
Нет, перед исследователями оказалось еще одно древнее свидетельство о первобытных магических обрядах.
Когда мы говорим слово «магия», оно невольно ассоциируется у нас с чем-то таинственным, мистическим. Кажется, что магия непременно принадлежит сфере «сверхъестественного». Но так происходит потому, что мы связываем магию с представлениями, сильно отличающимися от воззрений первобытного человека. Как мы видели, для него резкой границы между сверхъестественным и естественным не существовало. Мир был един, и силы видимые переплетались в нем неразрывно с невидимыми.
51
Пожалуй, дикари были кое в чем мудрее нас. В самом деле, многие из нас до сих пор считают, что если утром взошло солнце — это естественно, а если оказывается, что возможно установить контакт с сознанием умершего человека, — это уже нечто сверхъестественное. Между тем в полном смысле слова сверхъестественным в мире ничего назвать нельзя. Одному плану бытия свойственны одни законы, другому — другие. Физики показали нам, что микромир сильно отличается от макромира и мегамира. Легко предположить, что и другие измерения Вселенной, трансфизические и духовные, будут иметь свои особые черты. Когда столкновение этих планов становится явным, происходит то, что называют чудом. Но оно не сверхъестественно в подлинном смысле слова. Сверхъестественно лишь то Высшее Начало, которое действительно стоит над естеством, над творением. Не случайно поэтому Августин писал, что чудеса противоречат не природе, а известной нам природе.
Впрочем, не об этом сейчас речь. Нас интересует в древней магии не столько соотношение планов бытия и законов мира, сколько субъективные, внутренние мотивы, которые руководили доисторическим магом.
По определению одного отечественного автора, «магией называются различные действия, цель которых — повлиять воображаемым сверхъестественным путем на окружающий мир» 142). В этом определении верно одно: магия действительно имеет целью повлиять на окружающий мир. Но отнюдь не всегда решающую роль играют в ней «сверхъестественные» способы. С того самого момента, как человека озарил свет сознания, он уловил наличие в мире причинных связей. И это же осмысление природной казуальности он применил в магии.
«Анализируя принципы мышления, лежащие в основе магии, — говорит Д. Фрэзер, — мы обнаруживаем, что они сводятся к двум: первый принцип гласит, что сходное происходит от сходного, что следствие подобно своей причине; согласно второму принципу, предметы, которые однажды находились в длительном контакте или общении между собой, продолжают действовать друг на друга тогда, когда это общение прекратилось» 143).
Мы должны отметить, что эти принципы не носили какого-то мистического характера, а относились, по мнению дикарей, к обычной природной сфере, хотя в то же время они видели ее пронизанной сверхприродными существами.
Главной задачей магии было использовать открытые человеком закономерности для своих повседневных нужд и целей.
* * *
Жизнь первобытного человека неразрывно связана с охотой. Поэтому прежде всего магические операции относились к ней. Так называемая «промысловая магия» сохранилась и у современ-
52
ных отсталых народов. Папуасы Новой Гвинеи при охоте на морского зверя помещают в острие гарпуна маленькое жалящее насекомое для того, чтобы его свойства придали остроту гарпуну. Колумбийские индейцы в те дни, когда долго нет рыбы, изготовляют чучело рыбы и бросают в реку. Считается, что это действие должно привести косяки к их берегам 144).
Широко известен ритуал североамериканских индейцев, обычно предшествовавший охоте на бизонов. Этот ритуал состоит в пляске, которую исполняют охотники, вооруженные копьями и луками и одетые в шкуру бизона. Пляска-пантомима изображает охоту. Когда один из танцующих устает, он делает знак, и в него пускают притупленную стрелу. Индейцы убеждены, что эта церемония должна привлечь бизона и охота будет удачной 145).
Совершенно очевидно, что эти представления играли большую роль и в жизни пещерных жителей. Именно о таких магических действиях и свидетельствуют пронзенные стрелами статуи в пещерах, рисунки быков и лошадей, усеянные стрелами. О них же молчаливо повествует меченная стрелами фигурка львицы, найденная во Франции. Очевидно, перед началом охоты первобытные люди совершали такие же обряды, как позднейшие «дикари». Они метали копья в изображения зверей, рисовали на них стрелы, чертили магические знаки. Они, так же как австралийцы или индейцы, думали, что существует некая связь между изображением зверя и самим зверем 146).
В Средней Азии в ущелье Зараут-Сай до сих пор еще можно видеть доисторические рисунки, напоминающие индейский «бизоний танец». Там видны фигуры людей, одетых в длинные плащи; они танцуют вокруг быка, на которого направлены стрелы. Очевидно, эти рисунки имели магическое значение и должны были помогать охотникам 147).
То, что эти магические приемы были тесно связаны с обыкновенной охотничьей практикой, доказывает их сходство с некоторыми хитростями и приемами первобытных звероловов. В частности, маскировка использовалась индейцами для того, чтобы ближе подкрасться к животным. То же самое проделывали африканцы при охоте на страусов. Замечая, что эта маскировка дает хорошие результаты, люди стали считать, что и сама по себе она может принести охотничий успех 148).
* * *
С переходом к земледелию человек стал искать эффективных способов увеличить урожай или предотвратить падеж скота. Например, у меланезийцев до сих пор сохранилось обыкновение зарывать при посадке ямса особые камни, по форме напоминающие клубни ямса. Полагают, что это действие способствует росту ямса 149). У австралийцев известна церемония «интихиума», которая должна в начале сезона дождей содействовать раз-
53
множению священных растении и животных 150). Существовали заговоры и заклятья, которые якобы служили для уничтожения вредителей. Многочисленные обряды скотоводов всех стран также носят ярко выраженный магический характер 151).
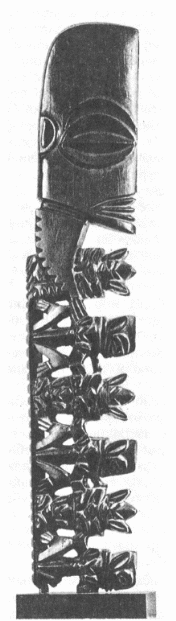 Широко распространено представление о том, что человек при помощи известных действий может повлиять на атмосферу. Так, знахарь из Центральной Африки предполагает, что, выливая особым образом на землю кувшин воды, он может вызвать дождь, а австралийцы думают достичь тех же результатов, создавая при помощи перьев шум, подобный шуму дождя; точно так же индейцы ожидают дождя от сделанного ими макета тучи. Известны «средства» для вызывания засухи и для прекращения солнечного затмения.
Широко распространено представление о том, что человек при помощи известных действий может повлиять на атмосферу. Так, знахарь из Центральной Африки предполагает, что, выливая особым образом на землю кувшин воды, он может вызвать дождь, а австралийцы думают достичь тех же результатов, создавая при помощи перьев шум, подобный шуму дождя; точно так же индейцы ожидают дождя от сделанного ими макета тучи. Известны «средства» для вызывания засухи и для прекращения солнечного затмения.
У индейцев навахо перед зимним солнцеворотом совершают особый магический обряд. «Люди верят, что солнце устало, и пытаются оживить его силы, зажигая магические костры. Такие церемонии поражают своей внушительной красотой...
Участники церемонии появляются при этом празднично раскрашенными в белый цвет в честь солнца, с ниспадающими до плеч распущенными волосами. Этих актеров называют «странствующими солнцами». В руках они держат изукрашенные перьями танцевальные палочки, танцуют они сомкнутой вереницей вокруг огня и стараются подпрыгнуть к огню как можно ближе... При этом они подражают движению солнца, двигаясь с востока на запад и обратно» 152).
Но не только животные, растения и природа вообще являются объектом магических операций. Очень часто они направ-
Церемониальный жезл, изображающий родословную предводителя полинезийского племени. Наверху бог-покровитель, под ним вожди племени, его потомки.
54
лены на человека. Существуют бесчисленные виды «приворотных зелий» и амулетов, которые должны склонить к любви холодные сердца. Индейцы, например, употребляют «снадобье» из волос девушки, которую хотят «околдовать» 153).
Магия заменяет и медицину, опять-таки исходя из воображаемой связи сходных между собой явлений. Характерен в этом отношении обряд «кувада», известный у разных народов. Он заключается в том, что во время родов муж одевается в женское платье, ложится в постель и инсценирует роды 154). Это должно было доказать его кровную связь с новорожденным и в то же время содействовать роженице.
По закону «сопричастия» совершают вредоносные магические обряды над обрезками ногтей, волосами, одеждой тех людей, которым хотят причинить вред. По закону «подобия» лепят фигурки врагов и совершают над ними «убийство» или наговор. Это непременно должно оказать воздействие на намеченную жертву 155).
Австралийцы особенно боятся так называемого «нацеливания» костью. «Для этого острую кость, вырезанную в виде маленького дротика, нацеливают в далекого врага и с произнесением проклятий бросают в его сторону» 156).
«Самым удивительным во всем этом, — пишет Ю. Липпс, — является то, что человек, чувствующий себя жертвой подобного рода колдовских чар, часто действительно умирает, потому что он сам верит в силу их действия, как и те, кто его околдовывает... Подобный случай я сам наблюдал у индейцев оджибве, у которых знахарь на расстоянии «загубил» врага при помощи магического заклинания» 157).
В этой «вредоносной» магии есть и элементы оккультизма, и элементы внушения, и просто суеверия. Но опять-таки нам важна не сама магия, а субъективные побуждения, с которыми к ней прибегают.
Вышеприведенные примеры достаточно ясно характеризуют эту субъективную сторону Магизма. Его главный нерв — использование сил, все равно природных или сверхприродных, в повседневных целях и личных нуждах.
* * *
Магия была основана на заблуждении. Но это заблуждение не являлось абсолютным. Было правильно понято наличие в мире закономерностей и причинных связей, хотя реальное знание этих законов отсутствовало или находилось в зачатке.
Фрэзер очень близок к истине в своей характеристике сущности магии. «Когда магия является в своей чистой и неизменной форме, — пишет он, — она предполагает, что в природе явления должны следовать одно за другим неизбежно и неизменно, не нуждаясь во вмешательстве личного или духовного агента. Итак, ее основоположения тождественны с основоположениями современной науки» 158).
55
Здесь он лишь повторяет Тэйлора, который указывает на значение таких заблуждений, как астрология и алхимия, для развития естествознания. Цель науки — заставить природу служить человеку. Такова же и цель магии. Фрэзер даже считал, что магия предшествовала религии, что первоначально человек прибегал к магическим приемам как к более или менее необходимым действиям в своем труде и жизни. И лишь тогда, когда он постепенно понял, что не властен покорить облака или зверя, он стал обращаться к более могущественным существам — духам 159). Но в первобытном мире мы не встречаем «чистой» магии. Она всегда, по словам В. Копперса, «является сорняком, паразитирующим на теле религии у всех народов мира» 160). Человеку мало верить в Единую Силу. Он хочет подчинить эту «Ману» себе, овладеть ею. Вспомним и шаманов, которые превращают духов в своих слуг 161).
Вильгельм Шмидт совершенно справедливо считает, что в магизме нужно видеть «самое резкое противоречие религии» 162). Это можно пояснить на примере «любовной магии». Когда индеец видит, что он не способен завоевать любовь девушки, он колдует над ее волосами, стремясь вызвать у нее вожделение. Этим он фактически не добивается любви, а только удовлетворяет своим грубым инстинктам. Точно так же и первобытного дикаря духи интересуют только с утилитарной точки зрения, он стремится извлечь из них максимум пользы. Он нуждается не в них, а в их дарах. И ему кажется, что путем магии он оказывается способным приказывать им, быть их господином и повелителем.
В Магизме скрыто присутствует та духовная тенденция, которая коренится в первородном грехе человечества: поставить себя в центре мироздания и заставить служить себе его силы.
Именно поэтому Магизм явно посюсторонен. Высшим благом для него являются блага земные. Предел желаний мага — процветание здесь, на земле. И если в магическое миросозерцаниеи входит вера в бессмертие, то она носит исключительно грубочувственный характер.
* * *
Маг очень часто противостоит священнику. Это и понятно. Внутренняя направленность Магизма и религии — противоположна. Жрец — прежде всего посредник между людьми и духовным миром. Он обращается к Божеству с молитвой. Для мага же радости мистического богообщения — пустой звук. Он ищет только достижения могущества на охоте, в земледелии, в борьбе с врагами. И даже тогда, когда магия стала переплетаться с религией, этот антагонизм оставался.
«Гордое самодовольство мага, — пишет Д. Фрэзер, — его надменное обращение с высшими силами, его бесстыдное притязание на влияние, подобное их влиянию, не могло не возмущать благоговейного жреца, смиренно распростертого перед божеским величием, который смотрел на эти притязания как на кощунст-
56
венную и богохульническую узурпацию преимуществ, принадлежащих одному Богу» 163).
Этот конфликт мага и жреца усугублялся, по мнению Фрэзера. еще тем, что маги очень часто захватывали главенствующее положение в племени. Власть над стихиями, которой якобы обладали заклинатели, окружала их ореолом могущества и суеверного почитания. Их стали считать воплощением высших сил, и, таким образом, Магизм явился источником древней власти. «Ни одна общественная группа не извлекла из этой веры в возможность воплощения божества в человеческую форму столько выгоды, сколько группа царей», — говорит Фрэзер 164). И действительно, в истории мы видим непрерывную нить этой сакральномагической власти, которая становится незыблемым законом общества. Это — и микенские цари-колдуны, и спартанские властители, и египетские фараоны, и римские императоры, и византийские василевсы, и, наконец, некоторые авторитарные вожди позднейших времен. Цари-маги всегда пытались подчинить своей власти все сферы жизни подданных, но неизменно наталкивались на сопротивление религии. Поэтому они всячески стремились приспособить ее к своим целям. И порой это им неплохо удавалось.
Незыблемость земной власти Магизм обосновывал своей верой в то, что все происходящее на земле соответствует неизменному строю некоего Верховного Порядка. Неизменно совершают свой путь солнце, луна и звезды, неизменно опадает листва, приходит сезон дождей. Все эти видимые движения мира отражают недвижное царство Судьбы. Но человек, как часть этого порядка, обязан постоянно поддерживать его через магию.
Таким образом, функция колдуна-властителя представлялась космической необходимостью 165). Маг был неразрывно связан с тем мировым лоном, которое обнимало собой все существующее и определяло бытие вещей. Это лоно судьбы было не чем иным, как Великой Матерью первых культов. Мы увидим в дальнейшем, что образ ее будет неотвязно преследовать человечество, претерпевая удивительные трансформации. Она воплотится во вселенском Океане, рождающем богов, обернется Роком и Необходимостью. Мало того, что само язычество вышло из этого поклонения Матери, ему прямо или косвенно будут обязаны своим существованием и пессимистический дуализм, и греческий фатализм, и даже материалистическая философия.
* * *
Как мы уже говорили, магия всегда существовала параллельно с различными религиозными системами и отравляла их своим обрядовым детерминизмом.
Магизм привносил в религии слепую, почти маниакальную веру во всесилие ритуалов и заклятий. На духовную сферу переносилась мертвенная причинность, возникало отношение к высше-
57
му началу, лишенное всякого живого религиозного чувства и мистической жажды. Отсюда такие странные, на первый взгляд, явления, как избиение идола, если он не выполнял требований просящего. Насколько такое «потребительское» отношение живуче, свидетельствует хотя бы то, что даже у христианских народов бывали случаи, когда статуи святых «наказывали» за то, что они не слышали просьб народа. Религиозный Магизм убежден, что высшую силу можно заставить подчиниться. Нужно лишь найти ключ, слово, действо — и все будет в руках человека.
Так постепенно складывалось магическое миросозерцание, замыкавшее всю Вселенную в причинную цепь следствий, в которой огромную роль играли обряды. Если не будут совершаться ритуалы, то может не взойти солнце, не прийти весна. Крепло убеждение, что церемонии — это нечто необходимое для демонов и богов. Чтобы заманить их, заставить прийти на помощь, умилостивить, прибегали к самым крайним мерам: приносили в жертву людей, и не только пленных, но и соотечественников, близких, детей.
* * *
Человек есть прежде всего личностное существо. Самосознающая личность, способная в своем мышлении охватить весь мир, не растворяясь в нем, есть вершина тварного бытия. Именно возрастание личностного начала было условием для движения человечества вперед. Но Магизм затормозил «исполнение времен» на многие тысячелетия. Он извратил и самую религиозность человека, его отношение к Богу, его отношение к Природе и себе подобным.
Магизм ждет от Неба только даров, Природу (включая незримые силы) он хочет поработить, в человеческом обществе он воцаряет насилие. В коллективе, подчиненном воле царя-мага, личность должна раствориться среди племенного целого, ибо властителю легче управлять «массой», нежели личностями.
Властитель и коллективное сознание — вот две преграды для духовного возрастания человека. Племя и власть становятся над духом. Человек сливается с родом, он не имеет своей жизни, не смеет иметь своего суждения, не смеет сомневаться, он подпадает под гипноз «коллективных представлений». Эти представления, по словам Леви-Брюля, передаются в социальной группе из поколения в поколение, «они навязываются в ней отдельным личностям, пробуждая в них, сообразно обстоятельствам, чувства уважения, страха, поклонения и т. д. в отношении своих объектов. Они не зависят в своем бытии от отдельной личности» 166).
Народы, не дерзнувшие в течение тысяч лет изменить хотя бы йоту в установившихся канонах, — жертвы «коллективных представлений» Магизма. Они парализовали творческую активность и религиозный гений человека, ибо только в сознании личной ответственности и духовной свободы находит он свое высшее призвание как образ и подобие Творца Вселенной.
58
Часть II
ПЕРВЫЕ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Глава пятая
ОТ МАГОВ К ОБОЖЕСТВЛЕННЫМ ЦАРЯМ
Египет в IV — III тысячелетии до и. э.
Легко основать порядок в обществе,
подчинив каждого определенным правилам.
Легко воспитать слепца... Насколько труднее
освободить человека.
Антуан де Сент-Экзюпери
Если вспомнить, что первые следы существования человека относятся ко времени, отстоящему от нас на 50—40 тысяч лет, то история цивилизации предстанет перед нами в виде взрыва, нарушившего тишину. В самом деле, в сравнении с пятью-шестью тысячелетиями исторических времен — доисторическая ночь длится бесконечно долго 167). Удивительное постоянство удерживается в образе жизни, в быте людей на протяжении веков. Тот или иной способ обработки каменного рубила или форма кувшина определяют огромные хронологические эпохи. За тот же отрезок времени, за который техника прошла путь от мотыги до расщепления атома, в веке каменном почти не происходит перемен: те же приемы охоты, те же узоры на сосудах, те же правила захоронения...
Даже одно из Великих Открытий — употребление огня — не было достижением предыстории. Этой стихией пользовались уже полуживотные предки человека 168).
Между тем все это не означает, что первобытный человек был низшим существом в сравнении с нами. Кроманьонская раса — одна из первых человеческих рас — по природе ни в чем не уступала современному человеку. Это были стройные, красивые люди, с прекрасно развитым черепом. Их искусство (т. н. «ориньякское») показывает, что внутренний мир наших далеких пращуров был
61
богат и сложен, что они отличались изумительной художественной одаренностью. И тем не менее доисторическая ночь тянулась многие тысячи лет. Человек оставался все это время неотъемлемой частицей рода, племени, в нем не пробуждался творческий дух личности. Поступательного движения почти не ощущалось. Каждое столетие было, вероятно, похоже одно на другие. Сравнивая наскальную ориньякскую живопись, относящуюся примерно к 25-му тысячелетию до н. э., и фрески Сахары 6-го тысячелетия, мы видим все один и тот же мир: угон скота, охота на диких животных, праздники, магические пляски женщин и воинов 169).
Что же тормозило движение культуры?
Вероятно, это одна из загадок, которая никогда не сможет быть разрешена. Однако в первобытных верованиях существует нечто такое, что может пролить некоторый свет на эту проблему. Сохранившиеся доныне очаги «первобытного мира» показывают, что магические представления обладают колоссальной силой и способны держать целые общества в состоянии неподвижности. «Коллективные представления» Магизма, связанные с табу, ритуалами и традициями, накладывают свой отпечаток на все проявления жизни австралийца, папуаса, зулуса.
Идеи и верования имеют гораздо большее влияние на жизнь общества, чем это кажется на первый взгляд. И если учесть ту власть, какую имел Магизм над душами людей, то поразительная устойчивость первобытного мира становится не такой уж загадочной.
Мир воспринимался «магическим человеком» как законченное материально-духовное целое, как непрерывный круговорот богов и людей, живых существ и стихий, как своеобразная иерархия духов, людей и бессловесных. В своих обрядах человек имитировал жизнь природы, как бы участвуя в ее процессах; через тотемизм он роднился с миром живых тварей. Жизнь его была непрестанным священнодействием, он боялся нарушить хотя бы одно звено в космической мистерии, опасаясь быть выброшенным за пределы истинного Бытия.
Вполне естественно поэтому, что страх переступить через сакральную черту ритуала, посягнуть на незыблемость «коллективных представлений» оказывал парализующее действие на духовную культуру. Он ставил человеку жесткие рамки, за пределы которых творческий дух пробивался лишь с огромным трудом.
Вероятно, в этот долгий период человек чувствовал себя ближе к природному миру, чем в последующие века, но это была атавистическая близость. Не как человек предстоял он природному миру, а скорее как часть этого мира.
Но вот около шести тысяч лет назад совершается почти внезапный перелом. Дремлющие силы духа сделали первую попытку освободиться.
С внешней стороны этому перелому, вероятно, содействова-
62
ли массовые переселения племен. Переселенцы, которые были чаще всего и завоевателями, покидая обжитые земли, оказывались среди новых ландшафтов, сталкивались с неведомыми народами и верованиями. А это всегда вносит свежую струю в сознание людей. То, что они считали испокон веков незыблемым и прочным, оказывалось в новой обстановке призрачным и преходящим. Достаточно указать на переселения и завоевательные походы аморитов, арьев, евреев, ахейцев, европейских варваров, монголов, арабов, положившие начало их культурам 170).
Скорее всего именно в результате больших племенных миграций и родились первые великие цивилизации. Во мгле доисторической ночи вспыхивают три светоча: это были культурные центры, возникшие на берегах Нила, Евфрата и Инда.
Ранние исторические времена подобны ландшафту, подернутому утренним туманом. Пристально вглядываясь в его пелену, мы начинаем улавливать очертания то одного, то другого предмета; одни выступают из тумана наполовину скрытыми, другие кажутся совсем не такими, каковы они на самом деле... На рубеже V и IV тысячелетий историк бредет почти ощупью. Письменность еще только зарождается. Археология дает материал, далеко не всегда поддающийся расшифровке. Загадки громоздятся на загадки. Откуда пришли первые люди в места древнейших оседлых цивилизаций? Куда исчезли племена человекоподобных неандертальцев и какую роль в их исчезновении сыграл человек? Существовала ли древняя цивилизация на затонувшем материке Атлантиде? Какой геологической реальности соответствуют предания народов о потопе? Где впервые стали употреблять металлы и строить города? Ответы на все эти вопросы и на множество других не выходят за пределы более или менее правдоподобных гипотез, фантазий, догадок.
С III тысячелетия туман постепенно рассеивается. Мы уже можем составить себе довольно ясное представление о жизни в Египте, Двуречье, Индии.
Здесь впервые родился Город — это скопление жилищ, как бы в страхе жмущихся друг к другу, обычно обнесенных стеной. Город — двуликое и трагическое детище двойственной истории человечества — стоит у ее истоков. «Городская революция» есть рубеж исторического и доисторического миров.
Если в пещере, шалаше, палатке из шкур человек еще жил среди окружавшей его природы, то за стенами города он впервые создал свой собственный мир, пыльный, тесный, некрасивый, но все-таки свой. Город — символ изоляции человека от природы и одновременно символ его творческой активности. Пусть эта активность иногда принимает ложное направление, пусть город и вносит уродство и смрад в природу, но не следует забывать, что город помог человеку познать самого себя. Он способствовал высвобождению Личности. Он — проклятие истории, и он же — ее благословение. Стены оторвали человека от мира, но дали ему
63
возможность по-новому взглянуть на этот мир. В городе человек был подавлен монотонностью созданного им самим муравейника, но в городе же раскрылось внутреннее богатство его духа. Сократ и апостол Павел, Шекспир и Достоевский — дети Города.
В легендах и мифах народов города чаще всего не «вырастают», а «основываются». Их закладные камни нередко хранят волнующие повести о героях и богах, которые их воздвигли. Будь то шумерский Ниппур, или египетский Мемфис, или Рим — все они представлялись людям как какой-то дар, дар неба или воина-богатыря.
Чем больше сведений о жизни первых цивилизаций приносит лопата археолога, тем очевиднее становится, что рождение города — это действительно «взрыв», «скачок», способный привести в полное недоумение сторонников теории непрерывного и постепенного прогресса. Даже изобретение земледелия не было таким резким разрывом с прошлым, как возникновение городов. Оказывается, что жизнь людей в городах, только что выступивших в доисторической ночи, очень мало отличается от жизни значительного числа людей нашего времени.
Если сравнить современный восточный городок с таким древнеиндийским центром, как Мохенджо-Даро, с его широкими улицами, удобными домами, великолепной системой водостоков, то легко убедиться, что, за исключением некоторых технических изобретений, быт современного человека не так уж далеко ушел от быта человека, жившего за пять-шесть тысячелетий до него. Право же, далеко не все современные города построены по такому превосходному плану, как древние Ур или Мари в Двуречье. В этих городах, расположенных в засушливой местности, дома были снабжены водопроводом и канализацией; заботливо отделялись жилые помещения от служебных и хозяйственных; окна выходили не на пыльную улицу, а в тихий внутренний дворик, озелененный и прохладный. В городах Шумера в III тысячелетии до н. э. были базары, трактиры, школы, мастерские, храмы, часовни. Счетоводы и гончары, ткачи и учителя занимались примерно тем же, чем они занимаются в XX веке. Археологов поражало сходство древних городов чуть ли не в деталях с современными восточными городами.
Когда мы смотрим в музее на предметы обихода, сохранившиеся от первых цивилизаций, на эти изящные статуэтки, ожерелья, керамику, пудреницы, зеркала, гребенки, детские игрушки, посуду, мебель, — мы невольно чувствуем, что люди, которым всё это принадлежало, жили интересами, вкусами, привычками, очень похожими на наши, что нам бы нравились египетские кресла, что наши дети могли бы играть древневавилонскими игрушками и современные женщины по достоинству оценили бы флаконы из Фив или вазы из Феста.
Но при всем этом — налицо бесспорные доказательства того, что «городская революция» не привела еще к «революции духа».
64
Во время основания городов и великих переселений многое, вероятно, было нарушено в традиционных представлениях. Но когда жизнь в городах вошла в устойчивое русло, старые тенденции снова взяли верх. Это особенно наглядно можно проследить на примере древнего Египта.
Египет — это рубеж между Африкой с ее фетишами и колдунами и Средиземноморским кругом — очагом великих духовных движений. И население Египта также сложилось из обитателей двух континентов. Осваивая долину Нила, египтяне затратили огромные усилия для того, чтобы приспособить эти заболоченные, нездоровые места для обитания. Поразительна неисчерпаемая энергия египтян и их соседей шумеров в борьбе с природой. Они побеждали ее там, где иной раз даже человек наших дней опускает руки.
Одного не смогли победить египтяне: наследия первобытных понятий и верований. Мы не знаем, какой творческий порыв помог им вырваться из тисков природы, начать рыть каналы, осушать болота, орошать поля, искусно пользоваться разливами Нила, чтобы засевать жирный ил, оставляемый рекой. Но древний египтянин был еще слишком прикован к видимому миру, чтобы освободиться от его обоготворения. Все вызывало у него священный трепет: и ибисы, шагающие в прибрежных зарослях, и коршуны, неподвижно парящие в небе, и гиппопотамы, всплывающие из мутных вод Нила. Боги — покровители египетских кланов — представлялись в своих зримых обликах какой-то стаей зверей, пернатых и рептилий. Быть может, в этом сказывался далекий отзвук тотемизма. Но как бы то ни было, научившись в некоторых отношениях управлять природой, египтянин остался при старой мысли о необходимости магических способов управления ею.
Мы уже говорили, что магия есть первобытный двойник науки. Прогресс внешних знаний до известного предела не отрицал роли заклятий. Лекарства в Египте и Шумере нужно было изготовлять и принимать, лишь произнося заклинания; наблюдения неба имели наполовину астрономический, наполовину астрологический характер. Окруженный миром таинственных существ, которые смотрели на него глазами кошек, сов, баранов, крокодилов, египтянин, следуя неизменному магико-научному методу, искал способы покорить эти существа, использовать сокровенные силы в своих целях.
Составлялись сложные заклинательные формулы, изготовлялись бесчисленные амулеты в виде глаза, жука, лотоса. Каждый египтянин считал необходимым иметь целый набор талисманов, чтобы оградить себя от врага, от болезни, от укуса змеи. Наиболее древние египетские тексты уже содержат колдовские формулы.
Для того чтобы выйти на путь духовного освобождения, недостаточно было знать свойства целебных растений, основы
65
математики и создать систему орошения. Нужен был духовный переворот, отказ от плодов Грехопадения, отказ от притязаний насильно овладеть дарами земли и неба. Возврат к утраченному Богу, который постепенно начинался в исторические времена, требовал подвига, преодоления, творческого порыва. Человек должен был снова услышать зов и откликнуться на него.
Между тем египетская религия была пропитана ложью и корыстью. Заклинания, как правило, строились на том, что вводили богов и духов в заблуждение. Так, например, рожающая женщина призывала богов, уверяя, что она — богиня Исида, разрешающаяся младенцем. Если человеку угрожала ядовитая змея, он произносил заговорные слова, в которых уверял змеиный яд, что он не человек, а сам бог Гор, которому подвластны стихии. Таким образом, магия «придавала аморальный характер египетской религии».
Механическая сила обрядов и заклятий, по представлению египтян, одна из универсальных природных сил. Погруженное в землю зерно воскресает вместе с Осирисом, но для его пробуждения нужно совершить соответствующий обряд. Священный церемониал есть не просто дань традиции, а неотъемлемый элемент космического строя; и если он не будет исполнен в точности, то этому строю будет нанесен ущерб и земля откажет человеку в своих дарах. Заклинания — всесильны, цепь причин — неумолима, богам так же нужны жертвоприношения людей, как людям — их милости.
Ветер перемен, связанный с переселениями и дальними походами, постепенно утих. Мир снова стал привычным и устойчивым. Мысль о том, что он «во зле лежит» или что в нем что-то неблагополучно, должна была бы показаться кощунственной и египтянину, и шумеру. Жест и одежда, обычай и талисманы, пища и орудия, ремесла и обработка земли — все это так же вечно и неизменно, как повторяющиеся разливы реки, текущей неведомо откуда, как весеннее обновление природы, как стройный ход светил в небе. Все предрешено, все закончено; настоящее, прошедшее, будущее сливаются в одно целое. А единственная задача человека — включиться в этот поток, ибо в этом его долг, спасение и залог счастья на земле.
* * *
Магия в некоторых отношениях была столь же сложной, как и наука. Она требовала обширных познаний от человека, который хотел пользоваться ее могуществом. Поэтому люди, полностью овладевшие всеми тонкостями чародейства, приобретали над народом огромную власть.
Египетские предания утверждают, что до фараонов страной управляли боги. Быть может, здесь под оболочкой мифа кроется смутное воспоминание о тех временах, когда маги-колдуны
66
играли роль вождей кланов. «По-видимому, — говорит французский египтолог А. Морэ, — некоторые реально существовавшие люди обладали даром внушения и угадывания, который ставил их вне и над человечеством» 171). Во всяком случае власть в Египте всегда считалась божественной, т. к. вела свое происхождение от сверхчеловеческих существ.
Около 3000 г. завершается постепенное объединение египетских областей (номов). Объединение, как об этом свидетельствуют предания и памятники, возглавили вожди клана Гора. Гор изображался в виде сокола, и его отождествляли с Божественным Солнцем. Солнце обоготворялось всеми египтянами. Сверкающий Ра был живым символом Единого, а его общенациональный культ был, возможно, отзвуком древнейшего египетского единобожия.
Поэтому властители клана Гора объявили своего местного бога тождественным с Ра. Над первым изображением египетских царей мы видим священного Сокола-Гора, осеняющего фараона и помогающего ему поражать врагов. Царское имя также включает в свое написание знак божественной птицы. Это не случайно. «Отныне, — говорит А. Морэ, — царь почитается как живое воплощение бога Гора; на земле он являлся самим Соколом-Гором... Вот окончательный прогресс царской власти: предводитель-колдун былых времен — превращается мало-помалу в царя-жреца и доходит до звания царя-бога» 172).
История объединения Египта во многих отношениях остается неясной. Традиция связывает это событие с именем первого фараона Мины, который в конце IV тысячелетия после победоносных сражений увенчал себя священным талисманом — «двойной короной». Талисман состоял из соединения корон Дельты и Юга, белой и красной, являвшихся волшебными символами власти.
Предания приписывают Мине религиозные реформы, сооружение плотин и основание города Мампи (Мемфиса), который стал как бы связующим звеном между Дельтой и Югом 173). Существует предположение, что Мина и его династия были пришельцами, благодаря своей энергии сумевшими утвердить божественную власть фараонов в Египте.
С именем Мины связаны первые обряды, которые впоследствии неизменно совершали все египетские монархи. Эти обряды носили магический характер. Царь, венчаясь двойной короной, совершал торжественный ход вокруг белой стены Мемфиса. Это должно было предохранить Египет от вражеских козней. Царь проводил первую борозду плугом, чтобы пробудить силы земли, бросал в Нил папирус с приказом, чтобы начался разлив. Таким образом, фараон сосредоточил в своих руках власть над всей Вселенной, над стихиями и над людьми. «Сын богов, одаренный сверхъестественной благодатью, вооруженный магическим оружием, увенчанный живыми диадемами, в которых воплощаются богини, с челом, повитым змеей, богиней заклинаний, царь есть
67
первый и могущественный из магов» 174). Это было логическое завершение пути, по которому пошло человечество, увлеченное соблазном «быть как боги». Магизм — это прямое следствие Грехопадения. Извращение религиозного сознания привело к обоготворению человека, к обоготворению колдуна с плетью в руке и с фетишем на голове.
Не только власть фараона была как бы частью космического строя, но и весь социальный уклад Египта с того времени получил высшую санкцию. Нарушить его — значило нарушить закон природы и обречь себя на неминуемую гибель. Сословная иерархия отныне становится незыблемой. Много веков спустя она все еще будет поражать иноземцев. Социальная устойчивость страны фараонов вызывала зависть греков, которые жили в атмосфере непрестанных смут, переворотов и реформ. Египтяне, говорил Страбон, «достойным образом пользуются благоденствием своей страны, благодаря разумному разделению ее и заботе о ней. Выбрав царя, они разделили массу народа и назвали одних воинами, других земледельцами, третьих же — жрецами» 175). Греческому писателю кажется, что эта иерархия — результат рационального планирования; на самом же деле это продукт статичности и косности, свойственной магическим культурам. В Египте крылся неисчерпаемый запас творческих сил. Он многого достиг в науке, технике, литературе и искусстве. Но фермент Магизма был настолько силен в нем, что если и не сделал его мумией, то сохранил на протяжении трех тысяч лет консервативный уклад в политической, социальной и религиозной жизни.
* * *
Страбон упоминает о жрецах. В его время это была уже централизованная могущественная корпорация. Но появилась она не сразу. Жрецы и ясновидцы первоначально были рассеяны по различным областям и не знали верховного владыки. Несмотря на то что их служение богам часто переплеталось с магией, они очень рано стали тяготеть к более чистому религиозному культу. Религиозная узурпация фараонов не смогла подорвать влияния жрецов. Благодаря своим огромным знаниям и авторитету они занимали прочное положение в стране. Именно они вели математические расчеты и астрономические наблюдения, столь необходимые для строительства и ирригации. Тайна, которой они окружали свои знания, делала их неуязвимыми.
После Мины «возникла, — по словам Брэстеда, — государственная форма религии, где фараон играл первенствующую роль. Теоретически только он один служил богам» 176). Однако фактически за духовенством оставалась ведущая роль в религии.
У нас есть доказательство того, что уже в то время египетские священники задумывались над тайнами мира и не удовлетворялись примитивным язычеством масс. Это — мемфисский
68
текст о сотворении мира. В Мемфисе, который стал столицей с III тысячелетия до н. э., издавна почитался бог творческой силы земли — Птах. Его изображали в виде человеческой мумии, чтили под видом быка Аписа. Его считали покровителем ремесленников, людей-творцов, изготовляющих изделия. «Мемфисский трактат», как обычно называют священный текст о Птахе, есть, по словам Б. А. Тураева, «древнейший памятник богословия» 177). В нем мы обнаруживаем как сильные, так и слабые стороны жреческого умозрения.
С одной стороны, трактат учит, что все существующее создано могуществом Божественной Мысли, Слова. Это очевидное предчувствие идеи Логоса. К единому Творцу-Птаху восходит все, даже города, храмы, искусства, ремесла. Но в то же время жрецы не отказываются от других богов. Они идут по пути, по которому впоследствии пошли индийские брахманы. Все боги, согласно трактату, есть порождения или воплощения Единого Птаха. Таким путем жрецы хотели сохранить и народную веру, и свое монотеистическое учение.
Эта компромиссность — характернейшая черта духовных вождей Египта 178). Правда, она была свойственна и индийской, и греческой элите, но египетские жрецы наиболее последовательно проводили эту линию. Компромисс проявлялся у них и в отношении к царской власти. Начиная с пятой династии (ок. 2700 г.) фараоны избирают своим покровителем бога Ра, который был уже отождествлен с Гором, а теперь отождествлялся с гелиопольским Атумом. Создается официальная царская религия, исповедующая догмат о божественном рождении царя. Многочисленные надписи и рельефы свидетельствуют о том, что царь есть «Сын Солнца» в прямом и буквальном смысле.
Культ Ра-Атума имел центр в городе Ону, или Гелиополе. Гелиопольские жрецы приняли обожествление царя и пытались теоретически обосновать его. Они пытались, впрочем тщетно, привести в стройную систему обилие мифов, богов и космогоний, которые рождались независимо в разных областях страны.
По гелиопольскому учению, издревле существовал Нун — Хаос, или Небытие, из которого родился «Владыка Вселенной» — Ра. Он, в свою очередь, порождает Великую Девятку богов 179).
Возникают мифы, согласно которым Гор объявляется сыном Осириса и прочие боги оказываются связанными родственными узами. Это механическое смешение богов не могло привести к монотеизму, как не привело к нему утверждение деспотической монархии.
По утверждению Энгельса, единобожие «есть лишь отражение единого восточного деспота» 180). Между тем именно в Египте мы имеем наиболее яркую форму деспотии при развитом политеизме. В то же время приближение к монотеизму в Индии и Греции и установление его в Израиле произошло тогда, когда центральная власть была слаба или вообще отсутствовала.
69
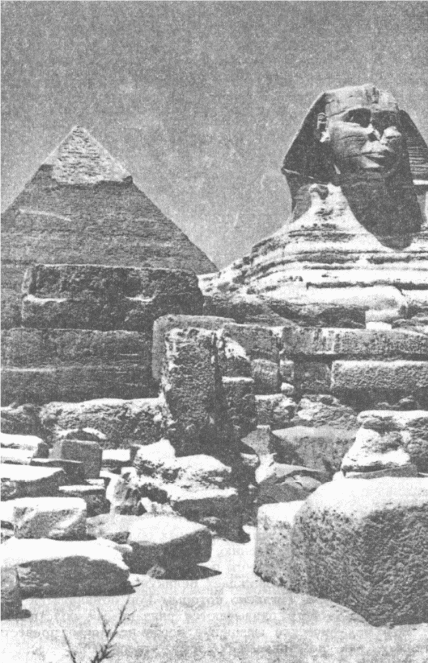
Сфинкс и пирамиды
(Гизэ)
70
Духовные руководители Египта, жрецы, не только не смогли очистить его религию от многобожия и магии, но освятили незыблемый социальный строй как сакральное установление.
Полагают, что великий сфинкс в Гизэ есть символическое изображение сына Солнца — божественного царя. Если это так, то это один из наиболее выразительных символов кесарского самодержавия, которое несло в себе зачатки всех узурпаций и тираний будущего. Люди сами приняли эту божественную власть. Пусть династии порой свергались, но неприкосновенным оставалось верование в то, что человек, стоящий на вершине социальной пирамиды, обладает ключом от счастья своих подданных.
Другим символом этого царепоклонства являются пирамиды Гизэ. Долгое время, следуя Геродоту, в них видели простой памятник нелепого тщеславия и жестокости деспота. На самом же деле все обстояло значительно сложнее. А. Морэ удивительно верно замечает, что такие грандиозные сооружения должны были родиться, подобно готическим соборам, в результате массового воодушевления. Колоссальные трудности, связанные с возведением этих рукотворных гор, не могли быть преодолены только при помощи бичей. Люди должны были верить во что-то, когда создавали пирамиды.
Изучение древнеегипетских текстов открывает тайну этих странных сооружений.
При жизни фараон, по верованию народа, магически охранял границы страны, управлял ветром, водой и огнем. После смерти он становился еще более могущественным. Его необходимо было удержать близ города, чтобы продолжать пользоваться его покровительством. В темных глубинах исполинского мавзолея продолжалась скрытая таинственная жизнь. Пик «вечного дома», вознесенный над полями, рощами пальм, городом и рекой, был постоянным напоминанием о том, что Великий Маг бодрствует, что он совершает свое служение на благо египетского народа.
Это приводит нас к вопросу о том, как представляли себе египтяне посмертную судьбу человека.
71
Глава шестая
ГРОБНИЦЫ И ЖИЗНЬ
Египет в III—П тысячелетии до н. э.
Наши предки покоятся там со времен мирозданья.
Из тех, кто родится на свет во множестве неисчислимом,
Не осядет в Египте никто,
В Городе Вечности всем поголовно приют уготован.
Гелиопольская песнь
Обитатели нильской долины очень рано решили для себя извечную проблему — проблему жизни после смерти. Они были убеждены, что та же магия, которая помогает им получать урожаи, побеждать врагов и делает царя всевластным, является и надежным орудием для сохранения вечной жизни. Довольно долго смерть представлялась египтянину просто как разлука «астрального тела» — Ка — с тленной оболочкой. Нужно было только научиться вновь восстанавливать эту связь, причем сделав тленное — нетленным. Для этой цели были разработаны, с одной стороны, методы мумификации трупа, а с другой — магические формулы, которые позволили бы «астральному телу» обитать в мумии. На случай исчезновения набальзамированного тела изготовляли из камня и дерева его двойников.
Гробница для египтянина была, таким образом, не саркофагом, не склепом в нашем смысле слова, а — домом. В ней навечно поселялся умерший, его мумия, статуя и его душа. Художники и скульпторы стремились изобразить покойника в лучшие годы его жизни, в расцвете сил. Его окружали портреты жены, детей, слуг. На стенах тянулись красочные картины пиров, плясок, жертвоприношений; живопись воспроизводила виллы и зернохранилища, камыши и птиц, стада коров и овец. Все это в известные моменты оживало, и покойник попадал в привыч-
72
ную обстановку, наслаждаясь вечным счастьем в своей гробнице-доме.
Рядом с городами вырастали их молчаливые двойники-некрополи, куда постепенно переселялись жители. Умершие цари господствовали над этими некрополями в своих пирамидах. Но, в отличие от простых смертных, они получили привилегию восходить из пирамиды ввысь, в царство богов. Уже не просто Ка, «астральное тело», а сама душа — Ба — фараона имела право пребывать в сонме высших существ. Попадал туда фараон весьма характерным способом. Защищенный талисманами, произнося формулы, он обманывал стражу божественных миров и проникал в них. Фараон как бы штурмом брал бессмертие, применяя при этом военные хитрости. Правила этой своеобразной войны записывались на стенах пирамид и гробниц. Впоследствии они легли в основу Книги Мертвых, — огромного сборника заклятий, гимнов и молитв.
Властителем вечной жизни почитался Усирэ, или Осирис, — бог воскресающей весенней природы. Согласно мифу, он был убит собственным братом, но воскрес силой волшебства. Сын Осириса, Гор, был покровителем живого царя; умерший царь становился воплощением Осириса. Впоследствии каждый умерший человек объявлялся тождественным с Осирисом. Это отождествление первоначально имело целью обмануть богов. Если царь — это действительно Осирис, то его подданные вряд ли могли претендовать на единство с Богом. Поэтому приходилось прибегать к уловкам, как в других магических приемах. И лишь много позже отождествление умершего с Осирисом приняло мистический смысл — в плане причастности всех людей к природе Божества.
В эпоху же фараонов — строителей пирамид, т. е. в период Древнего царства, посмертная судьба человека определялась главным образом состоянием гробницы и заупокойным культом. Чем более полно и точно совершались все обряды, тем больше шансов было у умершего процветать в виде «астрального» Ка в вечном доме или вознестись в виде Ба в божественное царство.
Поэтому строительство гробниц было главнейшей заботой тех египтян, которым средства позволяли соорудить себе вечный дом. Фараоны начинали строить гробницы с первых дней правления, а многие вельможи в древнеегипетских документах указывали на сооружение усыпальницы как на важнейшее событие своей биографии.
Когда смотришь на мумии, на эти смуглые высохшие останки, невольно изумляешься этой попытке бросить вызов времени и тлению. А стены египетских гробниц показывают нам, как заботливо готовились люди к вечности, надеясь и там властвовать и трудиться, любоваться цветами и обрабатывать поля.
73
* * *
Около 2400 г. незыблемая, казалось, власть божественных царей пошатнулась. Началась полоса дворцовых переворотов. По преданию, многие цари не просидели на престоле и дня. Усилились центробежные силы в областях: египетская знать, особенно в южных номах, требовала самостоятельности в управлении. Повсеместные волнения, связанные с ослаблением режима, перешли в полную анархию. Летописи молчат об этих бедственных годах, но следы разрушений, относящихся к эпохе падения Древнего царства, говорят о многом. Они открывают перед нами страшную картину разбушевавшихся толп, которые бесчинствовали в храмах, производя в них полный разгром. Не пощадили они и овеянных страхом и вековой тайной усыпальниц. Ворвавшиеся в «вечные дома» погромщики расхитили драгоценности, повредили барельефы, разбили статуи.
Когда мятежи утихли, Египет уже не представлял собой единой страны. Он распался на отдельные феодальные княжества.
Все эти события не могли не произвести глубокого впечатления на современников. Если раньше пирамиды фараонов и усыпальницы знати вызывали зависть, то теперь многие начинали задумываться над целесообразностью священного гробостроительства и ритуалов, совершаемых над трупом. Зрелище ограбленных усыпальниц, оскверненных мумий, поверженных и расколотых статуй-двойников, которых не спасли никакие заклятья, внушало скептическое отношение к традиционным понятиям. Магические воззрения на заупокойный культ дали первые трещины.
Многие представители образованных классов начали склоняться к своеобразному «эпикурейству». Жизнь перестала быть надежной и прочной, все сдвинулось со своих мест. Хотелось ловить каждый день, каждый миг мимолетных радостей.
В эпоху Среднего царства (2052—1778 гг. до н. э.) эти настроения усиливаются. Именно в это время на похоронах стала иногда звучать странная песня, получившая впоследствии название «Песни арфиста». В ней провозглашается бесполезность заботы о так называемом «вечном доме». Ничто не может избежать разрушения. Многие отдавали все силы на сооружение усыпальниц —
А что с их гробницами?
Стены обрушились,
Не сохранилось даже место, где они стояли,
Словно никогда их и не было 181).
Что знает человек о своей посмертной судьбе? Ничего.
Никто еще не приходил оттуда,
Чтоб рассказать, что там,
Чтоб поведать, что им нужно,
И наши сердца успокоить,
Пока мы сами не достигнем места,
Куда они удалились.
74
Но если мы ровно ничего не знаем о тайне загробного мира, то стоит ли думать о ней, стоит ли тревожить себя бесплодными мыслями, когда перед нами — жизнь со всеми ее радостями?
Следуй желаниям сердца,
Пока ты существуешь.
Надуши свою голову миррой,
Облачись в лучшие ткани,
Умасти себя чудеснейшими благовониями
Из жертв богов.
Умножай свое богатство.
Не давай обессилеть сердцу,
Следуй своим желаниям себе на благо,
Совершай свои дела на земле
По велению своего сердца,
Пока к тебе не придет тот день оплакивания.
Причитанья никого не спасают от могилы.
А поэтому празднуй прекрасный день
И не изнуряй себя.
Видишь, никто не взял с собой своего достояния.
Видишь, никто из умерших не вернулся обратно.
Но этот призыв отказаться от раздумий, отказаться от поисков и вопросов мог найти отклик преимущественно среди людей поверхностных и лишенных нравственного чувства. Между тем в эти годы, как показывает расцвет художественной литературы, египетское общество переживало период серьезных творческих исканий, и его глубоко волновали философские и этические проблемы. Многие прежние истины были поколеблены. Скепсис и гедонизм «Песни арфиста» был реакцией на это крушение идеалов. Но она изображала жизнь сплошным праздником, а это было ложью, и вовсе не только потому, что одни люди могли следовать ее советам, а другие не могли, одни были богаты, а другие бедны. Люди, отличавшиеся более тонкой душевной организацией и более развитым нравственным чувством, чем автор «Песни арфиста», признали, что мир и человеческий род «во зле лежит». Это было первое радикальное отрицание традиционного благодушия магической веры в незыблемый мир. Выразителем этого протеста явился безымянный автор «Беседы разочарованного со своею душой».
Поэма раскрывает перед нами внутреннюю борьбу человека, подавленного горем и всеми покинутого. Чувствуется, что его несчастье вовсе не в том, что он беден и не имеет насущного хлеба, а в нравственных страданиях, причиненных низостью и несправедливостью близких людей. Это уже не социальная трагедия, это трагедия Гамлета, трагедия общечеловеческая. Поэта потрясает то, что он видит вокруг себя: бесчестность братьев, алчность, бесплодность жертвы, неблагодарность, измену.
Кому мне открыться сегодня?
Зло наводнило землю.
Нет ему ни конца, ни края 182).
75
Но тут существо человека как бы раздваивается. Дух его, почти повторяя слова «Песни арфиста», уговаривает его не тревожиться ни о чем: «Проводи приятно время, забудь заботы». Но все его увещания напрасны. Человек видит только один выход из этого царства зла — смерть, уход в другой, светлый мир.
Мне смерть представляется ныне
Исцеленьем больного,
Исходом из плена страданья.
Мне смерть представляется ныне
Благовонною миррой,
Сидением в тени паруса, полного ветром.
Мне смерть представляется ныне
Лотоса благоуханьем,
Безмятежностью на берегу опьянения.
Мне смерть представляется ныне
Торной дорогой,
Возвращением домой из похода.
Мне смерть представляется ныне
Небес прояснением,
Постижением истины скрытой.
Мне смерть представляется ныне
Домом родным
После долгих лет заточенья.
Это восторженное отношение к мысли об ином мире побеждает томительное раздвоение человека. Его дух уже больше не протестует и готов разделить со своим «братом» любой жребий, какой он изберет.
Это замечательное произведение египетской литературы открывает перед нами всю глубину пессимизма, охватившего многих мыслящих людей Египта. Всемирно-историческое значение его в том, что оно свидетельствует о тупике, в котором оказалось магическое мировоззрение. Человек, признавший жизнь настолько невыносимой, что предпочел ей смерть, тем самым бросил вызов той неподвижной и, казалось бы, совершенной Вселенной, в которой все закономерно и все соответствует воле богов.
Но, с другой стороны, мы видим, что «разочарованный» верит в существование высшей божественной правды где-то по ту сторону смерти. Он жаждет познать высшую радость, вступив в царство Ра, в область вечного света. Там он будет «живым божеством». Добро, Правда (Маат) есть нечто высочайшее и достойное поклонения.
Путь к вечным селениям, по мнению египтян, открывают формулы заклятий. Но автор «Беседы разочарованного...» ни слова не говорит о них. А так как в царстве Ра он ищет Правды, то очевидно, что только Правда может открыть ворота неба.
76
* * *
«Беседа разочарованного...» — не единичное явление. Уже в конце Древнего царства в сознание египтян начинает проникать мысль о том, что после смерти душу ждет высший суд, что посмертная судьба человека зависит от его поступков при жизни. Это было величайшим религиозным откровением, которое обрел египетский народ. В этом он опередил всех: и вавилонян, и греков, и евреев.
В эпоху VI династии (ок. 2400 г.) мы впервые встречаемся с текстами, где говорится о суде над душой. Этот суд — событие нравственного порядка.
Только тот достигает блаженства в Стране Заката, кто по совести может сказать о себе: «Я не творил неправедного относительно людей, я не убивал своих ближних, не заставлял рабов моих голодать, не был виновником бедности нищих... не причинял страдания, не заставлял плакать... не причинял боли никому... не развратничал... Я давал хлеб голодному, воду — жаждущему, одеяние — нагому» 183).
Постепенно заупокойные обряды теряют свою былую пышность, и многочисленные церемонии заменяются молитвами, начертанными на папирусе, который кладут в гроб. На свитках этой Книги Мертвых мы видим и изображения загробного суда, где бог мудрости Тот взвешивает деяния человека на весах.
В повести о крестьянине, написанной в эпоху Среднего царства, обиженный земледелец обращается к вельможе с такими словами: «Твоя рука насильничает, а сердце жадно. Кротость проходит мимо тебя... Берегись и думай, что наступает вечность... Разве обманывают весы? Разве Тот бывает милостив к злодеям?» 184).
В другом тексте этого времени мы читаем обращение к самому царю, где говорится о том, что не пышные гробницы, а добрые дела будут оценены высшим судом. «Украшай свой дворец Запада, улучшай свою гробницу в некрополе справедливостью, деянием правды. Сердца людей укрепляются этим. Приемлется богом деяние праведника более, чем телец грешника» 185). Это уже явное предвосхищение библейских пророков!
* * *
Параллельно с этим одухотворением веры в посмертную участь усиливалась монотеистическая струя в египетской религии.
С того времени, как столицей вновь объединенного Египта стали Фивы, фиванский бог Амон приобрел общенациональное значение. Фиванские жрецы пошли по стопам жрецов гелиопольских и отождествили Амона с богом Солнца. Появляется имя Амон-Ра, обозначающее Верховное Божество, создателя мира. Это отождествление было необходимо в силу того, что в Египте Верховным Богом мог быть только бог столицы, царский бог, а с
77
другой стороны, общим для всех мог быть только бог, принявший черты Единого Солнечного Божества.
Но самое главное, что Бог, наименованный Амоном-Ра, стал той «иконой», в чертах которой можно было уже различить подлинный лик Небесного Отца. В фиванских храмах его прославляли в таких словах:
Хвала тебе, хвала тебе, Амон-Ра.
Мы превозносим твой дух,
Мы почитаем твой образ.
Ты лучезарный, многоликий...
Предвечный,
Сотворивший небо
И создавший землю.
Создавший моря и горы,
Творец вселенной —
Ты озарил землю во тьме,
Засияв в Хаосе,
Люди и боги появились после тебя.
Всесильный, многоименный, неведомый...
Кроткий, милосердный, любвеобильный,
Внимающим мольбам...186).
Хотя некоторые мифологические отзвуки, такие, как упоминание о Хаосе, и слышатся в этом гимне, тем не менее в целом он показывает нам, как высоко поднялась религиозная мысль фиванского жречества. В его богопознании древний страх заменяется благоговением и любовью: «Сердца не насытятся любовью к тебе». Именно с этого времени (ок. 2000 г.) старые верования надломились, и человечество пошло по новым путям религиозных поисков. Египет стоял во главе этого движения, но не был в состоянии довести его до конца. Две фатальные силы тяготели над ним: традиция и вера в божественного царя. Он не сумел освободиться от магических представлений.
Наряду с этической стороной в Книге Мертвых осталось все, что она впитала из мира волхований и заклятий. Более того, этот колдовской элемент явился в конечном счете господствующим. Жрецы не осмелились поднять руку на верования простого народа. И египетская религия сохранилась навсегда как странное смешение возвышенных прозрений и самого примитивного язычества.
Вера в божественность царя пережила все смуты и восстания, она оказалась долговечной, подобно сфинксу. Поэтому египетская религия была прочно прикована к судьбе державы фараонов. И даже тогда, когда она делала попытки обрести универсальный размах, она оказывалась неотделимой от сына Солнца и от нильской долины.
В дальнейшем мы увидим, каковы были попытки преодолеть язычество в Египте и как все они потерпели поражение. А сейчас обратимся на северо-восток: туда, где между Тигром и Евфратом зародилась другая великая цивилизация.
78
Глава седьмая
ЗЕМЛЯ СЕННААРСКАЯ
Государства Двуречья между IV и II тысячелетиями
Два близких между собою желания,
как два невидимых крыла, поднимают
душу человеческую над остальной природой:
желание бессмертия и желание правды.
Вл. Соловьев
Библия говорит о «земле Сеннаарской», или, правильнее, «земле Шинеар», как о месте, где сложилась первая цивилизация. То, что в этой местности был, согласно Писанию, построен город Вавилон, показывает, что речь идет о южной части долины Тигра и Евфрата 187).
На протяжении многих веков слово «Шинеар» ровно ничего не говорило людям, читавшим Библию, точно так же как названия сеннаарских городов Ура, Эреха, Аккада. И лишь сто лет назад оказалось, что библейская «земля Шинеар» действительно может быть названа колыбелью современной цивилизации. Из мглы тридцативекового забвения выступили народы, которые обитали на берегах Евфрата в области, называвшейся Шумер. Одним из этих народов были шумеры, а другим — семиты-аккадцы, пришедшие несколько позднее 188).
Несмотря на то что централизованное государство возникло в Шумере позже, чем в Египте, его культура в целом не уступает египетской в древности. И на Ниле и на Евфрате примерно в одно и то же время (в конце IV тысячелетия) стали строить города, изобрели письменность и оросительную систему. Что же касается влияния на дальнейшую историю человечества, то первенство
79
шумеров, столь странным образом забытых, в настоящее время не может подлежать сомнению.
Шумеры и аккадцы через своих преемников вавилонян передали грекам, евреям и другим народам основы своей науки, понятия о Вселенной, свою технику, изобретения, свои поэмы и притчи, свои художественные стили и некоторые религиозные представления.
Современные названия дней недели и деления круга на градусы, греческие легенды и библейская символика — все это восходит к древнему Сеннаару. В частности, шумеры достигли больших успехов в технике, совершив настоящую техническую революцию. «Они, — говорит американский шумеролог С. Крамер, — изобрели гончарный круг, колесо, повозки, плуг-сеялку, парусную лодку, научились возводить арки, сводчатые постройки и купола, изготовлять литье из меди и бронзы, освоили пайку металлов, резьбу по камню, гравировку и инкрустацию» 189). Открытие этой древнейшей культуры настолько поразило ученый мир, что возникла даже теория «панвавилонизма», согласно которой вся мировая культура ведет свое происхождение из Двуречья. Это, конечно, было крайностью, но само по себе появление такой теории указывает на мировое значение культуры Сеннаара.
Кто же были ее создатели?
Если о происхождении египтян много спорят, то происхождение шумеров — полная загадка. Их язык не имеет никаких родственных ветвей среди известных языков древнего и нового мира. Установлено только одно: шумеры не были коренными жителями Сеннаара. Они пришли туда в IV тысячелетии, причем одни указывают на Индию как на их прародину, другие — на Кавказ и Среднюю Азию. Наиболее древними городами шумеров считаются южные, и таким образом можно предположить, что этот загадочный народ пришел со стороны Персидского залива 190).
Семиты-аккадцы были пастухами-кочевниками и заселили северную часть долины на несколько веков позже шумеров. Обе эти народности постепенно смешивались, пока к 2000 г. окончательно не слились в одно целое.
Создание очага цивилизации в Сеннааре было настоящим подвигом. Колонисты встретили здесь условия жизни, почти невыносимые для людей. Если египтянам приходилось затрачивать большие усилия для того, чтобы создать свое хозяйство, то все же оно было для них «даром Нила», как говорил Геродот. В Месопотамии же природа не была склонна дарить ничего. Она объявила человеку беспощадную войну. Обнаженные пустыни сменялись здесь зловонными малярийными болотами. Речные разливы нередко сопровождались разрушительными бурями. Систематические наводнения длились по нескольку месяцев. В эпоху утверждения шумеров в долине потоп небывалой силы уничтожил почти все человеческие поселения. Воспоминания об этой страшной катастрофе сохранились на много веков 191). Потоп не заставил
80

Шумерский правитель
81
шумеров отступить. Уцелевшие после бедствия люди вновь принялись за работу. Гигантская сеть каналов и арыков собирала теперь воду, осушая топи и орошая пашни. Свирепые волны Евфрата и Тигра много раз сводили на нет труд человека, но шумеры каждый раз восстанавливали размытые берега каналов и расчищали от ила русла арыков.
То запустение, которое постигло этот край, едва только там прекратилась неустанная борьба человека с природой, — наглядное свидетельство трудолюбия, энергии и настойчивости шумеров.
Египет хорошо защищали пустыни и море. Сеннаар, напротив, был открыт для нападения степных кочевников и воинственных горцев. Поэтому «городская революция» в Месопотамии носила особенно интенсивный характер. Города пришельцев сразу после своего возникновения превращались в военные крепости.
Каждый город с окружающей его маленькой областью был фактически независимым. Среди этих городов наибольшее значение имели Ниппур, Ур, Киш, Урук (Эрех), Лагаш, Умма и Ларса. Время от времени царь одного из них получал некоторую видимость гегемонии, но, как правило, это продолжалось недолго.
Единство страны опиралось преимущественно на единство веры. Древний Ниппур — город жрецов и обитель богов — был символом этого единства. Каждый город имел и собственных местных богов, которые считались его настоящими хозяевами. Боги жили в храмах или на вершине зиккурата — ступенчатой башни.
Шумеры считали, что после потопа им была «с неба послана царская власть», тем не менее в их городах долгое время не возникали такие крайние формы царепоклонства, какие процветали в Египте.
Отличие от Египта в этом отношении легко заметить даже в искусстве. Так, рельеф одного из ранних фараонов — Нармера — изображает его фигуру гигантской в сравнении с остальными людьми, между тем как на современной ему шумерской «Стеле коршунов» властитель Эанатум не превышает ростом своих воинов. Великаном представлен на барельефе только бог Нингирсу — патрон города Лагаша.
Более того, у шумеров выработалась своебразная патриархальная демократия. Одна очень древняя поэма повествует о том, как правитель, решая важный государственный вопрос, обсуждает его не только с советом старейшин, но и с общенародным «собранием граждан города», причем воля этого последнего оказывается решающей 192).
В больших городах вроде Киша и Уммы правили лугали — цари, а в других власть принадлежала энси — своеобразным первосвященникам, соединявшим в своих руках духовные и светские полномочия. Энси иногда объявляли себя царями и даже вели
82
войны с соседями. Сохранилось несколько изображений таких междоусобных битв. На них мы видим боевые колесницы шумеров, запряженные ослами (лошадей еще не знали), сомкнутые ряды бронированной пехоты, коршунов, летящих над полем брани, триумфы победителей. Но вообще шумеры не были воинственным народом подобно ассирийцам и римлянам. Портретные статуи знатных людей Сеннаара отличаются добродушным и приветливым выражением лица. В позах и жестах нет той суровости и надменности, которая свойственна царским портретам Ассирии и Египта.
* * *
Несколько утрируя, можно сказать, что в сравнении с Египтом шумеры выработали более «научный» взгляд на природу. Трезвые, практичные люди, прекрасные хозяева и умные наблюдатели, они не могли принять небосклон за тело гигантской коровы или богини, как египтяне. Для них Вселенная была совокупностью земли и неба. Земля представлялась круглой и плоской, а небо — куполом огромных размеров, столь же вещественным, как и земля. О высоте этого купола можно судить по одной шумерской легенде, согласно которой человек, поднявшийся к его вершине, уже не видел внизу земли. Вселенная называлась «ан-ки», т. е. «небо-земля» — сочетание слов, которое впоследствии употребил и автор библейской Священной Истории для обозначения мирозданья.
Согласно шумерийским представлениям, мир управлялся непреложными законами Me, которые охватывали все сферы бытия. Разумеется, идея эта не была выражена в отвлеченной форме, но она ощутима присутствовала всюду, где шумеры высказывали свои мысли о мире. Законы Me определяли принципы ремесел и искусств, поведение человека, его жизнь и смерть, управление обществом, бытие божественных существ и, наконец, таинственную «высшую власть», стоящую над Вселенной 193). Это было развитие философии Магизма с его верой в статичность мира. Правда, из некоторых текстов можно заключить, что, по мнению шумеров, некогда вместо «ан-ки», Вселенной, был только Намму — бесконечный Океан. Это представление было свойственно и Египту, и Греции, и Индии. Материнское лоно водной стихии как бы воплощало в себе потенциальную мощь природы, материи и являлось, таким образом, одним из вариантов образа Богини- Матери.
* * *
Отцом богов почитался в Шумере Ан — властитель неба. Возможно, некогда он был высшим Божеством предков шумеров. Но в исторический период Ан отступил на задний план. Ему не

6*
83
приписывали никаких определенных функций, он был далек и непостижим, культ его не был популярен.
Зато его дети сумели завладеть всем мирозданьем. Водами владел хитроумный Энки — покровитель культуры; создателем людей и покровителем шумеров был Энлиль; ему же подчинялись воздушные пространства. Богом солнца был Уту, луны — Нанна, Венеры — Инанна. Кроме этих важнейших богов существовали сотни других. Боги представлялись в человеческом образе, но в то же время семь важнейших отождествлялись с планетами.
Небо над Месопотамией почти круглый год чистое. Из поколения в поколение наблюдали шумеры звездные миры. Они научились отличать планеты и созвездия, разработали основы астрономии. Математическая точность небесных циклов и фаз, неизменный ход светил — все это приводило к упрочению идеи о нерушимости вечных законов.
Ради своего благополучия человеку нужно было как можно тщательнее изучать эти законы. Звезды указывали не только время половодья, но и влияли на судьбы людей. Необходимо было не только выработать календарь земледельческих работ, знать семена и травы, помогающие от болезней, но и оградиться от злых духов, насылающих засушливый ветер или лихорадку. В этом отношении между Сеннааром и Египтом полное сходство.
Многочисленные таблички, найденные в жилищах древних шумеров, содержат как медицинские рецепты, так и магические формулы против демонов. Если человек заболел, это значит, что он подвергся нападению: «злой Утутку приблизился к горлу человека, злой Галу приблизился к его груди, злой Этиму приблизился к его животу, злой Алу приблизился к его руке» 194). Всех их необходимо изгнать согласно рецептам. Это была наука! Пусть ошибочная, но типологически — вполне наука. Если современный человек знает об инфекции и методах ее подавления, то он лишь ближе к фактам, а по существу он действует по той же схеме, что и древний человек, знакомый с наукой в ее магической форме. Правда, рядом с заклинаниями существовали и лекарства, но для шумера не было разрыва между этими двумя планами, и целебное снадобье было для него таким же средством изгнания бесов болезни, как и ворожба.
* * *
Как понимал житель Сеннаара положение и роль человека во Вселенной?
На первом месте стояли боги. Это они упорядочили мир и владеют им; они обитали некогда в блаженной стране Дильмун, где не было ни опасностей, ни болезней, ни старости. Боги вступали в браки, рожали детей, творили растения и животных для своего удовольствия. И человек был создан для того, чтобы своими жертвоприношениями служить им. Он — низшее существо,
84
бесправный раб, участь которого определена навсегда. Правда, Энлиль, как радетельный хозяин, вначале заботился о том, чтобы существование людей-рабов было безбедным. Об этом говорит древний миф:
В стародавние времена
Не было ни страха, ни ужаса,
И человек не имел врагов 195).
Но в конце концов боги позавидовали тому, что Энлиль пользуется единолично услугами людей и сам ревниво их оберегает. Из-за их происков положение человека изменилось к худшему: появились болезни, вражда — одним словом, все, что делает жизнь «юдолью плача». Но таково было решение богов, и это тоже стало Me — «божественным законом», который изменить невозможно.
По шумерским представлениям, посмертная участь человека была безрадостна. Дух умершего спускался в темную область Кур, скрытую глубоко под землей. Хотя там и существовало нечто вроде загробного суда, но в целом обитание в Преисподней было унылым и мрачным.
Таким образом, человек ощущал себя ничтожной мошкой, эфемерным существом, которое ненадолго приходит в мир и потом навсегда исчезает в темной пасти Кура. Возникало глубокое противоречие между духовным обликом народа, одаренного, трудолюбивого, творческого, и его понятием о назначении человека. И чем больше развивалось личностно-творческое начало, тем сильнее ощущалось это трагическое противоречие.
Ни шумеро-аккадцы, ни вавилоняне так и не смогли разрешить его. Однако попытки преодолеть трагизм и безысходность возникали не раз. Время от времени появлялась мысль о том, что боги — существа, по сути дела, добрые и что они хотят видеть таким и человека. Согласно одному тексту они спускаются в мир,
Чтобы утешить сироту, чтобы не было больше вдов,
Чтобы подготовить место, где будут уничтожены сильные...
Чтобы отдать сильных в руки слабым...196).
Таким образом, богоподобие, заложенное в человеке, оказывалось сильнее мифологических богов.
В одной шумерской поэме есть сюжет, близкий к библейскому Иову. На человека обрушились болезни и бедствия. Он уничтожен, оклеветан, обманут. Он обращается с горячей мольбой к Богу:
Бог мой, я хотел бы стать пред Тобою,
Я хотел бы сказать Тебе: слово мое — стон...
Бог мой, над землею сияет яркий день, а для меня день черен,
Слезы, печаль, тоска, отчаяние поселились во мне...
Бог мой, мой Отец, зачавший меня!
Дай мне поднять голову...
Доколе ты будешь оставлять меня без провожатого? 197).
85
В отличие от Иова герой шумерской поэмы не требует от Бога справедливости. Он просто плачет и сетует. Но в его жалобах мы видим пробуждение искреннего религиозного чувства, сердечной теплоты молитвы. Плач страдальца — это не заклинания мага, надеющегося победить враждебные силы и завладеть добрыми. Это голос души, обращенной к Богу, Богу, который милосерд.
* * *
Сознание того, что Бог есть защитник добродетели и правды, проявляется не только в личной религиозности, но начинает оказывать влияние и на жизнь общественную. Около 2350 г. в Шумере появился социальный реформатор, который сделал попытку применить божественный закон на практике. Этим реформатором был царь Лагаша Урукагина. То, что известно об его деятельности, показывает, что в его время «божественный закон» уже рассматривали как нечто связанное с правдой и справедливостью.
Урукагина пришел к власти в годы, когда старая патриархальная демократия в городах Шумера находилась под угрозой.
В результате постоянных войн укреплялась деспотическая власть правителей. Военное время требовало жертв, повышения налогов, дисциплины. Но когда наступал мир, власть имущие не желали смягчать суровые военные порядки. В Лагаше энси наложили свою руку на всю хозяйственную жизнь. Крестьяне несли изнурительные повинности на землях, объявленных собственностью владыки. А таких земель становилось все больше. Не избежали самоуправства и храмовые именья. Скот, принадлежавший жреческой корпорации, был фактически присвоен энси. Налоги накладывались в большом размере на все, что возможно: их взимали и за колодцы, и за похороны, и за работу в пивоварне или конторе. Не было почти сословия, которое бы не разорялось государственными поборами. Специальные правительственные агенты неустанно надзирали за пастухами, рыболовами, земледельцами, матросами, ремесленниками и жрецами, чтобы вовремя обеспечить поставки. Военачальники и вельможи, которым покровительствовал энси, чувствовали себя безнаказанно и захватывали земли бедняков. Все чаще вместо натурального взноса стали требовать плату деньгами. Такое положение вызывало недовольство во всех слоях общества.
Мы не знаем, как совершился переворот, кто поддержал Урукагину, когда он захватывал бразды правления. Никаких династических прав он не имел и сам подчеркивал, что власть получена им из рук Нингирсу, «витязя бога Энлиля» 198). Есть указания на то, что переворот был бескровным, и старый энси вместе с женой не только остались на свободе, но жили окруженные почетом.
Имя нового энси — Урукагина — означает «истинные уста го-
86
рода». Быть может, в нем содержался намек на реформаторские замыслы правителя.
Вскоре после своего утверждения в Лагаше Урукагина начал проводить широкие преобразования. Одни налоги он снизил, другие — отменил, отозвал дворцовых сборщиков податей, освободил от поборов храмы и духовенство, сильно ограничил власть монарха на землю и труд людей, восстановил порядок в судах, увеличил плату крестьянам, работавшим на храмовых угодьях. По его словам, он издал законы, которыми избавлял граждан Лагаша от долговой кабалы, насилия, воровства, убийства, грабежа и разорения. «Чтобы сирота и вдова мужу, силу имеющему, не предавались — с богом Нингирсу Урукагина слово это установил» 199). В надписях Урукагины есть выражение, из которого можно заключить, что он первый утвердил такой порядок в Лагаше.
Установление амаги — свободы или права — было для Урукагины актом религиозным. Согласно надписи, в этом он следовал «божественному закону», который исходил от бога Нингирсу.
События в Лагаше не могли не беспокоить царя соседнего города Уммы, — Лугальзаггиси уже давно стремился установить свою гегемонию в Шумере. Предвидя враждебные действия, Урукагина поспешно стал укреплять свою метрополию. Он возвел в центре Лагаша мощную крепость Гирсу и, как говорит историк, «создал себе условия подобно Гильгамешу, строителю стены Урука, подобно Фемистоклу, строителю стен Афин, подобно Неемии, строителю стен Иерусалима, для ведения самостоятельной политики, не считаясь со своими соседями» 200). Если до сих пор он носил традиционный титул энси, т. е. жреца-правителя, то теперь Урукагина принимает титул лугаля, т. е. царя.
На второй год правления Урукагины войска Лугальзаггиси выступили против Лагаша. Царь Уммы решил уничтожить опасный очаг новшеств и заодно присоединить Лагаш к своей державе. Тем не менее сразу разбить Урукагину не удалось. Из одного плохо сохранившегося текста можно заключить, что воины Лугальзаггиси дважды совершали набег на Лагаш и дважды вынуждены были вернуться ни с чем 201).
Военные действия продолжались несколько лет. На седьмой год правления Урукагины более сильный противник взял верх. Его войско опустошило область Лагаша, ограбило храмы, перебило множество народу.
Неизвестный писец этого времени, оплакивая судьбу Лагаша, утверждал, что завоеватели совершили большой грех против бога Нингирсу. «Могущество, пришедшее к ним, будет у них отнято, — предрекал он. — Царь Гирсу Урукагина не грешен в этом» 202). Последние слова вызывают догадку, что шумерский «царь-освободитель» не погиб во время разгрома, а сумел удержаться в своей цитадели Гирсу. О дальнейшей судьбе его ничего не известно.
87
* * *
Не успел еще Лугальзаггиси закрепить плоды своей победы, как оказался сам перед лицом грозного противника. Прошло очень немного времени с того дня, когда Лагаш был подвергнут разгрому, и предсказание шумерского писца свершилось. Лугальзаггиси был наголову разбит и казнен Саргоном — царем Аккада, области, где преобладало семитическое население.
Аккадцы, соотечественники Саргона, уже давно усвоили основы шумерской культуры, пользовались их клинописью, строили храмы по их образцам, ввели в свой пантеон шумерских богов. Семиты дольше других народов сохраняли древнее единобожие. Аккадцы именовали Бога — Господин, Бэл. Но постепенно к ним проникли шумерские культы, только имена богов были семитизированы. Ана — стали называть Ану, Энки — Эа, Энлиля — Элилем, Инанну — Иштар, Утута — Шамашом, Нанну — Сином и т. д.
Личность Саргона произвела большое впечатление на современников. Подобно древним царям Гильгамешу и Этане он стал героем народных легенд.
Саргон был энергичным властителем и неутомимым воином. Выходец из простой горской семьи, узурпатор, пробившийся к трону силой, он сумел сломить сопротивление шумеров и объединил в одном государстве все население южной Месопотамии. Саргон впервые заменил ополчение регулярным войском, с которым он дошел до Малой Азии и сирийского побережья. Он величал себя «царем четырех стран света» 203).
Аккадский властитель выступал как ревностный почитатель богов, однако был совершенно независим от жреческих кругов. Он умел, когда хотел, быть покровителем искусства и торговли, отстраивал старые города, но если сталкивался с неповиновением — был беспощаден. В отличие от египетских фараонов, которые вели свое происхождение прямо от богов, Саргон не скрывал того, что был незаконнорожденным подкидышем и принадлежал к дикому горскому племени, всего он достиг своими собственными силами под покровительством богов.
Угодливые царедворцы воздавали самозванцу неслыханные почести. Некоторые из них называли своих детей Саргонили, что значит — «Саргон — мой бог». Встать на египетский пусть Саргону было не трудно. Но это сделали его потомки. Существует мнение, что благодаря расширившимся связям с иноземцами монархи саргоновской династии усвоили египетское царепоклонство. Доказать это невозможно. Известно только, что при внуке Саргона Нарамсине (ок. 2250 г.) земля Сеннаарская впервые получила «божественного царя». Перед именем Нарамсина во всех надписях ставится знак божества. Монарх теперь не только «царь Аккада» и «царь четырех стран света», но он и «могучий бог». На барельефах Нарамсин является уже, подобно фараону, великаном с головой, увенчанной рогами — символом божества 204).
88

Семитический царь
(Саргон Аккадский?),
III тысяч. До н.э.
89
Неизвестно, как было встречено это обожествление деспота. Вероятно, простому народу оно могло импонировать, т. к. зримый бог — это нечто куда более понятное, чем бог, обитающий в высях неба. Но предания свидетельствуют о том, что духовенство священного города Ниппура резко противилось обожествлению Нарамсина. Столкновение царя со жрецами привело к жестокой расправе и разрушению храма Энлиля в Ниппуре.
Вскоре после смерти Нарамсина (ок. 2150 г.) страна была завоевана варварами, спустившимися с гор. Население Сеннаара к тому времени было очень смешанным. Шумерский язык сохранился лишь в богослужении, а в быту люди говорили на аккадском наречии. Шумеры — народ, заложивший основы мировой цивилизации, — уходили с исторической сцены. Уходили незаметно, бескровно, растворяясь в многоплеменном населении Месопотамии. Около 2050 г. их древний город Ур в последний раз переживает расцвет и даже приобретает господствующее положение. Но будущее окончательно переходит к новым семитическим племенам. Маленькое селение Вавилон ждет уже своего часа.
Аккадский период и «шумерский ренессанс» — эпоха гегемонии Ура — были значительной вехой в истории человеческого духа. Выдвижение узурпаторов, варварские нашествия, далекие военные и торговые экспедиции — все это способствовало пробуждению личности, обостряло самосознание, разрушало «коллективные представления». Человек чувствовал себя уже не просто членом рода, общины, храмового города, а активной индивидуальностью. Искусство получает новые стимулы. Мастеров уже интересует не просто тип, обобщенный образ человека, а конкретная личность, индивидуальный портрет. В это время созданы такие шедевры, как царский портрет из Аккада (вероятно, Саргона) и портреты вельмож из города Мари.
Обострение самосознания усугубляло ощущение трагичности судьбы человека. Произведения литературы этого времени, которые вводят нас в духовный мир шумеро-аккадцев, отмечены печатью безнадежности, в них господствует чувство тщеты людских усилий.
У египтян была надежда на бессмертие. В Сеннааре ее не было. Правда, существовали какие-то смутные представления о том, что участь людей за гробом зависит от их земных дел, но эти представления были слишком неопределенными, чтобы влиять на жизнь. На пути человека стояли непреложные законы Вселенной, и ему оставалось только склониться перед ними.
Поэма об Адапе рассказывает о герое-полубоге, который был благодетелем людей. В борьбе со стихиями Адапа всегда выходил победителем и однажды даже переломал крылья южному ветру за то, что тот опрокинул его лодку. Разгневанный поступком Адапы, небесный бог Ану вызвал его на суд. Отец героя, мудрый бог Эа, советует Адапе заручиться поддержкой богов-привратников и явиться на суд в черной траурной одежде в знак своего
90
раскаяния. Адапа должен быть осторожен и не прикасаться к пище и питью, которые предложит ему Отец богов, ибо это отрава — «пища смерти и питье смерти».
Адапа в точности выполнил наставления отца. Но Эа при всем своем хитроумии оказался недальновидным. Отец богов не только простил Адапу, явившегося с повинной, но и решил даровать ему бессмертие. Он предложил герою «пищу жизни и воду жизни», однако Адапа, памятуя наставление Эа, отказался от них. Тогда Отец богов сказал: «Возьмите его и спустите на землю!» Так из-за нелепой случайности, по недоразумению лишился Адапа бессмертия 205).
В другой легенде, сложенной в городе Кише, повествуется о великом царе Этане, который захотел добыть магическую траву омоложения. Трава эта росла в самой высокой точке Вселенной. С помощью Шамаша — бога Солнца — Этана нашел гигантского орла, который согласился поднять царя в высочайшие области мира.
Поэма дает картину стремительного полета и ощущение все увеличивающейся высоты. Вот земля уже кажется холмом, а океан — рекой, вот она уже стала величиной с лунный диск, а море — с корзину, и, наконец, после многих часов полета земля почти исчезла из виду, и океан стал неразличим... Ужас объял Этану, и он взмолился, чтобы орел вернул его на землю. Но в этот миг силы оставляют огромную птицу... Конец поэмы не сохранился. Очевидно, Этану постигла судьба Икара 206).
Только в греческой драме, у Софокла и Эврипида, мы видим подобный апофеоз рока, так ясно проведенную мысль о бесплодности борьбы человека с Неведомым.
* * *
Поэмы об Адапе и Этане — это еще прелюдия. Высшей точки мысль о невозможности побороть мировые законы достигла в сказаниях о царе Гильгамеше. В Аккадскую эпоху неведомый поэт положил легенды о нем в основу большого эпического произведения «Об увидевшем все».
Герой поэмы — легендарный царь Урука Гильгамеш — могучий и отважный витязь. Он не знает соперников, он презирает богов и людей. Он — сверхчеловек, «на две трети бог».
Гильгамеш намеренно одарен автором небывалым могуществом, чтобы тем острее можно было почувствовать его бессилие перед общечеловеческой участью.
Гордый и дерзкий мятежник, тиран и угнетатель, царь Урука стал в тягость небу и земле. Жители города стонут под его деспотическим правлением. (Это тоже характерная черта эпоса: мотивы протеста против тирании не исчезают в литературе Двуречья со времени Урукагины).
В один прекрасный день молитвы людей и жалобы богов
91
услышаны. Верховный бог Ану посылает на землю соперника Гильгамешу, чтобы сломить его гордость. Это Энкиду — дикий, обросший шерстью великан, который живет со зверями в пустыне и вместе с газелями ходит на водопой: он охраняет животных от охотников, разрушает ловушки, а шумных многолюдных городов чуждается. В его лице как бы сама природа должна показать свое превосходство Гильгамешу.
Но бесстрашного царя не пугает первобытный исполин. Он подсылает к Энкиду блудницу, которая пленяет дикаря и приводит его в город. Здесь два титана сталкиваются лицом к лицу. Они бросаются друг на друга, но скоро понимают, что их силы равны. Гильгамеш и Энкиду заключают союз дружбы.
Эта встреча и дружба сделали Гильгамеша другим человеком. Вместо жестокого тирана мы видим теперь человека, одушевленного мыслью облегчить жизнь людям. Он хочет «все злое изгнать из мира» 207).
Узнав, что доступ в кедровые леса невозможен из-за живущего там чудовища Хумбабы, Гильгамеш предлагает другу уничтожить его, чтобы жители родного города могли беспрепятственно добывать редкую древесину.
Но Энкиду пугает это предприятие. С некоторых пор его мучит необъяснимая тревога. Ему снятся зловещие сны и гнетет предчувствие близкой гибели. Ничего доброго не предвещают и гадания. Вместе со старейшинами Урука Энкиду отговаривает Гильгамеша от похода, рассказывает ему о чудовищной силе Хумбабы, о его громоподобном реве и пламенном дыхании. Но Гильгамеш не желает думать о смерти. Ведь человек все равно обречен, так не лучше ли позаботиться о том, чтобы после тебя осталась добрая память?
Кто, мой друг, вознесся на небо?
Только боги с Солнцем пребудут вечно,
А человек — сочтены его годы.
Что бы он ни делал — все ветер!..
Если паду я — оставлю имя:
«Гильгамеш пал в бою со свирепым Хумбабой!» 208).
Кажется, герой совсем не смущен тем, что всех людей ждет гибель, а напротив, в этом находит себе ободрение для подвига. Его утешает, что он может «оставить имя», но, очевидно, смерть рисуется ему как что-то далекое и его не касающееся.
Друзья отправляются в путь и достигают границ таинственного кедрового леса, где бродит Хумбаба по проложенным им тропинкам. Бог солнца Шамаш — их союзник; он помогает им сразить грозного противника. И в дальнейшем успех сопутствует богатырям. Они бросают вызов богам и уничтожают исполинского быка, посланного на них небожителями.
Гильгамеш оскорбил богиню Иштар, и это не прошло ему даром. Она отомстила ему. В самый разгар торжества и побед
92
над богатырями разражается несчастье. Сбылись тревожные предчувствия Энкиду: тяжелый недуг сокрушает непобедимого. И через двенадцать дней он уже лежит перед своим товарищем неподвижный, бездыханный, сраженный неумолимой смертью...
Гильгамеш почти обезумел от горя. Куда девалась его былая заносчивость и презрительное отношение к думам о смерти? Он рыдает, рвет свои роскошные кудри, в отчаянии срывает с себя одежды. Он неотступно сидит у тела, пока на нем не проступают черты тления. Тогда наконец он убеждается, что все кончено.
Долго и безутешно оплакивает Гильгамеш друга. Он велит сделать золотую статую умершего и предает его земле с царской пышностью. Но все это не приносит ему успокоения. Внезапно ему на ум с ужасающей ясностью приходит мысль о том, что и его ожидает такая же участь, как Энкиду. Тоска и страх смерти охватывают все его существо, и он убегает один блуждать по пустыне.
Наконец он чувствует, что не в силах больше томиться, и решается на свой последний и самый великий подвиг: найти секрет бессмертия. Ему известно, что далеко на востоке живет его праотец Утнапишти — единственный человек, который получил вечную жизнь. К нему-то и решает отправиться царь Урука.
Путь в страну Утнапишти труден и опасен: смельчака ожидают разнообразные препятствия, свирепые хищники и чудовища стерегут заповедные дороги. Но ничто не может остановить человека, за которым по пятам гонится призрак смерти. Он пробирается через пустынные и мрачные области, истерзанный и изнемогающий выходит к берегу Океана. Там его встречает морская нимфа Сидури, которая пытается отговорить Гильгамеша от бесплодных поисков:
Гильгамеш, куда ты стремишься?
Жизни, что ищешь, — не найдешь ты!
Боги, когда создавали человека,
Смерть они определили человеку,
Жизнь в своих руках удержали.
Ты же, Гильгамеш, насыщай свой желудок,
Днем и ночью будешь ты весел,
Праздник справляй ежедневно,
Днем и ночью играй и пляши ты!
Гляди, как дитя твою руку держит,
Своими объятиями радуй супругу —
Только в этом дело человека! 209).
Эти слова удивительно напоминают египетскую «Песнь арфиста», в них — символ веры бездумного гедонизма, который привлекал многих людей в прошлом и настоящем. Но для Гильгамеша увещанья Сидури — пустой звук. Он даже не удостаивает ее ответом и лишь настойчиво требует указать путь к Утнапишти.
И вот герой переправляется через Океан, по которому не проходил никто из смертных. После двухнедельного странст-
93
вия он встречается наконец со старцем и открывает ему свое сердце: мысль об умершем друге не дает ему покоя:
Так же, как он, и я не лягу ль,
Чтобы не встать во веки веков?
Он рассказывает о всех преградах, которые преодолел, лишь бы добраться до человека, стяжавшего бессмертие.
Утнапишти уверяет Гильгамеша, что его жажда вечной жизни досталась ему от богов, сродником которых он является. Но так как он — не бог, то ему нужно примириться с неизбежным. Он утешает Гильгамеша почти теми же словами, какими сам герой ободрял когда-то своего друга. Он говорит о всеобщности разрушения и распада:
Разве навеки мы строим дома?
Разве навеки мы ставим печати?
Разве навеки делятся братья?
Разве навеки ненависть в людях?
Разве навеки река несет полные воды?
Стрекозой навсегда ль обернется личинка?..
Спящий и мертвый друг с другом схожи —
Не смерти ли образ они являют?.. 210).
Этот мрачный панегирик смерти еще больше погружает Гильгамеша в уныние. Он спрашивает Утнапишти, каким путем он, единственный из людей, достиг бессмертия. Старец рассказывает ему о том, как он спасся во время великого потопа и как боги даровали ему вечную жизнь. Таким образом, его судьба — случайное исключение.
В конце беседы Утнапишти предлагает Гильгамешу подвергнуться испытанию. Он должен победить сон в течение шести дней и семи ночей, и тогда, быть может, он сможет победить в себе силу смерти. Но Гильгамешу это испытание не под силу: сраженный сном, он засыпает как мертвый.
Разбитый и разочарованный, собирается богатырь в обратный путь. Но Утнапишти сжалился над ним и поведал о подводном растении, которое хотя и не дает бессмертия, но делает человека всегда молодым. Немедля ни минуты, Гильгамеш бросился в водоем и через него попал в Океан, на дне которого росла трава юности.
Торжеству его не было конца, когда он поднялся с растением в руках. Он мечтал о том, что даст вкусить от травы юности всему своему народу. Но увы, и здесь он потерпел поражение: коварная змея, учуяв запах травы, проглотила ее, когда Гильгамеш беззаботно купался...
Так кончились попытки человека обрести бессмертие. Приближаясь к стенам родного Урука, Гильгамеш пытается утешить себя тем, что его трудами воздвигнуты могучие городские стены из обожженного кирпича, что его дела будут говорить о нем потомству.
94
* * *
Но уже переписчики поэмы хорошо понимали, что это жалкое утешение. Они могли легко убедиться в том, что крепкие стены ненадолго переживают своих строителей. Поэтому один из писцов добавил к эпосу часть другой древней песни о Гильгамеше. В этой песне рассказывается о том, что Энкиду пал жертвой неосторожности. Посланный в Преисподнюю по поручению Гильгамеша, он не выполнил его наставлений и остался в царстве мертвых навсегда. Богатырь вымаливает у бога Эа позволения увидеть хотя бы тень Энкиду, чтобы узнать правду о тайне смерти, познать сокровенный Закон Земли.
Появившийся из бездны, «как ветер», дух Энкиду долго не хочет открывать Гильгамешу суровый Закон Земли 211).
— Скажи мне, друг мой, скажи мне, друг мой,
Закон Земли, что ты видел, скажи мне!
— Не скажу я, друг мой, не скажу я, друг мой,
Если бы Закон Земли, что я видел, сказал я —
Сидеть бы тебе и плакать!
— Пусть я буду сидеть и плакать, — отвечает Гильгамеш. Он во что бы то ни стало хочет проникнуть в тайну. И тень начинает печальную повесть о жизни призраков в царстве Преисподней.
Тело мое, которого ты касался, веселил свое сердце,
Червь его пожирает, полно оно праха.
Безотрадно существование умерших. Особенно тяжко тем, кто не был оплакан, кто не погребен согласно обычаю. Жертвы живых — это пища мертвых. Поэтому нужно совершать все обряды, чтобы хоть как-нибудь облегчить загробную участь близких.
Мысль о тщете всех человеческих дел никогда не оставляла философов и поэтов Сеннаара. Она нашла яркое воплощение в «Беседе господина и раба», написанной примерно столетие спустя после Гильгамеша 212).
В этом диалоге царит дух релятивизма, доходящего до желчной циничности. Нет ничего прочного и ценного. Все двойственно и обманчиво. Господин мечтает о царских милостях, о женской ласке, о пирах, об охоте; его настроения переменчивы: то он хочет поднять восстание, то желает гордым молчанием ответить на обвинения врага, то подумывает о необходимости жертв и служения на благо людей. Раб послушно поддакивает и расписывает все радости, которые ждут его. Но стоит господину хоть немного поколебаться, как он говорит противоположное тому, что говорил минуту назад. Оказывается, все мечты господина ничего не стоят: царское благоволение непостоянно, женская любовь — ловушка, безумие — надеяться на успех восстания, и глупо рассчитывать на благодарность людей. Нет особого смысла и в благочестии: ведь
95
человек не в состоянии заставить бога служить себе «подобно собаке». И добро, и зло — мимолетны. «Поднимись на холмы разрушенных городов, — говорит раб, — пройдись по развалинам древности и посмотри на черепа людей, живших раньше и после: кто из них был владыкой зла и кто из них был владыкой добра?
— Что же теперь хорошо? — печально спрашивает господин.
— Сломать мою шею и твою и кинуть в реку — это хорошо, — отвечает раб.
Таков был итог великой древней культуры, которая, несмотря на все свои технические завоевания, не могла примириться ни с жизнью, ни со смертью и пришла к глубокому неисцелимому пессимизму.
И тем более ярко на этом сумрачном фоне выделяются первые просветы в мир Божественного Откровения. Еще в шумерской повести о страдальце мы видели пробуждающуюся жажду Бога, живую молитву, не похожую на магию заклятий.
Эти молитвы все чаще и чаще появляются в Аккадский период. Как бы ни именовался Бог, к которому простирал руки человек: Энлиль, Шамаш или Син, — это бы Бог истинный.
«Милосердный, милостивый Отец, в руках которого жизнь всей земли, — начертано на одной табличке из Ура, — Владыка, Божество Твое как далекое небо, как широкое море... Твое слово вызывает к бытию правду и справедливость, а люди начинают говорить истину».
В другом гимне, обращенном к Солнцу, мы читаем: «Несчастный громогласно взывает к Тебе, слабый, угнетенный, нищий молятся Тебе... идущий по степным дорогам, равно как и блуждающий мертвец, и скитающийся дух покойника... Все они молятся Тебе, и Ты не отвергаешь молящихся» 213).
Через эту личную религиозность находил человек выход из царства демонов и законов, колдунов и царей, разрушения и смерти, бессмыслицы и отчаяния. Но в целом Месопотамия, подобно Египту, оказалась не в состоянии преодолеть бремя старого язычества. Проблески единобожия так и остались здесь только проблесками.
96
Часть III
ВОСТОК И ЗАПАД
ВО ВТОРОМ
ТЫСЯЧЕЛЕТИИ
ДО Н. Э.
Глава восьмая
ПАСТУШЕСКИЕ НАРОДЫ. АРЬИ В ИНДИИ
Ок. 2000—1700 гг.
Язычник, с осязаемым жаром
молящийся своему идолу, воистину
молится Богу.
С. Кьеркегор
На заре второго тысячелетия до н. э. весь цивилизованный мир пришел в смятение. Орды пастушеских народов появились на границах государств старой культуры. Казалось, какие-то загадочные силы вдохнули в миллионы людей непреодолимую страсть к передвижениям и завоеваниям. Народы и племена, в течение веков не покидавшие насиженных мест, поднялись и огромными лавинами, тесня друг друга, потянулись через степи и пустыни, реки и горные хребты. Почти всюду происходило нечто подобное Великому переселению народов Европы или наступлению арабов, подвигнутых проповедью Магомета.
Из Аравийских пустынь хлынули кочевники-амориты, наводнившие Двуречье; в Малой Азии появляются хетты; ахейцы вторгаются с севера на Балканский полуостров; у порога Индии показываются скотоводческие племена арьев.
Амориты уже не первый раз приходили на берега Евфрата. Они уже много веков пасли стада в области Аккада; аморитом был, вероятно, Саргон, создатель первой семитической державы. Теперь, когда земля Сеннаарская вновь распалась на враждебные царства, новая волна аморитов переходит ее рубежи.
Воинственные и энергичные пришельцы как бы влили новые силы в угасавшую цивилизацию. Они не только возродили старые культурные центры Мари и Ур, но и основали новый мировой
99
центр — Вавилон, по имени которого стали называться отныне и страна, и население Сеннаара. Завоеватели усвоили письменность, религию, искусство местного населения. Их архитекторы возводили дворцы, храмы и зиккураты. Самый грандиозный из них, сооруженный в Вавилоне, назывался Этеменанки, т. е. «основание неба и земли». Одним из великих аморитских правителей был Хаммурапи (ок. 1728—1686 гг.), который пошел по стопам Саргона и создал Вавилонскую империю; она обнимала Шумер, Аккад и Ассирию. Его войска стали угрозой горцам и жителям побережья, его купцы прокладывали новые караванные пути. При Хаммурапи был издан свод законов, который наряду с шумерским кодексом Ур-намму является древнейшим из известных правовых документов 214).
В религиозной сфере произошли лишь внешние перемены. Место Энлиля — старого покровителя шумеров — занял Мардук — бог Вавилона, объявленный царем богов. Но в сущности вавилонская религия, как мы увидим ниже, осталась вполне тождественной религии Шумера.
Не все амориты осели и влились в цивилизованные общества. Некоторые из семитических кланов продолжали вести полу-оседлый образ жизни в сирийской степи, другие, оказавшись в Палестине, угрожали Египту. Близился день, когда нога завоевателя вступит на землю фараонов.
* * *
Эта эпидемия нашествий не могла пройти бесследно для человечества. Она глубоко потрясла старые цивилизации и старый строй мышления. Дотоле замкнутые в узком мире привычных представлений, часто существовавшие в изоляции, народы внезапно оказались поставленными друг перед другом; столкнулись разные культуры, разные душевные склады, разные обычаи, традиции, верования. Чем больше различались встретившиеся народы, тем сильнее было потрясение от этого столкновения. Если амориты нашли в Двуречье уже множество соплеменников-семитов и легко приняли местную религию, смешавшись с коренными жителями, то совершенно иную картину мы находим в Индии. Здесь завоеватели — арьи — были настолько чужды туземным индийцам, что первоначально не только не смешивались с ними, но и надолго сохранили за ними название «дасью» — враги.
Письменность древних индийцев до сих пор еще не расшифрована, но раскопки свидетельствуют о том, что цивилизация, возникшая на севере Индостана, по своим внешним достижениям не уступала цивилизациям Шумера и Египта того времени. По найденным изображениям мы можем догадаться, что обитатели Хараппы и Мохенджо-Даро в своей жизни и поступках руководствовались примерно теми же понятиями и верованиями, которые
100
были свойственны прочим людям древнего Востока. Зверообразные боги, фигурки Богини-Матери — все эти предметы, извлеченные археологами из земли, красноречиво свидетельствуют о характере миросозерцания доарийской Индии. Очевидно, власть магии и языческих обрядов признавалась здесь не меньше, чем в Фивах или Уруке. В древнеиндийских городах были созданы специальные бассейны для ритуальных омовений 215).
Совершенно в иной мир попадаем мы, когда обращаемся к пришельцам-арьям. Они не жили в больших городах, не строили дворцов и храмов, не носили изысканных одежд. У них не было ни идолов, ни жрецов. Дым костров и лай собак, походные хижины и мычанье стад — таков был обычный фон их простого, почти первобытного уклада жизни.
Слово «арья» означает «благородный», хотя возможно, что в глубокой древности оно имело иной смысл. Так, некоторые производят его от слова «ар» — пахать. Быть может, на своей первоначальной родине арьи действительно были земледельцами, но, во всяком случае к 2000 году, перед вторжением в Индостан, они уже не одно столетие вели привольную жизнь скотоводов 216).
Часть их осела в Иране, и именно от них эта страна получила свое имя, а другие продолжали проводить свои дни под открытым небом, следуя верхом на лошадях за стадами длиннорогих коров. Корова была для них всем; на их языке война звучала как «добыча коров», господин — как «владелец коров». Арьи окружали этих медлительных, спокойных животных с короткими, умными глазами трогательной любовью, граничившей с благоговением.
Арьи были разноплеменным народом и по внешнему облику меньше всего походили на мифических «арийцев», которых измыслили в XIX и XX вв. Среди них было много пришельцев с севера, светловолосых людей высокого роста. Однако преобладал у них облик, близкий к семитическому. Их родичи, заселявшие Грецию, Италию, Персию, Индию, отличались ярко выраженными чертами той расы, которую принято называть индо-средиземно-морской.
Темные волнистые волосы, густые бороды, крупные черты лица с выдающимися носами — все это были признаки, свойственные как эллинам и индийцам, так и евреям и ассирийцам 217).
Впрочем, по характеру арьи несколько отличались от своих семитических собратьев, на духовном облике которых всегда лежала печать суровой пустыни — их родины. Среди безводных равнин семит чувствовал себя наедине с неведомым Божеством, ощущал себя как жизнь, противопоставленную смерти; человек был в пустыне разумом, стоящим выше мертвой природы.
Совсем иное мироощущение выработалось у арьев среди цветущих долин их благодатной земли. Так, у них необычайно обострилась чуткость к красоте природы. Бог был у арьев не над миром, как у семитов, а среди мира, внутри его, как всепроникающая и животворящая сила. Они имели тягу к мечтательности,
101
сладостным грезам, созерцанию и научились погружаться в фантастические миры, созданные воображением. Склонные к опьяняющим экстазам, живо ощущая свое мистическое сопричастие с Мирозданием, потомки арьев выработали одну из самых интересных философий, какие только знал древний мир.
В свое время знаменитый филолог и историк Макс Мюллер даже утверждал, что европейская культура, воздвигнутая на трояком фундаменте: римском, греческом и еврейском, может немало обогатиться и усовершенствоваться, почерпнув из дотоле ей неизвестного индийского родника.
Развитие миросозерцания арьев проходило по сложному и запутанному пути, и в лоне их культуры на протяжении веков шла непрерывная борьба языческого магизма с единобожием. Подобно многим первобытным народам, предки арьев первоначально сохраняли древнюю веру в единого Творца Вселенной. Они называли его Дьяушпитар— Светозарный Отец 218).
В ведическую эпоху религия Небесного Отца уже была побеждена политеизмом, и от нее дошли лишь отзвуки. Вероятно, расцвет ее относится к тем доисторическим временам, когда предки арьев и родственных им племен представляли собой нечто единое. Зевс — патер греков, Юпитер — римлян, Тиу — германцев — все они, вероятно, не что иное, как трансформированные образы древнейшего общеарийского Бога Неба. Это была чистая, непосредственная вера, еще не засоренная плевелами обрядоверия. Молитвы Дьяушпитару возносились поистине с библейской простотой прямо под открытым небом; жертва Ему была лишь естественным выражением благоговения; образ Его был долгое время лишен каких-либо антропоморфических черт, и лишь в эпоху, когда арьи покинули свою первоначальную родину, по древне-арийской религии был нанесен первый удар.
* * *
Около 2000 г., во время всеобщего передвижения народов, арьи спустились с Иранского плоскогорья и двинулись на юг в поисках новых земель для своих стад. Они знали, что за темными хребтами и ослепительными пиками Гималаев находится чудесная страна, похожая на волшебный сад. Для того чтобы достигнуть ее границ, нужно было преодолеть трудный путь через ущелья и горные перевалы. Продвигаясь к заветной цели со своими стадами, повозками и лошадьми, арьи оказались в сердце высочайших в мире гималайских твердынь, в царстве вечных снегов, обвалов и туч.
Есть художник, который в XX веке сумел взглянуть на эти горы глазами древнего духовидца, способного угадывать в природе скрытую мистическую жизнь. Глядя на полотна Рериха, мы в какой-то степени можем представить себе, какое впечатление произвел горный мир на арьев, пересекавших его во время своего
102
переселения в Индию. Эти неподвижные облака в лазури, похожие на заснеженные вершины, эти воздушные пики, похожие на облака, эта прозрачная атмосфера, которая чудесно раздвигает горизонт, и, наконец, чувство оторванности от всего земного создают в горах ощущение, что находишься где-то у границы в другие, неведомые смертным миры.
Много молитв слышали и поныне слышат Гималаи — удивительные горы, издревле населенные пустынниками и искателями Бога, и одной из них была молитва арьев, прозвучавшая четыре тысячи лет тому назад, перед их вступлением в новую землю.
Нам почти ничего не известно о том, как совершилось это вступление. Правда, раскопки свидетельствуют, что древнеиндийские города слышали военные клики и стоны умиравших, но мы не знаем, связано ли это с нашествием арьев. Одно лишь можно утверждать с достоверностью: арьи укрепились в Кашмире, потом продвинулись на юг, в Пенджаб, и наконец, после многолетней жестокой борьбы, стали полновластными хозяевами Северной Индии, поработив коренных жителей, частично же истребив их или оттеснив на юг.
Но если мы не имеем никаких памятников, если от древних арьев до нас не дошло ни одного изображения или надписи, то можем ли мы говорить что-либо об их культуре, миросозерцании, об эволюции их идей, об их духовной жизни вообще?
К счастью, несмотря на молчание археологии, мы не потеряли следов культуры арьев. О ней свидетельствует древний сборник гимнов, называемый Риг-Веда.
Арьи были народом музыкальным и любили пение. В каждом роде или племени певцы и сказители пользовались большой любовью и популярностью. Эти народные поэты — риши — слагали религиозные гимны, былины, поучения. Правда, ничего достоверного мы не знаем об этих мудрецах древности. Представления о них более поздних поколений были спутанными и неправдоподобными, часто их смешивали с богами, мифическими героями и духами. Быть может, имена некоторых риши, дошедшие до нас в Риг-Веде, действительно носили когда-то исторические лица, но это, пожалуй, самое большое, что можно о них сказать.
Риши были не простыми поэтами. Они сознавали себя пророками и ясновидцами, сердцам которых открывается высшее знание («веда» — ведение, знание). По словам Радхакришнана, риши «видит духовным оком или интуитивным зрением. У риши глаза не подернуты туманом страстей, и он может видеть истину, скрытую от чувств. Он только передает истину, которую видел, а не создал... Душа поэта слышит истину, она открывается ему в том вдохновенном состоянии, когда дух возвышается над ограниченным и поверхностным логическим познанием». Впрочем, можно сомневаться, что все создатели гимнов владели этим великим даром прозрения. Очевидно, в их среде было немало посредственностей и подражателей. Однако некоторые из них действительно
103
поднимались до таких высот, до которых доходили лишь величайшие религиозные гении человечества.
Через несколько веков после завоевания арьями Индостана гимны были записаны и собраны в книгу «Самхиту». К тому времени многие знали их наизусть, и они уже получили авторитет священного писания.
Гимны Риг-Веды разнородны и даже противоречивы. Неожиданные духовные взлеты, чарующей красоты образы, пламенные порывы к Богу и правде чередуются здесь с варварским антропоморфизмом, примитивным чародейством, грубой чувственностью и ярко выраженным многобожием. Но совершенно непостижимым на первый взгляд кажется причудливое переплетение единобожия и язычества в одних и тех же гимнах. В Риг-Веде упоминается более трех тысяч богов, и многим из них приписываются свойства Верховного Начала. Каждый из богов поочередно как бы становится Богом.
Это странное смешение двух религиозных восприятий объясняется тем, что ведические гимны были записаны в эпоху разложения и упадка единобожия. Их можно сравнить с прекрасным храмом, превращенным рукой осквернителя в жилой дом. То тут, то там мы наталкиваемся на следы былого великолепия, на изящные капители, на остатки лепки, на уцелевшие колонны. Все это лишь части храма, самого его уже нет. Точно так же в Риг-Веде мы обнаруживаем остатки первоначальной веры в Единого Бога, элементы которой вплетены в здание политеизма.
Торжеству язычества в арийской религии, очевидно, немало способствовало переселение в Индостан.
* * *
Когда арьи, миновав пустынные области Гималаев, вступили на индийскую землю, она сразу же должна была поразить их своими необыкновенными ландшафтами, своей буйной растительностью, пестротой красок, непривычными звуками и ароматами. После безмолвия гор эта тропическая страна могла показаться причудливым вымыслом. Индия и в самом деле отмечена какой- то особенной печатью. Ее деревья с воздушными корнями и бамбуковые джунгли могут сравниться только с лесными чащами Африки и Амазонки. Здесь обитают самые ядовитые змеи, самые красивые птицы, самые величественные из сухопутных животных — слоны. Индия и прилежащие к ней области — редчайший уголок земного шара, где сохранились белые носороги, тигры, человекообразные обезьяны. Отгороженная Гималаями от всего мира, она готовила несравненные сюрпризы всем осмелившимся пересечь ее горную границу.
Как мы говорили, арийские пришельцы были очень чутки к красотам природы, и открытие новой страны должно было оказать
104
огромное влияние на их миросозерцание. Поэтому понятно, почему в ведических гимнах звучит неподдельное восхищение и восторг перед многоликим мирозданием, и, читая эти гимны, мы можем легко представить себе всю гамму переживаний, которые охватили душу пришельцев при вступлении в Кашмир и Пенджаб.
Однако природа на определенном этапе духовной истории человечества являлась не только источником богопознания, но и источником великих соблазнов. С ослаблением чувства Бога она все более и более персонифицировалась, приобретала черты Богини, Божественной Матери всего сущего. Именно Она, эта Богиня-Мать, была, как мы видели, первым сюжетом для зарождавшегося изобразительного искусства. Ее изваяния обнаружены и в древнейших центрах доарийской цивилизации Индии 219).
Арьи, так же как и другие народы, стали видеть рядом с Божеством обожествленную Природу, Вечную Женственность, пассивную мировую Прародительницу, Мать, кормящую Землю. Они называли ее Адити, т. е. свободная или безначальная, вечная. Она стала мыслиться как всеобщий корень бытия, как некая Праматерь и наконец постепенно заслонила образ Дьяушпитара. «Адити, — говорится в Риг-Веде, — это небо, Адити — это промежуточная область, Адити — это отец, и мать, и сын, Адити — все боги и пять племен, Адити — это все, что когда-либо будет рождено» 220).
Итак, Божественная Мать рождает мир, рождает человечество, рождает богов. Культ ее есть путь от единобожия к многобожию. Вместо незримого Светозарного Отца в Риг-Веде фигурируют уже «сыны вечности», дети Адити, боги («адитья») и духи (Дэвы).
Но монотеистический инстинкт еще не утрачен арьями. В колоссальной, многоликой, текучей массе духовных существ, которые то сливаются воедино, то дробятся на тысячи прекрасных и уродливых ликов, они продолжают некоторое время смутно чтить Высшее единое Начало. «Единое называется мудрецами по-разному» 221).
Обоготворив душу Твари, Адити, арьи обоготворяют теперь ее детей, проявляющих себя во всем многообразии стихийной жизни мира: в белоснежных облаках, в ослепительном солнце, в тихом плеске священных вод, в таинственном сумраке джунглей. Но превыше всего чтили они Небо.
Небо! Что может выразительней поведать нам о бесконечности, о величии, о вечном покое? Что может служить лучшим символом Бога, чем бездонный океан небосвода? Он — всеобъемлющий, он — манящий, он раскинулся и царит безмятежно. Его красота не похожа на красоту земли. В нем пустота, но в ней заключено все. Небо чисто, в нем нельзя укрыться. Его голубая бездна безгранична, безмерна, она вызывает невольный трепет благоговения. Ночное небо завораживает своей таинственностью, своей чреватостью великими ужасами и немыслимыми исполин-
105
скими видениями. Масштабы неба — сверхчеловеческие, божественные масштабы. Именно там, за этим блистающим небосводом, по которому проносятся, подобно живым существам, облака, с которого светит солнце, на котором мерцают мириады звезд, именно за этой грандиозной космической завесой кажется сокрытым самое великое, самое святое, сокрыта тайна мира. И арья возносит мольбу этому Богу. Он забывает, что Небо, Варуна — лишь «адитья», сын молчаливой Бесконечности, он обращается к небесному Варуне с такими словами, которые его предки возносили Светозарному Отцу Дьяушпитару 222).
Могущественный Владыка Всевышний
Зрит издалека на наши деяния,
Словно они совершаются близко.
Неудержима творческая мощь Варуны. Он простирает над миром беспредельный покров небес. Он прокладывает путь солнцу, направляет течение рек.
Он послал прохладные ветры через леса,
Вложил резвость в коня, молоко в коров,
Мудрость в сердца...
В небесное царство Варуны устремляется «нерожденная часть» человека, его душа. Там она будет предаваться вечному ликованию, прославляя своего Владыку в сладостном блаженстве. В ранних гимнах проблема смерти не носит трагического характера. Люди еще не утратили живого чувства бессмертия, не шевелилось сомнение в их сердцах. Они уверены, знают, что после погребения тела (у арьев еще не появился обычай сжигать трупы) все угодные Варуне блюстители его закона перейдут в горние сверкающие миры 223).
В гимнах Варуна выступает уже не как «адитья», а как Сам вечный Творец и Вседержитель. Он управляет космосом согласно непреложному всеобщему закону, который ведийские риши называют Рита. Этот закон, в чем-то аналогичный шумерскому Me, — основа естественного порядка вещей. Согласно ему совершается все в мироздании. «Законом земля стоит твердо, небеса и солнце держатся, и сыны вечности» 224). Даже боги подчинены этой всеобщей универсальной закономерности. Рита осуществляет во Вселенной принцип единства:
Един Огонь, многоразлично возжигаемый,
Едино Солнце всепроникающее,
Едина Заря всеосвещающая,
И едино то, что стало всем этим 225).
Но Рита, по представлению риши, правит не только строем физического космоса, но включает в себя и универсальную этическую закономерность. Под словом «Рита» риши понимали вечную объективную реальность нравственного Миропорядка. Все-
106
ленский строй, согласно их учению, сплетается из двух закономерностей: материальной и духовно-нравственной.
Невозможно не удивляться, когда встречаешь такие глубокие мысли у народа, сделавшего только первые шаги по пути к цивилизации. Какие только гипотезы не измышлялись для объяснения этого факта! Однако, перед нами, скорее всего, не мировоззрение, достигнутое в процессе долгих и мучительных исканий, а чудом сохранившееся наследие далекого первобытного прошлого. В Риг-Веде большинство самых возвышенных идей восходит к доисторическим временам, к тем временам, когда в человечестве еще жила первоначальная вера в Единого. Молясь Варуне, арийский риши эмоционально воспринимал его как истинного Бога, но рационально он осмысливал Варуну лишь как адитью — сына Вечности, подчиненного Рите.
А откуда взялся сам закона Рита? Слово «Рита» означает «соответствие». Соответствие чему? И здесь мыслители Риг-Веды уже колеблются с ответом.
Чья высшая воля создала Закон?
Напрасно всматривается риши в туманную глубину. Его народ и он сам уже слишком далеко отошли от Источника высшего знания. Светозарный Отец, Дьяушпитар, стал для них бледной тенью, абстрактным понятием, растворился, исчез, заслоненный исполинским телом Матери-Природы и полчищами рожденных ею адитий...
Но хотя Бог все больше и больше ускользает от сознания человека ведической религии, это не означает угасания в нем живого религиозного чувства; он начинает переносить на богов свойства Вседержителя. Вступая в противоречие с самим собой, он объявляет Варуну носителем Риты и создателем мира.
Египетские жрецы отождествляли богов с Единым. У индийских риши мы видим нечто сходное с религиозными поисками Месопотамии. Риши, говорит Макс Мюллер, «обращается к Индре, или Агни, или Варуне как к единственному богу, на время совершенно забывая о других богах... Именно эту фазу, вполне развитую в гимнах Вед, я и желал окончательно отметить, дав ей отдельное название, и назвал ее генотеизмом» 226).
Ведические гимны содержат указание на углубившееся сознание греховности человека, который чувствует, что он сам является причиной удаления от Бога, что его пороки и поступки воздвигают стену между ним и Богом. Поэтому таким горячим и искренним чувством проникнуты псалмы Риг-Веды, которые можно сравнить лишь с лучшими произведениями мировой религиозной поэзии 227).
Хотя часто, о Варуна,
Нарушаем мы закон твой, Боже,
Как дети человеческие день за днем,
Не отдавай нас в жертву смерти,
В жертву ударам и дикому гневу...
107
Когда умилостивим мы Его,
Далеко взирающего подателя благ Варуну,
Он, знающий пути птиц в чистом воздухе
И кораблей в море,
Знающий двенадцать месяцев с их плодами...
Да благословит он ежедневную жизнь нашу
И умножает число дней наших...
Если мы согрешили против человека,
Который любит нас,
Причинили зло другу или товарищу,
Нанесли зло соседу, живущему с нами,
Или даже незнакомому путнику,
О Господи, отпусти нам эти прегрешения.
С чувством трогательного доверия обращается риши к Богу и сокрушенно кается в пристрастии к вину, к азартным играм, кается в склонности к насилию и распущенности. Он просит Варуну освободить его от тяжести грехов и простить за слабоволие и малодушие. В гимнах Варуна нередко называется Другом и звучат горькие сетования на то, что эта дружба с Небесами нарушается проступками и грехами.
Как много, казалось бы, обещают эти порывы! Радостное предчувствие охватывает нас. Не здесь ли мы можем начать странствие по той дороге, которая поведет нас через тернии к звездам? Но торжествовать еще рано. Вот впереди маячат странные тени. Дорогу преграждают, кивая и гримасничая, причудливые фигуры духов. Как зачарованный смотрит на них человек... В глазах у него темнеет. Он не находит в себе энергии, чтобы решительно оттолкнуть эти влекущие, завораживающие лики: они окружают его... Он в сетях... Он сбился с пути.
108
Глава девятая
ЛЮДИ, СТИХИИ И БОГИ
Индия, 1700—1500 гг.
Многих завоевателей видела Индия. На протяжении веков народы Востока и Запада, арьи и эллины, арабы и англичане, вступали как победители на ее землю. И не только порабощение и разруху приносили они с собой. Индия многому научилась от своих чужеземных властителей. Европа дала ей принципы демократической государственности, достижения западной культуры и науки; при мусульманских правителях в Индии расцвело утонченное индо-мавританское зодчество. Греческое влияние создало нежный индо-эллинский стиль в скульптуре; арьи положили начало своеобразному философскому мышлению Индии.
Но окончательно возобладать над могучими почвенными истоками индийского духа, индийской культуры не смог ни один победитель. Рано или поздно она или вытесняла его, или поглощала, как заросли лиан поглощают руины. Этой судьбы не избежали и арьи. Их молодая культура, несмотря на свою самобытность, оказалась не в силах состязаться с культурой, процветавшей в долине Инда уже многие столетия. Первоначально арьи успешно продвигались на юг, сметая со своего пути дасью, но уничтожить их они не могли, хотя бы из-за численного перевеса туземцев. Постепенно оседая в завоеванной стране, они неизбежно стали смешиваться с дравидами и другими индийскими племенами, перенимая их обычаи, воззрения, привычки.
* * *
Хотя мы имеем очень мало достоверных сведений об Индии середины II тысячелетия до н. э., но на основе гимнов Риг-Веды мы можем в какой-то степени составить общее представление об эволюции культуры арьев.
109
Напрасно старались они сохранить свой старинный жизненный уклад и остаться вольными пастухами; тщетно чуждались они цивилизации, не желали строить городов, предпочитая селиться в деревнях, прилегающих к обширным пастбищам, где бродили их длиннорогие буйволы. Жизнь постепенно брала свое.
Села разрастались; их обитатели в тревожной обстановке племенных распрей и упорной борьбы с туземцами вынуждены были возводить укрепления с земляными валами. Возникали пуры — большие поселки полугородского типа. Порабощение местных племен, которых стали использовать на всевозможных работах, привело к быстрому развитию хозяйства. Благодаря набегам и угнетению туземцев военные вожди скапливали большие богатства. Появилась необходимость в торговле. Есть указания на то, что в это время купцы из Индии проникали вплоть до Вавилона по пути, проложенному некогда караванами древних индийцев.
Хотя письменность у индо-арьев пока еще не появилась, культура их при сближении с окружающими племенами и народами неуклонно развивалась и усложнялась. Если судить по некоторым намекам в Риг-Веде, времена, когда арьи удовлетворялись простыми алтарями под открытым небом, ушли в прошлое. На завоеванной земле выросли первые колоннады индо-арийских храмов, и народ склонился перед первыми изваяниями божеств 228).
* * *
Сказочно пестрая природа тропиков одевала религию в сказочно пестрые тропические покровы. Куда ни обращал свой взор человек, всюду его поражали бесконечно разнообразные проявления Мировой Силы. Все вещало ему о новых богах, о бесчисленном сонме духов. Он был подавлен, зачарован, он терялся, с трудом разбираясь в своих впечатлениях. Поэтому так запутан и неясен индийский пантеон, где один и тот же бог двоится, троится, носит разные имена, исполняет разные функции. Боги индо-арьев, боги их предков, боги туземцев, новые боги сливаются в единую подвижную массу. Можно смело сказать, что такого религиозного хаоса, какой мы наблюдаем в эпоху Риг-Веды, не знала история. Другой важнейшей чертой ведийской религии было своеобразное «ясновидение космоса», близкое к египетскому. За всеми проявлениями бытия арья видел живую духовную силу и готов был преклониться перед ней. Он воссылал свои хвалы Сурье и Митре — богу солнца, когда тот, проносясь на золотых конях по пространству неба, посылал свои стрелы сквозь белоснежную ткань облаков. Человек восхищался этим шествием пламенного небожителя, которому каждый раз его невеста, богиня Зари Ушас, шла навстречу:
110
Словно юная красавица, которую наряжает мать,
Или богато убранная танцовщица,
Или пестро разодетая жена перед супругом,
Или женщина во всем блеске ее красоты,
Выступающая из купальни,
Улыбающаяся и уверенная в непреодолимой силе
Своих прелестей,
Она обнажает грудь перед взорами людей 229).
Великая сила любви, царящая среди живых существ, в глазах древних людей простирала свою власть на все мироздание. Им казалось, что всюду: и в облаках, окутывающих землю, и в лучах, скользящих по вершинам гор, и в корнях, уходящих в почву, — они подслушивают страстный шепот и различают нежные объятия. Небо и земля, боги и люди, растения и животные — все воспринималось ими как пронизанное притяжением любви и ее чарами, как вселенская игра влюбленных.
Издревле арьи с восторженным благоговением относились к соме — опьяняющему напитку, который научились делать еще их далекие предки. Действие этого напитка приписывалось особому божеству Соме, который был одновременно и богом луны, загадочного светила ночи, вызывающего в душе непонятное волнение. Пьянящий сок сомы отдавал человека во власть сказочных мечтаний, он как будто бы становился ясновидящим, весь мир преображался для него, каждое слово приобретало особый вещий смысл, душа испытывала чувства, недоступные для нее в обычном состоянии, когда спят ее тайные силы. Принимая же сому, она окрылялась, вступала на порог заколдованного замка, в котором все живет, все дышит тайнами и откровениями. В вихре исступления разверзались бездны Света и безобразные ужасы Тьмы. На короткое время, воспламененный волшебным напитком, человек возносился в неведомые сферы. Сома, как ритмичная музыка, как ритуальный танец, приносила неизреченное блаженство экстаза 230). Поэтому арья молился Соме:
Там, где вечный свет в мире, где находится Солнце,
В том бессмертном, нетленном мире Помести меня, о Сома,
Где сын Вывасват правит как царь,
Где находится тайна небес, где находятся могучие воды,
Там сделай меня бессмертным.
Где жизнь свободна на третьем небе небес,
Где миры сверкают, там дай мне бессмертие.
Где есть хотения и желания,
Где чаша светящегося Сомы,
Где пища и радость, там дай мне бессмертие.
Где есть счастье и наслаждение,
Где процветают радости и удовольствия,
Где желания нашего желания достигнуты,
Там дай мне бессмертие...
Этот вакхический гимн, этот крик восторга перед открывшимися душе радостями бытия есть как бы отзвук тех исчез-
111
нувших дней, когда не была нарушена гармония между человеком и миром. Жажда вернуть это состояние обнаруживается и в первобытном шаманизме, и в сладострастных культах Сирии, и в религии Диониса. Эти попытки, как правило, были обречены на неудачу, ибо не хотели ничего знать о том, что по сравнению с изначальным своим состоянием человек уже далеко ушел от возможности быть участником праздника мировой Гармонии.
Культ Сомы был одним из древнейших у арьев. Они с презрением, как о нечестивцах, отзывались о людях, не выделывающих священного напитка. Опьянение любви, экстатическое безумие Сомы, колоссальный мир, несущийся неведомо куда под необозримым голубым простором, озаренным пламенем Сурьи, космическое сладострастное томление и чувство бесконечного восхищения перед этой божественной картиной кипящей жизни — все это составляет душу Риг-Веды. Божества начинают воплощаться в яркие, чувственные образы.
* * *
Если археологи и не находят арийских идолов, то гимны позволяют нам легко представить себе их облик. Арьи очеловечили небожителей, наделили их всеми человеческими страстями, изображая хитрыми, похотливыми, эгоистичными. Они охотно слушают лесть; их представляют наподобие Олимпийцев могучими великанами с человеческим телом, одетыми в роскошные одежды. Происходит провал от возвышенного символизма в примитивный натурализм. Старое представление о богах вытесняется новым 231).
Проходили годы, десятилетия, а над Индостаном не смолкали военные кличи. Дравиды и другие туземные народности не складывали оружия, а главное — среди самих индо-арьев шла нескончаемая борьба. Каждый из небольших арийских народцев (а их было довольно много) стремился к гегемонии в стране и для достижения этой цели не брезговал ничем. Племенные вожди — раджи — привлекали на свою сторону дасью, чтобы вместе с ними обрушиться на соплеменников. В знаменитой «битве десяти царей», которая привела к возвышению племени бхаратов, один раджа призвал бога Индру истребить врагов, все равно кто они — арья или дасью 232).
Бог-громовержец Индра появился в арийском пантеоне как раз в эту эпоху войн и междоусобиц. На его примере можно наглядно проследить деградацию арийской религии 233).
Индра пришел вместе с разящим громом, в хороводе стремительных туч, могучий, гордый, перекатывающийся в облаках исполин. Он явился как национальный бог арьев, стремительный враг их противников. В руках его змеятся молнии, на голове золотой шлем, в ушах золотые серьги; он непобе-
112
дим, он одним залпом проглатывает безмерное количество сомы, он доходит в своей жадности до того, что готов проглотить вино вместе с бочонком. Индра ниспосылает благодетельный дождь. С помощью служебных духов он низвергает демона засухи Вритру. Индра ведет племена арьев в новые богатые земли. Индра — веселый и неистовый небожитель, которого легко подкупить дарами и приношениями. Как мало похож он на возвышенного Варуну!
* * *
В Риг-Веде больше всего гимнов посвящено Индре, так как сборник редактировался в эпоху наивысшего расцвета его культа. Громовержец оказался в силах не только возвеличить преданных ему раджей и победить их врагов, но и оттеснить адитий — богов-соперников — и низложить с трона царя Варуну. В одном гимне приводится следующий замечательный диалог между Варуной и Индрой 234). «Я царь, мне все подвластно, — говорит Варуна. — Все боги подчинены мне, всеобщему творцу жизни, и следуют велениям Варуны. Я царствую в высочайшей святыне людей, я царь Варуна. О Индра, я Варуна, и два широких, глубоких благословенных мира мои. Мудрый Творец, я создатель всех существ. Благодаря мне сохраняются земля и небо. Я заставляю вздуваться текущие воды. Я водрузил небеса на их священное место. Я святой сын Вечности, развертываю Троичную вселенную».
Но эта речь нисколько не смущает Индру: он хвастливо заявляет о своих преимуществах. «Ко мне взывают имеющие коней люди, — говорит он, — когда им приходится тяжело в битве. Я тот могущественный бог, который своей непревзойденной силой возбуждает сражение и взметает пыль... Все это сделал я, и мощь всех богов не в состоянии меня, непобедимого, обуздать. Когда я возбужден возлияниями и молитвами, тогда содрогаются два безграничных мира». И, подтверждая слова Индры, поэт свидетельствует, что он воистину могучий Мироправитель.
В другом месте риши прямо исповедует:
«Ныне говорю я Лучезарному Отцу: «Прощай, я ухожу от Того, кому не приносят жертвы, к тому, кому люди приносят жертвы. Я выбираю Индру, я отрекаюсь от Отца, хотя жил с ним в дружбе много лет... Сила переходит к другому. Я вижу, как она приходит».
Это ни с чем не сравнимые, единственные в своем роде документы в истории религии. Здесь мы как бы присутствуем при том моменте, когда совершается переход от единобожия к многобожию, от почитания незримого Властителя Вселенной и источника Добра к культу грубого и человекоподобного громовержца, на стороне которого сила и симпатии большинства людей. Индра
113
более популярен, он понятнее, доступнее примитивному воображению, он обещает быть покровителем военных вождей арьев; раджи молятся ему, призывают его в битвах как своего военачальника.
Нам совершенно неизвестно, как относились арьи к религии коренного населения. Есть только намеки на то, что первоначально они сурово осуждали фаллический культ, процветавший в долине Инда 235). Тем не менее около 1500 года они сами его восприняли вместе с целым рядом других черт древнеиндийского язычества.
* * *
Легко представить себе, по какому пути после всего этого пошла ведическая религия. Вместо простой, возвышенной молитвы, возносимой из глубины души под неподвижной синевой небес, появляется сложная система ритуалов и заклинаний. Все большее распространение получает мысль о том, что боги нуждаются в церемониях и жертвоприношениях и что путем культовой магии их можно принудить служить себе 236). Нравственномистическое отношение человека к Божеству извращается. Для индо-арьев начинается магический этап истории их мировоззрения. Закон Рита переосмысливается в магическом плане. Ритуалы начинают рассматриваться как неотъемлемая составная часть мирового порядка. Отсюда рост авторитета жрецов, тех людей, которые занимаются исполнением обрядов. В этих обрядах налицо все черты первобытного колдовства: и попытка имитацией желаемого события превратить его в действительное, и вытеснение из молитвы морального элемента. Все упование возлагается на знание причинно-магической связи между вещами; строго соблюдая всю сложную церемониальную систему, можно управлять стихиями и богами, как своими слугами. Огненная жертва может вызвать молнию и гром, возлияние молока — дождь.
Эта иллюзорная власть над миром неизбежно приводит к полному порабощению человека. Магические представления сковывают его сознание и постепенно угашают в нем подлинно религиозную мысль. К счастью, индо-арийская культура не задохнулась под гнетом магизма, а стала незаметно пробивать себе дорогу. В ведический период эта дорога разделилась на два направления. С одной стороны, неудовлетворенное религиозное чувство обратилось к космической мистике бытия, огня, жизни. С другой стороны, выход из тупика начали искать через философское мышление.
В чем же конкретно проявились эти два пути? Ведические поэты никогда не утрачивали ощущения внутреннего единства жизни. Они воплотили это чувство в величественном мифе об исполине Пуруше, мировом Всечеловеке 237). Это тысячеглавое и тысяченогое существо было принесено богам в жертву. Пуруша
114
был связан и заклан, и из его необъятного тела возникло все многообразие Вселенной: животные и духи, боги и звезды, гимны и песнопения. Пуруша — это все, что стало и станет.
Когда миф говорит о сотворении человечества, то проводит между людьми определенные различия. Не из одной части колосса возник людской род:
Брахманом стали его уста, руки кшатрием,
Его бедра стали вайшьей, из ног возник шудра.
Это первое упоминание о сословно-религиозном делении в Индии, так называемых «варнах», или кастах.
На чем основывалось подобное деление, уже более трех тысяч лет тяготеющее над Индией? Историки не пришли к единому мнению в попытках ответить на этот вопрос. Излишне доказывать, что дело тут не в социальной расслоенности. Десятки других древних обществ обладали гораздо более резко выраженным сословным разделением, чем Индия около 1500 года, и тем не менее никогда не существовало такой пропасти между сословиями, какая существовала и в известной мере существует доныне между индийскими варнами. Некоторые историки склонны связывать возникновение варн со стремлением арьев соблюсти чистоту крови. Однако очевидно, что варны являются не столько барьером между арьями и неарьями, сколько в первую очередь дробят самих арьев на строго изолированные группы 238). Скорее всего мы должны искать корни кастовой системы в магических представлениях, воцарившихся у индийских арьев. Мы знаем, как ревниво охраняется в первобытных религиях тайна высших посвящений, какие препятствия должен преодолеть человек, чтобы достичь посвящения. Возможно, принявшие посвящение считались у арьев высшим классом людей, а так как магизм не признавал динамики в развитии, эти ступени должны были оставаться незыблемыми, как часть единого мирового организма. Эта мысль достаточно ясно выражена в мифе о Пуруше.
Но, оставляя в стороне социальный аспект мифа, важно отметить, что Пуруша является великолепным символом органической целостности мироздания. Все, от богов до последней пылинки, соподчиняется в нем, как органы в живом теле.
Другая важная черта мифа — это огромная роль, которая отводится в нем жертвоприношению. Весь космогонический процесс рассматривается как некая премирная жертва, как рассечение единой живой Праматерии. Благодаря мифу о Пуруше ритуал возводится на высоту непреложного всеобщего принципа. Посредником при всех жертвенных обрядах является бог огня Агни. Этот новый обитатель индийского Олимпа незаметно начинает отвоевывать у Индры первенство. Годы войн и захватов с течением времени уходят в прошлое; зиждительное тепло, загадочное и животворящее, привлекает больше внимания, чем простодушный любитель сомы Индра, похваляющийся своей силой.
115
В культе Агни сосредоточивается тот чувственно-созерцательный пантеизм, который всегда составлял отличительную черту индийского мирочувствия. Природа, таинственная жизненная сила, скрытая в ней, сопричастие ликованию стихий становятся для индийца источником духовного наслаждения и мистических радостей. Но эта натуралистическая мистика не способна освободить человека от власти Магизма. Природа, подчиненная неумолимым законам, не может быть светочем духовной свободы. Если для отдельных людей в ней открываются тайны мира и звучит голос Вечности, то большинству тех, кто живет культом природы, не остается ничего иного, как отдать себя во власть косного, вечного и безнадежного круговорота вещей.
В этот период возникает своеобразное индийское богословие, которое идет по пути синкретизма, близкого к египетскому. От смутного, неосознанного «генотеизма» приходят к убеждению, что каждый бог достоит почитания в силу своей тождественности с остальными. «Это, — говорит Макс Мюллер, — не то, что обычно понимают под политеизмом. Однако неправильно было бы назвать это и монотеизмом. Если уж необходимо найти какое-то имя, то следовало бы назвать его катенотеизмом. Это есть сознание того, что многие божества — лишь различные имена одного и того же Бога» 239).
Такого рода «катенотеизм» может показаться шагом к едино-божию, но в действительности он оправдывал политеизм, освящая все его формы.
Зачатки философской мысли в Индии были связаны с духовным кризисом, аналогичным подобному же кризису в Египте и Двуречье. Мы узнаем о нем опять-таки из Риг-Веды, из более поздних гимнов сборника. Там звучат уже молитвы, которые свойственны обычно изощренным, утонченным цивилизациям. Живое чувство общения с космосом и духовными силами, его одушевляющими, заменяется рассудочной рефлексией, скепсисом, усталыми, холодными умствованиями 240).
Если прежде душа человека не испытывала никаких сомнений, а со всей страстностью отдавалась любым богам и любым силам, готовая каждого из них возвести на небесный престол, то теперь путь к этому непосредственному общению с природой и духовным миром оказался для многих закрытым. Людей стали охватывать мучительные раздумья: в чем смысл мироздания? Откуда оно возникло? Грубые мифы перестали удовлетворять; окруженные сонмом богов, их почитатели тщетно ищут среди них Высшего и Единого. Какому Богу нужно поклоняться? — спрашивают себя риши. — Индре? Но кто видел его? Существует ли он? Высшего поклонения заслуживает лишь Творец (Вишвакарман) и Вседержитель (Праджапати), Тот, Кто был источником всего, «Кто двинул по небу эти светила, Кто вдохнул силу в животных и разум в человека. Но есть ли среди людей кто-либо видевший его? Где жизнь, кровь, Я Вселенной? Разве спраши-
116
вает что-либо тот, кто знает?» 241). Человек бредет в темноте, и от него скрыт конечный смысл его бытия, от него скрыто начало мира. Он может лишь строить смутные догадки и ставить вопросы, бесконечные вопросы. И разрешимы ли они?
Поэт обращается к истокам Вселенной:
В том изначальном не существовали
Ни что-нибудь, ни темное ничто.
Лазури светлой не было, ни кровли
Широко распростершихся небес.
Что покрывало все? И где приют был?
Была ли там бездонность? Глубь воды?
Там не было ни смерти, ни бессмертья.
Меж днем и ночью не было черты.
Единое само собою
Дышало без дыхания везде.
Все было Тьмой, все покрывал сначала
Глубокий мрак, был Океан без света,
Единая пустынность без границ.
Зародыш, сокровенностью объятый,
Из внутреннего пламени возник.
Любовь тогда первее всех восстала
В сознании из силы семянной.
В свои сердца глубоко заглянувши,
Открылось мудрым, что в Небытии
Есть бытия родство. И протянули
Они косую длинную межу.
Там был ли низ? Там был ли верх? Там были
Даятели семян, там были Силы.
Внизу самодержавность Бытия,
Вверху протяжность мощная пространства.
Кто знает тайну? Кто ее поведал?
Откуда мир, откуда он явился?
Тех далей и богам не досягнуть,
Они пришли позднее. Кто же знает?
Откуда, как возник весь этот мир?
Откуда, как Вселенная явилась,
Мир создан был, или он был не создан?
Об этом знает только Он, всезрящий,
Все видящий с небесной высоты,
Иль, может быть, и Он того не знает? 242).
В этом знаменитом гимне нашло выражение то чувство недоумения, которое охватывало индийских провидцев, когда они пытались найти утерянную нить, пытались проникнуть в молчаливую обитель Высшей тайны. И мы видим, что эта попытка, в сущности не идет дальше смутных мечтаний и догадок, дальше неопределенных образов и расплывчатых понятий.
На первых порах арья был слишком увлечен цепью потрясающих картин, развернувшихся перед ним: священными Гималаями, сверкающими шапками на их вершинах, джунглями Арьяварты, величавым Индом. Он слишком страстно молился природе, слишком остро воспринимал ее одухотворенность, слишком долго отдавался ей, чтобы под конец не наступило охлаждение, перешедшее в своеобразную отчужденность. Это было пред-
117
дверие спиритуализма брахманов и буддистского мироотрицания. Место Божества у ведических философов все чаще занимает теперь неопределенное Единое (Экам), некая расплывчатая сущность, что-то холодное и безличное. От этого Экама не веет мощью и красотой, как от бога отцов светозарного Дьяушпитара; в нем нет и живого тепла, которое можно ощутить даже в образе громовержца Индры. Это нечто бесстрастное, нечто как бы мертвенное, несмотря на то что это Исток Вселенной. Это «Оно», это Холод и Молчание, молчание без конца...
Индийская мысль, как это часто бывает, из одной крайности неизбежно впала в другую. От экстазов бытия, от упоения жизнью и природой, от эротической мистики и космических прозрений она устремляется в неведомые глубины Сверхбытия, где умолкают все земные звуки и где царит Абсолют. Там, в предвечном Мраке, сокрыты потенции всего, там, в глубине неизглаголанного, — бесформенный лик Единого, у которого нет названия. Труден путь человеческого духа в эти ледяные царства Безмолвия. Великая отвага, несокрушимая воля, жажда истины устремляли его туда.
Но прежде чем вступить на этот небывалый, сверхчеловеческий путь, пророки Индии прошли через горнило разъедающего скептицизма и уныния. Постепенно утратив веру предков, перестав обращаться с молитвой к Богу, они были соблазнены духами стихий, чувственной мистикой Космоса, но в конце концов разочаровались в ней, они стояли на распутье, вглядываясь во тьму.
«Какому богу вознесу я мольбу?» — спрашивает риши. Откуда и для чего появился мир? Никто этого не знает. Быть может, человек лишь игрушка неведомых сил, и ему суждено вовеки тщетно разгадывать мировую загадку, сидя у беспредельного океана Истины...
Великая всемирно-историческая заслуга древнеиндийских мыслителей в том, что они преодолели этот кризис и дерзнули, не останавливаясь на полдороге, вступить в темный храм Вечного и Безусловного, в храм Абсолюта.
Но не на этом пути суждено было обрести человечеству утраченное единение Земли и Неба. Не от языческого космизма, не от мистиков, поднявшихся до вершины Сверхбытия, шло спасение. Не здесь, в Индии, а там, на западе, на стыке трех материков, незаметно подготавливалось величайшее Откровение в истории человечества.
118
Глава десятая
НАЧАЛО ВЕТХОГО ЗАВЕТА. АВРААМ
Двуречье — Ханаан, ок. 1850—1800 гг.
Бог Авраама, Бог Исаака, Бог
Иакова, а не философов и ученых.
Паскаль
Голос Духа порой бывает самым тихим голосом, и самые незаметные события нередко оказываются его величайшими деяниями. То, что человеку представляется значительным и грандиозным, легко может оказаться ничтожным. Никакое внешнее величие не может по достоинству отразить величие Божественное. Поэтому столь свойственно Духу скрываться под рубищем и облекаться в смиренные одежды. Так, проповедь Евангелия в глазах многих людей представлялась вздором, не заслуживающим внимания. Еще более незаметным и лишенным внешних признаков значительности было начало Священной Истории, Завета, Диалога между Богом и человеком.
В то самое время, когда орды арьев с боями продвигались по индийской земле, а на Евфрате амориты положили начало Вавилону, толпа пастухов в пестрых одеждах, подгоняя овец и коз, двигалась по дорогам Сирии. Пастухи шли из Месопотамии, направляясь через пустынные области на запад, в землю Ханаанскую. Этих людей возглавлял вождь (или шейх) Авраам. Их было немногим больше трехсот человек, и уход их едва ли привлек особое внимание 243). В те тревожные годы многие семьи покидали насиженные места и отправлялись на поиски новых земель.
Между тем это внешне неприметное событие открывало новую главу в истории всемирного Богоискания. В лице Авраама и его людей появляются новые герои нашей повести, которые
119
едва ли сами догадываются о том, какое будущее ожидает их народ. Впрочем, и народом-то их пока назвать нельзя. Они были выходцами из Харрана в Северной Месопотамии, где обитало племя араму, или арамеев244). По этому племени и область Харрана получила название Паддан-Арам, т. е. «Поле Арамеев». Много веков спустя арамеи образуют могущественное царство в Сирии со столицей в Дамаске, но люди Авраама, покинув Арам, утратили и свою принадлежность к арамеям. Они вошли в категорию хабири, или аперу. Так назывались бродячие семьи, которые, скитаясь по восточным странам, добывали пропитание скотоводством, разбоем, службой в наемных войсках. О хабири упоминают документы Египта, Палестины, Месопотамии 245).
В одном древнем тексте Авраам назван «ха-ибри». Возможно, наименование «евреи» (ибри), которое стали прилагать к Авраамову племени, связано с наименованием «хабири» 246). Впоследствии евреи разделились на несколько народностей, среди которых были моавитяне, амонитяне, измаильтяне, идумеи 247). Но Народом Завета суждено было стать группе еврейских колен, объединившихся в XVIII в. до н. э. под именем Бене-Исраэлъ, или израильтян.
* * *
Евреи появляются на исторической арене сравнительно поздно. К 1850 г., т. е. к тому времени, когда Авраам вывел свой клан из Месопотамии, Египет уже пережил несколько эпох подъема и упадка; шумеры растворились среди семитов, а на смену царству Аккадскому выдвигалось Вавилонское; уже заявили о себе ассирийцы, а в Финикии и Ханаане были созданы первые города-государства.
Ни в искусстве, ни в науке, ни во внешнеполитической мощи израильтяне не могли соперничать со своими соседями. Между тем по прошествии многих веков Вавилон и Египет станут достоянием археологов и историков, а приключения маленького пастушеского народа будут жить в бессмертной Книге Откровения.
Для историка израильский народ должен представляться чем-то загадочным. Пришелец из далекого исчезнувшего мира, переживший расцвет и гибель многих народов и стран, видевший империи Ассаргадона и Кира, Александра и Цезаря, он остается живым, и в нем не иссякают творческие импульсы.
Он всегда был народом-странником. Жизнь в Палестине, в сущности, короткий эпизод в его сорокавековой истории. До завоевания Обетованной Земли евреи веками живут в Месопотамии, Египте, Сирии. С VIII века до н. э. начинается цепь изгнаний и пленений. Евреи обитают в Ассирии, Вавилонии, в Персии, в эллинистических государствах. Перед войной 70 г., которая закончилась гибелью Иерусалима и рассеянием, в Палестине было бо-
120
лее двух миллионов иудеев, в то время как в остальных странах Римской империи их насчитывалось более четырех миллионов.
Проникаясь культурой народов, среди которых им суждено было жить, израильтяне тем не менее не теряли своего собственного духовного облика и веры в свое призвание. Именно такой народ: с одной стороны, универсальный, всечеловеческий, а с другой стороны, способный сохранить свой собственный внутренний стержень — мог стать носителем Мировой религии. Израильская культура была тем горнилом, в котором сплавлялись воедино духовные ценности дохристианского человечества. Лучшее, что было в Вавилоне и Египте, Иране и Греции, нашло свое завершение в Ветхозаветной религии.
Это религиозное призвание было даром великим и мучительным. Вся духовная история народа-скитальца стояла под знаком борьбы и под знаком «Исхода»: исхода Авраама из Харрана, исхода из египетского рабства, из вавилонского плена, из пут обрядовой религии. Величайшим «Исходом» был исход Израиля в христианство, который совершила лишь часть народа 248).
Эта двойственность Израиля, родившего Мессию и отвергшего Мессию, не случайна. Это печать его избранничества и «осевого» положения в Истории 249). Народ Христа есть особый народ, и не в том смысле, что он выше или лучше других народов, но в том, что через свою религиозную миссию явился как бы представителем всего человечества в его встрече с Богом. И именно как представитель всего человечества он несет в себе весь комплекс противоречивых начал: универсализм пророков и национальную узость законников, апостольское благовестие и марксистский материализм. В душе Израиля столкнулись аскетизм Спинозы и стяжательство финансистов. Достаточно вспомнить проповедь пророков, чтобы понять всю драматичность и напряженность этой борьбы. Именно пророки, больше всех верившие в священную миссию Израиля, были наиболее беспощадны к любым проявлениям темного полюса в Народе Божием 250).
Кульминационной точки схватка этих двух полярных начал в Израиле достигла в создании двух образов Мессии-Избавителя. Один был могущественным земным царем, другой — Агнцем Божиим, принимавшим на себя грехи мира. Здесь прошел водораздел между принявшими Христа и отвергшими. Но эта трагическая двойственность была связана с самой природой еврейского религиозного духа как духа мессианского. Ни Греция, ни Индия не могли стать лоном для Нового Завета. Величайший греческий мыслитель Платон видел спасение только в переходе в иной мир, в смерти, это же обещали эллинистические мистерии. К этому близок и индийский религиозный дух, для которого зримый мир — нечто иллюзорное и бессмысленное и который искал освобождения в мистической отрешенности. Между тем в Израиле пламенная вера в спасение и избавление была неразрывно связана с признанием реальности и ценности мира, творения, жизни.
121
Не растворение в экстазе, не уход в мистическое молчание, а живой человек, предстоящий перед Богом Живым, — такова религия Ветхого Завета. В ней человек — не бессловесный раб и не бесплотный духовидец, а существо мятежное, противоречивое, обладающее напряженной волей и ярко выраженным личностным началом. И эту свою полноту личности, свою страстную душу человек приносит к подножию Бога.
«Веруя в сущего Бога, — говорит Вл. Соловьев, — Израиль привлек к себе богоявления и откровения; веруя так же и в себя, Израиль мог вступить в личное отношение с Ягве, стать с Ним лицом к лицу; заключить с Ним договор, служить Ему не как пассивное орудие, а как деятельный союзник; наконец, в силу той же деятельной веры стремясь к конечной реализации своего духовного начала, через очищение материальной природы, Израиль подготовил среди себя чистую и святую обитель для воплощения Бога-Слова. Вот почему еврейство есть избранный народ Божий, вот почему Христос родился в Иудее» 251).
Но мы бы погрешили против исторической правды, если бы вообразили, что уже тогда, когда Авраам покинул Месопотамию, он и его люди были носителями богопочитания этого высокого типа. Нет, с Авраама и других патриархов еврейского народа лишь начиналась история Ветхого Завета, история религии, приведшей к порогу Евангелия. Она раскрывалась из малого зерна, и путь ее был сложным, извилистым и полным соблазнов.
* * *
Предания об Аврааме и патриархах были записаны едва ли раньше X века до н. э. 252). На этом основании историки нередко ставили под сомнение историческую их ценность. Они утверждали, что эти предания — отголосок мифов о древнееврейских богах 253).
Между тем археологические открытия нашего века доказали, что рассказы о патриархах есть запись устного предания, восходящего к началу II тысячелетия, т. е. ко временам еще домоисеевым. Ведущий современный археолог Олбрайт, отвергнув старые гипотезы относительно мифичности патриархов, пришел к выводу, что сказания о них в основе своей достоверны. Скрупулезное сравнение библейского рассказа с данными раскопок показало, по его словам, что «Авраам, Исаак и Иаков уже не кажутся больше изолированными фигурами, отражающими скорее позднюю израильскую историю; теперь они предстали перед нами как дети своей эпохи, которые носили те же имена, ходили по тем же местам, посещали те же города (особенно Харран и Нахор) и имели те же обычаи, что их современники. Иными словами, рассказы о патриархах имеют историческую основу» 254).
Следовательно, уже в самые ранние времена израильтяне обладали тем, что называют «исторической памятью», и свои веро-
122
вания связывали с Откровением, которое получили Авраам, Исаак и Иаков. Хотя религия патриархов была лишь бедным прообразом веры Моисея и Исайи, но тем не менее именно они, по выражению Д. Брайта, стоят «у истоков израильской истории и веры» 255).
Как правило, в преданиях и легендах народов мы видим стремление к идеализации и возвеличению героев прошлого. Обычно это какие-то исполины, наделенные сверхчеловеческими чертами и совершающие неслыханные подвиги. Ничего подобного мы не находим в Книге Бытия, сохранившей древние сказания о патриархах. Священное Писание изображает их живыми, реальными людьми с обычными человеческими слабостями. Перед нами не полубоги, а типичные полуномады Востока, то робкие и осторожные, то безрассудно храбрые, в одних случаях не лишенные лукавства, а в других искренние и правдивые.
Наиболее рельефно выделяется среди них фигура Авраама. Повествование о нем начинается с божественного призыва покинуть дом и близких. «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и иди в землю, которую Я укажу тебе» 256). Таким образом, «исход» патриарха имел религиозную причину.
Библия указывает на Ур Халдейский, как на родину Авраама. Благодаря раскопкам Леонарда Вулли теперь можно составить представление об этом городе в Южной Месопотамии, многолюдном, богатом центре ремесел и торговли 257). В нем было множество храмов и святилищ, а над лабиринтом улиц царила ступенчатая башня-зиккурат. Ур был очагом культа Лунного бога Нанны, или Сина. Поклонение луне распространено у многих пастушеских народов; все арамеи, родичи Авраама, были, очевидно, приверженцами этого культа 258). Из Ура Авраам со своим племенем переселился на север, в Харран. Здесь тоже господствовала религия Сина. Она продержалась в Харране в течение многих веков.
Мы не знаем, как произошло религиозное обособление Авраама, не знаем, когда он отверг лунный культ. Получил ли он понятие о Едином Боге от кого-то из людей, или его вера была исключительно плодом личного озарения — так или иначе первым свидетельством перемены, происшедшей с ним, был его «исход» из Харрана.
* * *
Авраам называет своего Бога Элъ-Элъон, или Элогим 259). Эти слова древнейшего общесемитического происхождения. Подобно тому как у шумеров или арьев существовало первоначально понятие о Высшем Божестве (Ан, Дьяушпитар), точно так же и у семитов в их предыстории, очевидно, было поклонение единому Богу под именем Эль. Боги язычников, подобно людям, носили собственные имена, которые чаще всего были связаны с областью мироздания, подвластной этому божеству. Иное мы видим в древ-
123
нейшей религии семитов. Эль — не собственное имя, а слово, означающее Бога вообще 260). Это важнейшее филологическое свидетельство о характере исконной семитической религии. Некогда Эль был высшим и единственным. Иногда к слову Бог добавляли эпитеты: Элъон или Шаддай (Бог Высочайший и Бог всемогущий), но чаще всего, чтобы отличить своего Бога от других богов, слово Эль произносили как Элогим 261).
Эта древняя вера, вероятно, исповедовалась аравийскими кочевниками, которые с незапамятных времен блуждали по просторам пустынь. Оторванные от цивилизации, эти люди не видели ничего, кроме звездного неба, палящего солнца и неподвижных каменистых холмов. Бескрайние равнины, дикие безводные местности, где исчезали манящие лики соблазнов, где в тишине звучал лишь один Голос, были той панорамой, на фоне которой совершалась великая религиозно-гисторическая мистерия. Из пустынь пришли предки Израиля, в пустыне раздавался голос Моисея, Илии и Иоанна Крестителя, в пустыне готовился к мессианскому подвигу Сын Человеческий.
По мере того как семитические племена переселялись в Сирию и Двуречье, они, как и арьи, теряли свою религиозную самобытность. И только древнее имя Божие свидетельствовало об угасшей вере пустыни.
Быть может, обращение Авраама было своеобразным возрождением этой древней веры. В каждом новом событии духовной истории новизна, как правило, связывает себя с уже существовавшей прежде традицией. Идет ли речь о пророке Амосе, Магомете, св. Франциске или Лютере — везде ясно ощущается эта связь религиозных потоков. В своем сопротивлении Лунному культу Авраам, вероятно, ссылался на заветы древнейшей религии праотцев 262).
Живя в Уре и Харране, он должен был убедиться, насколько сильно языческое влияние на умы его соотечественников. В ту эпоху шумеро-аккадская, или вавилонская, культура стала распространяться по всему Востоку. Клинопись приобрела международное значение; боги Двуречья чтились в многих землях. Эламиты и ассирийцы, финикияне и арамеи, урарты и хурриты так или иначе оказались втянутыми в культурную орбиту Вавилона 263).
Хотя Авраам и покинул Месопотамию, но на евреях, как и на многих других народах древности, осталась печать, наложенная Вавилоном.
Их понятия о законности, о семье, об обществе, их представления о строении Вселенной и событиях древней истории сохранили неизгладимые черты вавилонского влияния. Евреи много лет жили в окружении хананеев, сирийцев, египтян, персов, но следы этого соприкосновения ощущаются у них неизмеримо слабее. Наследие древней земли, где сыны пустыни впервые превратились в оседлый народ, было пронесено через столетия.
Ученых, открывавших памятники древневавилонского права,
124
науки и литературы, поражал тот факт, что жизнь еврейских патриархов, как она описана в Библии, протекала по уставам судебника Хаммурапи или табличек из Нузи. Весь их быт насквозь проникнут понятиями и обычаями, принесенными из долины Тигра и Евфрата. Особенно важно подчеркнуть, что к тому времени, когда библейский рассказ был записан, эти обычаи уже давно исчезли и были преданы забвению 264).
Не избежала вавилонского влияния и вера Авраамова племени. Но в этой сфере с ним произошло изумительное превращение. Вера маленького кочевого клана оказалась способной противостоять религии цивилизованного Вавилона и с честью выйти из неравного единоборства. Достаточно сравнить сказание о космогонии в Библии и в вавилонской литературе, чтобы наглядно убедиться в том, что месопотамское влияние не пошло здесь дальше отдельных внешних черт.
Вавилонская космогония родилась из шумерской. Она была записана в поэме «Энума элиш» 265). Согласно этой поэме в начале всего царил Хаос, единая водная бездна, в которой свивались три космических чудовища: Апсу, Тиамат и их сын Мумму. Они произвольно порождали и уничтожали чудовищ и демонов. От них же произошла плеяда богов, которые восстали против Хаоса. Прародители не сумели предотвратить мятеж. Бог Эа уничтожил Апсу и сковал Мумму, а солнечный бог Мардук вышел в бой против дракона Тиамат.
Все боги с надеждой и страхом следили за исходом сражения, обещая Мардуку в случае победы царский венец. Окруженная сонмом демонических существ, Тиамат с диким ревом обрушивается на воина. Но Мардук хорошо подготовился к схватке. Он опутывает мировое чудовище сетью, а утробу его пронзает вихрем. Дракон в конвульсиях гибнет; сраженные, отступают и другие порождения мрачного Хаоса. Торжествующий Мардук раздирает тело космического зверя на две части: из верхней делает небо, а из нижней землю. Решив показать перед богами свою мудрость, он начинает последовательные акты творения. Возникают небесная твердь и атмосферные воды, устанавливаются пути планет и звезд, отделяется ночь ото дня, создаются растения и животные. Боги — покровители стихий вступают в свои права. В заключении Мардук хочет, чтобы на земле кто-нибудь трудился ради богов для того, чтобы те могли пребывать в покое. С этой целью он убивает одного из демонов и, смешав с глиной его кровь, создает человека, «чтобы тот трудился, богов освободив». В этом красочном мифе наряду с глубокими идеями о Разуме, который творит гармонический мир, о последовательности творения мы находим веру в изначальность Хаоса и грубый политеизм, обнаруживаем представления о мировом процессе как о результате зависти и соперничества существ довольно непривлекательных, и в общем вместо картины космогонии перед нами скорее странная фантасмагория.
125
Во что же превратилась эта «история творения», пройдя через горнило пастушеского монотеизма?
В Библии сохранилась космогония, которую принято называть Гексамероном, или Шестодневом 266). Хотя Гексамерон был записан очень поздно, быть может, даже в VI в. до н. э., он существовал в виде устного сказания или поэмы с патриархальных времен. Это признают даже самые радикальные критики 267).
Гексамерон одним ударом рассеивает призраки политеизма. Боги, демоны, чудовища — все это исчезает. Мировой Хаос не предшествует бытию, нет и следов завистливых небожителей, и поразительным контрастом вавилонскому и вообще всем языческим мифам звучат первые слова сказания: «В НАЧАЛЕ СОТВОРИЛ БОГ НЕБО И ЗЕМЛЮ» (Бэрэшит бара Элогим эт хашамаим вэ хаарец).
В начале только Он, единый вечный Элогим, Творец мира. Это не храбрый воин Мардук, облаченный в доспехи, не хитрый Энки, творящий человека из корыстных побуждений. Это Бог незримый и благой, творческое веяние (руах) которого проносится над первозданным миром. Лишь звучит как отзвук вавилонской космогонии словосочетание «небо и земля» (хашамаим вэ хаарец), соответствующее шумерскому слову «Вселенная» (ан-ки), и упоминается о Бездне (Теом), которая в начале покрывала землю.
И хотя Теом позднее и выступает в Библии как образ демонических, богоборческих сил, Гексамерон рисует Бездну безликой водной стихией, подчеркивая тем самым абсолютность и всемогущество Творца. Если в мифологии язычников Бездна есть материнское лоно богов: и Амона, и Мардука, и Зевса, то в ветхозаветном сознании все, что не Бог, — это тварь, в том числе и Мировой Океан 268).
Гексамерон, как и «Энума элиш», говорит о последовательном творении, которое завершается созданием человека. Но насколько отличается место человека во Вселенной по языческому мифу от антропологии Гексамерона! Бог, по Библии, творит людей не как одно из низших созданий (греческие мифы) и не для того, чтобы обслуживать праздных богов (шумеро-вавилонский миф); они сотворены для того, чтобы «владычествовать» над миром бессловесных. Человек не низшее существо, а венец творения, образ Божий (целем Элогим).
Итак, в сходстве и в различии Библии и Вавилонской поэмы мы видим следы древней борьбы за веру, за преодоление могущественных языческих веяний. И в свете этого становится понятна первая заповедь Авраамовой веры: ЛЕХ ЛЕХА МЕ-АРЕЦХА (Выйди из земли твоей).
* * *
Если бы мы захотели представить себе, как выглядели люди Авраама во время своего переселения в Ханаан, то достаточно
126

Азиатские военнопленные
взглянуть на одну египетскую фреску того времени, изображающую приход сирийских бедуинов в землю фараонов 269).
Впереди каравана выступает шейх племени. Он и его спутники ведут газелей — дар пустыни. Далее следуют воины с луками и дротиками. Их смуглые лица обрамлены узкими бородками, волосы их густы и волнисты. Один из пришельцев играет на пастушеской арфе. Имущество племени навьючено на ослов, рядом с которыми идут женщины. Их пышные иссиня-черные волосы рассыпаны по плечам и только на лбу изящно перехвачены белой лентой. Одежда женщин мало отличается от одежды мужчин. Это просторные, падающие прямыми складками рубахи, украшенные ярким сине-красным узором и оставляющие одно плечо обнаженным. Все обуты в кожаные сандалии. Дети путешествуют на ослах среди узлов и мехов с водой.
Пожелай египетский художник запечатлеть Авраамовых людей во время их исхода из Харрана, его изображение мало бы отличалось от этого. Долог был их путь, прежде чем перед ними зазеленели виноградники и горные луга земли Ханаанской. Здесь их ждали опасности и трудности, ждала бродячая жизнь хабири, обреченных на жизнь среди чужих и, быть может, враждебных племен.
Пришельцам придавала мужество их вера в особое небесное покровительство. Эта вера не была теорией, философским умозрительным исповеданием монотеизма. Она сводилась к верности избранников Элогима своему Богу. Со стороны это могло показаться просто незначительной религией клана или племени. Но в этой верности Авраама и патриархов Одному уже содержалось зерно религии Единого. «Таким образом, монотеизм, появив-
127
шийся как бы украдкой в истории мира, оказался национальным наследием, самым бесспорным и самым драгоценным» 270).
Религия Авраама приняла форму Союза (берит), или Завета с Богом. Согласно Библии, Бог обещал, что придет время, когда потомки Авраама уже не будут изгнанниками в чужом краю, они превратятся в народ и получат землю Ханаанскую во владение.
Но обетование это не носило узко племенного характера, подобно многим языческим прорицаниям. Величие и слава избранных Богом людей связывались в обетовании с благом всех племен и народов. «И благословятся в тебе все племена земные» — таково было одно из самых поразительных пророчеств древнего мира 271).
Кто мог знать тогда, что потомки маленького клана номадов, скитавшихся со своими овцами по долинам Сирии, должны будут послужить в грядущем великой божественной цели? Пусть это пророчество было записано через века после смерти Авраама, но оно, несомненно, почиталось столь важным, что «передавалось почти без изменений из поколения в поколение» 272). Но даже если предположить, что оно было измышлено в эпоху Соломона (когда его записали) — остается факт существования пророчества за тысячу лет до его исполнения.
Библейский автор Священной Истории, очевидно, сам сознавал, насколько по-человечески неправдоподобно звучало это обетование в эпоху патриархов. И с тем большей силой он подчеркивал веру праотца. «Авраам, — говорит он, — поверил Господу, и это вменилось ему в праведность» 273).
Именно поэтому апостол Павел называет Авраама «отцом верующих». Невидимые нити протягиваются от шатров Ханаана к берегам Иордана, где восемнадцать веков спустя прозвучат слова: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную».
Так среди сумерек многобожия возникла та точка в истории мира, которая должна была расти, расширяться и превратиться в конце концов в Народ Завета, в Народ Божий, в ветхозаветного Предтечу Церкви.
Завет неразрывен с Обетованием. Авраам, Исаак и Иаков постоянно обращены в будущее. У них не было никаких оснований надеяться, что одними человеческими силами они овладеют хотя бы небольшой, но собственной территорией. Что мог противопоставить небольшой бедуинский табор, вооруженный лишь луками и дротиками, мощным крепостям Ханаана, обнесенным циклопическими стенами? К тому же люди Авраама вынуждены были дробиться на небольшие группы, т. к. каждая семья нуждалась в обширных пастбищах для скота. Разрастание клана неизбежно вело к его распадению 274).
Тем не менее в критический момент пастухи могли постоять за себя и поддержать соплеменников. Так, когда племянник Авраама, ушедший на юг страны, был угнан в плен эламитскими отрядами, проходившими через Палестину, патриарх без малей-
128
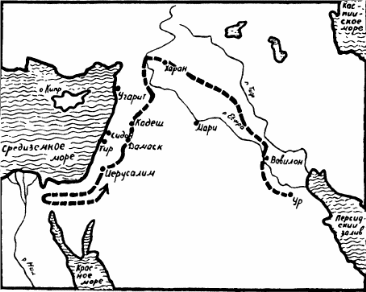
Странствование Авраама
ших колебаний устремился на выручку. Пользуясь ночным мраком и внезапностью нападения, он рассеял превосходящие силы врага и отбил своих.
Местный царь, узнав о победе над общим противником, хотел привлечь его людей к себе на службу и обещал Аврааму богатое вознаграждение за его подвиг. Но гордый шейх не хотел быть обязанным никому: «Поднимаю руку к Элю Элиону, Владыке неба и земли: что даже нитки не возьму из всего твоего, — чтобы ты не сказал: я обогатил Авраама» 275).
Первой большой стоянкой евреев был Сихем, город, впоследствии окруженный ореолом святости у северных израильских колен. Из Сихема Авраам спустился южнее, в Бетэль, но засуха и голод принудили его просить убежища в Египте, где охотно принимали сирийских кочевников. В это время царство фараонов переживало новый расцвет под владычеством царей Сенусертов и Аменемхетов, которые стремились усилить свое влияние за рубежом.
Из Египта Авраам вновь вернулся в Бетэль, а потом надолго обосновался в оазисе Мамре близ того места, где вскоре вырос город Хеврон. Впоследствии он даже приобрел близ Мамре клочок земли, который на многие столетия сохранил название «Поле Авраама» 276).
Однако Авраам никогда не забывал, что он чужак и пришелец в земле Ханаанской. Когда он искал невесту для своего сына, он послал верного слугу в Паддан-Арам, к арамеям, чтобы тот выбрал ему девушку из родного племени. Но не это национальное
129
самосознание было главным для еврейского шейха (сам он брал жен и в Египте и в Ханаане). Главным для него была верность внутреннему голосу, призывавшему не поклоняться чужим богам, а чтить лишь Элогима — Бога, Который был Хранителем его рода и Который призвал его покинуть отчизну. Ему он возносил молитвы перед импровизированными жертвенниками, которые сооружал во время странствий:
Ани Эль Шадай
Хитхалэх лефани въехйе тамим.
Я — Бог Всемогущий,
Ходи передо Мной и будь непорочен.
Вот вторая великая заповедь Авраамовой веры после первой — требования покинуть идолопоклонников. «Непорочность перед Богом» — это не есть какая-то ритуальная чистота, а означает нравственный аспект религии Авраама. Согласно Библии, Бог «избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и всему дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и правосудие (цедака у-мишепат)» 277). И хотя моральные представления патриархов еще далеки от высокой этики пророков и тем более Евангелия, однако они уже хорошо сознавали, что Богу угодны люди справедливые, честные, верные своему слову, гостеприимные, миролюбивые, руки которых не запятнаны кровью невинных. Их вера не требовала ни изображений, ни храмов. Где бы ни был Авраам: в унылых ли пустынях Негеба или среди каменистых холмов Бетэля, Бог был с ним, витая над дымом его алтаря, взирая на него с высоты ночного неба, охраняя его в скитаниях. Споры о том, была ли вера Авраама монотеизмом, бессмысленны. Она была слишком простой, импульсивной, непосредственной, чтобы подходить под какой-то «изм», под какую-то схему.
В земле Ханаанской, населенной преимущественно аморитами, многие чтили Божество также под именем Эля 278). Но в ту эпоху он был уже оттеснен пантеоном новых богов, во главе которого стоял Ваал — бог плодородия. Это было божество «второго поколения», родившееся на обломках древнего единобожия, подобно Мардуку, Зевсу, Индре и Энлилю.
Ханаанский культ Ваала и Ашеры отличала вера в тесную связь между эротической силой человека и плодородием земли. Поэтому чаще всего Авраам и его люди наблюдали в Ханаане обычаи, которые могли лишь оттолкнуть их от язычества. Им были отвратительны ханаанские ритуалы с их извращенным садизмом, чувственным разгулом, их пугал кровавый обряд человеческих жертвоприношений. Вероятно, многое из того, что они могли наблюдать вокруг, казалось им вызовом самой природе и Богу. Вероятно, они недоумевали, как Всевышний может терпеть эти мерзости, не карая безумных.
130
И как бы в ответ на это людям Авраама пришлось стать свидетелями ужасной катастрофы, уничтожившей цветущие города в долине Сиддим у Мертвого моря. Местность, окружавшая Гоморру и Содом, изобиловала серными источниками, асфальтом и другими очагами воспламенения. Согласно некоторым сведениям, молния ударила в один из этих очагов и превратила города в пепел; по другим данным, здесь произошло землетрясение и вырвался подземный огонь. Во всяком случае, за огненным ураганом последовало опускание почвы, в результате которого обгорелые руины грешных городов были затоплены водами Мертвого моря 279).
Эта страшная катастрофа глубоко запечатлелась в народной памяти. Быть может, еврейские пастухи наблюдали с гор за «огненным дождем» и смотрели, как клубы дыма поднимаются над долиной. Библия сохранила величественное в своей патриархальной простоте сказание, из которого видно, что евреи с отдаленных времен задумывались над вопросом о Божественной справедливости. Вид гибнущих городов навевал мысли о тайне греха и воздаяния, об участи праведных и виновных...
Сам Бог, гласит предание, с двумя ангелами сошел на землю для того, чтобы убедиться в неисправимости растленных содомлян 280). Под видом трех странников он посетил Авраама в роще Мамре и возвестил ему, что участь нечестивцев решена: они воистину заслуживают лишь гибели. Но патриарх знал, что Бог справедлив; он стал умолять Вестника пощадить содомлян, ибо не все они злы. «Неужели Ты погубишь праведного с нечестивыми?»— спрашивал он. Бог обещал ему, что, если в городе найдется хотя бы пятьдесят праведников, он будет помилован.
Но Авраам, хорошо зная нравы Содома, боится, что это слишком большая цифра. Он почтительно умоляет Вестника быть снисходительным, даже если там будет только сорок человек, не прогневавших Небо. Видя, что таинственный Странник готов уступить, Авраам в конце концов вымаливает у него прощение даже ради десяти праведников...
Но и стольких не нашлось в злополучном городе. Один лишь Лот, родич Авраама, со своей семьей спасся от огня и серы, которые обрушились на Содом и Гоморру.
Отныне там, где недавно кипела жизнь, суждено расстилаться в жуткой неподвижности проклятым водам Мертвого моря, а путники будут со страхом всматриваться в очертания соляных глыб на берегу, стараясь угадать, в какую из них превратилась жена Лота, которая вопреки запрету не утерпела и обернулась на пылающий город...
Образ Лота, без оглядки бегущего из растленного и осужденного Содома, может послужить символом внутреннего состояния евреев на первых порах их жизни в Ханаане. Много усилий должны были приложить они к тому, чтобы сохранить свои устои и не изменить своему Богу. Судьба не раз испытывала их веру, не раз
131
забывали они о Свете, который озарил их маленькую тропинку в истории, но при всем том никогда не пересыхало русло реки, неуклонно несшей свои воды в далекий евангельский океан.
* * *
Пожалуй, ничто так ярко не символизирует то непоколебимое основание, на котором утвердилась ветхозаветная религия, как рассказ о жертвоприношении Авраама.
Однажды, повествует Книга Бытия, Бог обратился к своему избраннику: «Возьми сына своего единственного, Исаака, которого ты любишь, и пойди в землю Мория и там принеси его во всесожжение на одной из гор» 281).
Как могло это случиться? Как мог Бог Авраама, его Господь и хранитель, потребовать человеческой жертвы? Разве Он такой же кровожадный демон, как Ваал Хананеев или Молох финикийский?
Но Авраам не поколебался. Он пошел на эту жертву с такой же твердостью, с какой смотрел в глаза смерти во время своих военных походов. Он слишком верил своему Богу, чтобы проявить малодушие.
И вот идут они к месту жертвоприношения, отец и сын. «Отец мой,— спрашивает Исаак,— вот огонь и дрова, а где же ягненок для всесожжения?» «Бог усмотрит Себе ягненка для всесожжения, сын мой»,— отвечает Авраам. «И шли они вместе и пришли на место, о котором сказал ему Бог,— повествует Библия.— И устроил Авраам жертвенник, разложил дрова, и, связав сына своего Исаака, положил его на жертвенник поверх дров». И только собрался патриарх нанести роковой удар, как услышал голос Божий: «Не поднимай руки на отрока и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что ты боишься Бога и не пожалел сына своего единственного для Меня».
Некоторые полагают, что в этом рассказе содержится указание на отмену человеческих жертвоприношений. Быть может, древние евреи, поддаваясь влиянию окружающих народов, стали думать, что Богу угодны человеческие жертвы, но вскоре отказались от этой мысли. Но прежде всего в истории жертвоприношения Авраама мы должны видеть отображение той горячей преданности Богу и вере, которая была присуща Аврааму и его людям, преданности, не страшившейся никаких жертв.
Ценой многих жертв, ценой жестокой внутренней и внешней борьбы сохранили израильтяне святыню, которую арьи не сумели удержать. В столкновении с исполинским сфинксом Природы народ-Богоискатель сумел отстоять независимость духа. Именно эта борьба и наложила на него печать суровости и исключительности. В своей победе он утвердил Веру в Грядущее, которая стала основным мотивом Ветхого Завета. Язычество Востока и Запада воспринимало мир как нечто неподвижное и статичное, Магизм замыкал его в вечном круговороте циклов. В религии же потомков Авраама внутренняя структура мироздания раскрывалась как Становление, Динамика и Развитие.
132
Глава одиннадцатая
СЫНЫ ИЗРАИЛЯ
Ханаан — Египет, ок. 1750—1680 гг.
Им вверено Слово Божие.
Апостол Павел
История Авраама — один из немногих эпизодов начала Ветхого Завета, где мы можем разглядеть какие-то фигуры, говорить о каких-то событиях и верованиях. Как бы луч света проскользнул по небольшому отрезку времени, и перед нами мелькнуло видение: образ сурового шейха, странника в земле Ханаанской, который нес в своей душе залог великих Откровений. И вновь сгущается мрак... Рассказы Библии становятся скупыми и отрывочными, а что может поведать археология о людях, которые не строили храмов, не делали кумиров, не имели даже своей письменности? В библейских повествованиях нередко история родов и колен изображается как история праотцов-эпонимов. «Часто,— замечает Д. Райт,— сказание персонифицирует группы, т. е. использует имя предполагаемого патриарха-предка для обозначения его племенной группы» 282).
Одним из первых более или менее достоверных событий раннееврейской истории был второй «исход», или новое переселение из Месопотамии. Эта новая арамейская волна двинулась с севера около 1750 г. Патриархом этого клана был Иаков, носивший также имя Израиля283).
Предание считало Иакова потомком Авраама, наследником его обетований 284). Во всяком случае, он принимает Авраамову веру и при вступлении в Ханаан приказывает зарыть идолов, которых его род постоянно возил с собой 285). Иаков тяготеет к местам, где некогда жил Авраам и приносил жертвы Богу; он живет в Сихеме и Вефиле.
Поклоняясь «Богу Авраама», Иаков тем не менее прилагает к
133
Нему старые эпитеты, свойственные язычеству. Он именует его «абир», что означает «телец», «могучий бык» 286).
В области культа Иаков вводит «массебы», или священные столбы, которые были символом плодородия в восточных религиях и которые надолго вошли в израильскую богослужебную практику. Только пророки впоследствии разоблачили языческий характер «массеб».
Вообще образ Иакова, сохраненный в легендах, резко отличается от облика Авраама. Он гораздо больше склонен к оседлости, к цивилизованной жизни и в то же время гораздо сильнее заражен пороками цивилизации: хитростью, алчностью, изворотливостью.
Иаков возглавлял союз родов или колен, которые именовали себя Бене-Исраэлъ, т. е. Сыны Израиля. Возможно, уже тогда члены этой группы считали себя объединением «двенадцати колен» 288). Но это число было священным на Востоке и было избрано скорее символически, чем в соответствии с действительностью. Библия насчитывает больше двенадцати колен 289). Но, быть может, именно двенадцать клановых вождей состояли в наиболее тесном родстве и были «сынами Иакова» в прямом смысле слова. Впрочем, между самими этими патриархами явно нет равенства. Некоторые из них — «сыны рабыни», другие —«сыны любимой жены». Это, вероятно, отражает степень родства между кланами 290). Есть основание считать, что колена, подобно египетским номам, имели свои геральдические знаки: волка, змеи, пса и других животных 291).
Названия израильских колен известны из месопотамских, финикийских и египетских надписей 292). Число людей, которые в них входили, вряд ли было велико. Библия называет общее число семьдесят человек. Возможно, это означало семьдесят семейств. Одно такое семейство редко превышало три-четыре десятка человек 293).
Образ жизни Бене-Исраэль в те годы мало отличался от быта других восточных полуномадов. Дни их проходили среди однообразных забот, монотонность которых нарушали лишь переселения на новые пастбища и мелкие стычки у колодцев. Жилищем для большинства людей племени служили небольшие палатки из козьих шкур, которые натягивались на легкий деревянный остов. Такую палатку нетрудно разобрать и собрать в течение нескольких минут, она давала кров в непогоду и укрывала от палящих солнечных лучей.
Израильтяне обычно жили в дружбе с окружающими народами и охотно заключали с ними союзы. Однако бывали случаи, когда из мирных пастухов они превращались в воинов и захватывали какой-нибудь город в Ханаане. Так, согласно преданию, израильтяне овладели Сихемом и во имя мщения перебили его жителей 294).
Но по большей части Бене-Исраэль вели мирное размеренное существование. Повседневная жизнь их была неразрывно связана с их стадами. Ради них они оставались кочевниками; овцы кормили их и одевали, они были главным богатством, их давали в приданое, приносили в подарок друзьям. Красивый ягненок без порока считался самой лучшей жертвой Небу.
134
Время от времени все племя начинало длительный переход в поисках новых пастбищ. Достигнув местности, где стада могли найти достаточно пищи, израильтяне разбивали свои палатки под сенью деревьев, и начинался непродолжительный оседлый период жизни. Часто вокруг табора грубой мотыгой вспахивалась земля, и вскоре кочевники с волнением следили за первыми всходами урожая. Но вот опять нужны новые пастбища, и весь лагерь снимается, вьючит на осликов свою нехитрую утварь и трогается в путь...
Музыка и пение были постоянными спутниками еврейских пастухов. Они вносили в их скитальческую жизнь радость и вдохновение. Когда среди уединенных долин звучали переливы пастушьей волынки, казалось, природа оживала и вторила меланхолическому напеву. Струны маленьких невел грустным звоном сопровождали песню, поднимавшуюся в вечернее небо. Человек пел о Боге, о своем Незримом Отце, обитавшем там, за багрово-золотыми облаками. Он пел о Его милосердии и справедливости, пел о том, что только Ему должны принадлежать все молитвы мира...
Легкой поступью бежали овцы, ритмичные удары бубнов вторили стуку их копыт. А песнь пастуха лилась и лилась, и воедино сливалось все: пылающий закат и стада, силуэты гор и деревьев, стоны волынок и посвист флейт и сам человек — поющий и играющий, прославляющий жизнь и Творца ее...
Над патриархальной страной неслышно, как облака, проносились годы.
* * *
Около 1700 г. Ханаан огласился боевыми кличами. Полчища аморитов, на этот раз вооруженных до зубов, появились в его пределах. Близ того места, где в роще Мамре жил некогда Авраам, вырос новый город, военная крепость пришельцев — Хеврон. Но это был лишь опорный пункт. Азиатов манил Египет, богатая плодородная страна. Угроза завоевания застигла страну фараонов в самом плачевном состоянии.
Вся она, по образному выражению современника, переворачивалась, подобно гончарному кругу. Государственная власть вновь, как в период упадка Древнего царства, пришла в полное расстройство. Узурпаторы непрестанно сменялись на троне, как артисты на подмостках. Военачальники, пренебрегая интересами страны, оспаривали друг у друга должности и плели интриги. В селениях воцарилась анархия, крестьяне побросали поля и предались грабежам. Бродяги разрушали закрома и дворцы богачей, расхищая их имущество. Повсеместно происходили мятежи, толпы врывались в государственные учреждения, жгли документы, вершили самосуд и расправу. Началась разруха; в городах свирепствовали голод и эпидемии; рудники были заброшены, торговля почти прекратилась. Помышлять о защите от внешних врагов было невозможно 295).
135
Поэтому ничего удивительного не было в том, что стремительный натиск азиатов не встретил в Дельте никакого сопротивления. Быть может, наоборот — мятежники в какой-то мере даже способствовали завоевателям.
Итак, в один прекрасный день боевые арабские скакуны, неведомые до этого времени жителям Египта, понесли грозных всадников по земле фараонов. Со стуком катились легкие колесницы, врезаясь в растерявшиеся отряды египтян, пылали деревни, рушились стены древних храмов; ошеломленные египтяне взирали на все это в страхе и недоумении. Пришел конец их самостоятельности. Неведомое племя гордых и неумолимых врагов установило свою власть над страной.
Завоеватели с самого начала укрепились в нескольких городах, откуда рассылали по всей земле сборщиков дани. Их столицей стала крепость Хетварт, или Аварис, в восточной части Дельты, почти на границе пустыни, откуда пришли их полчища 296). Египтяне называли их Хекау-Хасут —«иноземные цари», откуда произошло позднейшее название гиксы 297).
Археологические раскопки позволяют теперь сделать вывод, что гиксы в период захвата Египта распространили свое влияние на всю Сирию, быть может, Месопотамию и даже Крит. Поэтому титул одного из их царей «правитель стран» отражал не только обычное хвастовство древних монархов, но и заключал в себе известную истину.
Мы плохо осведомлены о том, что происходило в те десятилетия, когда гиксы были хозяевами Дельты. Известно, что завоеватели переняли египетские обычаи, письменность, искусство. Их цари приказывали высекать свои изваяния в таких же застывших церемониальных позах, в каких полагалось изображать фараонов. Гиксский двор был обставлен согласно всем правилам египетского этикета.
Единственное, в чем азиаты остались верными своим традициям, была религия. Они лишь терпели местных богов, отдавая предпочтение своему сирийскому богу Сутеху. Он был отождествлен с Сетом — братом Осириса, который некогда почитался в Дельте. К тому времени уже сложился миф, отводящий Сету роль предателя и убийцы брата. Благодаря этому Сет-Сутех мог резко противопоставляться всему египетскому пантеону. И только поколения спустя под влиянием туземных обычаев гиксские цари стали вводить в свои титулы имя Ра и примирились с другими богами Египта 298).
По численности гиксы уступали египтянам; основную их массу составляли военная аристократия и боевые дружины. Их вторжение не означало заселения Египта семитическими племенами; завоеватели жили в своих крепостях, управляя страной, как бы на островах среди моря враждебных туземцев. Однако вполне вероятно, что в эти годы усилился приток азиатов в Египет из Сирии и Синайской пустыни.
136
* * *
Ханаан после того, как через него прошли гиксы, стал небезопасным местом для мирных пастухов. Никто не мог быть уверен в завтрашнем дне. Множество селений было стерто с лица земли, посевы выжжены, пастбища вытоптаны копытами гиксских коней. В довершение всего началась сильная засуха. Сыны Израиля оказались перед перспективой голода.
У них оставался последний выход: двинуться по пути, проложенному гиксами, и искать приюта в Египте, как делал это в голодные годы Авраам.
В стране фараонов издавна существовало обыкновение селить на границах «мирных варваров», терпевших бедствия на своей родине. Это делалось века спустя и в Римской империи для охраны рубежей. На одном из египетских папирусов можно прочесть доклад чиновника, который «закончил выдавать пропуска бедуинам из Эдома, чтобы сохранить их жизнь и жизнь их стад во владениях царя» 299).
Для гиксских царей такие переселения были особенно желательны, так как они предпочитали опираться на своих соплеменников из Азии. То, что одного из гиксских правителей звали Иаковом, есть лишнее доказательство близости между ними и израильтянами 300).
Согласно преданию, сам патриарх Иаков возглавлял переселение в «Землю Мицраим», как называли евреи Египет. Израильтянам была предоставлена для жительства область Гошен, или Гесем, на востоке Дельты, которая славилась своими обширными лугами; там обычно пасли стада, принадлежавшие дворцовому хозяйству. Часть царского скота была передана в ведение пришельцев, и они, таким образом, были приняты на государственную службу 301).
Такая милость по отношению к чужеземцам имела, согласно Библии, и некоторые особые причины. В эти годы первым министром фараона был израильтянин по имени Иосиф.
В египетских источниках не сохранилось никаких сведений об этом человеке, т. к. почти все памятники и надписи той поры были уничтожены при восстании против гиксов. Но библейское повествование о нем настолько точно отражает египетский быт и нравы, что нет никаких оснований ставить под сомнение его достоверность в целом 302).
Иосиф, согласно преданию, был продан своими братьями палестинским купцам, которые в свою очередь продали его египетскому офицеру. После ряда драматических перипетий еврейский раб попал ко двору и был вознесен на самую вершину социальной лестницы.
Эта головокружительная карьера человека из народа, да вдобавок чужеземца, вероятно, была характерна для эпохи господ-
137
ства азиатской династии. Семитические фараоны доверяли только таким лицам, как Иосиф.
Когда засуха и голод привели израильтян к границам Египта, Иосиф примирился с собратьями и сделал все, чтобы они могли поселиться на пастбищах фараона.
Переход границы в Египте был обставлен многочисленными формальностями, напоминающими современные, т. к. власти боялись лазутчиков. Пограничные крепости были полны чиновниками, которые вели строгий учет прибывших, проверяли разрешения на вселение, регистрировали подарки эмигрантов, вносимые как плата за гостеприимство. Пастухи Бене-Исраэль должны были пройти через все эти формальности.
Среди дошедших до нас документов, в которых пограничные чиновники сообщают о пропуске в Египет голодавших кочевников, нет упоминания о переселении Бене-Исраэля. Документы погибли, а память египтян не сохранила следов этого события. В глазах египтян сыны Иакова были слишком незначительным народом, чтобы их приход мог для них что-либо значить 303).
Тем не менее мы легко можем представить себе этот рубежный момент в истории Израиля.
Вот приближается к Аварису толпа худых, голодных пастухов. Они со страхом смотрят на зубчатые стены крепости, на смуглых часовых, застывших у ворот, озираются на жрецов с бритыми головами и посохами в руках, на ослепительно прекрасных женщин в полупрозрачных воздушных платьях, на вельмож в париках, на марширующих в пыли солдат.
Величие Египта подавляет новоприбывших. Они чувствуют себя ничтожными перед этими огромными храмами, роскошными дворцами и виллами, они оглушены шумом рынков, мастерских, строек. С суеверным трепетом всматриваются они в изваяния царей и богов; каменные лица бесстрастно глядят перед собой; неподвижные руки сжимают жезл и бич — символы власти.
Египтяне же, вероятно, почти не обращают внимания на путников, которые, неуверенно оглядываясь, пробираются по улицам. Им уже примелькались чернобородые азиатские лица; с тех пор как в стране правят гиксы, их стало в Египте особенно много.
Чужими, беззащитными, заброшенными в большом враждебном мире должны были чувствовать себя израильтяне, впервые ступая на египетскую почву. Да и не только на египетскую. Разве не были они странниками и пришельцами повсюду, разве не навсегда покинули они свою родину за Евфратом? Но несмотря на это израильтян не покидала непоколебимая уверенность в том, что жизнь их протекает под счастливой звездой. Они верили, что благословение Бога, Бога их отцов, пребывает на них, что незримый Дух оберегает и ведет их. Эту веру они связывали с Авраамом, предания о котором передавались из поколения в поколение.
138
Звездными ночами, сидя у входов в свои шатры, они слушали рассказы об Аврааме и его сыновьях, об их подвигах, странствиях, об их любви, войне, соперничестве и дружбе. То были времена, когда небожители часто посещали людей, когда можно было видеть лестницу, по которой они спускались на землю. Предания рассказывали о том, как сам Бог в виде странника разделял трапезу с Авраамом, перед тем как покарать Содом и Гоморру.
Они повествовали о переселении Иакова, о том, как ночью на границе Ханаана путь ему преградило таинственное существо, с которым патриарх вступил в борьбу. Он не сдавался до утра, требуя, чтобы этот Ангел-хранитель страны благословил его. И только получив (почти вырвав) просимое, он уже спокойно пересек реку Иавок — рубеж Обетованной Земли. Это означало, что Божественные дары не приходят к праздным и пассивным, а даются только при напряжении всего существа человека в борьбе.
Говорили, что само имя «Израиль» есть воспоминание об этой загадочной схватке Иакова с Ангелом и значит «богоборец». Но даже если такое толкование и сомнительно, оно тем не менее имеет глубокий смысл. Вся религиозная история Сынов Израиля была как бы некой священной борьбой. Израиль искал и жаждал Бога, но не простирался в рабской покорности; он требовал, спорил и взывал, поднимаясь к вершинам сыновнего дерзновения, порой, казалось бы, граничившего с мятежом. Ночная борьба Иакова стала прообразом духовной драмы пророков и псалмопевцев, Иеремии и Иова.
139
Глава двенадцатая
БОЖЕСТВЕННОЕ СОЛНЦЕ
Египет, 1580—1418 гг.
И вот твой яркий диск на небеса взошел
превыше вечных гор — горишь ты над богами,
и люди Солнце пьют, ты льешь вино струями.
Бальмонт
Все великие державы, созданные лишь силой оружия, рано или поздно оказывались непрочными и распадались. Эта участь ждала и царство гиксов. Оно постепенно слабело и теряло контроль над завоеванными областями. Полунезависимые цари Фиваиды — Южного Египта — исподволь собирали силы для того, чтобы выступить против гиксов.
Когда Фиваида почувствовала себя достаточно крепкой, она предприняла первые попытки сопротивления, сначала дипломатические, потом и военные. Обстановка несколько напоминает события, которые происходили в средневековой Руси в период освобождения от монгольского ига, причем роль Московского княжества играют в данном случае Фивы.
Гиксов тревожили доходившие до Авариса слухи о военных приготовлениях фиванцев. Более ста лет они безраздельно царили в Дельте, и вот теперь на их глазах просыпался национальный дух покоренного народа. По одному сообщению, царь гиксов отправил в Фивы послов, предлагая царю Секененре «прекратить возню бегемотов», которая мешает ему спать. Это был прозрачный намек на плохо скрываемую подготовку к восстанию. Неизвестно, чем кончились переговоры, но мумия Секененры со следами глубоких ран и ударов является немым свидетелем того, что на этот раз гиксы сумели обуздать непокорных. Но это лишь от-
140
срочило их конец: преемники Секененры продолжали борьбу с удвоенной энергией.
Фараон Камос, преодолевая сопротивление своих-нерешительных вельмож, отважился выступить походом против Авариса. Теперь у египтян, как и у гиксов, были боевые колесницы; хорошо оснащенный речной флот поддерживал натиск пехоты. Египтяне полностью усвоили военную тактику гиксов, и на азиатов двинулось уже внушительное войско, многочисленное и дисциплинированное.
Камос доплыл до Авариса и нанес первое поражение азиатам, хотя города ему взять не удалось. Гиксский царь послал гонца в Эфиопию, прося поддержки, но египтяне перехватили письмо. Вскоре власть перешла к брату Камоса Яхмосу.
В 1578 г. Яхмос предпринимает решительное наступление. Дрогнувшие под ударами его войск гиксы покидают Аварис и отступают на восток. Ненавистная столица врага предается разграблению. Победа окрыляет египтян: теперь настал их черед. Подобно тому как римские завоевания сменились нашествиями варваров, арабское вторжение получило контрудар крестовых походов, а монгольское иго кончилось захватом Россией татарских ханств, так и гиксское владычество привело к рождению египетской экспансии.
Яхмос не удовлетворяется изгнанием азиатов, а преследует их до Палестины. После упорной трехлетней осады взят Шарухен — последняя крепость гиксов. Среди холмов и долин Сирии появляются боевые колесницы фараонов, рвущихся на север.
Смятение охватывает аморитские города, одна за другой крепости попадают в руки египтян. Постепенно волна завоевателей докатывается до Митанни. На берегах Евфрата воздвигнут триумфальный памятник Тутмоса III (ок. 1500 г.). Знамена царского бога Амона реют над всеми крепостями Ханаана.
Египет становится империей, в состав которой входят многочисленные народы Африки и Азии. Нубийцы и сардинцы, жители Ливии и темнокожие эфиопы служат в египетской армии. Победы фараонов приводят в трепет царей Месопотамии, которые шлют им богатые дары. Храмы египетских богов вырастают по всей Сирии. Корабли египетских купцов доходят до Эгейского моря, достигают далекой страны Пунт у берегов Сомали, откуда везут золото и слоновую кость.
Военные походы фараонов приносили командованию и рядовым воинам большие богатства и рабов. Поэтому карательные экспедиции в Азию, Нубию, Ливию стали системой. Повсюду были поставлены египетские правители и верные Египту цари туземного происхождения. Малейшее сопротивление приводило к жестоким расправам. Так борьба Египта за национальную свободу превратилась в порабощение народов.
141
* * *
С возвышением Фив возросло значение фиванского бога Амона. Еще в эпоху Среднего царства этот местный бог был отождествлен жрецами с богом Ра, т. е. возведен в ранг общенационального божества. Кто, как не Амон-Ра, сопровождал фараонов в их блистательных походах? Кто, как не он, сложил к ногам Египта страны и народы? Обращаясь к Тутмосу III, Амон-Ра говорит, что именно он дал царю «поразить князей финикийских... поразить азиатов... покорить запад... обитателей болот». «Я поставил тебя царем, мой возлюбленный сын, Гор, могучий телец, сияющий в Фивах, рожденный мною Тутмос» — так возвещает бог Египта 304).
Священные гимны того времени прославляют военные подвиги Амона, благодаря которым возлюбленная земля и царь получили мировое господство.
Фиванские жрецы стали оказывать ощутимое влияние на политическую жизнь. Именно они добились провозглашения Тутмоса III царем, хотя он и был сыном фараона от побочной жены. При Аменхотепе III (1455-1424) один из них был первым министром, а другой — министром финансов империи.
Фараоны щедро одаривали храмы; во славу Амона были воздвигнуты исполинские колоннады святилищ Карнака и Луксора. Они должны были являться наглядной проповедью о могуществе фиванского бога. Торжественные процессии со статуей Амона превратились в национальные праздники; народные массы, опьяненные победами и гордые величием Амона, в неописуемом восторге встречали появление идола:
Открыты врата большого храма,
Выносят наос из великого храма,
Фивы ликуют...
Карнак торжествует...
Люди и боги столпились,
Радуясь тому, что совершилось на земле.
Толпа громогласно ликует,
Воздавая хвалу славному богу Амону...
Небо ликует, земля сияет
При появлении Амона.
Владыка мой, Амон-Ра,
Дай мне быть среди толпы,
Дай мне узреть сияние образа твоего
При твоем появлении...305).
Господство националистической религии казалось безраздельным. Вся страна, от фараона до последнего крестьянина или раба, была проникнута ее духом. И никто не мог ожидать, что начало мятежу против бога-триумфатора будет положено в царском дворце, в доме «возлюбленного сына Амона».
Переворот подготавливался постепенно. В царской семье уже давно тяготели к старой солнечной религии Гелиополя. Амон стал
142
богом войны, а фараоны чувствовали необходимость приостановить походы; войны усиливали власть номовой аристократии и жрецов, а фараоны стремились освободиться от их влияния. Аменхотеп III вел мирную политику и сумел в конце жизни отстранить жрецов от ведущих государственных должностей. Есть указания на то, что он выдерживал ряд столкновений с жрецами. В противовес им он постоянно подчеркивал, что высшая религиозная истина не есть монополия их касты, но что именно он, царь, есть «Хаэм-маат», т. е. воссиявший в истине. Знаменитые «колоссы Мемнона» — полуразрушенные статуи Аменхотепа III высотой в двадцать метров — до сих пор свидетельствуют о стремлении фараона поставить себя выше всех духовных и политических сил в государстве. Ни Осирис, ни Амон никогда не были изваяны в таких масштабах.
Древняя религия Солнца привлекала Аменхотепа III и его династию по многим причинам. Во-первых, она принадлежала к иной традиции, нежели религия фиванского духовенства. Во- вторых, Ра гелиопольский, называемый также Гором, Атумом и Атоном, был исключительно царским богом, между тем как Амон был богом властных жрецов и как бы свыше дарил свое покровительство фараонам. Царь оказывался существом, обязанным Амону всем: жизнью, троном, победами. Старинный же бог Солнца был воплощен в самом царе, который, как живое божество, стоял над миром.
Одним словом, началась глухая борьба между царем, с одной стороны, и аристократией и жрецами — с другой. Борьба эта почти не выходила на поверхность. Из одной надписи известно только, что Аменхотеп III и его отец слышали от жрецов «плохие слова» 306). Но вскоре после смерти Аменхотепа III борьба приняла форму открытого конфликта. Империю потрясла религиозная реформация, предпринятая сыном Аменхотепа III — Аменхотепом IV (1424-1406). Эта реформация имела своей целью не только сокрушить религию Амона, но и явилась первой в истории попыткой покончить с многобожием вообще и установить религию единого Бога для всей империи.
* * *
История Египта не знает более противоречивой и сложной фигуры, чем царь-реформатор Аменхотеп IV. Неполнота источников и разноречивые мнения до сих пор заслоняют от нас его подлинное лицо. Смелый разрушитель традиций — он в то же время по-своему продолжал их, строгий монотеист — он тем не менее не смог возвыситься до понятия о чисто духовном божестве, поборник «Истины» — он нередко проявлял жестокость и фанатизм. Многие считают Аменхотепа непрактичным идеалистом, другие — ослепленным изувером, третьи — пророком, а иные — властным диктатором. Вероятно, в какой-то степени правы все.
143
Одно несомненно: перед нами яркая личность, индивидуалист, противопоставивший свои убеждения тысячелетним традициям. Если принять во внимание его влияние на искусство и Гимн Солнцу, написанный им, то не будет преувеличением сказать, что Аменхотеп был человеком богато одаренным, если не гениальным. Ни один мудрый жрец, ни один ясновидец Египта не дерзнул с такой решительностью восстать против многобожия и магических верований. В эпоху кровавых войн и уничтожения покоренных народов он провозгласил равенство всех племен и стран перед Богом. Кроме библейских пророков, древний мир не знает никого, кто мог бы встать в этом отношении рядом с фараоном-реформатором. Одиноко стоит его трагическая фигура среди мятущихся событий, эпох и народов. Глубокое непонимание, которое он встретил при жизни, говорит о том, что этот человек принадлежит не столько своему времени, сколько тому духовному братству, члены которого во все века были как бы пришельцами среди людей.
* * *
Мать Аменхотепа, Тия, происходила не из царского рода, однако его отец из любви к ней сделал наследником именно ее сына. Есть намеки на то, что фараону пришлось выдержать борьбу против жрецов и столичной аристократии, которая относилась к Тие враждебно. Возможно, жрецы не одобряли ее религиозные симпатии. Когда муж подарил ей красивую барку, она была названа «Блеск Атона». Слово «атон» означало «солнечный диск», но в данном случае оно употреблялось как имя Божественного Солнца, в противовес старым его наименованиям 307). Возможно, что склонность к древнему «солнечному единобожию» передалась Аменхотепу еще в детстве от матери.
Однако при жизни мужа Тия там, где речь шла о парадных торжествах или монументах, следовала принятой традиции. На одном из памятников было высечено, например, обычное изображение, из которого следовало, что ее сын Аменхотеп IV родился на свет при помощи самого Амона.
Немедленно после своего вступления на престол в 1424 г. Аменхотеп IV дал ясно понять, что Бог его сердца — это не воинственный Амон столичных жрецов, а высший единый Бог, живым воплощением которого является солнечный диск — атон. По его приказу в Карнаке началось строительство огромного храма, который должен был стать соперником святилищ Амона. Правда, имя фиванского бога еще встречалось в некоторых его надписях, но вскоре оно окончательно отбрасывается.
Аменхотеп ясно указывает на связь новой «истины» со старым откровением, данным в Гелиополе. В сущности, на первых порах он пошел по пути, проложенному жрецами, отождествив Атона со старыми солнечными богами. На памятниках этого времени мы чи-
144
таем: «Да живет Ра-Гор небосклона, ликующий на небосклоне в имени своем как Шу, который есть Атон». Таким образом, Атон оказывается тождественным с древним Ра, и с царским богом Гором, и с божеством воздушного сияния Шу (или Шов). Чтобы подчеркнуть свое избранничество, Аменхотеп принял тронное имя Ваэнра, т. е. «Единственный для Ра» 308).
Еще со времени Аменхотепа II (1491-1465) в качестве идеограммы солнца появляется изображение диска с лучами. Царь-реформатор провозглашает этот символ единственно допустимым. Все звероподобные и человекоподобные идолы запрещаются. Как огненный диск на небе есть единственное воплощение Бога, так и в искусстве не должно быть иных его обликов. На стенах храмов отныне своего рода иконой Бога будет лишь солнце со знаком вечности, лучи которого оканчиваются руками.
В Фивах эти новшества вызвали волнения. Причиной их было не столько провозглашение культа Божественного Солнца, сколько отвержение Амона и прочих богов страны.
Фараон между тем удалил от себя всех приверженцев старых культов; теперь его окружали не жрецы и аристократы, а только единомышленники. Он ощущал себя пророком Солнца, проповедником новой истинной религии, верховным ее жрецом 309). Жена царя Нефертити, прославленная благодаря своим знаменитым портретам, очевидно, целиком разделяла его взгляды. Она и муж ее кормилицы Эйе были самыми близкими людьми молодого царя. Кроме того, в его интимный круг, вероятно, входили художники и поэты.
Аменхотеп хотел очистить египетскую религию от многобожия, мифов, магии, бремени заупокойных церемоний. Все это было отметено с радикализмом, свойственным молодости. Придворные обычаи, связанные с традициями старой веры, вероятно, внушали царю отвращение. Он требовал от мастеров, которые высекали его статуи во дворе нового храма, чтобы они следовали Маат — Истине — и не заботились о канонической идеализации облика царя.
Эти трехметровые изваяния фараона вполне отражают внутренний переворот, совершившийся в его душе, и тот вызов, который он бросил тысячелетним устоям. От прежних традиций остались лишь поза и одежда. Лицо Аменхотепа абсолютно лишено трафаретности. Это настоящий портрет, правдиво передающий своеобразные черты реформатора.
Странное, болезненное выражение застыло на заостренном, непомерно вытянутом лице. Узкие, слегка раскосые глаза кажутся полузакрытыми. Аменхотеп погружен в глубокую думу. Священные регалии фараона нелепо сидят на хилом, женственном теле.
Тем не менее в этом худощавом, слабом человеке чувствуется могучий дух и непреклонная воля к борьбе. А борьба предстояла жестокая. Молодой фараон шел наперекор народным мас-
145
сам; отвергнув Осириса и других популярных богов, он посягнул на быт и верования, сложившиеся в веках, его ждало столкновение со знатью и жреческой корпорацией.
Библейские пророки выступали как оппозиционеры, как гонимые, но при этом свободные люди. Аменхотеп нес бремя царского сана и не мог освободиться от старых понятий о фараоне как о божественном существе, обладающем абсолютной властью. Он полагал, что достаточно одного его слова, как «истина» восторжествует. Но ему пришлось быстро убедиться, что даже божественный самодержец не всесилен. Поэтому он очень рано поддался искушению действовать при помощи принуждения и насилия. Когда он решился нанести окончательный удар и, не боясь народного гнева и гнева жрецов, велел закрыть храмы богов, он тем самым уже обрек свою реформацию на гибель.
* * *
В знак своего полного разрыва с прошлым царь изменяет и свое имя. Отныне он будет не Аменхотепом, а Эхнатоном, что значит «Угодный Солнцу». Он приказывает повсюду истреблять священные символы и надписи. Выскабливают не только имя Амона, но и слово «боги». Реформатор в своем увлечении борьбой не щадит даже имени отца, которое включало имя ненавистного фиванского бога.
Жрецы приняли вызов. Они никогда не забывали, что эта династия во многом обязана им, и, если нужно, они могли поставить под угрозу само ее существование. Неизвестно, как выражали они свой протест, но, безусловно, борьба была жестокой и упорной. Есть основание полагать, что на Эхнатона было сделано даже покушение.
В конце концов фараон понял, что в этом городе, который связывал с Амоном все свои славные воспоминания, который видел шествия триумфаторов, влекущих толпы связанных азиатов, в городе» где каждый храм и памятник говорил о старых богах, он не сможет создать центр нового учения. Тогда он не задумываясь решает отрясти прах со своих ног. Он больше не хочет слушать «дурные вести», не хочет видеть угрюмых стен храмов, пусть безмолвных и опустевших, но как бы затаивших угрозу.
В шестой год правления Эхнатона караван царских судов двинулся вниз по Нилу в поисках неоскверненной земли для закладки новой столицы. Флотилия прошла более четырехсот километров, пока Эхнатон, повинуясь необъяснимому порыву, не приказал пристать к берегу. И здесь, в долине, окруженной горами, среди бурых дюн и шелестящих тростников, он произнес властное слово... Отныне столица Верхнего и Нижнего Египта, град Божественного Солнца уже не Фивы, а город, который возникает на пустом месте по замыслу царя-реформатора. Имя его
146

Эхнатон
будет Ахетатон, «Небосклон Солнца», вечно сияющий образ Бога будет простирать над ним руки-лучи 310).
Работа закипела немедленно. Инженеры, архитекторы, художники с энтузиазмом отдались делу созидания новой столицы. В центре был воздвигнут великолепный дворец и храм в честь Солнца. Здания украшали фрески, рельефы, изразцы, золотая отделка. Вокруг центра и вдоль берега расположились дома знати с тенистыми садами, кварталы торговцев, рабочих, ремесленников. Солнечная столица была оснащена по последнему слову градостроительной техники; Эхнатону хотелось привлечь к ней любовь народа и затмить славу Фив.
На скалах, окружавших Ахетатон, были высечены священные клятвы и изречения царя. В них были увековечены границы города, объявлено, что место для него царь выбрал, руководствуясь не советами человеческими, но откровением Божественного Солнца.
Настал день, когда царь должен был окончательно покинуть Фивы. Это было нечто среднее между торжественным исходом и бегством. Поклонники Солнца разрывали все узы с языческой столицей.
Вероятно, народ собрался на пристани проводить своего странного властелина. Барки разукрашены и устланы, поставлены цветные паруса, смуглые гребцы налегают на весла. На палубе, лишенной столь привычных идолов, стоит молодой фараон с женой, дочерьми, близкими. Он прощается с фиванцами, которые в молчаливом недоумении смотрят на отплывающую флотилию. Никто не ропщет. Фараон — это живой бог, он знает, что делает. В последний раз они видят бледное и худое лицо Эхнатона. А реформатор уже не глядит на них, он обращает взор вперед, туда где за поворотами священной реки его ждет построенный им город, где не будет ни Амона, ни языческих жрецов, ни надменных вельмож, а будет царствовать лишь одно Божественное Солнце со своим единственным служителем, пророком и сыном.
148
Глава тринадцатая
«ЕРЕТИК ИЗ АХЕТАТОНА»
Египет, 1418—1406 гг.
Белоснежные пилоны, покрытые росписью, просторные дворы, на которых возвышаются жертвенники, никаких идолов, никаких темных зал, овеянных тайной. Все доступно солнечным лучам, все совершается под открытым небом. Таковы храмы новой веры, воздвигнутые не только в Ахетатоне, но и в других городах Египта.
Когда солнце поднимается над горами, замыкающими долину, когда его первые лучи устремляются по пальмовым аллеям, по плоским крышам города, играя на белых стенах храмов, перед ним склоняются его служители. Они поют гимны, сопровождая пение игрой на арфах и звоном систров. Они складывают свои жертвы перед алтарями и воздевают руки к животворящему Солнцу. Сам царь и его семья принимают участие в прославлении восходящего бога. Прекрасная Нефертити «ублажает его сладостным голосом, своей игрой на систрах». Для этих встреч солнца и для вечерних славословий ему на закате Эхнатон сложил Гимн, который является его единственным дошедшим до нас символом веры 311):
Великолепно твое появление на горизонте,
Воплощенный Атон, жизнетворец!
На небосклоне вечном блистая,
Несчетные земли озаряешь своей красотой,
Над всеми краями,
Величавый, прекрасный, сверкаешь высоко,
Лучами обняв рубежи сотворенных тобою земель,
Ты их отдаешь во владение любимому сыну.
Ты вдалеке, но лучи твои здесь, на земле,
На лицах людей твой свет, но твое приближенье скрыто.
149
Это вступление провозглашает три основных пункта атонизма. Атон — универсальный мировой Бог. Это не бог какого-либо города или какой-то одной страны, а создатель всех земель. Атон воплощается в солнечном диске, хотя сущность его сокрыта от человека. Избранником Атона является Эхнатон, его «возлюбленный сын».
Реформатор не строит богословской системы и отвлеченной аргументации. Он только показывает, что без солнца жизнь замирает, а при его восходе — оживает. В этом — свидетельство его всемогущества:
Когда исчезаешь, покинув западный небосклон,
Кромешною тьмою, как смертью, объята земля.
Очи не видят очей.
В опочивальнях спят, с головою закутавшись, люда.
Из-под их изголовья добро укради — и того не заметят!
В отсутствие солнца освобождаются все враждебные силы. Но это не мифические чудища и демоны, а вполне реальные опасности:
Рыщут голодные львы,
Ядовитые ползают змеи.
Тьмой вместо света повита немая земля,
Ибо создатель ее покоится за горизонтом.
Только с восходом твоим вновь расцветает она.
Далее рисуется поэтическая картина утреннего пробуждения земли, напоминающая 103-й псалом Библии:
Тела освежив омовеньем, одежды надев
И воздев молитвенно руки,
Люда восход славословят.
Верхний и Нижний Египет берутся за труд.
Пастбищам рады стада,
Зеленеют деревья и травы.
Птицы из гнезд вылетают,
Взмахом крыл явленье твое прославляя.
Скачут, резвятся четвероногие твари земные...
Корабельщики правят на север, плывут на юг.
Любые пути вольно выбирать им в сиянье денницы.
Перед лицом твоим рыба играет в реке.
Пронизал ты лучами пучину морскую.
Гармоничное единство человека и природы, благословенный труд и радость — вот основное чувство, пронизывающее Гимн. Творческая сила Атона не знает границ. От величественных явлений мирозданья до незаметных и таинственных — все подвластно Атону:
Жизнью обязан тебе зарожденный в женщине плод,
В жилы вливаешь ты кровь.
Животворишь в материнской утробе младенца.
Во чреве лежащего ты насыщаешь его.
Даром дыханья ты наделяешь творенья свои...
Даже птенцу в скорлупе дыханье даруешь,
150

Поклонение Атону
Рельеф из храма в Ахетатоне
151
Коль скоро ты лепку его завершишь,
Скорлупу он, окрепнув, расколет
И, лапками переступая,
Поспешит объявить о своем появленье на свет.
Нет числа разноликим созиданьям твоим.
Многообразье их скрыто от глаз человека.
Ты — единый творец, равного нет божества!
В последних словах мы видим уже почти настоящее единобожие. Правда, и в гимнах Амону мы находим провозглашение его единственности, в том смысле, что он создатель других богов. Но Амон-Ра сам родился из Нуна — Хаоса, Атон — пребывает вечно. Амон-Ра — отец богов, Атон — единственный Бог. В другом варианте Гимна вместо слов «равного нет божества» стоит «кроме тебя, нет иного» 312). Для того, чтобы еще яснее подчеркнуть эту истину, Эхнатон отменяет прежнее наименование Божества, в которое еще входили имена Гора и Шу. Теперь Бог именуется: «Ра, владыка небосклона, приходящий как Атон» 313).
С Атоном не связана никакая космогоническая мифология, в отличие от других богов. Это единый живой Творец Вселенной, любящий Отец земли, растений, животных, людей:
В единстве своем нераздельном ты сотворил...
Все, что ступает ногами по тверди земной,
Все, что на крыльях парит в поднебесье.
В Палестине и Сирии, в Нубии золотоносной, в Египте
Тобой предназначено каждому смертному место его.
Ты утоляешь потребы и нужды людей,
Каждому — пища своя, каждого дни сочтены.
Их наречья различны,
Своеобразны обличья, и нравы, и стать,
Цветом кожи несхожи они,
Ибо ты отличаешь страну от страны и народ от народа.
В этих словах содержится целая революция. Эхнатон отверг представления своих предков о том, что только египтяне настоящие люди, а прочие — «сыны дьявола». Он пришел к мысли о том, что Бог объемлет своей любовью все земли и все племена. Он намеренно ставит Палестину, Сирию и Нубию на первом месте, а Египет на последнем. Он хочет навсегда положить конец разделениям и открыть всем подвластным ему народам единого благого Бога.
Эхнатон решился на то, на что не решились жрецы. Он восстал против язычества, магии, идолопоклонства. Если жрецы шли к единобожию путем отождествления богов, сохраняя весь балласт старых преданий, фараон-реформатор не побоялся порвать с ними самым радикальным образом.
Но в одном он остался истинным сыном старого Египта. Самосознание пророка, постигшего новую истину, слилось в нем с древней верой в божественность царя. Пусть он выкинул имя Гора из своего священного титула, но на деле он продолжал
152
быть тем же «воплощенным Гором», что и его предшественники:
Каждое око глядит на тебя,
Горний Атон, с вышины озаряющий землю.
Но познал тебя и постиг
В целом свете один Эхнатон, твой возлюбленный сын,
В свой божественный замысел ты посвящаешь его,
Открываешь ему свою мощь...
Все для царя расцветает.
Так ведется со дня мирозданья,
Когда землю ты сотворил и возвеличил ее
Во имя любимого сына, плоти от плоти твоей.
Это наследие Магизма связывало религию Атона с государственным культом императора. Перед изваяниями царя и царицы в Ахетатоне совершались воскурения и приносились жертвы.
Следуя своему отцу, Эхнатон объявил себя единственным носителем «Истины». Во имя этой «Истины» он стремился создать новый уклад жизни, отличный от прежнего. Его божественность должна была отныне проявляться с такой же благостью, с какой солнце живит землю. Эхнатон стал открыто пренебрегать традиционной помпезностью, сопровождавшей прежних фараонов при публичных появлениях. Он не надевал старого фетиша — двойной короны Обеих Земель, не любил других царских регалий.
От художников, которые украшали его столицу, царь настоятельно требовал «Истины». Это был, пожалуй, единственный в истории случай, когда государственная власть оказала творческое воздействие на искусство. Эхнатон, несомненно, обладал чуткой поэтической душой; постоянно окруженный талантливейшими мастерами своего времени, он во многом сам оказывался под их влиянием и в то же время увлекал их своим энтузиазмом на поиски новых путей. Он хотел, чтобы все в его городе было иначе, чем в Фивах. Создавая дворцы и храмы в Ахетатоне, художники Юти, Бек, Тутмос получили право не считаться с омертвевшими канонами старых школ. Сначала в своем стремлении к Маат они доходили почти до карикатуры. Не колеблясь они изображали мало изящную фигуру царя, его большой живот, отвислую челюсть. Но уже в этих новых стилизациях мы видим удивительное умение показать величие духа Эхнатона, которое не может скрыть его уродливая внешность. Этот нескладный человек с огромной головой на тонкой шее и короткими ногами кажется более прекрасным, чем цветущие и улыбающиеся монархи на парадных статуях прошлых веков.
С каждым годом гротеск и вызов традициям уступал новым художественным поискам. Возникла новая школа, которая создала изумительные по красоте творения; нежные девичьи фигурки, галерея портретов царя, Нефертити и их дочерей, картины природы, как бы иллюстрирующие Гимн Солнцу, — все это непревзойденные шедевры египетского искусства. Здесь не было натурализ-
153
ма, но присутствовало какое-то просветленное чувство природы. Искусство Ахетатона нельзя рассматривать вне религии Атона. Ее любовное, бережное отношение к миру, ее восхищение каждым проявлением в нем красоты одухотворяют произведения художников солнечного города.
Изменились и традиционные сюжеты. Мы видим фараона не только несущимся на боевой колеснице, но и в интимной семейной обстановке. Он обнимает дочерей, целует Нефертити, молится, воздев руки, Солнцу, которое осеняет его своими лучами. Между прочим, в этих изображениях небывалую доселе роль играла Нефертити. В прошлом жены фараонов обычно стояли в тени. А теперь мы видим, что царь постоянно появляется с ней вдвоем: на парадах, на праздниках и на богослужениях. Это можно объяснить не только особенной любовью царя к жене, но и его желанием показать, что он отрекся от прежних обычаев и создает новые. Он во всем следует «Истине».
* * *
Проходили годы. Эхнатон не покидал своей столицы. Он слишком хорошо понимал, что реформация вызывает повсюду ропот. Он даже дал торжественную клятву никогда не выезжать из Ахетатона. Таким образом, он сделался добровольным узником 314). Правда, его эмиссары разъезжали по стране, разрушая святилища богов, уничтожая надписи с их именами, но это вызывало лишь озлобление. Фивы хранили зловещее молчание. Жрецы Амона, лишенные своих земель и храмов, непрестанно сеяли смуту. Народ охотно слушал их. Религиозные идеи фараона были непонятны массам, которые втайне продолжали чтить старых богов. Люди вздыхали о тех временах, когда Амон приводил в Фивы вереницы пленных азиатов, а Осирис встречал умерших в стране Запада. Домашние боги, боги номов и городов были близки и понятны душе крестьянина, ремесленника, писца и родового аристократа. Они были богами, помогающими в повседневной жизни, богами, которых почитали отцы с незапамятных времен. А «учение» царя, скрывшегося в своем Ахетатоне, ничего не говорило им.
С другой стороны, создается впечатление, что самого Эхнатона мучил страх перед богами. Вероятно, он втайне боялся, что они могут оказать на него погубное воздействие. Слабое здоровье царя, отсутствие наследника-сына, казалось, подтверждали худшие опасения. Эхнатон становится все более непримиримым и фанатичным, приказывает стереть всякий след богов. Сотни каменотесов трудятся над тем, чтобы исковеркать старые иероглифы. Истребляются не только имена богов и слово «боги», но и даже слово «бог». Его заменяют словом «царь», «властитель» 315). По верованиям египтян, уничтожение имени было магическим средством уничтожить его носителя. Вероятно, все мероприятия Эхнатона, связанные с переменами в надписях, объясняются тем, что он не мог избавиться от суеверного страха.
154
Насилия и разрушения принимали все более широкий характер. «Творит он (царь) силу против не знающих поучения его... противник всякий царя обречен мраку» — так гласит одна из надписей того времени 316). Но воевать со всей страной было не под силу даже фараону.
Между тем из провинций приходили тревожные слухи. Эхнатон совсем забросил внешнеполитические дела, а повсюду вспыхивали восстания против Египта. Орды воинственных хабири захватывали царские области в Сирии. Царь Иерусалима, ставленник Египта Абд-Хила, писал фараону отчаянные письма: «Да ведает царь все: земли гибнут, против меня вражда... Посему да позаботится царь о войсках и вышлет против тех князей, которые преступили против него...» Эхнатон не отвечал. Абд-Хила продолжал взывать: «Я не князь, я чиновник царя, я царский офицер, приносящий ему дань. Не мать и не отец, а крепкая рука царя посадила меня в отчину... Да печется царь о своей земле. Погибает вся царская область». В конце концов, ввиду молчания Египта, Абд-Хила умоляет фараона взять его с семьей к себе.
Как, должно быть, ликовали противники реформации, когда слухи о потере сирийских земель доходили до Египта. Скрывавшиеся жрецы неустанно вели пропаганду и наверняка напоминали народу о том, что при господстве Амона азиаты лежали в пыли, а Атон бессилен перед ними. Этот аргумент был весьма веским. Все угрозы, которые расточал фараон из Ахетатона, были бессильны остановить рост недовольства. Репрессии лишь подрывали его дело. Он должен был почувствовать, что узел затягивается...
Гениальный скульптор последних лет царствования Эхнатона запечатлел в бюсте царя, быть может, тот момент, когда реформатор стал понимать, что все его усилия бесплодны. В его еще молодом лице есть что-то старческое, унылое, безнадежное. Какая-то обреченность чувствуется во всем облике Эхнатона. Кажется, что на его плечи легли все скорби мира и он согнулся, сгорбился, уставившись перед собой с выражением отрешенности.
Увлеченный своими преобразованиями, преследуемый одними и теми же мыслями, царь, возможно, плохо следил за событиями. Вероятно, и в людях он разбирался недостаточно хорошо. Его постепенно окружили лживые ничтожества, хитрые выскочки, которые наперебой восхваляли «учение царя», усердствовали в служении новому божеству и тем приобретали доверие фараона. Искренних последователей у «пророка Атона» не было. Его царедворцы и прихлебатели, выходцы из среды мелких чиновников, с забавной непосредственностью, граничащей с цинизмом, описывали все милости, которыми осыпал их царь за то, что они приняли его веру. Так, военачальник Маи, выдвинувшийся из бедной семьи, писал о царском благоволении в таких выражениях: «Мой владыка возвысил меня, ибо я следовал его поучениям, и я внимаю постоянно его словам. Мои глаза созерцают твою красоту каждый день, о мой владыка, мудрый, как Атон» 317).
155

Эхнатон и Нефертити в семейном кругу
Вероятно, Эхнатон испытывал непреодолимую потребность возвещать людям свою «Истину», между тем аудитория его по большей части состояла из таких угодливых придворных, которые интересовались только чинами и наградами. Царь приближал их к себе, одаривал титулами, землями, золотом. Но это плохой способ проповеди. Как показали события, последовавшие за смертью фараона-еретика, у него не было искренне преданных последователей. Все те, кто изливал свои восторги по поводу «учения царя», без колебаний отреклись от него.
В искусстве, как мы видели, Эхнатон неуклонно искал «Истину» и, видимо, получал какое-то горькое удовлетворение, рассматривая свои портреты с подчеркнутыми телесными недостатками. Но и это дало повод льстецам: они спешат наделить свои собственные портреты отвислыми подбородками, широкими бедрами, сутулой осанкой. По иронии судьбы попытка освободиться от старых условностей приводит к появлению новых условностей, еще более нелепых. Можно думать, что Эхнатон, подобно императору Юлиану, долго не замечал истинных мотивов усердия адептов его религии, но в один прекрасный день он должен был наконец понять, что он, в сущности, воюет один.
К этому времени относится охлаждение между ним и Неферти-
156
ти. Она покинула дворец, и с тех пор до самой смерти они жили врозь. На короткое время ее заменила Кия — женщина простого происхождения, удостоившаяся высших царских почестей. Но за взлетом последовало падение. Имя Кии выскабливается на великолепной гробнице, которую она приготовила себе и на которой было высечено ее полное страстной любви обращение к Эхнатону.
Последние годы царя-реформатора покрыты мраком. Предполагают, что незадолго до смерти он задумал отступление. Но это маловероятно, если вспомнить о непреклонности и фанатичности Эхнатона в проведении всех своих замыслов.
Умер Эхнатон молодым, на восемнадцатом году своего царствования. Перед смертью он, вероятно, осознал неудачу своего дела. У него не было ни сыновей, ни энтузиастов-продолжателей. Он прожил в Ахетатоне, окруженном цепью скал, как добровольный изгнанник. Но даже здесь, в городе Солнца, люди прятали по домам изображения богов. Он хотел объединить всех подданных в вере в Единого, но в конце концов привел империю на грань катастрофы.
Трагедия Эхнатона заключалась в том, что, отказавшись от магических верований, он не отказался от их плода — обожествления власти. Проповедь веры, когда она ведется с трона, не может найти настоящего отклика в сердцах. Награды и угрозы божественного властителя — вот к чему сводилась такая проповедь. И все же Эхнатон не может не быть нам дорог как человек, отважившийся посягнуть на мир богов, человек, ощутивший живое дыхание Единого.
Эхнатона погребли в пустыне среди скал, замыкавших долину. Его гробница была еще не готова. И прошло совсем немного времени, как в место его вечного упокоения ворвались осквернители... Пришел конец его династии и, следовательно, его учению...
Еще при жизни царь сделал соправителем своего зятя Сменхкару, но тот умер молодым. На престол вступил другой зять Эхнатона — болезненный мальчик Тутанхатон. Он очень скоро оказался под влиянием сторонников Фив, которые убедили его разрешить старые культы. Есть сведения, что первым это сделал еще Сменхкара.
Тутанхатон покинул Город Солнца и переехал с женой в Мемфис. Свое имя он переделал в Тутанхамон, чтобы показать, что он порывает с религией Атона. Восемнадцати лет Тутанхамон умер и был погребен в Фивах. Его вдова, юная Анхсенпаамон, очевидно не желая отдавать руку старому царедворцу Эйе, рвавшемуся к власти, завязала переписку с хеттским царем, прося прислать в Египет одного из принцев, но ее попытка не удалась. Подробности этих событий неясны. Известно лишь, что Эйе все-таки стал фараоном.
В 1345 г. после ряда непродолжительных царствований к власти пришел молодой и энергичный военачальник Харемхеб, который завершил полную реставрацию старых порядков в стране. Родовая аристократия вновь обрела силу, жрецы Фив торжествовали, имя «еретика из Ахетатона» было предано проклятию и уничтожалось повсюду; все, кто мог, отрекались от Эхнатона и его веры. Древняя
157
религия оживала; в храмах вновь зазвучали славословия богам. Повсюду раздавалась ликующая песня фиванцев, сочиненная жрецами, которая начиналась словами:
Сокрушен хулитель Фив,
Пал противник царицы городов...
Изображения Эхнатона разбивались на куски. Жрецы хотели, чтобы «еретик» исчез из народной памяти, и очень скоро добились своего.
Для столицы божественного Солнца пробил последний час. Жители покидали ее, дома пустели, храмы превращались в каменоломни, откуда везли строительный материал для Мемфиса и Фив.
Прошли годы, и на том месте, где некогда пристала барка Эхнатона, положившего основание городу, снова, как прежде, только шелестел тростник, и песок постепенно засыпал изувеченные останки Ахетатона. Так, погребенные под песками, пролежали они три с лишним тысячи лет, пока, благодаря случайности, не были обнаружены, и мир вновь услыхал печальную повесть о неудавшейся попытке победить язычество в стране фараонов.
158
Глава четырнадцатая
ТАЙНА ЛАБИРИНТА
Остров Крит, ок. 1600—1400 гг.
Лик Судьбы-Жены только дифференциация
цельно-монотеистической идеи
Жены-богини, единой верховной владычицы.
Вяч. Иванов
Одновременно с появлением на историческом горизонте арьев и семитических племен на севере Балканского полуострова началось переселение ахейцев — предков греческого народа. Их передвижение на юг длилось несколько веков. Ему предшествовало установление на южной части полуострова власти критян. Культура Крита оказала впоследствии огромное влияние на зарождавшуюся греческую культуру. И поэтому, прежде чем говорить о греках, мы должны остановиться на их предшественниках, критянах.
Остров Крит представлял собой как бы мост между Европой и Азией. Его раскинувшиеся крылья замыкали с юга круг, обычно называемый Эгейским миром, или Эгеидой, и имевший Микены восточным своим центром, а Трою — западным.
Покрытый лесистыми холмами, изрезанный хребтами гор, остров очень долгое время не привлекал внимания завоевателей. Обитатели его долин и побережий много веков не знали тех грозных набегов и кровавых переворотов, которые постоянно потрясали соседние страны. Они мирно трудились на своих полях, пасли на склонах гор длиннорогих коров, обрабатывали виноградники и масличные сады, ловили рыбу в зеленых водах Эгейского моря. Уже около 2000 года на Крите возникли первые государства. Они были изолированы друг от друга горами, и лишь через несколько десятилетий произошло их объединение.
159
В своих преданиях греки рассказывали, что Крит объединился в правление жестокого царя Миноса. Он был сыном самого Зевса, который, приняв облик быка, привез на остров финикийскую принцессу Европу. От их брака и родился царь Крита. Он стал могучим повелителем морей, и многие народы, в том числе и греки, платили ему дань. Греческий мастер Дедал построил в столице Миноса удивительное сооружение, называвшееся Лабиринтом. В нем была такая запутанная сеть коридоров и переходов, что, раз попав туда, человек уже не мог выбраться и непременно погибал в центре этой каменной ловушки. Там его ожидало нечто более страшное, чем голодная смерть. Раздавался рев, и появлялось чудовищное существо Минотавр. Вместо человеческого лица у него была огромная бычья голова. Он кидался на несчастного и пожирал его.
Миф говорит, что Минотавр был сыном Пасифаи, жены царя Миноса, и быка. Боги наказали Миноса за его скупость во время жертвоприношения и, помутив разум Пасифаи, заставили ее полюбить того быка, которого Минос не захотел принести в жертву. Так родился устрашающий монстр — Минотавр (т. е. «бык Миноса»), которому дали имя Астерион. Царь поселил кровожадного ублюдка в мрачном лабиринте и кормил его человеческим мясом. Для этого он требовал от покоренных греков кровавой дани: каждые девять лет на Крит доставлялись семь юношей и семь девушек, которых отсылали в лабиринт. Обреченные блуждали по страшным коридорам до тех пор, пока их не находил ненасытный быкоголовый людоед 318).
В более поздние времена уже сами греки относились с большим недоверием к этому рассказу. Они всячески пытались рационально истолковать его. Так, знаменитый Плутарх утверждал, что Минотавр — это не кто иной, как один из полководцев Миноса, необычайно жестоко обходившийся с пленными. Относительно Лабиринта строились также разнообразные предположения. Считали, что это было подражание какому-то египетскому сооружению 319).
Историки долгое время полагали, что все рассказы о Миносе — сказка, не содержащая почти ничего достоверного. Однако в XX веке положение изменилось. В 1900 году английский ученый Артур Эванс, руководствуясь указаниями мифов Гомера и других древнегреческих писателей, начал раскопки на месте древней столицы Крита — Кносса. И каково было его изумление, когда перед ним открылись развалины колоссального здания площадью в 16 000 кв. м. Это здание с полным правом могло быть названо Лабиринтом, ибо оно представляло настоящий хаос бесчисленных залов, комнат и коридоров.
Мало того, раскопки показали, что здесь, в Кноссе, за много веков до расцвета Эллады существовало мощное государство с высокой культурой, не уступавшей культурам Евфрата и Нила. Неповторимые в своем очаровании фрески, великолепные барельефы, изящные статуэтки и утварь, разнообразные произведения художественной керамики свидетельствовали о том, что Эванс открыл один
160
из величайших исчезнувших центров мирового искусства. Особенно поразил археологов прямо-таки современный уровень быта обитателей Кносса. Древняя критская столица оказалась достойной соперницей Мохенджо-Даро или Ура Халдейского 320).
Итак, Лабиринт и держава Миноса оказались реальностью. А Минотавр? Помимо бесчисленных изображений быков, на Крите были найдены изображения, точно иллюстрирующие старинное греческое предание. Оказалось, что это фантастическое существо не измышлено позднейшими поколениями. Представление о нем было хорошо известно критянам.
Но на пороге решения многих загадок историки вынуждены были остановиться. Оказалось, что ни иероглифы, ни линейная письменность Крита не поддаются расшифровке. Правда, письмо более позднего времени (так называемое линейное «В») удалось прочесть, потому что оно фиксировало греческий диалект. Но оно относилось уже к тому времени, когда после 1400 года Крит подпал под власть греков. Письменность же более древняя предназначалась не для греческого и, по-видимому, вообще не для индоевропейского языка 321).
Таким образом, архитектура, живопись, прикладное искусство, памятники быта, обнаруженные на Крите, при всей своей яркости и оригинальности остались чем-то вроде немого кинофильма без титров.
Загадочные же обитатели острова остаются, подобно шумерийцам — создателям месопотамской культуры, и поныне неведомым племенем 322). Однако те памятники, которыми мы располагаем, могут в какой-то степени восстановить ход истории и эволюцию культуры Крита.
Не случайно Аристотель говорил, что этот «остров создан для того, чтобы повелевать Грецией» 323). Царство Миноса было, по сообщениям греческих авторов, морской державой по преимуществу. Подчинив своему владычеству других царьков острова, Минос направил свою экспансию на окружающие страны. Им был создан лучший в Эгеиде флот, и после упорной борьбы с многочисленными пиратами он стал «владыкой морей». На Крите имелись богатые медные рудники. В эпоху Бронзового века они являлись неоценимым кладом для страны. Они давали возможность пополнять арсеналы и широко торговать с окружающими народами. Миносские купцы появились в Вавилоне и в Египте, в Греции и в Малой Азии. Очевидно, и в критских гаванях иноземные торговцы были частыми гостями. Расцвет миносского государства совпадал с владычеством гиксов в Египте, и на Крите были найдены их печати.
Цари династии Миноса не боялись завоевателей и не строили приморских укреплений. Грозный флот в гаванях острова был сам по себе надежной стеной. Да и сам Лабиринт был не хуже любой крепости. Впервые это причудливое сооружение было построено около 2000 года. Лет через 200 его разрушило землетрясение, но оно было снова восстановлено. В течение долгого времени к нему
161
пристраивали все новые и новые помещения, переделывали ходы, добавляли площадки и колоннады. Именно таким образом оно превратилось в грандиозный каменный муравейник, развалины которого навеяли грекам миф о Лабиринте 324). Очевидно, само это слово в миносские времена означало «дом Лабриса», т. е. священной двойной секиры. Вероятно, в нем хранилось особо почитаемое изображение этого старинного фетиша.
Могущество Миносов после объединения острова, создания колоний, победы над пиратами и в результате успешной торговли достигло кульминационной точки. Тронный зал дворца свидетельствует о том, что выходы царя обставлялись, очевидно, такими же торжественными церемониалами, как в Египте или Ассирии. В центре зала у стены стоит величественный трон. Фрески на стене изображают фантастических грифов, которые в благоговении подняли головы, готовые служить могущественному повелителю.
В другом месте на фреске мы наконец видим и самого царя. Его фигура выделяется на багряном фоне. Это атлетически сложенный молодой человек без бороды, с длинными, почти до пояса, волнистыми волосами. На голове у него оригинальная корона с павлиньими перьями, отдаленно напоминающая праздничные головные уборы казахских женщин. Одежда его проста. Так же, как и все мужчины острова, он носил лишь легкий расписной передник и браслеты. Но что он делает? Какой момент его царственной жизни хотел запечатлеть художник? Царь ступает среди высоких, похожих на сахарный тростник растений, над которыми летают бабочки. Одна рука его прижата к груди, другая отведена далеко назад. Что это? Царь на полевых работах? Но где же тогда коса или корзина с зерном? Их нет. Перед нами символическое действо 325).
Властелин Крита не сеет и не жнет. Он имитирует труд своими движениями. По общему мнению ученых, это — изображение магического ритуала. Подобно африканским колдунам и фараонам Египта, этот царь-жрец, живущий среди роскоши в Лабиринте, окруженный армией послушных рабов, на короткое время как бы превращается в крестьянина. Он совершает колдовской обряд, который принесет плодородие земле. Сюда, к стенам дворца, к особе священного владыки, тянутся нити благополучия страны. От его заклятий зависит все. Он — воплощение божества на земле, сосредоточившее в себе таинственные силы, которые управляют природой. Он посылает дождь, он владыка молнии, ему послушны травы. На него с надеждой смотрят подданные.
Человек всегда искал зримого воплощения высших сил. Эта жажда породила царей-богов Египта и Аккада, она окружила волшебным ореолом и Миносов; отсюда идет прямая линия через спартанских царей к «великому первосвященнику», как именовался римский император. Эти представления жили и в средневековой Европе. Достаточно вспомнить, что французский король имел «наследственный дар исцеления». Эта линия протягивается и до нашего времени, хотя и претерпевает существенные внешние изменения. Слепая вера
162
народов в гений своих вождей, глубокое и всеобщее убеждение, что они все видят и ведут общество к процветанию, — это печальное явление XX столетия уходит своими корнями в те отдаленные времена, когда люди верили, что от воли царей-жрецов зависит плодородие земли и благополучие народа.
В миносских памятниках угадывается еще одна форма магического культа — поклонение быку. Из всех домашних животных, с которыми человек сталкивался в повседневности, редко какое больше поражало воображение человека, чем бык. Унылый и нелепый верблюд, упрямый и невзрачный ослик, грязный козел с желтыми глазами и робкая, задумчивая овца — все они были покорными рабами человека. Даже овца и корова, которые считались на Востоке священными, привлекали в первую очередь своей кротостью и безропотным служением. Бык же так и остался навсегда полудиким. Среди стада, такого ручного и послушного, он кажется свободным жителем лесов, случайно оказавшимся в поле зрения человека. Он свиреп и неукротим, его горбатая могучая спина высится как холм, увенчанный рогами. Никогда не знаешь, как он поведет себя. Древние инстинкты вольных предков остались еще в его мятежной крови. Поэтому для многих народов он стал символом могущества, борьбы, власти и оплодотворения. Мы находим изображения священных быков в Индии на печатях Мохенджо-Даро, в Египте его почитают под именем Аписа, в Вавилоне он — знак царского владычества, короны ассирийцев украшаются бычьими рогами, евреи поклоняются золотому тельцу и украшают рогами жертвенник; главный бог финикийцев, владыка плодородия Ваал-Молох, изображается с головой быка. Это финикийское изображение отличалось особой жуткой выразительностью. Очевидно, оно и послужило прообразом миносского Минотавра.
О том, насколько тревожит образ этого бредового существа даже душу современного человека, достаточно свидетельствует знаменитая серия рисунков Пикассо «Минотавр». Какой-то кошмарной достоверностью веет от этого чудовища. Если головы других животных, приставленные к человеческому телу, кажутся безобидными масками, то голова быка зловеще сливается с ним. Здесь мог бы помочь фрейдистский анализ, но нас сейчас интересует другое: какой характер носит культ Минотавра на Крите?
На одной из монет мы видим пляшущего Минотавра, из-за рогов которого видны человеческие волосы. Очевидно, перед нами ритуальный танец с маской, подобный ритуальным танцам Полинезии или Тибета. Археологи не нашли ни одного культового изображения Минотавра. Его фигуру обнаружили лишь на печатях или монетах. На некоторых из них его тело испещрено солнечными или звездными знаками. Святилище в Кноссе было украшено несколькими условными изображениями рогов.

11*
Если сопоставить все это, то напрашивается следующее предположение. Известно, что финикийскому быкоголовому богу Молоху в особых случаях приносили человеческие жертвы. Возможно,
163
что финикийцы занесли свой кровавый обычай на Крит. Критяне восприняли эту страшную религию, отождествив Минотавра с богом неба и плодородия, каковым был Молох Финикийский. Вероятно, во время чудовищных ритуальных убийств перед рогатым жертвенником совершалась пляска жреца в бычьей маске. Быть может, он сам наносил удар жертве. Вполне возможно, что обреченными обычно были военнопленные, в частности греки. Таким образом, миф о быкоголовом людоеде имел действительную и страшную историческую основу.
С течением времени культ быка на Крите принял более безобидные черты. Он вылился в торжественные жертвоприношения и состязания, напоминающие испанские бои быков. На изображениях мы видим ловких акробатов, которые вскакивают на спину разъяренному животному или хватают его за рога. Для некоторых из них эти игры кончались плачевно. Сохранились рельефы и фигурки, на которых изображены смельчаки, повисшие на острых бычьих рогах. Вообще празднества и игры как составной момент культа были необычайно характерны для миносской культуры. И эта замечательная особенность перешла впоследствии к Элладе.
Особенно торжественными были празднества в честь величайшей богини острова Ma — Великой Матери 326). Культ ее восходил к отдаленнейшим доисторическим временам, быть может, к тем первым поселенцам, которые пришли на остров в эпоху каменного века. В предыдущих главах мы говорили об истоках религии Матери и ее огромном значении для становления язычества и магизма. С переходом людей к обработке земли этот древний культ приобрел новую силу и значение. Люди по-новому стали смотреть на кормилицу-землю; уже не удача и не охота стали решать их судьбу, а плодородие этой необъятной груди. Как женщина рождает дитя, так и земля, оплодотворенная небом, рождает растения. Как в теле женщины кроются таинственные силы, так почва скрывает могущественные токи Великой Матери, родившей некогда и богов и людей. Весь мир приютился на ее груди и жаждет ее плодов, как младенец, тянущийся за материнским молоком. Для древнего человека земля была не просто скоплением веществ, а подлинно живым существом, к которому он относился с любовью, страхом и благоговением. Кто знает, не были ли в этом они более правы, чем мы со своей химией и минералогией.
Обоготворение земли, как мы уже видели, было естественно перенесено на женщину. Не женщина ли, это странное существо, рождающее и кормящее, владеющее неизъяснимыми природными тайнами, есть воплощение единой Божественной Женщины? Обладая ею, человек приобщается неизреченному, обладает Землей. Это ощущение нашло свое воплощение в индийских культах Тантры и в каббалистической мистике. Через женщину земную человек находит путь к Небесной Матери. Здесь ключ к истокам Природы.
Читатель, вероятно, помнит знаменитую сцену из «Гайаваты», когда обнаженная Миннегага обходит маисовые посевы, магически
164
ограждая их от вредоносных влияний. Подобные женские ритуалы совершались у многих народов. Из всех древних цивилизаций Крит был в этом отношении наиболее ярким примером. Он долгое время находился в полном духовном подчинении у женщин.
Мужчины воевали, обрабатывали землю, плавали на торговых судах, женщины же были властительницами религиозной жизни народа. И если царь-жрец и совершал определенные ритуалы, то рядом с ним, если не над ним, стояла великая жрица. На миносских фресках мы видим, что обряды повсюду совершаются исключительно женщинами. Сохранилось несколько фаянсовых и костяных статуэток, изображающих богинь в костюмах жрицы. На голове у них замысловатые высокие тиары, расширенные глаза светятся фосфорическим блеском, в руках извиваются змеи. Длинные бахромчатые платья с корсетом расширяются колоколом, что придает статуэткам сходство с вятскими игрушками. Фрески молчаливо повествуют о том, каковы были обязанности жриц. Вот они совершают погребальный ритуал перед изображениями двойной секиры, вот они кружатся в священной пляске, творя загадочные пассы и произнося заклинания; мужчины безликой молчаливой толпой смотрят через ограду на танец девушек-жриц. Их пышные одежды, оставляющие обнаженной лишь грудь, резко контрастируют со скудными передниками мужчин.
Женщины заполняют почти все религиозное искусство Крита. Шествие великой жрицы, которую несли на носилках юные служители, было, вероятно, не менее пышным и торжественным, чем шествие царя. Предполагают, что Миносы делили свою политическую власть с великой жрицей. Царь-колдун составлял, очевидно, исключение среди представителей своего пола. В остальном же плодородие земли связывалось исключительно с обрядами женщин. Более того, продолжение жизни в лоне Великой Матери после смерти тела могли получить лишь только женщины, поэтому на фресках мы видим души умерших мужчин, превращенных в женщин 327).
Если можно по последствиям судить об их причинах, то, очевидно, существовали женские тайные союзы, которые с ревнивой враждебностью охраняли от мужей свои оргиастические радения. Попытки мужчин утвердить власть встречали, вероятно, жестокое сопротивление в этом царстве матриархата.
«К эпохе господства матерей и к эпохе великой борьбы полов, — говорит наш замечательный исследователь античности Вячеслав Иванов, — восходят мужеубийственные культы Артемиды, с ее общинами Амазонок и ее обрядами мучительства мальчиков, и Диониса, с его мэнадами, как и многообразные следы мужеубийства в других культах женских божеств; вспомним хотя бы миф о египетских Данаидах и о Лемносском грехе. О том, в каких грандиозных и чудовищных формах утверждалось владычество женщин и женское единобожие, мы можем судить по энергии той мужской реакции против женской деспотии и женского мужеистребления, которая еще живо памятна автору Орестеи» 328).
165
Но поворот к патриархату, который был связан с греческими пришельцами-ахейцами, так и не уничтожил религии Жены. Ее отзвуки мы видим, однако, не только в каннибальском неистовстве вакханок и шабашах средневековых ведьм, но и возвышенном учении мистиков в Душе Мира, о женственной сущности духовно целокупной природы.
Идея святости, физического целомудрия, девственности зародилась также в лоне матриархальной культуры. На Востоке эту идею никогда не принимали. Египтянин, иудей, ассириец — все они были убеждены, что женщина призвана быть женой и рожать детей. Но в Элладе, уходившей духовными корнями в критскую почву, мы уже видим девственную Артемиду и девственную Афину. Несмотря на все суеверия, связанные с девственностью, в ее идее брезжила мысль о возможности и для женщины чисто духовного служения миру и Богу.
Одной из важнейших черт женской религии, как можно судить по ее проявлениям в Греции, была стихийность, иррациональность, оргиастичность. Женщин-мудрецов, женщин-учителей древность не знала. Зато она знала женщину-шаманку, пифию-прорицательницу, женщину-жрицу, приходившую в священное исступление. В матриархальных культах разум был оттеснен на самый дальний план. Вперед выступало священное безумие; в неистовых экстазах вырывалась на свет Божий стихийная энергия дремлющих в человеке демонических сил. Против этого хаоса «ночного сознания», против иррациональных стихий и ополчился впоследствии Зевс-Олимпиец — «отец богов и людей».
Каков был мужской культ на Крите? Очевидно, объектом поклонения был возлюбленный Матери — бог растительности. Это несчастное существо, такое жалкое по сравнению с Богиней, было, однако, любимо ею. Его смерть вызывала ее скорбь, и от печали Великой Матери замирала вся природа. Но вот силою любви он воскрешался, и на земле наступала весна. В Вавилоне этого возлюбленного богини называли Таммуз, в Египте — Осирис, в Финикии — Адонис или Ваал, в Малой Азии — Аттис. Мы не знаем, как именовался он у миносцев. Возможно, это был греческий Кронос — бог времен года и земледелия. С ним, очевидно, также были связаны особые погребальные ритуалы. Впоследствии, когда Критом окончательно овладели греки, он превратился в Зевса Лабрандея, т. е. почитаемого с Лабрисом. Греки показывали на Крите его могилу, которая, очевидно, была местом оплакивания древнего миносского бога растительности 329).
Но, несмотря на существование бога оплодотворяющей силы (в образе быка) и бога воскресающей растительности, главенствующей богиней оставалась Ma — Великая Мать-Земля, Ге-Метер, как называли ее впоследствии греки. В честь ее на острове устраивались пышные празднества с плясками, магическими ритуалами, акробатическими упражнениями. Ритуал быка, как мы говорили, превратился в своеобразный вид спорта.
166
В Лабиринте настолько ценили захватывающие, полные азарта и опасности игры с быками, что постоянно держали наготове нескольких животных. В Кноссе были найдены специальные стойла для быков, предназначенных для жертвоприношений и состязаний.
В религии Великой Матери, очевидно, не было почти никаких аскетических элементов. Вся природа представлялась божественной, и человек привык восхищаться ее красотой. Человеческое тело и скачущий бык, летучие рыбы и осьминоги — все это воплощалось в миносском искусстве с таким тонким пониманием, с такой непревзойденной любовью, что сравнивать его можно, пожалуй, лишь с египетским искусством времен Эхнатона. Утонченный реализм этого искусства был, по всей вероятности, связан с магическими представлениями. Еще в глубокой древности человек верил, что через изображение он может овладеть первообразом. Отсюда вытекало стремление к наиболее точному и детальному воспроизведению действительности. Но одновременно ритуальное происхождение этого реализма не давало ему превратиться в простое копирование природы. Художник всегда стремился творчески выделить главное в изображаемом, то, что было нужно именно ему. Отсюда шел путь к очаровательной критской стилизации, которая продолжает восхищать людей XX века.
В том, с какой чуткой продуманностью миносские мастера окрашивали стены Лабиринта, можно видеть особый культ изящного, развившийся в критском обществе. Особенно распространены были веселые, желто-красные тона. Изумительные по своей форме и раскраске фаянсовые и керамические изделия свидетельствуют о том, что критяне хотели пронизать красотою весь свой быт. Их не интересовала монументальная скульптура их восточных соседей, они увлекались изготовлением крошечных фигурок, гемм, печатей, ювелирных украшений. Быть может, немаловажную роль сыграло в этом влияние женщин. В тяготении Крита к изысканному, к небывалому в позднеминосский период уже стали сказываться черты декаданса. Мощный творческий порыв, который только и создает культуры, стал иссякать, постепенно заменяясь погоней за вычурностью и изощренностью форм.
Обитатели дворца хотели превратить свою жизнь в сплошной праздник. За толстыми стенами Лабиринта они чувствовали себя как бы в волшебной атмосфере. На каждом шагу они видели прелестные фрески: перед из глазами постоянно плыли палевые, оранжевые волны, извивались фантастические цветы, проносились быки и обитатели зеленых глубин моря: осьминоги, рыбы, дельфины. Они пили тонкие вина из чаш, украшенных изящным орнаментом, напоминающих шедевры венецианских мастеров; женщины одевались в пышные, громоздкие платья, похожие на туалеты дам XVIII в., они носили затейливые прически, которые требовали большого искусства от парикмахеров. Критские аристократы любили удобства. Побывав на Крите, Илья Оренбург справедливо заметил, что «дворец Кносса был куда комфортабельней дворцов Версаля и
167
Гатчины». Там были великолепные водопроводы, купальни, вентиляция.
Дворец был обеспечен всем. Огромные кладовые ломились от зерна, масла, дорогих вин. Это был целый мир, веселый и праздничный внутри — в галереях и двориках, а снаружи грубый и негостеприимный. Жители его, видимо, мало интересовались тем, что происходило за пределами Лабиринта. А между тем там происходили важные события. Хетты захватили почти всю Малую Азию, колонизаторский натиск финикийцев продолжался с неотвратимой настойчивостью; Палестина восстала против власти фараона, но самое главное, греческий народ — ахейцы, продвинувшись на юг, образовали воинственное государство с центром в Микенской крепости. Морскому владычеству Миносов оставались считанные дни. Это происходило около 1400 г.
Греческий миф повествует о том, как юноша Тезей решил избавить соотечественников от страшной дани Минотавру. Он отправился на Крит с партией обреченных молодых людей. Там он заручился помощью дочери Миноса Ариадны, которая полюбила его. Она дала ему клубок, который помог бы ему выбраться из Лабиринта. Тезей бесстрашно пошел через запутанные коридоры, пока не увидел чудовище. В жестокой рукопашной схватке человек-бык был убит, и его жертвы спасены. Так говорит легенда.
Раскопки показали, что около 1400 г. ахейцы вторглись на Крит. В тронном зале остались следы разыгравшейся трагедии: были найдены в беспорядке разбросанные культовые сосуды. Быть может, в роковой час царь-жрец хотел принести последнюю жертву. Быть может, находясь на грани отчаяния, он и его придворные, проводившие весёлые дни в Лабиринте, вспомнили о религии, которая в их безбедном существовании, наверно, уже превратилась в красивую, но пустую традицию.
Подобно двору Людовика XVI, на который он был так похож, Лабиринт был застигнут врасплох наступившей катастрофой.
* * *
Но если погибли Минотавр и Лабиринт, это не означало гибели миносской культуры. Новые хозяева острова — ахейцы — оказались талантливыми учениками. На развалинах миносской цивилизации расцвела культура древней Эллады. Какие же дары завещал Крит своей преемнице? Прежде всего, греки рано прониклись жизнелюбием миносцев, их культом красоты, их тяготением к праздничным шествиям и спортивным состязаниям. Они восприняли великий азиатский культ Богини-Матери, и в эллинской религии навсегда остался неистребимый дух женственности, дух стихийного, иррационального, дух страсти и опьянения. Приблизиться к вершинам Единобожия было суждено не греческой религии, а греческой философии...
168
Глава пятнадцатая
УТРО ЭЛЛАДЫ. ОЛИМПИЙЦЫ
Греция до 1400 г.
В наши дни античное язычество —
чуть ли не синоним радости. Но тому,
кто читал великих древних, и в голову
не придет отождествлять античность с
весельем.
Г. К. Честертон
Греческие племена переселились на Балканы около 2000 года, в эру великих семитических и индоевропейских миграций. Пришли они из тех земель, где обитали предки арьев, иранцев, хеттов, двумя путями: через северные горные дороги и через острова Эгейского моря вторглись эллины на Пелопоннес и в Фессалию. Хотя до нас почти не дошло легенд, связанных с этим временем, но во всяком случае очевидно, что сначала туземцы оказали грекам отчаянное сопротивление. Но греки, которые имели лучшее оружие, сломили его. Толстый слой пепла, отделяющий догреческий и греческий археологические слои, молчаливо свидетельствует о страшных пожарах, бушевавших на развалинах туземных городов.
Кто же были эти туземцы? Вопрос немаловажен, ибо они, смешавшись с пришельцами, сохранили элементы своей культуры, которые постепенно стали неотъемлемой частью культуры греческой. Что они не принадлежали к эллинским племенам — это, кажется, помнили и сами греки, называвшие их пеласгами. Древние названия городов Коринф, Тиринф и др. — не индоевропейского происхождения. Скорее всего пеласги были сродни критянам, или же вообще их страна была колонией Миносов. На за-
169
гадочном «Фестском диске», нерасшифрованной иероглифической надписи с Крита, мы видим людей в пернатых шлемах. Такие же шлемы носили и филистимляне, которые, по свидетельству Библии, пришли с Крита 330). Некоторые ученые не без основания сближают название «пелест» (филистимляне) с названием «пеласги». Все это лишний раз подтверждает связь доэлладской Греции с Критом.
Вероятно, Греция привлекала критских правителей главным образом как плацдарм для морской торговли. Причудливо изрезанные берега Балканского полуострова, изобилующие спокойными бухтами и заливами, давали надежный приют кораблям. В прочих же отношениях природа Греции не была так заманчива, как рисовало ее впоследствии воображение поэтов. Она отличалась сухим воздухом, невыносимой летней жарой, резкими скачками температуры. Земель, годных для обработки, было сравнительно немного, на выжженных солнцем холмах лишь овцы да козы умудрялись добывать себе пищу.
Горные хребты и бесплодные возвышенности пересекают полуостров во всех направлениях. Зимой грозы, бури и проливные дожди сменяют обычный зной. В это время года наполняются и небольшие реки Греции, которые летом почти высыхают. Впрочем, невзирая на все это, греческий ландшафт всегда отличался особым очарованием и способствовал развитию в народе любви к прекрасному. Безоблачное небо над желтыми скалами, манящие острова среди бирюзового моря — эти картины запечатлелись в эллинском искусстве.
Три фактора оказали на мировоззрение греков необоримое влияние. Во-первых, земледельческий культ пеласгов с их сельскохозяйственной магией и колдовскими ритуалами. Во-вторых, религия и культура Крита с поклонением Богине-Матери и исступленными радениями жриц. И в-третьих, изменения в образе жизни пришельцев, переход их к земледелию. Полной картины этого тройственного влияния мы не имеем. Она восстанавливается при помощи фрагментов, осколков и отдельных черт. Свидетельства Павсания и других античных авторов о дикарских ритуалах, сохранившихся в Греции, намеки у Гомера, Гесиода, Пиндара; расшифровка древнейших ахейских надписей из Кносса и Пилоса — все это дает возможность хотя бы в самых общих чертах проследить историю духовного порабощения завоевателей и их попыток постепенно освободиться от туземных влияний.
Крит оказывал культурное влияние на Грецию в течение многих веков. И несомненно, что это влияние сказалось не только на строительной технике, на орудиях труда, утвари и одежде, но и на мировоззрении древних обитателей полуострова.
На пути греческих переселенцев было два старинных святилища: дельфийское и додонское. В Додоне у огромного столетнего дуба заклинатели вопрошали какое-то древнее пеласгийское божество. Шелест листьев и потрескивание ветвей служили отве-
170
том, который истолковывали заклинатели. Греки не уничтожили этого святилища. Они решили, что их бог Дьяушпитар — общий бог их предков, которого они называли Дием-патером, или Зевсом-отцом, также заговорит с ними из таинственного сумрака дубовых ветвей. Они с благоговением прислушивались к стуку костяшек на конце плети, повешенной над медным котлом. Ветер трепал плеть, и ее стук вещал о будущем 331).
Оракул в Дельфах был посвящен Богине-Матери. Он находился в руках прорицательниц, которые, приходя в состояние исступления, прорекали волю божества. По некоторым намекам, Богиня-Мать чтилась туземцами и в Додоне. Существуют мифы, согласно которым греческое божество убивает змея — стража древнего святилища.
То, что служителями этих мест были, как правило, женщины-шаманки и сивиллы, наводит на мысль о связи их с женским культом Крита 332).
Замечательным свидетельством совершившегося во время эллинского вторжения слияния культов является указание на то, что святилище в Додоне принадлежит «Зевсу пеласгийскому» и его супруге Земле 333).
По-видимому, греки усвоили и критский культ Лабриса. На одном изображении из Микен мы видим женщин в характерных одеждах миносских жриц, совершающих ритуальное действо перед двойной секирой.
«Уже древнейшие ахейцы, пришедшие в Элладу, — говорит Вяч. Иванов, — вместе с другими элементами, найденными ими на новой родине доэлладской культуры, частично усвоили себе, особенно при заселении Архипелага, оргиастические обряды и празднования хеттской и критской религии, коими культура была пронизана, вследствие чего должны были возникнуть в самом эллинстве подобные культы» 334).
Об этих культах в ту древнейшую эпоху мы ничего определенного не знаем, но о них красноречиво свидетельствует изобразительное искусство и следы экстатических обрядов в более поздних формах культа.
Расселившись по северу полуострова, эллины стали обрабатывать землю в долинах, выращивать пшеницу и ячмень. Но так как земли для посевов было недостаточно, греки большое внимание уделяли садоводству. По склонам холмов разбивались масличные и фиговые сады, реже — виноградники; кое-где собирали мед и культивировали пряности. Очевидно, первые столетия после завоевания способствовали больше всего развитию мирных профессий земледельца и скотовода. Утомленные продолжительными скитаниями и бесконечными набегами, греки с жадностью набрасывались на землю и отдавались безмятежной жизни среди долин завоеванной земли. Отношения с туземцами, которые уцелели после вторжения 2000 г., не были, вероятно, слишком враждебными. Греков на первых порах было меньшинство. Очевидно, около
171
1600 г. Эллада была данницей Миносской мировой державы, как об этом свидетельствует легенда о Минотавре.
Одним из распространеннейших занятий древней Греции было скотоводство. Как и в Ханаане, здесь отдавали предпочтение неприхотливым овцам. Когда летний зной повисал над долинами, пастухи уводили стада высоко в горы. Там устраивались специальные выгоны, в которых нередко помещалось несколько тысяч овец. Пастухи, проводившие в уединении среди гор большую часть своей жизни, были, быть может, первыми поэтами Эллады. Их образ жизни располагал к ленивой созерцательности и к фантастическим мечтам. Они настолько свыклись со своими козами и овцами, что, казалось, сами уподоблялись им. Вынужденное уединение порождало эротические галлюцинации, в которых человек причудливо сочетался с животным. Чуткие ко всем проявлениям окружающей природы, пастухи Аркадии олицетворяли ее скрытую таинственную жизнь в виде козлоногих сатиров, резвившихся на горных лугах. Но превыше всего они ставили владыку всей природы, которого именовали Паном 335).
Пан — покровитель пастухов. Быть может, его чтили в Аркадии еще до прихода греков. Повсюду среди гор чувствовалось его незримое присутствие. Но иногда он появлялся. Он высовывал из-за скалы свою бородатую физиономию, увенчанную козлиными рогами. И тогда овцы испуганно бросались врассыпную. Этот «панический страх» — странное чувство, внезапно рождаемое среди сонной тишины гор:
...В удел отданы ему скалы,
Снежные горные главы, тропинки кремнистых утесов,
Бродит и здесь он и там, продираясь сквозь частый кустарник;
То приютится над краем журчащего нежно потока,
То со скалы пронесется все выше и выше,
Вплоть до макушки, откуда все пастбища видны...
Пан — друг коз, их отец, возлюбленный, их всеобщий пастух. Это он научил человека звуками свирели собирать стада, научил выделывать шерсть, это он навевает ему сладострастные мечты, чтобы он не скучал в одиночестве. Когда полдневный жар смежает веки, лучше не брать в руки свирель. В это время великий Пан спит. Он спит вместе с оцепеневшими облаками, с замолкшими деревьями, вместе с холмами, спит, окруженный дремлющими стадами.
Вера аркадских пастухов пережила десятки веков. Древний пеласгийский бог, который еще Аполлона учил искусству заклинания, умирал по мере продвижения цивилизации и наступления городов, способствовавших развитию рационализма. Но там, в горах, где человек оставался один на один с природой, он вновь оживал и бродил среди кустов, наблюдая за стадами...
Пан не только житель гор. Тенистые рощи и леса также его излюбленное обиталище. Здесь он не один; его окружают забавные сатиры: козлоногие, рогатые, с плоскими обезьяньими
172
лицами. Они вечно в погоне за лесными девами-дриадами. Это воплощенное вожделение, носящееся по полянам в обличим карнавального лешего. Это оккультные духи, вьющиеся всюду, где почувствуют сладострастие. Вся наша «безобидная нечисть»: домовые, лесовички, чертенята — все они родичи сатиров и силенов Греции.
Итак, Пан и его окружение — это одновременно и конвульсии чувственной стихии, и загадочная, чреватая тайной тишина Природы (она звенит в знаменитом врубелевском «Пане»).
«Из недр земли, из расщелины скалы бьет прохладный родник, распространяя зеленую жизнь кругом себя, утоляя жажду стад и их владельца: это богиня-нимфа, наяда. Воздадим ей за ласку лаской, покроем навесом ее струю, высечем бассейн под ней, чтобы она могла любоваться на его зеркальной глади своим божественным обликом. И не забудем в положенные дни бросить ей венок из полевых цветов, обагрить кровью закланного в ее часть ягненка ее светлые воды» 336). Таковы, вероятно, были чувства и думы древнего эллина. Он чтил духов, скрывавшихся в морщинистых стволах деревьев, обитавших в неподвижных затонах и в камышах по берегам рек. Он призывал их в торжественных клятвах, в их честь совершали обряды.
Но не только благие и доброжелательные к человеку существа окружали его. Его постоянно мучил страх призраков и демонов, скитавшихся по земле. Эти зловещие дети Великой Матери повсюду подстерегали человека, готовые причинить ему зло. Ощущение реальности темных сил было необычайно обострено у греков. Чтобы избавить себя от появления фантома, вызывающего содрогание, мазали смолой косяки дверей, жевали листья боярышника; старались ублажить мертвых, чтобы они не тревожили живых.
Как и на Востоке, в Элладе существовала вера в особую одухотворенность мира животных. Быть может, некоторые из греческих или туземных племен сохранили еще следы тотемизма. Павсаний рассказывает о распространенной вере в вурдалачество, в способность женщин становиться ведьмами. Он говорит об обряде, который своим происхождением уходит в доисторическую тьму, когда люди, «ставшие» волками, преследовали и пожирали людей, «ставших» оленями. Здесь дикое людоедство сплеталось с верой в оборотней и упырей. Человек, который участвовал в этом каннибальском ритуале, так и оставался «в чине» волка. И только если на протяжении девяти лет он не притрагивался к человеческому мясу, он снова становился человеком 337). И поразительно то, что вся эта звериная магия пережила века и сохранилась почти до времени Рождества Христова!
Тот факт, что многие догреческие обычаи и понятия существовали так долго, говорит о том, что первоначальная религия эллинских племен не выдержала натиска местных культов и растворилась в них. Произошло явление, аналогичное тому, которое имело место в Месопотамии, Индии, Ханаане. Семиты, при-
173
шедшие на берега Евфрата, оказались под властью шумерийской культуры; арьи, оттеснив туземцев, утратили свою веру в Дьяушпитара — Лучезарного Отца; израильтяне, как мы увидим, оказавшись в Ханаане, поколебались в верности Моисеевым заветам. Тем не менее во всех этих случаях первоначальный духовный импульс не умер, а лишь до времени оказался погребенным под слоем хтонического Магизма*.
Хотя эллины подчинили себе пеласгов и другие местные племена, они долгое время были бессильны перед Миносской державой. Миносцы были хозяевами морей, а эллины всегда чувствовали перед морем какой-то суеверный страх. Овладев мореходством, они долго не решались выходить в открытое море. Робко жались их кораблики к берегам, поспешно переходя от одного острова к другому. Во время этих первых каботажных рейсов будущие одиссеи боялись потерять из вида землю.
Старые мореплаватели: египтяне, финикийцы, критяне — создали столько пугающих рассказов о море! Когда корабль оказывался вдали от родной земли, когда он был во власти моря — этого огромного живого переливающегося тела, то человек, как никогда, чувствовал себя игрушкой неведомых сил. Эллинам казалось, что путешествие в открытом море легко может превратиться в путешествие по призрачному миру умерших. Океан — это край Вселенной, здесь конец всему привычному, прочному, земному; здесь все обманчиво и неверно, здесь обитают небывалые существа. На далеких островах живут кровожадные сирены; морские гиганты Сцилла и Харибда караулят беспечных путешественников; за кормой в брызгах пены проносятся нереиды, тритоны, океаниды. Ветры дуют по неведомым человеку прихотям...
Еще критяне относились с суеверным благоговением к спрутам — обитателям глубин. Это мудрое и страшное животное с пристальным взглядом почти человеческих глаз давно поразило их воображение. Можно думать, что у миносцев существовал даже особый культ спрута. Вероятно, они полагали, что объятия его щупалец имели магическую силу, и поэтому на саркофагах и ритуальных сосудах критян мы постоянно видим изображения осьминогов с распростертыми щупальцами.
Когда греки пускались в море, они соблюдали тысячи предосторожностей. Они боялись оказаться на одном судне с человеком, на котором лежит печать небесного гнева. Если на суше он еще как-то избегает своей немезиды, то в море, где власть таинственных существ проявляется сильнее, он обязательно найдет свой конец. На корабле запрещались любовные отношения. В него часто вделывали какую-нибудь святыню, например, кусок дуба из Додоны. Корабль тем самым приобретал душу и своего «ангела-хранителя», который обитал в носовой части судна.
* «Хтоническими» (от греч. «хтонос» — почва) называют культы, связанные с землей и плодородием. Хтонос — одно из имен Богини-Земли.
174
Но, несмотря на свой врожденный страх перед стихией открытого моря, ахейцы в конце концов все-таки стали мореплавателями. И прежде всего нанесли удар военному могуществу Миносской державы. Около 1400 г. греческие корабли показались у берегов Крита. Владычеству Лабиринта пришел конец. Отныне Крит в свою очередь стал одной из греческих провинций.
* * *
Что представляло собой в это время ахейское общество?
На холмах Пелопоннеса путешественник и доныне может видеть развалины грозных крепостей и замков. Исполинские каменные глыбы, из которых сложены стены, простоявшие двадцать пять веков, всегда вызывали изумление. Позднейшие греки уверяли, что их воздвигли одноглазые великаны-циклопы. Действительно, создание подобных сооружений кажется чудом. Изумляет не только величина камней, иные из которых достигают двадцати тонн весом, но и точность инженерного расчета, сумевшего сплести эти монолиты в единое целое. Наиболее замечательными из этих сооружений являются Микены, Тиринф, а также Пилос, расположенный на южном побережье полуострова.
Ахейские замки первоначально были разбойничьими гнездами. За их стенами обитали отважные дружины родовых старейшин, державшие в страхе окрестные племена. Быть может, критские мастера, искусные в подобных работах, помогали воздвигать стены ахейских крепостей. Если это так, то они собственными руками подготовляли падение своей родины. Микены, Тиринф и Пилос стали центрами ахейского могущества. Именно об этом периоде греческой истории (собственно, о его закате) и повествуют поэмы Гомера.
Если прежде события, рассказанные в Илиаде, считались вымыслом, то теперь, после раскопок в Греции и Трое, стало очевидным, что Гомер может быть признан ценным историческим источником. Правда, в нынешней редакции поэм есть немало анахронизмов, указаний, отражающих то более ранние века, то более поздние, но их чаще всего нетрудно выделить 338).
Старые авторы, характеризуя ахейское общество, описанное у Гомера, как правило, впадали в его идеализацию. А между тем, по верному замечанию Вяч. Иванова, «только по странному недоразумению могли когда-то видеть в Гомере отображение ясного младенчества счастливого народа» 339). Напротив, это было суровое, кровавое время, время непрестанных войн, грабительских походов, зверских развлечений, время, когда ахейцы сделали грандиозную попытку не только политически восторжествовать над всей Эгеидой, но и духовно освободиться от крито-пеласгического влияния.
Крепости являлись опорой ахейских царей. Эти цари были не колдунами, как на Крите, а племенными вождями, делившими власть над кланами с военачальниками и старейшинами 340). Среди
175
них особенно усилились микенские властители. Цари других укрепленных замков были их вассалами или младшими союзниками. Подобно Лабиринту, Микены были приспособлены к длительной осаде. Там был арсенал оружия, запасы продовольствия. От крепости по всей стране тянулись великолепные дороги. Ахейцы выходили в бой на легких колесницах, похожих на египетские. Шлемы из кожи или из кабаньих клыков, а главным образом бронзовые каски с конскими хвостами, которые так красочно описаны у Гомера, защищали голову. На одной из ваз этого времени перед нами проходит отряд воинов; они идут правильным строем; в руках копья, к которым привязаны мешки с провизией. На голове хвостатые шлемы; характерные профили с длинными прямыми носами, заостренные бороды, верхняя губа бритая. Это «богоравные» воители, воспетые Гомером.
В отличие от критян, которые никогда не изображали батальных сцен, микенцы очень часто обращались к военным темам. Даже на ювелирных изделиях вроде бляшек или колец мы видим картины рукопашных схваток. Ахейские воины буквально боготворили свое оружие. Об этом свидетельствует хотя бы то, с какой любовью и мастерством отделаны и украшены мечи и кинжалы, найденные в микенских гробницах. Некоторые воины открыто говорили, что меч дороже им всех богов.
Ахейских рыцарей влекли сильные ощущения; они любили травить кабанов с гончими по горным лесам... Огромные чаши и кубки подтверждают рассказы Гомера о любви его героев к горячительным напиткам. На фресках мы видим певцов и сказителей. Богатырям нравились песни, воспевающие их подвиги и путешествия.
Долгое время микенские цари чуждались критской изнеженности. Для царской дочери считалось незазорным стирать белье, а для самого царя — пойти за плугом. Больше всего это было связано с энергичным характером ахейцев и их любовью к труду и физическим упражнениям на воздухе.
Замки имели исключительно военное значение. Большую же часть своего дня греки проводили под открытым небом, что не могло не действовать оздоровляющее на народ.
Подчинив Крит, ахейцы стали по его примеру расширять свою торговлю. Выросли первые греческие колонии в Малой Азии. Быстро развивалось ремесленное производство. В расшифрованных недавно табличках микенской эпохи упоминаются каменщики и ювелиры, ткачихи и плотники, аптекари и колесные мастера, кузнецы и мебельщики. Большой высоты достигает прикладное искусство, которое многое заимствует у Крита. Надписи говорят о колесницах, окованных серебром, с ободом из слоновой кости. Последняя получила большое распространение в Греции. Мастера научились размягчать ее для того, чтобы доводить отделку до особого совершенства 341).
Но не только прикладными изделиями славились микенские
176
города. Над воротами Микенской крепости, например, были высечены два монументальных льва, охранявших колонну. Своеобразной красотой отличались и купольные гробницы царей и знати.
Своим дружинникам микенские владыки нередко дарили землю. Иногда эти земли сдавались в аренду. Нужно думать, что крестьяне в эпоху могущества микенских царей жили довольно безбедно. Грозные замки охраняли их от вражеских вторжений; прекратились посылки дани в Кносс; большая часть земли все еще принадлежала свободным общинникам. Трудолюбие земледельцев успешно боролось с капризным климатом. Особенно хорошие урожаи давали оливковые деревья. А оливковое масло было в то время одним из важнейших продуктов потребления и экспорта.
Рабство в микенских государствах еще не приняло такого тотального и уродливого характера, как в более поздние времена. Рабов было немного, и стоили они дорого. Так, согласно Гомеру, молодая девушка-рабыня стоила двадцать быков. Судя по надписям из Пилоса, можно предположить, что угнетение рабов было не столь тяжелым, как впоследствии. Существовали полузависимые рабы, которые сами арендовали землю, подобно крепостным крестьянам. Однако характерно, что на пилосских документах служанки и их дети перечисляются лишь по количеству, в то время как быки и лошади — по именам. Здесь уже мы находим зачаток того античного рабства, которое, по словам известного историка Анри Валлона, «нигде не проявляло так ярко своего позорного мертвящего влияния, как в Греции».
Внешний расцвет ахейской земли был тесно связан с духовным подъемом греков. Наступило время, когда скрытые духовные силы культуры пробили броню хтонического Магизма и устремились по новым путям в поисках иного миросозерцания.
Воинственные, энергичные племена ахейцев противостояли изнеженным критянам, с их матриархальной культурой, и пеласгам, с их земледельческим волшебством. В микенских рыцарях еще жили воспоминания патриархальной старины арийских родов. Войны и борьба за власть, городская цивилизация, ремесленное производство и торговля — все это выдвигало на первый план совсем иные чувства и упования, чем те, которые свойственны старым, земледельческим культурам. Человеческий дух, человеческая инициатива, человеческий разум — вот что было славным и божественным для ахейцев в первую очередь, а не магические заклятья на полях или таинственные волшебные формулы. Им было чуждо преклонение перед ужасом и безобразием детей Природы — монстров и чудовищ. Богиня-Мать в Греции, и в Малой Азии, и в Финикии, и в Индии не только порождала чудовищ, но и сама имела чудовищные формы. Это — страшная богиня Кали или многогрудый истукан Дианы Эфесской...
Не темные божества первобытного мира, а боги племени, покровители царя и ахейских родов — вот кто был ближе и понят-
177
ней мышлению греков. В этих богах они выразили свой протест против хтонического хаоса.
Нам неизвестно, откуда ведут свое происхождение родовые боги ахейцев. Вероятнее всего, первоначально они являлись тотемами кланов и племен: орлом, коровой, совой, косулей и т. д. Впоследствии эти животные превратились в спутников соответствующих богов: Зевса, Геры, Афины, Дианы. Почитались ахейские родовые боги в виде грубых фетишей: каменных столбов, конусов или кусков дерева. Расшифровка надписей Микенской эпохи свидетельствует, что уже в XIV веке ахейцы чтили большинство божеств античного пантеона: Зевса, Геру, Посейдона, Гефеста, Гермеса, Диану и др. 342).
Очевидно, в Греции произошло нечто сходное с религиозным процессом в Индии. Дьяус или Зевс, древний Бог праотцов, постепенно потерял свои очертания, смешавшись с местными божествами. Некоторое время роль Высшего Божества играло небо Варуна, или по-гречески Уран. Когда ахейцы осели в Пелопоннесе, Уран должен был отступить перед богами земледелия, и в частности перед тем, кого греки называли Хроносом или Кроном — богом плодородия и времен года. Возможно, это было крито-пеласгийское божество, перед которым склонились греческие пришельцы.
Но вот наступило время, когда пробудился подлинный эллинский дух и началась реакция против местных культов. Это совпало с внешним подъемом ахейских городов.
Но, как и индийцы, греки никогда не могли набраться смелости настоящего отрицания. Восстав против древних богов, греки все же уделили им место в своем пантеоне. Рассматривая все вокруг по образу и подобию своего полуродового общества (вспомним, как гомеровские герои гордятся своей божественной родословной), они сумели увязать всех богов в отношения, подобные отношениям в семье, в роде. Это совершилось не сразу и закрепилось лишь 300—400 лет спустя, но появился миф о Теогонии, о происхождении богов именно в рыцарскую микенскую эпоху.
Сказание о Теогонии мы находим у Гесиода, беотийского поэта VIII века до н. э. По общему мнению историков, Гесиод лишь объединил и систематизировал очень древние предания и мифы 343). Одна из замечательных особенностей Гесиодовой «Теогонии», которая роднит ее с космогониями и теогониями восточных народов, — это отсутствие Единого Творческого начала, стоящего у истоков Бытия. Только евреи, сохраняя древнее Откровение, говорили: «В начале сотворил Бог небо и землю...» Всем же другим: вавилонянам, египтянам, финикийцам и грекам — вначале рисуется некая слепая безликая громада, некий Хаос, некая безымянная потенция, которую можно сравнить с Маной полинезийцев. Это растворение Божественного Начала в Безликой Потенции шло рука об руку с появлением веры в Материнское Начало как супругу Единого, его второе Я, а потом и как единственный
178
исток мироздания. Итак, не творение, а рождение было, согласно древним космогониям, причиной Бытия 344).
Именно здесь истоки материалистического мировоззрения, которое является прямым наследником древних вавилонских и греческих мифов. Идея возникновения мира из хаотической Праматерии, родившаяся на примитивной стадии человеческого мышления, оказалась живучей и через античную натурфилософию проникла в мышление позднейших поколений.
Мы уже видели, что поклонение Матери было главным в критской религии. Эта вера, питавшаяся живой мистикой стихий, была сохранена греками. Поэтому Гесиод начинает свое сказание с Хаоса и вечной Матери-Земли.
Сама Земля породила своего супруга — Урана, блещущего звездами, который осенил ее. Их связала сила Эроса — предвечного начала любви животворящей и плодящей. Это не что иное, как «Тапас» индийцев — тепло, высиживавшее мировое яйцо. Как и в Индии, сексуальный момент играет в эллинской космогонии огромную роль. Пол и рождение — это те тайны, которые находятся близ человека и которые разгадать он не в силах. От них веет первозданными стихиями, чем-то от самых основ бытия. Поэтому неудивительно, что большинство первобытных и древних народов осмысляли возникновение Вселенной в категориях загадочной половой жизни. «Греческий язык, — замечает Ф. Зелинский, — вполне отчетливо выразил это отношение — у него uranos мужского рода, gaia женского рода» 345).
Над истоками греческой космогонии носятся зловещие тени. Хаос рождает бездны, земную — Тартар, и воздушную — Эреб, и Темную Ночь. Ночь исторгает из своих мрачных недр Судьбину, Гибель, Смерть, Позор, Скорбь и властительниц судеб — мойр, ткущих нити человеческой жизни. Это все смутные чудовищные образы, плод мистического ужаса. А земля все плодит и плодит в родовых конвульсиях. На ее груди громоздятся горы, и среди них появляются стихийные существа — нимфы. Ползет многоголовый Тифон, и из его пасти вырывается дикое рычание и вой; у косматой химеры из ноздрей пышет пламя. У нее женская грудь и три головы: львиная, козья и змеиная. Тифон рождает Гидру — фантастическое смешение черт кальмара и допотопного ящера, адского трехголового пса Цербера и кровожадного Сфинкса — льва с орлиными крыльями и женским лицом. В объятиях Урана зачинает Земля Океан и Титанов, вслед за ними шествуют полчища циклопов — молниевидных гигантов с единственным глазом. Другие исполины, неукротимые и бешеные, имеют пятьдесят голов; из их плеч поднимается по сто рук. Само Небо — родитель этого стада уродов — содрогалось от отвращения. Тщетно пытался Уран сдержать поток страшилищ и не выпускать их из глубины земли, Земля-Матерь призвала и своих детей восстать на отца.
Никто не решался на преступление, и лишь «страшнейший
179
из чад» Крон, ненавидевший Небо, послушался зова Земли. Огромной косой взмахнул он и оскопил отца. И там, где брызнула кровь Урана на землю, из нее вышли бешеные Эринии и гиганты, а там, где она попала на море, родилась богиня похоти — Афродита 346).
В этом мифе нашли приют древние звериные инстинкты, смутные воспоминания о жестокой борьбе полов и богов. О Дьяусе мы не слышим здесь ни слова. Основа всего — Великая Матерь, а небо — это Варуна-Уран. Мы знаем, что культ Неба был у арийцев переходной ступенью от монотеизма к политеизму. Уран страшится чудовищного мира, порожденного Матерью. Весь хто- нический пантеон есть ее детище. И именно Крон — бог плодородия, культ которого нанес последний удар по остаткам монотеизма, — восстает на отца. И это оскопление отца совершается по наущению Земли. Так в сказание вплетаются мотивы матриархата, победившего в сфере земледельческих культов исконный патриархат.
Но обессиленный Уран не отступил молчаливо. Он предрек, что и Крон окажется поверженным своим сыном. И поэтому в страхе за будущее кровожадный Титан погружал в свое чрево всех рожденных от него детей. Его супруга Титанида Реа — богиня цветения — скорбела о гибели своих чад. И однажды она обманула бдительного Крона: подсунув ему вместо новорожденного запеленатый камень, она скрыла ребенка на острове Крите. Так появился на свет эллинский бог эфирного блистания, в имени которого сохранился отзвук древнего культа Дьяуса, — Зевс Кронион.
Зевс не только сам спасается от алчной пасти Крона, но спасает своих братьев и сестер — поколение новых богов, обиталищем которых стала украшенная вечными снегами гора Олимп.
Это поколение лишь в мифах, систематизированных Гесиодом и Гомером, приняло очертания единой семьи. В микенскую эпоху образы олимпийцев складывались постепенно из черт различных богов: критских, пеласгийских и богов — покровителей отдельных греческих городов и племен. В течение долгого времени эти образы обогащались, впитывая поверья, легенды и мифы всех уголков Эгеиды.
Особенно показателен в этом отношении Зевс. Это божество испытало удивительные приключения. В нем соединились и следы первоначального монотеизма — религии Дьяуса, и отождествление древнего индоевропейского бога с местными божествами: отсюда Зевс Додонский, Зевс Лабрандей, Зевс Икарийский, Зевс как громовержец, Зевс как божество неба, Зевс как умирающий бог растительности. В эпоху расцвета Микен он становится главой и вождем родового пантеона ахейцев, и здесь он временами приобретает черты высшего Божества 347).
Все эти элементы, как на моментальном снимке, запечатлелись у Гомера. У него мы видим, с одной стороны, капризного метателя молний, лукавого интригана, деспотического супруга,
180
необузданного любовника, а с другой стороны, он — «Отец богов и людей», «промыслитель», величественный и справедливый, царящий с благостной снисходительностью над всеми олимпийскими распрями. «Могущественнейшим из богов и величайшим» именует его Гесиод 348). Античные философы обвиняли Гомера и Гесиода в профанации образа Зевса. На самом же деле поэты правдиво воплотили всю сложную противоречивую оболочку, одевавшую Божество в глазах их современников.
Замечательно, что сестра-супруга Зевса Гера есть тоже проекция древней Ma и Геи — Земли. Таким образом, брак властителей «новых богов» повторяет космическое сладострастие Неба и Земли.
Морским собратом Зевса является Посейдон. Существовавший еще на Крите культ моря вместо Хаоса ставил у истоков мироздания Океан 349), но тем не менее Посейдону не удалось восторжествовать над Зевсом. Еще меньше могли рассчитывать на первенство Гефест и Гермес — покровители пастухов, ремесленников и торговцев: их сфера была слишком узка. И они, и Пан, и звериная богиня Диана отступили перед «Отцом богов и людей». Афина, если она и существовала в это время, была малоизвестной городской богиней, Аполлон, который чтился в Малой Азии, проникает в Элладу позднее. Не случайно в Илиаде он противник ахейцев.
Божества отдельных кланов и местностей, Олимпийцы всегда мыслились как совершенно обособленные существа. Они ничем не напоминали индийский пантеон, который был скорее многими ликами Единого. Здесь сказались особенности греческого народного мышления: оно гораздо легче воспринимало конкретное, изолированное, чем общее и единое. Историки давно обратили внимание на эту черту, которая наложила отпечаток и на греческое искусство, и на греческую религию. Быть может, известную роль играло здесь природное окружение. Семит формировал свое богопознание на фоне молчаливой пустыни, индиец — в царстве тропиков, где все сплеталось в единую многоликую и многоголосую стихию. Горизонт же грека был всегда ограничен горными хребтами; вся его страна была похожа на сеть изолированных мирков, отрезанных друг от друга холмами, скалами, заливами. Поэтому ахеец был склонен почитать в первую очередь местное божество, а божество соседа казалось ему таким же независимым, как и его родная долина, отрезанная от других.
181
Глава шестнадцатая
БОРЬБА БОГОВ И ТИТАНОВ
Греция, ок. 1400—1200 гг.
В мире много сил великих,
но сильнее человека нет на
свете ничего.
Софокл
Появление Зевса и олимпийских богов не было простой заменой природных, хтонических божеств божествами племенными. Новый пантеон знаменовал важнейший этап греческой религиозной истории. Человекообразные Олимпийцы свидетельствовали о том, что люди постигли в Мироздании нечто большее, чем вековечную игру сексуальных сил, иррациональных стихий или темное, неосознанное томление производящей мощи. Разум в образе совершенного человеческого существа засиял среди клубящихся туч первобытной ночи. Бог лазурного сияния, бог, подобный молнии, пронизывающий мрак, является в лице «промыслителя Зевса». Это рождение нового, более просветленного «древнего» религиозного сознания запечатлелось в знаменитом мифе о Титаномахии — борьбе богов и титанов 350).
Подобно тому как древний Израиль в своей священной письменности пользовался некоторыми элементами вавилонской космогонии, так и в греческом сказании о поколениях богов и их борьбе с чудовищами звучат отголоски халдейской поэмы «Энума элиш». Здесь есть и первоначальный Хаос, и светлый царь молодых богов, поразивший космического дракона. Эти мифологические мотивы перекочевали к эллинам, вероятно, через посредство финикийцев, космогония которых родственна вавилонской. Но так же, как это было с Израилем, Эллада воспользовалась заимствованиями для раскрытия своего религиозного постижения.
182
Для грека была прежде всего важна идея победы человеко-подобного божества над мрачным миром хтонических чудищ. Описывая эту борьбу, Гесиод, так часто впадавший в сухой тон скучного хрониста, воодушевляется и рисует картину, не забываемую по своей яркости и стихийной мощи.
Зевс сзывает на помощь богов и духов грозы и устремляет их на чудовищ и титанов. Застонало небо, загудела земля, взревел океан; вся Вселенная до самого Тартара сотрясалась от ударов; вопли бьющихся достигали звезд. Во время этой чудовищной битвы на вершине Олимпа появляется Зевс. Удар грома — и из его десницы нескончаемым потоком струятся молнии. Раскаленная земля трескается, кипят воды океана, густые облака пара окутывают титанов. Под раскаты грома, среди воя урагана, гонимые жаром, отступают темные дети Земли. И, наконец, они низвергнуты в мрачную бездну Тартар.
Но на этом борьба не кончена. Из недр Матери вырывается исполинский дракон Тифей — последняя попытка Природы восторжествовать над Духом. Но сила Зевса непреодолима. Изуродованной грудой катится по земле издыхающий Тифей. Застонала побежденная Земля. С этого мгновения она признала победу Зевса. По ее совету боги избирают громовержца своим властителем навеки.
Так в сознании ахейцев совершился переход от хтонического, природно-стихийного к разумному, человечно-гармоничному бого-пониманию.
Именно в это время человек, быть может впервые в истории, ощутил возможность своей победы над природой. Тогда, когда она была священна, он не мог и помышлять о борьбе с ней. А теперь, когда хтонические чудища с шипеньем отступили в Тартар, — человек, покровительствуемый дружественными Олимпийцами, идет в наступление на природу. Победа Зевса над титанами есть залог победы человека над природой. Здесь с необычайной отчетливостью выявляется зависимость хозяйственной, трудовой деятельности человека от того, как он понимает и оценивает мир. Вера в Зевса вдохновляла грека на подвиги: ревущий и стонущий мир хаоса должен был уступить место разуму, энергии, труду.
В циклах сказаний, возникших в ту эпоху, мы находим поэтическое воплощение этого природоборческого настроения эллина. Славная армия героев устремляется на дикий первобытный мир. Геракл побеждает болотную Гидру и других чудовищ; Минотавр сражен Тезеем; Персей добирается до отдаленных берегов Океана и отрубает голову горгоны Медузы — уродливого существа, один взгляд которого мог обратить человека в камень. Эдип разгадывает загадку Сфинкса, и тот бросается в бездну. Ум и хитрость Одиссея побеждают все препятствия в его удивительных скитаниях. Навеки останавливаются плавучие Симплегадские скалы, после того как корабль аргонавтов ухитрился проскользнуть мимо их смертельных тисков. Повержен дракон, охраняющий «Золотое руно». Издыхает Химера, пронзенная стрелами Беллерофонта. И много других устра-
183
шающих детей Матери-Природы попрано триумфатором-человеком. Казалось бы, мы на пороге полной победы над хтонизмом.
Между тем победа была не такой уж близкой. Загнанный в Тартар, Титанизм не умер; он продолжал свою скрытую жизнь в сознании народа. Прежде всего, Зевс не мог победить самую великую Праматерь. Ведь и он был ее порождением. Среди имен, сохранившихся на надписях Микенской эпохи, мы нередко встречаем имя Ма. Она была и осталась Матерью богов. Пусть ахейцы отныне верные служители Зевса и его дружины, но все же они сохраняют благоговение перед таинственной космической Женственностью.
Пусть ахейцы отбросили «матриархат» критской религии, но вечная Ма никогда не уйдет из их веры и будет незримо господствовать не только над людьми, но и над богами, то в виде Мойры — Судьбы, то в виде безликой Природы. Красноречивым свидетельством этого служат хотя бы знаменитые львы на воротах Микен. Опершись на ступени алтаря, они стоят на страже священного столба. Что должен он символизировать? На одном крито-микенском рельефе мы видим точно таких же львов, но вместо колонны на алтаре — изваяние Ма, одетой в характерный костюм кносской богини. А так как и в религиях соседних стран колонна была символом богини плодородия и растительности, то, очевидно, львы Микенского замка охраняют не что иное, как столб богини. Олимпийцы не были творцами мира. Они могут быть скорее названы старшими братьями людей, тем более что возникновение человека трактуется в античных мифах очень смутно и противоречиво.
Величайшее всемирно-историческое значение Зевсовой религии заключалось прежде всего в провозглашении примата Света, Разума и Гармонии над Тьмой, Иррациональностью и Хаосом. В этом отношении она является прямой предшественницей учения о Логосе как разумном творческом начале во Вселенной. Но до появления этого учения было еще далеко. Логизму в греческом сознании предшествовал антропоморфизм. В Олимпийцах человеческое начало было идеализировано и возведено в космический принцип. Это было огромным шагом вперед, но и одновременно таило большую опасность. Угадывая в Божественном разумное начало, ахейцы привнесли в него все многообразие чисто человеческой ограниченности и чисто человеческих слабостей. В Олимпийцах почти не было ничего сверхчеловеческого. Это станет достаточно очевидным, если мы рассмотрим их природу.
Прежде всего, Олимпийцы не подлинно духовные существа. Они обладают телом, пусть особым, исполинским, но все же телом. Известен эпизод из Илиады, когда Диомеду удается ранить богиню копьем и причинить ей этим неимоверные страдания. Олимпийцы нуждаются в сне и отдыхе, они любят веселые пиршества, предаются любовным играм. Это не что иное, как ахейская военная аристократия, возведенная в квадрат. Они так же жадны до приношений, как ахейские рыцари до добычи. Они завистливы, коварны, ревнивы, мелочны. Сцена ссоры Зевса и Геры, где громовержец стращает
184
сварливую супругу тем, что высечет ее, неподражаема по своему жанровому комизму. Единственное принципиальное отличие Олимпийцев от людей — это их бессмертие. Но и оно не изначально присуще их природе, а поддерживается в богах принятием волшебного напитка нектара 351).
Особенно важным недостатком Зевсова пантеона было отсутствие в нем ясных этических принципов. С глубокой первобытной древности этика шла рука об руку с религией. В этических законах и заповедях человек стремился к восстановлению искаженного образа Божия. Нравственный же идеал Олимпийцев был настолько шаток, что уже через несколько поколений вызывал протесты и насмешки у самих греков. Важнейшей причиной этого были характерные черты развития и проповеди ахейской религии. В странах Востока религиозные откровения исходили всегда из среды духовной элиты.
Пророки, священники, учителя и мистики приносили в мир открывшуюся им истину. Они посвящали себя целиком служению этой истине, она была их индивидуальным достоянием, которое они даровали миру. Бог говорил устами фиванских жрецов, индийских риши, израильских пророков. Эгейский же мир долгое время жил лишь массовым религиозным сознанием. Господство женщин в религиозной жизни Крита должно было тому чрезвычайно способствовать. Именно поэтому у греков, по сути дела, не было ни священных книг, ни богословия, ни нравственных заповедей. Ахейцы в силу каких-то причин покорились потоку общенародного религиозного творчества, потоку мутному и недифференцированному, в котором необычайно сложно отделить ценное ядро от шелухи. Немаловажную роль сыграла здесь необыкновенная эстетическая одаренность греков. Если индийцев так часто увлекал водоворот мистических грез, то греки не могли устоять перед соблазнами фантазии художественной. Они были настолько зачарованы чисто внешней красотой своих величественных Олимпийцев, что иной раз забывали о вещах более важных. Их живой, подвижный ум, склонный к юмору и созданию красочных картин, не мог удержаться от искушения рисовать жизнь богов по образу беспокойной и разгульной жизни своих разбойников-богатырей.
Так художники Возрождения — даже те из них, которые были глубоко религиозными, — невольно принижали священные сюжеты, увлекались чисто эстетическими задачами, воплощением жизни и образов своих современников. Совершенно очевидно, что Гомер вовсе и не думал кощунствовать, когда изображал семейные склоки на Олимпе, но его захватывал сам процесс создания живых бытовых сценок, которые он выписывал с изумительным мастерством. Безусловно, сам Гомер придерживался более твердых моральных принципов. Если мы сравним отношения Гектора и Андромахи с Зевсом и Герой, то сравнение будет явно не в пользу последних. Так поэты и художники играли невольно роковую роль в греческой религии. Горячий темперамент, проницательный, несколько саркас-
185
тический склад ума, любовь ко всему прекрасному, необузданная художественная фантазия — все это незаметно подменяло религиозное творчество, превращая его в творчество художественное, нравственно безразличное.
Между тем в глубине человеческого существа всегда живет стремление не только к красоте, но и к истине и добру. Поэтому нет ничего удивительного в том, что против Олимпийского пантеона очень рано послышались голоса протеста. Собственно, даже сам Гомер, как мы увидим, подспудно отражает этот протест. Отличительной особенностью греческой культуры было то, что с наиболее последовательным отрицанием традиционных Олимпийцев выступили не пророки, а философы, воздействие которых на народные массы было неизмеримо более слабым. Греция не имела Илии, обрушившегося на «ваалов», Заратустры, начавшего войну против дэвов, или Будды, отвергавшего традиционные культы. Поэтому первоначальный протест, как и все религиозное движение Эллады, незаметно распространялся среди народа, главным образом, среди последователей древних до-греческих культов.
Мифология воплотила этот протест в образе титана Прометея. Вероятнее всего, Прометей был старинным божеством полуострова, «культуртрегером», каких немало в сказаниях Азии, Африки и Австралии. Образ «культурного героя» первобытных народов был, как правило, трансформированным образом Всеобщего Отца.
Так же, как Энки шумеров или May полинезийцев, Прометей почитался наставником людей, научившим их строить жилища, делать одежду, изготовлять орудия. В некоторых мифах он изображался прямо как создатель людей. Еще за два-три века до н. э. в Греции существовали алтари и часовни, посвященные Прометею 352).
Сын Геи — Земли, к которой он обращается с молитвами, этот титан был представителем старых хтонических религий. У Гесиода Прометей иногда предстает как один из людей. Он приносит жертву Зевсу, но старается обмануть его. Его стихия — сельскохозяйственная магия — предтеча античной науки. Нашествие ахейцев разрушило магическую «Прометееву» культуру, сохранившиеся местами туземцы впали в одичание. Согласно мифу, Прометей похищает огонь у Зевса для людей, которые его утратили 353). Это коварство навлекает на него гнев Зевса, который приковывает непокорного к скале. Эсхил, глубокий знаток древних легенд, изобразил эту драму с большим проникновением в сущность борьбы. Прометей взывает к Матери-Земле, он — бог — терпит несправедливость от бога же. «Воистину всех богов я ненавижу», — восклицает он.
Хотя симпатии читателей обычно на стороне пострадавшего Прометея, однако не следует забывать, в чем основной мотив его восстания. Прометей — маг, кудесник, носитель старой цивилизации, он восстает против Зевса, и здесь скрытый нерв магического богоборчества. Противопоставить Духу заклинание, Свободе — необходимость, внутреннему перерождению — науку — вот сущ-
186
ность Прометея. Не случайно Прометей стал на века символом богоборчества. Но при этом нельзя забывать и завершения драмы. До нас не дошла последняя часть трилогии Эсхила о Прометее, но из других источников мы знаем, что, согласно мифу, титан был в конце концов освобожден Зевсом и совершилось великое примирение 354).
Прометей, правда, не стал одним из Олимпийцев, но его наследие, Магизм, твердой ногой вступило в сферу Зевсовой религии. Положительным в этом примирении было то, что ахейцы восприняли зачатки науки туземцев 355). Об этом свидетельствует миф об Афине — богине мудрости, родившейся из головы Зевса при помощи Прометея. Отрицательным же явилось то, что дух магий пронизал античную религию и пережил самих Олимпийцев. Достаточно даже беглого знакомства с особенностями греческого культа, чтобы в этом убедиться.
Первоначально ахейцы, как и их родичи арьи, не сооружали храмов, а приносили жертвы под открытым небом. Встреча с критской культурой ничего не изменила в этом отношении, потому что миносцы по каким-то загадочным причинам не строили храмов. Долгое время небольшие каменные алтари ставились в рощах, на холмах, во дворцовых двориках. Небесный свод был для первобытных людей самым лучшим куполом храма. Возникновение же святилищ было связано с развитием язычества. Их сооружали у какого- либо почитаемого фетиша: столба, дерева или большого валуна. В этих молчаливых феноменах природы, по верованиям греков, обитали разнообразные духовные существа. Гесиод говорит о тридцати тысячах демонов. Эти демоны были или стихийными духами, или призраками усопших, которых нужно было успокаивать.
Древнейшие поколения не совершали сложных ритуалов. Во время молитвы они простирали руки к небу, или к морю, или к земле, в зависимости от того, к какому богу обращались. Молитва сопровождалась нередко пением, возгласами или игрой на флейте. Это были самые простые и естественные выражения чувств благоговения, восхищения, священной радости. Долгое время не существовало специальных жрецов. Каждый человек, а особенно глава семьи, должен был приносить жертвы и возносить молитвы.
В Микенскую эпоху происходит незаметный поворот к магическому пониманию молитвы и жертвы. Гомер достаточно недвусмысленно дает понять, что расположение богов достигается жертвами. Зевс в мифе о Прометее глубоко оскорблен, ибо ему принесено не лучшее; лукавый титан предложил ему кости, покрытые жиром. Все более и более начинает распространяться понимание жертвы как угощения бога. Это понимание расцветает в олимпийской религии.
Богам отбирали лучших животных, золотили им рога, украшали их и убивали перед жертвенником. Часть мяса сжигалась, остальная разделялась между всеми. Таким образом, божество становилось участником веселого пира и душевно располагалось к пирующим. Охотничьей богине Диане приношения были особыми. На алтарь по-
187
ввергалась гора диких животных: оленей, волков, кабанов, — а также плоды деревьев, и все это превращалось в колоссальный смрадный костер. В исключительных случаях совершались гекатомбы, когда сжигали целые стада. Так поступил Агамемнон, чтобы отвратить гнев Аполлона. Удовлетворение от этих жертв отравлялось порой страхом; ведь бык был священным животным! Но от этого страха избавлялись при помощи наивного лукавства. Быка заставляли съесть священные хлебы, и тем самым он становился повинен смерти. А после его заклания в убийстве обвиняли топор и, приговаривая его к смерти, выбрасывали в море.
Если жертвы оказывались напрасными, ахеец просто констатировал, что бог был не удовлетворен или оказался не в духе. Простые пастухи выражали негодование довольно непосредственно. Об этом свидетельствуют такие слова, обращенные к Пану: «Если ты сделаешь это для меня, милый Пан, то да не секут тебе аркадские мальчишки бока и плечи морским луком». Видимо, неисполнительным божествам нередко доставалось от недовольных просителей 356).
Усложняется система заклинаний, появляются магические формулы:
Я всесожженьям смертных научил
И знаменьям глубоким, сокровенным,
Являемым в пылающем огне, —
говорит эсхиловский Прометей 357).
Начинает развиваться институт жречества. Правда, в Греции жрецы никогда не составляли могущественной корпорации, как, например, в Египте. Но значение их постепенно возрастало. Наиболее характерной чертой эллинских жрецов было то, что они почти всегда оставались «служителями культа» в самом узком смысле этого слова. Если египетское духовенство было средой, в которой культивировалась богословская мысль, медицина, математика, если израильское духовенство боролось за нравственное воспитание народа, то греческие жрецы были по преимуществу совершителями ритуалов, произносителями заклятий, устроителями жертвоприношений. Показательно, что, когда жрец Аполлона Хрис говорит о своих заслугах перед богом, он называет только украшение святилища и приношение «тучных бедер коз и тельцов».
В микенском обществе некоторое время, как на Крите, у алтаря мы видим, главным образом, женщин. Под их воздействием взгревалась любовь к кудесничеству, прорицаниям, чувственно-мистическому разгулу. Когда же микенские цари стали богатейшими и могущественнейшими властителями Эгеиды, все чаще появляются жрецы-мужчины. Их основная обязанность, судя по пилосским надписям, чисто административная. Они должны были следить за раздачей и распределением жертвенной пищи во время огромных культовых пиршеств. Неудивительно поэтому, что на изображениях того времени они похожи на надменных сановников или на старорежимных дьячков с козлиными бородками 358).
188
* * *
Первобытные табу — запреты — были весьма распространены в Греции. Нечистыми считались покойники, гробы, оскверняло прикосновение к убийце, как и всякая пролитая кровь, будь она пролита ненамеренно или при защите, будь это кровь человека или животного. Даже такой апологет эллинской религии, как Зелинский, вынужден признать, что, по воззрениям греков, которые он считает «чистыми и радостными», осквернением считалось всякое половое совокупление, даже в законном браке.
Эта паутина табу порождала конгломерат всевозможных ритуальных «очищений». Очищающей сама по себе была морская вода, перед священнодействием обтирались ею. В случае осквернения жертвенника гасился священный огонь и приносилась кровавая жертва, вероятно, иногда даже человеческая. И после этого возжигался новый огонь, взятый из неоскверненного святилища. Археология подтвердила, что этот обычай относился к микенскому времени.
Культ козлоногого Пана был связан с ритуальными представлениями о шерсти. Шерстяными повязками украшали обреченное животное, их носили жрецы, они считались одним из средств вызывания дождя. Следы этой «шерстяной магии» можно найти и у современных жителей греческой деревни.
Во время праздника «Рогатого Аполлона», являвшегося наследием древнего пастушеского ритуала, выбранный человек украшался венком и шерстяной лентой. Он убегал, посылая добрые пожелания городу. Если его ловили, это означало, что пожелания сбудутся.
Весьма разнообразными были методы руководства погодой. По существу своему они не отличались от обычной первобытной магии, описанной в предыдущих главах. Так, в одной местности в Аркадии бросали в воду дубовую ветку; считалось, что после этого поднимется пар и образуются дождевые тучи.
Можно продолжать этот перечень без конца, но, думается, и сказанного достаточно, чтобы убедиться, как много в религии, названной Гегелем «религией красоты», было дикого и первобытного. Напомним, что все эти магические элементы сохранились до конца истории греческой религии и даже пережили ее.
* * *
Таковы были плоды «Великого Примирения». Но не только из крито-пеласгийской культуры влилась в ахейскую религию струя хтонизма. У самих индоевропейцев существовал исконный природно-оргиастический культ. У арьев он именовался Сома, у иранцев — Хаома, по названию растения, дающего пьянящий сок. Ахейцы не сохранили этого названия, но само почитание одуряющего питья у них не исчезло. После их переселения в Грецию виноградная лоза заменила Сому, а божество, обитавшее в напитке, получило имя Диониса. Критские матриархальные обряды с радением исступлен-
189
ных женщин дали Дионису новую почву, но, когда на первый план выдвинулся рыцарский род Олимпийцев, это существо скрылось в тень. Правда, ему уделили место на Олимпе, но место весьма скромное. Он почти не упоминается у Гомера, и единственный раз его имя встречается в одной из пилосских надписей. Тем не менее этому божеству принадлежит великое будущее. Несколько веков Дионис будет вести незаметное, почти подпольное существование, чтобы потом, в момент духовного кризиса Эллады, когда люди охладеют к Олимпу, стать знаменем новых религиозных поисков и стремлений 359).
Говоря о развитии Магизма в микенской Греции, мы не должны забывать, что наибольшее распространение он получил среди земледельцев, пастухов, ремесленников и матросов. У родовой аристократии были другие интересы, и поэтому она прежде всего была верной Зевсу и национальным богам. Цари микенских городов гордились своим происхождением по прямой линии от обитателей Олимпа. В этом кругу заносчивых, грубоватых, но не лишенных своеобразного понятия о чести людей религия не играла такой роли, как в среде крестьян. Ахейский рыцарь знал, что богов следует почитать, ибо это «люди», только более могущественные. В них не было сверхчеловеческого величия, они не были средоточием Добра или творческой мощи.
Не случайно Аристотель, оправдывая рабство, говорит, что варвары должны быть рабами по своей природе и что если бы нашлись люди более могущественные и прекрасные, чем эллины, то те добровольно стали бы их рабами. Такими сильнейшими и были жители Олимпа. Их отделяет от людей, как бы мы сейчас выразились, лишь одна ступень эволюции. Но уже и среди смертных немало таких, которые могут помериться с ними. Не случайно у Гомера на каждом шагу герои наделяются эпитетом «богоравный». И не случайно боги так часто пленяются красотой земных женщин. Сам «промыслитель» Зевс не представляет в этом отношении исключения и известен своими похождениями.
Поэмы Гомера вводят нас в своеобразный мир, где рыцари и боги обитают по соседству друг с другом, интересуются друг другом и в каком-то общем смысле составляют одну семью. Ведь всех этих Ахиллов и Парисов связывает с богами кровное родство. Здесь есть нечто от благочестивой фамильярности, с которой относились средневековые рыцари к своим святым покровителям.
* * *
В XV—XII веках кругозор ахейских воителей необычайно расширился. Они не только покорили Крит, но и совершили ряд походов на западный берег Малой Азии и острова Эгеиды. Они сталкивались с новыми народами, с различными обычаями и культурами. Основывались ахейские торговые и земледельческие колонии. Неугомонные искатели приключений, которых было так много среди греков, совершают далекие морские путешествия, рассказы о которых сла-
190
гаются в увлекательные поэмы и песни. В хеттских надписях упоминается даже царство Ахиява, под которым, по мнению историков, подразумевалось государство ахейцев в Малой Азии. Для того чтобы осуществлять свои грабительские набеги, микенские цари должны были уделять много внимания военному искусству. Поэмы Гомера обращены к слушателям, буквально влюбленным в оружие и боевые украшения. Знаменитое описание щита Ахилла занимает в Илиаде сто пятьдесят стихов. Подлинный восторг звучит в изображении сверкающих шлемов, поножей, лат, острых мечей и тугих луков.
Почитание, которым ахейские рыцари окружали коня, вылилось в обожествление этого животного. Конь был редок и дорог, но он давал незаменимые преимущества в сражении. Хорошо обученный конь сам заражался яростью воина, он давил и кусал врагов, врезаясь в самую их гущу. Только у воинственных арабов или в средневековой Европе находим мы такую дружбу человека с конем. В Илиаде кони оплакивают Патрокла, и их слезы трогают самого Зевса. Интересно, что многие распространенные греческие имена: Ипполит, Филипп, Лисипп, Алкипп, Иппотоя, Иппократ и др. — включают в себя слово «иппос» — лошадь. Существовали огромные культовые изображения Коня, назначение которых неясно. Об одном из них, знаменитом Троянском коне, повествуется в легенде о гибели Трои. На одной из микенских печатей мы видим рядом с кораблем подобное изображение коня.
* * *
Самой грандиозной военной авантюрой ахейцев, известной в истории, был знаменитый поход на Трою.
Троя была древней прибрежной крепостью. Находясь у входа в Дарданелльский пролив, она контролировала купеческие караваны, шедшие на восток, и благодаря этому необычайно обогащалась. Ахейцам было очень выгодно захватить эту ключевую позицию. Кроме того, они были прекрасно осведомлены о несметных сокровищах, собранных за толстыми стенами Илиона. А ахейские цари были одержимы настоящей манией золота. Около 1190 года под руководством микенского царя Агамемнона сформировался союз ахейских царей, которые, переправившись через море, обрушились на Трою с превосходящими силами.
Мы не знаем, кто были обитатели Трои. Боги, покровители троянцев — малоазиатские: Аполлон и Артемида, пришедшие на Балканы позднее. Скорее всего, троянцы были родственны критянам или своим соседям хеттам.
Гомер не идеализирует Троянскую войну. Стараясь быть беспристрастным рассказчиком, он великолепно показывает всю ненужность, жестокую бессмысленность разгрома Трои. Гибель смелых и благородных рыцарей — Ахилла, Патрокла, Аякса, Антилоха, обнищание страны, которую покинуло так много народа, десятилетняя осада, вконец измотавшая и осажденных и осаждавших, кровавые
191
стычки, вопли агонии, погребальный плач и, наконец, пожар и разрушение, толпы пленных, униженных и полных отчаяния, — вот результаты похода. Еще горше было трудное возвращение на родину, во время которого уцелели лишь немногие. Долголетнее отсутствие царя в Микенах привело к заговору, в результате которого Агамемнон был убит, едва вступив в свой дом 360).
В Илиаде есть интересное место, в котором царь, пытаясь поднять дух осаждающих, предлагает им вернуться. Он полагал, что воины, пристыженные этим предложением, воодушевятся на войну до конца. Но эффект получился обратный. Ахейцы с радостными воплями бросились к своим кораблям. Этот эпизод достаточно ясно характеризует настроение рядовых воинов в отличие от алчной жестокости рыцарей-аристократов.
В поэме Олимпийские боги с азартом следят за ходом кампании: они спорят между собой, вмешиваются в сражения, вводят в заблуждение, натравливают воителей друг на друга. Споры «болеющих сторон» на Олимпе переходят в ожесточенную брань. Только Зевс старается оставаться «над схваткой». Когда наступают решительные минуты, «промыслитель» вдруг обращается к Силе, стоящей выше его. За шумным мирком олимпийского семейства проглядывает исполинский лик Мойры — Судьбы. Взвешивая на ее весах участь героев, Зевс находит правильное решение 361).
Так выясняется, что боги, как и люди, зависят от таинственного Начала, пребывающего в вечности.
Кто же она, неумолимая Мойра? Глубоко под землей парки ткут нити человеческой жизни. Ничто не может изменить предначертаний Судьбы. Не только Зевс, но и отец его Крон были подвластны ей. Мойра — это обезличенный и отодвинутый в запредельные сферы образ Великой Матери.
В эпоху войн и захватнических походов вера в Судьбу должна была особенно распространиться среди ахейских рыцарей, фатализм, как правило, связан с опасностями. Когда вокруг свищут стрелы и человек, который минуту назад говорил с тобой, падает в крови, чувство предопределенности всех событий необычайно обостряется. Это хорошо видно на примере последователей ислама или даже участников минувшей войны.
Напрасно думали ахейские богатыри освободиться от грозной власти Матери. Пусть отступили матриархальные культы, пусть Зевс-громовержец рассеял кромешный мрак первобытной ночи. Но свет, принесенный олимпийцами,— свет поверхностный и эфемерный. Это, по словам Тютчева, тот золотистый покров, который так легко срывается ночью:
И бездна нам обнажена
Своими страхами и снами,
И нет преград меж ней и нами...
Отвергнутая богиня мстит за себя. Она возвращается к человеку, но уже не в виде живого существа, пусть грозного, но и милующе-
192
го. Теперь она неприступна, неумолима, безлика. Обращаться к Судьбе с мольбой — безумие. Древний ужас перед подземными властительницами отозвался зловещим эхом в веках, обернувшись верой в Предопределение и Детерминизм.
Гомер не отдает себе ясного отчета в том, как воля богов сочетается с Судьбой. Но порой начинает казаться, что все, что он живописует: борьба, колебания, искушения, победы,— все это, включая и Олимп, лишь театр марионеток. Все заранее предрешено в недрах Матери. Это она обрекала и Гектора, и Приама, и саму Трою — великий град Илион. Знает и Ахилл о том, что его ждет плачевная участь. Трепещет даже Зевс, ожидая предсказанного потомка, который низвергнет его с престола. Человек порой забывает о Роке в превратностях своей жизни, но время от времени к нему возвращается сознание обреченности.
Это сознание накладывает на гомеровские поэмы печать меланхолии и пессимизма. Мотив Судьбы с искусным мастерством вплетен в эпос, хотя и не господствует в нем. Ведь Илиада создавалась для увеселения и развлечения людей. И тем не менее образ Мойры всюду как тень стоит за пестрой тканью повествования. Тоска и страх как бы загнаны в сферу подсознательного, но от этого они не перестают мучить и томить человека. Литературоведы не случайно заметили, что у Гомера слова «слезы», «плач», «стенания» встречаются едва ли не чаще, чем слова «радость», «ликование». И это у Гомера, которого писатели прошлого характеризовали как наивно-жизнерадостного и безмятежного!
С течением времени ощущение рабской зависимости человека от Судьбы будет претерпевать сложные превращения. Античный Рок будет осмысливаться как Ананке — Необходимость. Отсюда вырастает естественный Детерминизм — провозглашение несокрушимой власти Природы. Одним словом, эта Природа, которая заменит Бога в материалистических учениях древности и нового времени, есть в конечном счете трансформированный образ Ma — Великой Почвенной Богини седой старины 362).
* * *
Как мог человек спастись от этой безликой и непреклонной Силы? Ему оставалось лишь стремиться проникнуть за темные завесы предвечных решений. Угадывая веления Судьбы, он успокаивался, хотя и ненадолго.
Поэтому нигде не было так развито искусство предсказания, как в античном мире. Оракулы и гадатели были неизменными спутниками жизни и царей, и крестьян, и воинов, и торговцев. Ключ к толкованию таинственной воли богов видели и в снах, и в полете птиц, и в расположении внутренностей жертвенных животных. Мы уже говорили о знаменитейших греческих оракулах Додонском и Дельфийском. Люди были убеждены, что не в ясном «дневном» рассуждении ума открывается Судьба, а в погружении
193
в сомнамбулический мир темных инстинктов и неосознанных чувств. Дельфийская вещунья Пифия всходила на треножник, на котором, окутанная облаками паров, идущих из расселины, она приходила в состояние исступления. Отуманенная душа приобщалась загадочному бытию Ночи и прорекала веления Неба. В Додоне предсказательницы пили воду из опьяняющего источника. Иные вызывали души умерших, которым были ведомы запредельные тайны.
Люди шли к оракулам, вопрошая обо всем: и о своей участи, и о мелочах повседневной жизни. На табличках, которые были найдены в Додоне, мы видим самые прозаические вопросы: выгодно ли разводить мне овец? кто украл у меня подушку? действительно ли рожденный женой ребенок — мой? и т. п. Особенно возросла популярность оракулов, когда наступила эпоха ахейских завоеваний. Сколько семей лишалось на многие годы своих отцов, сыновей, братьев! Они уходили в море навстречу опасным приключениям, неведомым землям и жестоким битвам. И многие ли из них возвращались обратно? Сколько было воинов, которые, подобно Одиссею, вопрошали духов о своем будущем!
Неуверенность всегда рождает непреодолимое желание приоткрыть завесу грядущего. В этом отношении наше время ничуть не отличается от Микенской и Гомеровской эпохи. Ведь не случайно в нацистской Германии процветала астрология, а в современной Франции действует* более полумиллиона предсказателей.
Гибель близких становилась обыденным явлением. Все чаще человек стал заглядывать в лицо смерти. Ахейская аристократия не унаследовала беспечности мирных критян. Горькие размышления о призрачности и быстротечности жизни проскальзывают у Гомера, превращая его в настоящего Экклезиаста Греции:
Листьям древесным в дубравах подобны сыны человека,
Ветер одни по земле развевает, другие — дубрава,
Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастает;
Так человеки: сии нарождаются, те погибают.
Смерть неотвратима, удар ее окончателен, и оправиться от него невозможно. Всего способен достичь на земле человек, но он бессилен восстановить порвавшийся союз души и тела.
Можно стяжать и прекрасных коней, и златые треноги,
Душу назад возвратить невозможно, души не стяжаешь,
Вновь не уловишь ее, как однажды из уст улетела 363).
Но что же ждет человека после этого последнего мига расставания?
Ахейцы верили, что их цари и родовые вожди после смерти обретали особое могущество, их называли «героями», хотя первоначально это слово означало просто умершего. Народным предкам и славным витязям воздавались почести, приносились жертвы. Но,
* — как говорят —
194
очевидно, никаких ясных представлений об их посмертной судьбе греки не имели. Быть может, их воззрения были близки к понятиям их родичей арьев. Неясно, какую роль играли микенские гробницы. Были ли они так тесно связаны с ритуалом и загробной жизнью, как в Египте, или нет? Несомненно одно: древние ахейцы с большой любовью и вниманием относились к гробницам своих выдающихся людей. В Микенах эти гробницы образовали настоящий некрополь с мощными стенами. Умерших одевали в лучшие одежды, с ними клали золотые украшения, драгоценное оружие, лица покрывали золотыми масками, воспроизводившими черты лица покойного. В гробницах при раскопках было обнаружено много посуды, ювелирных изделий: красивых бляшек в виде бабочек, пантер, птиц. Не пустовали и погребения простых микенцев. Им в могилы также клалась всевозможная утварь 364). Все это, очевидно, должно свидетельствовать о вере ахейцев в то, что загробная жизнь мало отличается от этой жизни. Но при таком воззрении трудно объяснить пессимистические нотки Гомера. Вероятно, существовали и какие-то другие взгляды и настроения.
Прежде всего нужно подчеркнуть, что Магизм, как правило, посюсторонен. Это мировоззрение делает наибольший упор на этой жизни, считает высшим благом богатство, здоровье, благополучие. Это механическое миропонимание — антипод духовного, мистического; оно глубоко материалистично в своем понимании ценностей бытия. И если в некоторых культурах, проникнутых магическими элементами, как, например, в Египте, и существовала живая вера в загробный мир, то он рисовался точной копией мира земного. Когда же в трудные переходные эпохи жизнь подрывает веру в абсолютную ценность этой несовершенной юдоли, все «проклятые» вопросы всплывают с неожиданной силой и предъявляют счет Магизму. Возникает скепсис, пессимизм, безрадостная философия, на развалинах которой, как Фениксу из пепла, суждено вырастать новым откровениям. Поэма о Гильгамеше или Беседа Разочарованного — яркие свидетельства этого процесса.
В Греции происходило нечто подобное. Первоначальное представление ахейцев о посмертном царстве сменяется более мрачным и безнадежным. Пути этой эволюции остаются тайной. Быть может, знакомство с Востоком, исповедовавшим унылую веру в Преисподнюю (Кур, Шеол), повлияло на изменение представлений греков о загробной жизни. Не забудем еще один факт. О чем могли свидетельствовать загадочные феномены, явления умерших, известные людям во все времена: конечно, не о веселых пирах и охотах, которые любили живописать на стенах гробниц. Столкновение с жутким миром, называемым на языке оккультизма астральной сферой, могло приводить нередко к самым печальным размышлениям. И прежде всего, как мы уже говорили, возникает стремление «успокоить» умершего. Для этого ему приносят жертвы, устраивают пышные похороны, а тело или предают земле, или сжигают. Последний обычай возник около эпохи Троянской войны и скоро исчез.

13*
195
Но важно, что основным мотивом его было «успокоение» умершего огнем 365). Здесь вспоминается учение индийцев о том, что кремация облегчает отрыв «внутреннего человека» от еще не совсем угасшей жизненной силы.
В том, как Одиссея описывает астральные призраки, каждый, кто знаком с литературой тайноведения и парапсихологии, узнает опытное знание. Погруженные в полубессознательное состояние бледные духи, как нетопыри, витают над ямой с кровью, инстинктивно тянутся к ней. Только кровь может вернуть им сознание. Они бесплотны. Тщетно Одиссей пытается обнять любимую мать: она ускользает от него, как туман. Тени издают жалобные стоны. Чертами из кошмарного сновидения рисует Гомер сонное царство Аида — обиталище теней, его черные подземные бездны, выход которых — в сумрачной земле кимерийцев, окутанной вечной ночью, где шумят воды мирового Океана. В этом скорбном мире ревут адские реки, голые мертвые деревья и бледные цветы отражаются в них. Здесь обитают чудища и казнятся преступные титаны. Даже боги страшатся клятвы именем подземных потоков. Безысходным отчаянием проникнуто сетование духа Ахилла:
Лучше б хотел я живой, как поденщик работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать...366).
Никакими жертвами, никакими подвигами не изменит человек своей судьбы. Участь всех — одна. Великие и малые, добрые и злые — все, как стая птиц, гонимых ветром, уносятся в беззвездную ночь Эреба.
Когда читаешь описание тусклого и бессмысленного существования умерших в Гильгамеше или в Одиссее, лишний раз убеждаешься в беспочвенности наивных утверждений, что представление о загробном мире родилось как самоутешение человека. Здесь есть что угодно, только не утешение! Не оно, а действительное реальное проникновение в суть вещей — исток учения о бессмертии духа. Но во всей полноте бессмертие раскрывалось людям не сразу. Так, соприкосновение с миром «астральных трупов» породило картину мертвенно-сонной преисподней.
Однако это унылое представление не могло быть всеобщим и долгим. Было слишком очевидно, что неодинаковы люди и не могут быть у них одинаковые жребии. Правда, ахейцы не поднялись до мысли о нравственном воздаянии. Ведь, как мы видели, у них не было твердых понятий о добре и зле. Олимпийская религия имела в этом отношении пагубный пробел. Поэтому, естественно, среди заслуг, выдвигающих человека на первое место, оказалась доблесть. Уже Одиссей, видя в Эребе тень Геракла, знает, что сам он «вкушает блаженство» среди богов 367). Так древний культ героев оказывается мостом к пониманию посмертного воздаяния. Возникает учение о светлом Элизиуме на блаженных островах, куда уносятся герои. «Герой»,— по определению Зелинского,— это «просветленный по-
196
койник». Он пользуется полной сознательностью; он, как преображенный, одет в ризу высшей красоты; он блажен в своей силе и в воздаваемых ему почестях» 368). С другой стороны, постепенно появляются первые робкие понятия и о загробном воздаянии за зло. Подземные духи карают за ложную клятву; пес Цербер, муки Тантала и Сизифа, описанные Одиссеем,— все это первые символы посмертной немезиды в античном мире.
Таким образом, мы видим, что в раннегреческом обществе господствовал смутный и противоречивый взгляд на посмертное существование. В нем можно было различить два аспекта: с одной стороны, все ценное заключено в этой земной жизни; тень, которая остается от человека, влачит бессмысленное жалкое существование в Эребе. Но, с другой стороны, избранные души за свои подвиги и по особой любви богов достигают блаженства в Элизиуме. Эти две тенденции способствовали, особенно в среде рыцарской аристократии, стремлению «взять от жизни, что возможно». Если египтянин более всего был озабочен сооружением себе «вечного дома», то ахейцы больше всего склонны были жить в погоне за быстротечными радостями и в поисках воинских приключений. Походы за море приносили то, чего искали рыцари: и славу, и золото, и рабынь, и скот. Почетно пасть на поле брани. Соотечественники будут ублажать «героя» своими приношениями, веселить его дух туком баранов и вином. Еще лучше награбить побольше и вернуться в свой замок, чтобы вволю насладиться радостями жизни. В эту эпоху создается образ идеального греческого героя, запечатленный в поэмах Гомера. Этот герой неукротим, заносчив и жесток, но иногда он может проявить великодушие. Вспомним сцену Ахилла и Приама, когда богатырь, удрученный смертью друга, склоняется на мольбы старца — враждебного царя — и отдает тело его сына Гектора. (Но при этом Ахилл не забывает забрать и богатый выкуп.)
Алчность является одним из главных побуждений героя, и он не скрывает этого. Его отношения с Олимпийцами — это сделка, в которой он ждет услуги за услугу. Он болезненно переживает, когда затронута его честь, и следует закону кровавой мести. В любви к изысканной роскоши и ослепительному великолепию микенские властители постепенно затмевают миносцев. Когда Герман Шлиман производил раскопки в Микенах, он обнаружил многие сотни украшений из золота.
* * *
Разрушение Трои оказалось пирровой победой ахейцев. О последствиях Троянской эпопеи греческий историк говорит: «Страна не знала покоя и поэтому не преуспевала. Возвращение эллинов из-под Илиона замедлилось, что привело к многочисленным переменам: в государствах возникали частые междоусобицы, вследствие которых изгнанники стали основывать новые города» 369).
Это был век переселения народов по всей Эгеиде. Колоссальные
197
орды островитян и жителей малоазиатского побережья, теснимые северными племенами, двигались на юг. Они обрушились как саранча на царство хеттов, ослабленное после войны с Рамсесом II. Столица царства Хаттусас была разграблена и сожжена, а вскоре эти «народы моря» со своими несметными полчищами, повозками, женами, детьми появились на берегах Египта. Старый фараон Мернептах с огромным трудом сдержал натиск переселенцев 370).
Эти бедствия совершенно отрезали Микены от остального мира. С появлением «народов моря» прекратились торговые связи с Египтом. Но это не было самым худшим. Около 1200 года в Элладу стал проникать с севера дикий пастушеский народ — дорийцы.
Эти голубоглазые, светловолосые люди говорят на одном из греческих наречий. Воинственные и упорные в поисках новых пастбищ для своего скота дорийцы, подобно арьям, медленно продвигаются на юг, выжигая пашни, стирая селения с лица земли. Тревога и страх охватывают все население полуострова. Вот когда отомстила за себя злосчастная Троянская война! Земля разорена, обнищала; много лет не обрабатывались поля; лучшие воинские силы полегли под стенами Илиона или покоятся на дне морском.
Повсюду начинаются лихорадочные приготовления. Аттика строит оборонительные сооружения; на перешейке возводят огромный защитный вал, в Микенах и других замках готовятся к осаде: налаживают водоснабжение, увеличивают арсеналы. Перепуганные цари собирают отряды, посылают дорогие жертвы в храмы; кузнецам, которые день и ночь куют оружие, предоставляются всяческие льготы.
Из одной надписи видно, что царь совершил очищение жертвенника, оскверненного пролитием крови. Значит, враг уже близок и не щадит храмов. У дорийцев длинные железные копья и мечи, и они держатся молчаливым сомкнутым строем; это прирожденные воины, которые наступают как неумолимый вал. Ослабленные ахейцы, которые к тому же не знали настоящей воинской дисциплины, а бросались в бой кому как вздумается, с криком и бранью, не выдержали напора. Пламя пожара уже взметнулось над Пилосом, и, наконец, пришел час Микен. «Златообильный» город испытал на себе судьбу своего соперника — Илиона. Он превратился в груду дымящихся развалин. Господству ахейских царей пришел конец. Это произошло около 1100 года.
Можно было бы думать, что вместе с Микенским царством погибнет и олимпийская религия. Все национальные религии: финикийская, египетская, вавилонская — исчезали вслед за исповедовавшими их народами. Но с олимпийскими богами этого не случилось. Острова греческого Архипелага и побережье Малой Азии оказались теми очагами, в которых религия Зевса и элементы эллинской культуры сохранились в смутные годы нашествия и разрухи. Там будет слагаться гомеровский эпос, и оттуда Олимпийцы вновь завоюют свою родину.
198
Часть IV
НАРОД ЗАВЕТА
199
Глава семнадцатая
«ДОМ РАБСТВА». МОИСЕЙ
Египет, ок. 1300—1230 гг.
Верою оставил он Египет, не убоявшись
гнева царского, ибо он, как бы видя
Невидимого, был тверд.
Послание к Евреям 11,27
Ни один самый смелый человеческий вымысел не может соперничать с тем, что совершается в действительной жизни. Когда мы стоим у поворота исторической дороги, какими беспомощными кажутся попытки людей предсказать, что ожидает нас за углом! История — это непрерывное творчество, фейерверк неожиданностей, и только слепая приверженность к идолу «научности» может вызвать желание втиснуть в прокрустово ложе теорий и схем живое историческое целое. Правда, всегда существовали люди, способные в силу какого-то таинственного инстинкта угадывать общую тенденцию мирового процесса, но их интуиция принадлежит совсем другой области, чем «научное предвидение» социологов и философов.
На историю слишком часто смотрят как на естественно-природное явление и поэтому думают, что в ней определенные причины неизбежно должны производить соответствующие следствия. Однако если в мире физических явлений мы действительно как будто имеем дело с такими незыблемыми закономерностями, то в истории иногда может произойти нечто совершенно непредвиденное, противоречащее всему имевшему место до сих пор. Наглядным примером тому могут служить судьбы религии Едино-божия.
Первой попыткой утвердить его для целого народа была реформация Эхнатона. Несмотря на то что она потерпела
201
поражение, учение о Едином Боге не прошло бесследно для египетского религиозного сознания. Те самые жрецы, которые предали «еретика» проклятию, невольно оказались под обаянием «атонизма». Ведь в их собственной духовной традиции уже давно ощущалось тяготение к Единобожию. В гимнах Амону-Ра, составленных после торжества Фив, мы находим ясные отголоски амарнской эпохи:
Привет тебе от всего живущего,
Единый, единственный со множеством рук!
Спят все, но ты не спишь,
Помышляешь полезное для твари своей.
Многие тексты называют Амона творцом всех людей, независимо от языка и цвета кожи, защитником угнетенных, стражем Истины.
Таким образом, развитие в сторону монотеизма в Египте продолжалось и после Эхнатона. Можно было бы ожидать, что рано или поздно среди жрецов явится смелый человек, который доведет до конца дело религиозной реформы и страна фараонов станет всемирным очагом веры в Единого.
Между тем фиванскую религию ожидал постепенный упадок; солнечное Единобожие захлебнулось в мутных волнах суеверий, а магистральный путь Богоискания оказался проходящим там, где этого не мог подозревать никто.
Отстраивались Фивы, кипели политические страсти, плелись интриги, и свергались династии, египтяне сражались с хеттами, свирепствовали в Сирии; военные парады, грандиозные стройки, торговые экспедиции сменяли друг друга, а в земле Гесем на востоке Дельты текла тихая, бедная внешними событиями жизнь израильских пастухов.
Они остались в стороне даже от тех волнений, которые охватили страну во времена Эхнатона, и лишь только самые отчаянные из евреев воспользовались ослаблением власти фараона в Палестине и ушли туда. Там они столкнулись с князьями — ставленниками Египта, которые оказали им сопротивление. У стен Гата пало много израильтян из колена Эфраима, но некоторые населенные пункты им удалось захватить. Библия говорит, что именно эти Эфраимиты основали в Палестине город Бет-хорон. Быть может, это их имел в виду царь Иерусалима, когда жаловался Эхнатону на нападения хабири 371).
Однако израильтяне, оставшиеся в Гесеме, оказались счастливее. Египетские пастбища в то время были единственным тихим уголком, в котором Израиль сохранился для будущего.
Почти четыре столетия обитали племена Бене-Исраэля на заболоченных лугах Гесема 372). И тем не менее мы ровно ничего не знаем об этом периоде их истории. Библия, которая так подробно останавливается на эпохе Авраама, вдруг умолкает. Чем объяснить это? Народная память, как правило, сохраняет славные и роковые
202
моменты своего прошлого. Великие битвы и катастрофы, подвиги и бедствия — вот что поражает воображение людей и на века запечатлевается в песнях, сказаниях, былинах. Ничего подобного, очевидно, не происходило в египетский период израильской истории. Евреи остались чужды Египту, равно как и были оторваны от вольных степей. Узок был их мир, ограниченный с одной стороны угрюмыми фортами фараонов, а с другой — камышовыми топями и цепью Горьких озер.
На полях Гесема бродили несметные стада, принадлежавшие Большому Дому. Израильтяне были обязаны следить за ними, перегонять их на новые пастбища, докладывать египетским чиновникам об их состоянии и численности, организовывать поставки скота для нужд двора. Так было при гиксах. Быть может, это положение сохранилось и при новой династии.
Уберегли ли жители Гесема свое единственное духовное наследие — древнюю веру предков? Из-за отсутствия источников на этот вопрос ответить трудно. Во всяком случае, влияние на них египетской религии было, вероятно, ничтожным. Скорее всего, как и гиксы, они даже испытывали неприязненное чувство к египетским богам. Быть может, некоторые из них восприняли религию гиксского ваала Сутеха и изображали его в виде быка или змеи — знака божественной мудрости 373). Но то, что предания об Аврааме и патриархах дошли до следующих поколений, может служить косвенным доказательством в пользу того, что израильтяне не утратили памяти о религиозном Откровении, данном их праотцу.
Некоторые элементы язычества все же проникли в их религию. Охраняя свои стада, израильтяне боялись вреда, который могли принести духи пустыни. В их представлении эти страшные существа, злобные и мстительные, скрывались за болотами и насылали болезни и смерть. Они рисовались воображению израильтян в виде сатироподобных демонов; их царем был козлоликий бог Азазел. Чтобы уберечь себя от этих рогатых призраков, пастухи усердно задабривали их, принося жертвы и ограждаясь заклинаниями 374).
Часть израильтян стала переходить к оседлому образу жизни 375). Вероятно, к ним проникла и письменность. В эпоху гиксов азиаты начали формировать свой алфавит. В основу его были положены египетские иероглифы, давшие начало буквенной системе из 22 знаков, распространенной у племени Синая, которым, возможно, впоследствии воспользовался и Моисей 376).
Как бы ни были далеки израильтяне от египетских дел, положение в стране не могло не коснуться их. Вскоре после политического упадка, связанного с «еретиком из Ахетатона», начался новый (и последний) военный подъем Египта. Снова войска фараонов двинулись в Палестину. Сети I (ок. 1317— 1301 гг.) стремился восстановить то, что было утрачено и разрушено в период «солнечной реформации». При нем начались усиленные строительные работы. Памятники, храмы, дворцы, кре-
203
пости спешно реставрировались. Тысячи военнопленных и рабов томились в царских каменоломнях, добывая материал для грандиозных строек. Сети не жалел ни средств, ни людей. Однако эта беспощадная эксплуатация не распространилась на местное население. Египетские рабочие трудились в условиях несравненно лучших, чем сирийские пленники, на которых была возложена главная тяжесть работ 377). Вероятно, в это время возник план привлечения к строительным работам семитических племен Дельты. Пастухов Гесема пригнали на стройки и заставили тесать камни, делать кирпичи и таскать тяжести. Так кончился спокойный период жизни Бене-Исраэля, и сыны его оказались в «Доме рабства».
В народной памяти эта пора запечатлелась как гнетущий кошмар. Особенно тяжело пришлось израильтянам, когда на престол вступил сын Сети — Рамсес II (1301 —1234). В первые годы своего правления он совершил победоносный поход в Сирию и после упорной борьбы заключил союз с. самым могущественным народом Передней Азии — хеттами. Когда Рамсес покончил с военными делами, он целиком отдался строительству. Обладая детским тщеславием, он готов был все дворцы и храмы, созданные предшественниками, приписать себе. С этой целью он выбивал свое имя на каждом здании, привлекавшем его внимание. При нем был создан колоссальный Рамсесэум, где возвышалась исполинская его статуя, и удивительный храм в Абу-Симбале, высеченный в естественной скале у Нила. Вход в храм украшали четыре сидячих изваяния Рамсеса высотой в двадцать метров. Казалось, молодой царь (он вступил на престол восемнадцати лет) хотел затмить всех правителей и царей прошлого.
Рамсес был родом из Нижнего Египта, Дельта была постоянной его резиденцией, и он решил построить там большой укрепленный город. Лучшее место, чем Аварис, для этой цели придумать было трудно. Гиксская столица, вот уже многие годы находившаяся в запустении, вновь ожила. Царь назвал ее Пер-Рамсес (Дом Рамсеса) или просто Рамсес. Отсюда фараону легко было поддерживать сношения с Сирией и хеттами, здесь были сооружены большие продовольственные склады на случай войны или голода. Новая метрополия быстро населялась. Вся область получила по имени города название «земли Рамсеса». Кроме Пер-Рам-сеса, в районе Гесема выросла крепость Суккот, или Секу, и Пи-Атум (библейский Питом), в которых также были построены большие провиантские склады 378). Как и Сети, Рамсес пригонял на свои стройки тысячи рабов и военнопленных. А так как недалеко от города начинались луга и болота Гесема, где жили израильтяне, то фараон приказывал сгонять их на строительство и эксплуатировать, насколько это возможно. Для Израиля это были горькие дни.
Среди народов древности египтяне славились самыми грандиозными постройками. Все эти колоннады, пирамиды и храмы
204
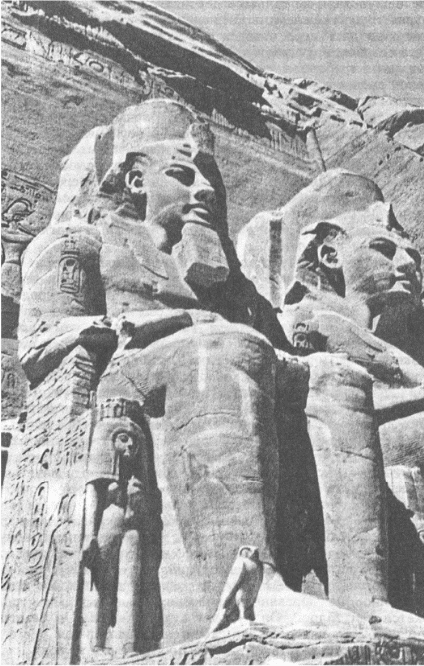
Колоссы Рамсеса II
(Абу-Симбал, Нубия)
205
свидетельствовали не только о дерзновенных замыслах архитекторов, но и о тяжелом подневольном труде миллионов людей. Достаточно дать себе отчет в том, что величайшие сооружения Египта созданы вручную, чтобы понять, какого сверхчеловеческого напряжения требовали эти работы. Страшные легенды распространяли в древности про фараонов-строителей. Их подавляющие исполинские твердыни внушали ужас и навевали мрачные мысли о судьбе тех, чьими руками они построены. И если правители, наученные горьким опытом восстаний и беспорядков, стремились сделать для туземцев работу не столь изнурительной, то для рабов и инородцев, какими были израильтяне, пощады не было. Напротив, встревоженный большей численностью «аперу» (как называли сирийских рабочих), фараон намеревался одним ударом достичь двух целей: отстроить города в восточной дельте и сильно разредить ее азиатское население. Ведь смертность среди рабочих была огромной.
Библия повествует о том, что Сыны Израиля были жестоко угнетаемы египтянами, о том, как под наблюдением надсмотрщиков месили они глину и заготовляли кирпичи для городов Рамсеса и Питома 379). Первое время их еще снабжали материалом для кирпичей, а в дальнейшем их заставляли самих собирать для этой цели солому. До нас дошло несколько рапортов о стройках, на которых работали солдаты и «аперу». Но гораздо больше могут дать египетские изображения того времени. На одной из гробниц мы видим изображение, рисующее подневольный труд сирийских рабочих. Одни из них таскают и месят глину, другие делают кирпичи, третьи переносят их к месту строительства на шесте вроде коромысла. А сверху за их работами наблюдает неумолимый надсмотрщик; в руках у него палка, готовая опуститься на любого, кто покажется ему ленивым или зазевавшимся 380).
Если бы мы могли перенестись в те времена в «землю Рамсеса», то перед нами открылась бы примерно такая картина. Вереница полуобнаженных рабочих с заунывным пением тянется к лесам, одевающим будущий дворец или храм. Их спины, согнутые под тяжестью груза, почернели под лучами тропического солнца. Другие рабочие волокут на канатах исполинское изваяние, поставленное на деревянные полозья. Каменный лик медленно движется над толпой. Он смотрит куда-то вдаль. Он бесстрастен и спокоен, ему нет дела до рабов, надрывающихся у его ног... Кто бы мог предсказать тогда, что пройдут века и люди извлекут из песков это изваяние в первую очередь потому, что их будет интересовать судьба этих рабов?..
Свободные пастухи, израильтяне не привыкли к подневольному труду в городах. Известно, с какой быстротой тают небольшие народы, когда неумолимые законы «цивилизованного мира» грубо вторгаются в их жизнь. С ужасом стали догадываться израильские рабочие, что непосильная барщина, наложенная на
206
них фараоном, ставит конечной своей целью искоренение их племени. Так навсегда нарушилось безмятежное существование поселенцев Гесема. Притеснения обычно служат к сплочению гонимых. Под влиянием жестокого угнетения у израильтян проснулось национальное самосознание. Они вспомнили, что они лишь пришельцы в Египетской земле, что их предки некогда пришли сюда с Востока. Теперь они с тоской глядели туда, где за Тростниковым морем и Горькими озерами жили их свободные братья. Но куда было спасаться? В Ханаан? Он находился в руках египетских ставленников. Дальше на север, к хеттам? Но с ними фараон заключил договор, согласно которому хеттский царь обязался выдавать Египту всех беглецов 381). Оставался только Синайский полуостров, его дикие и суровые горы, его безводные пустыни. Но от одной мысли о них обитателей влажной Дельты охватывал ужас.
* * *
Между тем великий фараон старел. Он все более утрачивал интерес к политическим делам и заботился лишь об укреплении своей резиденции. Один за другим умирали его наследники, а он продолжал жить среди сказочной роскоши и покоя. Торжественно справлялись юбилеи этого небывало продолжительного правления. В глазах народа он, вероятно, стал окружаться ореолом земного бессмертия. Но наконец настал день, когда и ему пришлось разделить общую участь людей. В 1234 году, после шестидесяти лет царствования, девяностолетний старик отправился в последний путь к своей вечной обители.
Большинство его детей давно умерли, на престол суждено было вступить тринадцатому сыну Рамсеса Мернептаху, которому уже минуло пятьдесят лет. Таким образом, говоря словами Брэстеда, «один старик наследовал другому».
Это не могло не отразиться на положении дел в империи. Уже в последние годы правления Рамсеса ливийские племена, пользуясь слабостью власти, начали вторгаться в Дельту. Теперь же чужеземцы и недовольные повсеместно подняли голову. Волнения, прокатившиеся, вероятно, по всему Нижнему Египту, не могли не затронуть израильских поселенцев и рабочих, отбывавших барщину на строительствах.
* * *
Близились дни большого весеннего скотоводческого праздника 382).
Обычно в эти дни происходили столкновения рабочих с египетской администрацией. Рабочие требовали, чтобы их отпустили в родные дома для того, чтобы провести праздник в кругу своих, а египетские чиновники обвиняли их в лени и увеличивали нормы работы. Во время этих праздников были нередки мяте-
207
жи и потасовки. Поэтому египтяне усиливали надзор за рабочими, пленными и рабами.
Однажды среди израильтян распространился слух о неизвестных агитаторах, которые появлялись то на стройках, то среди поселенцев Гесема, призывая народ покинуть «Дом рабства» и идти в пустыню поклониться Богу Авраама, Богу отцов. Люди эти принадлежали к левитам — израильскому племени, тесно связанному с египтянами; у многих из них были египетские имена. Египетским было и имя их вождя Месу, или Моисея, который и внешне был похож на египтянина 383).
Так появляется на исторической арене человек, с именем которого будет связано происхождение ветхозаветной религии.
Когда мы вчитываемся в древние строки Книги Исхода, в эти безыскусные предания, записанные странным, порой грубоватым языком, то постепенно перед нами начинает вырисовываться глубоко трагический и яркий образ основателя израильской религии. Он стоит особняком среди других мудрецов древности, более всех непонятый, чаще всех получавший за свой подвиг тупую неблагодарность. Ни один из основателей религии не был окружен людьми, в такой степени чуждыми его стремлениям. Если у Будды был Ананда, у Иеремии — Барух или у Сократа — Платон, то у Моисея не было никого. Даже члены его рода, помощники и соратники, оказались, как мы увидим, в основном людьми честолюбивыми, далекими от его идей и веры.
Ни один из основателей религии не был принужден так скоро пойти на компромисс с неподготовленным мышлением своих последователей и делать уступки их предрассудкам и привычкам, как Моисей. Но зато приходится поражаться, с какой удивительной гибкостью, мудростью и выдержкой ведет он дело воспитания народа и руководства им. Читая Пятикнижие без предвзятости, трудно отделаться от странного чувства, что в моральном отношении образ Моисея иногда кажется даже выше образа самого Ягве, Бога Израилева, каким он рисуется в Книге Исхода. Эта иллюзия возникает оттого, что на страницах древних писаний живая фигура благородного и великодушного вождя зачастую сталкивается с тем образом национального Божества, который рисовался детскому воображению пастухов. Поэтому и создается превратное впечатление, будто Моисей более справедлив и добр, чем сам Бог 384).
Но на самом деле именно в общении с открывавшимся ему в горах Владыкой Вселенной черпал еврейский пророк силы для совершения своего непосильного подвига. Замечательно, что во все трудные и критические минуты Моисей не ищет ни у кого поддержки и совета, а обращает свои взоры к небу.
208
Величайшей трагедией в судьбе этого человека было то, что он не только не встретил понимания и сочувствия у современников, но и в последующих веках с его именем связывались постановления и ритуально-правовой порядок, глубоко ему чуждые. Однако его борьба не пропала даром. Семя духовного, чистого богопочитания, брошенное мощной рукой этого титана на почву, заросшую сорняками, пусть и не скоро, но взошло. Великий Завет, принесенный им с Синая, послужит основанием для религиозного переворота, который направит свой удар против вековых твердынь ритуализма.
История Моисея была записана впервые лишь в X в. до н. э. Прежде она казалась историкам целиком сотканной из легенд, но впоследствии стало очевидным, что в основных чертах все рассказанное о нем Библией выдерживает яркий свет исторической критики и соответствует тем сведениям, которые принесло изучение древнего Египта 385). Однако о многом в этой истории нет точных и ясных сведений, многое прошло через призму поэтического предания, в котором трудно выделить конкретные детали.
* * *
Моисей вначале действовал не один. Клан левитов, очевидно, образовал вокруг него преданную дружину. При их поддержке он мог возглавить народное движение и удержать впоследствии власть над непокорными и мятежными израильтянами.
О Моисее и его сподвижниках ходили самые противоречивые слухи. Его самого считали волшебником, некоторые утверждали впоследствии, что он — египетский жрец, отставленный от должности. Библейская традиция говорит о том, что он был воспитан египтянами и что дочь фараона усыновила его. В этом предании нет ничего невероятного. У Рамсеса был большой гарем; известно, что одну из царевен звали Бент-Анат. Это семитическое имя, и, возможно, мать ее была родом из Палестины. Поэтому она вполне могла принять участие в судьбе еврейского мальчика.
Несомненно одно: по своему воспитанию Моисей был связан с Египтом. Трудно предположить, чтобы предание измыслило эту деталь. Библия говорит, что, будучи выходцем из египетской среды, будущий вождь Израиля не забыл, однако, своего азиатского происхождения. Когда он увидел, как на стройке египетский надзиратель избивает израильтянина, он в порыве гнева убил мучителя. В результате ему пришлось бежать, и он, перейдя границу (что было не так просто в те времена), скрылся в единственном малодоступном месте — в Синайской пустыне 386).
По автобиографии египетского чиновника Синухета, бежавшего от властей к сирийским бедуинам, мы можем составить представление о некоторых подробностях добровольного изгнания Моисея 387). Синухет необычайно живо описывает свои переживания
209
и страхи, рассказывает, как полз в кустах, прячась от пограничного дозора. Единственный путь его лежал через «Великую черноту» заболоченных лагун и Горьких озер. Там Синухет заблудился и умирал от жажды, когда его спасли бедуины. Кочевники приняли египтянина хорошо. Вождь племени обласкал его, принял в свою семью, женил на своей дочери. Много лет провел Синухет среди бедуинов, вдали от цивилизации, живя жизнью первобытного кочевника. «Я пек хлебы каждый день, — с удовольствием вспоминает он, — имел вино постоянно, а также вареное мясо и жареных птиц, не считая антилоп пустыни». Бедуины считали за честь сделать «своим» знатного египтянина.
В точно таком же положении оказался и Моисей. В своих скитаниях по пустыне он столкнулся с еврейскими племенами мадианитян 388). Это были кочевники-скотоводы, иногда водившие купеческие караваны в Египет и Палестину. Они обитали близ священной горы Синай на юге полуострова. Как и Синухет, Моисей был радушно принят бедуинами; их шейх, жрец Рагуиль-Иофор (Метро), приютил беглеца, и Моисей вкусил всю прелесть безмятежной жизни свободных скотоводов. Он женился на дочери шейха и пас его стада на склонах Хоребских гор. И именно там с ним совершился таинственный переворот, превративший его в вождя и пророка.
* * *
Тщетно вглядываемся мы во мглу веков, пытаясь угадать, что произошло с основателем израильской религии в те дни, когда он в одиночестве блуждал среди гор. О его внутренних переживаниях у нас нет такого непосредственного свидетельства, каким являются, например, для пророков Исайи и Иезекииля их книги, Апокалипсис для апостола Иоанна или Коран для Магомета. Однако это не должно нас смущать. Даже если бы от Моисея и дошли драгоценные строки, говорящие о его мыслях, чувствах и видениях, это не сняло бы покрова с самого главного — с того великого Святая Святых, где совершается встреча человека с Богом.
Когда речь идет о моменте зарождения религии, о каком-то новом этапе проникновения человека в Божественную Тайну, историк, в сущности, должен умолкнуть. Здесь, на пороге высших миров, его методы и орудия бессильны. Что может он сказать об источнике Откровения, какие камни или письмена достоверно расскажут о совершившемся в сокровенных глубинах человеческой души? Мы можем догадываться об этом по тому, какие плоды принесла внутренняя работа, внутреннее озарение пророка в конкретной, практической деятельности.
Для нас навсегда останется тайной, что пережил египетский беглец среди безмолвия Хоребских гор, но мы знаем, что отныне он становится верным служителем Бога Незримого, Бога —
210
Властителя человеческих судеб, Бога, возложившего загадочную историческую миссию на него, Моисея, и на его народ. Это тот Бог, которому молились люди в незапамятные времена. Веру в Него свято хранили предки Израиля. Он — Бог, открывшийся Аврааму, Бог праотцев. Он пребывает выше бытия и жизни. Он — Сущий, имя Его Ягве 389).
Это новое имя Божие знаменует новую ступень Откровения. Авраам не знал этого имени. Тем не менее Ягве — это именно Тот, Кто призвал древнего патриарха и дал ему обетование.
Существует предположение, что Моисей заимствовал идею Единого Бога от тайных последователей Эхнатона, которые могли сохраниться до его времени. Но эта гипотеза, в сущности, ни на чем не основана. В религии Моисея слишком ясно выражена связь с верой еврейских праотцев, и, кроме того, мы не находим в ней никаких следов солнцепоклонства. Буря, тучи, пламя и дым — вот постоянные символы ветхозаветных Богоявлений. Образ Солнца в них никогда не участвует. Оно не включено ни в один из поэтических эпитетов Ягве во всей Библии.
Этимология имени Ягве связана со словом «быть», ибо никакое частное свойство не отличает Единого, в противоположность языческим богам. ОН ЕСТЬ. И из Его бытия проистекает все.
Возможно, что язык кенитов и мадианитян был тем языком, на котором впервые прозвучало священное имя Божие. Быть может, это имя было еще раньше известно священнику Иетро. Но — слово лишь оболочка, лишь знак. Моисей мог слышать о Высшем Божестве от египетских жрецов, он мог узнать имя Ягве от синайских бедуинов, но все это только дало форму для таинственного и глубоко личного Откровения.
Библия рассказывает, что Моисей однажды забрел далеко в горы и оказался в каком-то древнем святилище 390). Там из недр терновника, охваченного невиданным неопаляющим огнем, он услышал голос Божий, призывавший его на служение. Смущенный и испуганный, он пытался уклониться, но голос властно требовал, чтобы он шел как вестник Неба к своему угнетенному народу и избавил его от рабства. Он должен привести евреев сюда, к святой горе, и Ягве даст им во владение страну, текущую молоком и медом.
Сейчас трудно сказать, какие внешние факты кроются за этим рассказом. Что представляло собой «святое место», куда пришел Моисей? Было ли оно связано с древним культом Синая? Не являлся ли шейх Иофор жрецом одного из таких святилищ, где соблюдался древний семитический культ единобожия? Чем был горящий куст («неопалимая купина») предания: только лишь символом? Или он как-то связывался с местным культом? Или это было видение Моисея? На любой из этих вопросов можно с равным правом ответить и положительно, и отрицательно, так как они относятся к неразрешимым историческим загадкам.

14*
211
Как бы то ни было, но Моисей вернулся с Синая в таком же состоянии, в каком был Магомет, покинув пещеру горы Гиры. Он осознал себя пророком Божиим и был готов начать то дело, которое Ягве возложил на него.
* * *
Около 1230 года, в третье лето царствования Мернептаха, Моисей появился среди израильских рабов. Он заговорил о «Боге евреев», о Том, Кому поклонялись Авраам и их предки, когда были свободны, о том, что Бог обещал освободить их из «Дома рабства» и привести в землю, где некогда обитали их отцы. Он призывал народ покинуть Египет и отправиться в пустыню «на три дня пути», чтобы там совершить великое жертвоприношение Ягве, Богу Израиля.
Так началась тяжелая борьба Моисея с косностью, тупостью, малодушием, борьба за народ, за веру, за призвание народное. С первых же шагов он был встречен недоверчиво и даже враждебно. Волнения, вызванные его проповедями, заставили египтян усилить надзор и прибавить работ. Те, кто под влиянием речей левитов шли к надзирателям и требовали, чтобы их отпустили на праздник в пустыню, получали неизменный ответ: «Праздны вы, праздны, поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Ягве. Итак, идите и работайте». Таким образом, мечты об освобождении приводили к еще большему закабалению и новым тяготам 391).
Но левитов не поколебали первые неудачи. С востока приходили добрые вести. Смерть Рамсеса Великого вызвала волнение в Сирии. В самой Дельте продолжались смуты и брожение. Орды ливийцев наводнили ее западную часть. Они шли с женами, детьми, упорные, настойчивые, толкаемые голодом, они грабили и бесчинствовали 392). Одновременно с ними приходят в движение «народы моря» — воинственные племена европейского берега Средиземноморья. Сардинцы, критяне, филистимляне появляются в Сирии, их полчища, многочисленные и безжалостные, как саранча, в короткий срок сводят к нулю все завоевания Рамсеса и Сети. На границе Египта неспокойно, в метрополию несутся отчаянные письма от вассалов, гонцы следуют за гонцами, гарнизоны приводятся в боевую готовность. Империя фараонов вступила в полосу кризиса 393).
Надо отдать справедливость старому царю Мернептаху. Он не посрамил славы династии, не растерялся, а сумел в последний раз отстоять границы империи. Напрягши все силы, он нанес сокрушительное поражение ливийцам в знаменитой битве, длившейся много часов. Его боевые колесницы преследовали врага до самого западного края Дельты.
Между тем над Палестиной продолжал носиться клич восстания. Это придавало новую бодрость семитическим рабам, и израильтяне с возрастающей надеждой слушали слова Моисея,
212
призывавшего их к исходу из Египта. Упорная борьба, которую бесстрашный левит вел с египетскими властями, окружена поэтическими преданиями; однако из них можно заключить, что на первых порах он преуспел довольно мало. Но вот сама судьба пришла на помощь Израилю. В стране вспыхнула эпидемия, которая окончательно расстроила порядок и послужила поводом к анархии 394). Рабочие на строительствах отказались подчиниться начальникам.
Начались грабежи 395). В ночь большого скотоводческого праздника, когда пастухи по древнему обычаю приносили в жертву непорочного агнца, Моисей дал сигнал к исходу. Поспешно совершив традиционный обряд, израильтяне со своими стадами, а также разноплеменные рабы, работавшие вместе с ними, двинулись из окрестностей Рамсеса и Суккота 396). Моисей не повел их прямо на восток потому, что там, на «филистимской дороге», располагалась цепь египетских фортификаций. Во время своих странствий он хорошо изучил район и, проходя через пустынные местности, умело избегал пограничных постов. Наконец беглецы раскинули лагерь в виду крепости Этама. Дальше путь был закрыт. Единственным спасением было быстро сняться с места и углубиться в пустыню к берегам Тростникового моря. Бегство продолжалось всю ночь 397).
Между тем Мернептах, рассеяв ливийцев, быстрым маршем двигал свои войска на восток, чтобы обрушить карающую руку на мятежную Сирию. Когда он прибыл в Рамсес, он узнал, что Израиль и другие еврейские племена скрылись на востоке, вероятно для того, чтобы примкнуть к восставшим соплеменникам. Не теряя ни дня, Мернептах погнал колесницы к берегам Тростникового моря. О местоположении Израиля ему, очевидно, донесли из Этама. Теперь «пустыня заперла» евреев. С одной стороны были непроходимые камышовые топи, а с другой — надвигались колесницы фараона.
Хотя израильтяне и были кое-как вооружены, но появившиеся на горизонте кони египтян вызвали среди них настоящую панику. Что могли сделать толпы пеших рабов против дисциплинированной, испытанной в боях конницы фараона?
Раздались крики ужаса... «Разве мало было гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыню?» — бросали беглецы упреки Моисею. Но вождь верил в то, что Небо спасет его народ даже и в этот отчаянный момент. «Не бойтесь, увидите спасение Ягве», — воскликнул он и, не медля более ни минуты, повел израильтян через топи...
213
Глава восемнадцатая
ПУТЬ К СИНАЮ
Египет — Синай, весна и лето ок. 1230 г.
Кто Бог велий, яко Бог наш?
Ты еси Бог творяй чудеса!
Псалом
Когда египетские колесницы, вздымая тучи песка, подкатили к берегу Тростникового моря, была ночь. Однако в темноте они заметили последние отряды Израиля, прикрывавшие бегство через камыши. Все это время дул сильный восточный ветер, и он обнажил проходы среди стен тростника. Это неожиданное обстоятельство помогло израильтянам выбраться из западни...
Невзирая на то, что над топями собрались тучи и надвигался настоящий ураган, египтяне продолжали погоню. Возможно, они и успели настичь часть беглецов, но с каждым шагом им было все труднее и труднее пробираться в сгустившемся мраке. Тяжелые колесницы застревали в вязком иле, гроза бушевала, ветер переменился и теперь гнал волны на преследователей. Только теперь поняли египтяне, какая опасность им угрожает, и поспешно повернули обратно. Но вода настигла их.
Израильтяне, которые тем временем уже стояли на сухой возвышенности, наблюдали за отчаянными попытками всадников выбраться и не верили своим глазам...
Так или примерно так происходило это событие, сыгравшее столь большую роль в истории ветхозаветной религии. Многие его подробности навсегда останутся загадкой. Трудно даже определить точное место, где произошла переправа. Можно утверждать единственное: под Ям-суф, «Тростниковым морем», Библия подразумевает не Красное море, берега которого всегда были голы и
214
каменисты; скорее всего здесь речь идет об одном из Горьких озер, которые тянулись цепью между Красным и Средиземным морями.
Как бы то ни было, произошло нечто такое, чего не ждали ни евреи, ни египтяне 398). Всего час назад израильтяне были на волосок от гибели. Преследователи беспощадно расправились бы с ними; но вот теперь Ягве спас свой народ и остановил грозного врага. Это было несомненное чудо, хотя внешне действовали обычные стихийные силы. В том, что помощь воды и тьмы, бури и грома явилась столь своевременно, израильтяне почувствовали охраняющую руку Провидения. Никакое событие не производило на них столь сильного впечатления. Пройдут века, но как живые будут представать перед ними подробности исхода и чудесная переправа через море. Здесь родилась вера Израиля, вера в Моисея, в его миссию и в то, что открывшийся ему Бог есть воистину Бог Авраама, «Бог отцов».
Итак, Израиль благополучно скрылся в пустыне, между ним и преследователями легла непроходимая преграда, а уцелевшие египетские колесницы повернули от берега. Мернептах был уверен, что Израиль обречен на неминуемую гибель среди безводных пространств. Кампания в Палестине прошла для фараона необыкновенно удачно. Он разбил хеттов, опустошил ханаанские города и селения, толпы рабов и военнопленных снова были приведены из мятежных городов побережья — Аскалона и Гезера. В Галилее был предан огню и мечу ряд крепостей. Сирия снова лежала у ног фараона. Египет ликовал.
В честь своего триумфа Мернептах приказал высечь на каменных стелах победный гимн, заканчивающийся такими словами:
Враги повергнуты и просят пощады,
Ливия опустошена, Хета присмирела,
Ханаан пленен со всем своим злом,
Захвачен Аскалон, Гезер полонен,
Племя Израиля обезлюдело, семени его
больше не стало,
Сирия стала вдовой для Египта,
Все земли успокоились в мире,
Скован всякий бродяга царем Мернептахом...399).
Но когда в Мемфисе и Рамсесе распевали этот гимн, пустыня оглашалась ударами бубнов: в центре стана израильского кружился хоровод женщин, и к нему неслась ликующая песня избавления:
Воспою Ягве —
Высоко вознесся Он,
Коня и всадника его
Он низвергнул в море.
Оплот и слава моя Ягве, Он спасением мне был.
Это Бог мой — я прославлю Его,
Бог отца моего — вознесу Его.
215
Ягве — муж битвы, Ягве — имя Ему.
Колесницы фараона и полки его низвергнул в море,
И избранные воины его утонули в море
Тростниковом.
Сказал враг: погонюсь и настигну,
Разделю добычу и насыщу душу свою,
Обнажу свой меч,
Уничтожит их рука моя.
Дунул Ты дыханием Твоим, и покрыло их море,
Как свинец погрузились в бушующие воды.
Кто Тебе подобен между богами?
Кто как Ты святостью силен?
Исполненный славы, творящий чудеса!..
Так пели израильские женщины, а весь народ подхватывал припев:
Воспою Ягве —
Высоко вознесся Он,
Коня и всадника его
Он низвергнул в море 400).
Этот импровизированный псалом стал отныне боевым походным гимном Израиля. Впоследствии говорили, что сам фараон гнался за израильтянами, но был остановлен Богом 401).
Исход евреев из Египта был началом надвигавшейся на страну анархии. Едва только умер Мернептах, как наступила новая полоса смут и междоусобиц. «Земля египетская была покинута, — говорится в одном папирусе того времени, — всякий бежал из нее, не было повелителя много лет... Один убивал другого, как великие, так и малые... Наступили другие времена, Ирсу, некий сириец, захватил власть. Он заставил всю страну платить себе дань» 402). Палестина окончательно ускользала от власти фараонов.
Тем временем караваны израильтян продвигались на юг вдоль побережья Красного моря. Моисей уводил своих людей все дальше и дальше в глубь пустыни. У него были свои, одному ему известные цели. Счастливый переход через Тростниковые воды и избавление от египтян создали Моисею прочный авторитет; все с надеждой смотрели на этого необыкновенного вождя, казавшегося сверхчеловеком. Евреи воочию убедились, что Бог, возвещенный им, оказался сильнее Амона и других богов египетских. Кто, как не Он, помог им пройти по морю, как посуху, кто, как не Он, покарал фараона и землю Мицраим? Эта горячая вера простодушных пастухов и рабов, только что познавших радость свободы, — первое, чего достиг Моисей 403).
216
Имеет ли право современный человек смотреть свысока на эту уверенность беглецов в особом покровительстве Неба? История небольшого племени, каким-то чудом уцелевшего среди превратностей судьбы и ставшего носителем Единобожия среди языческих народов, поистине изумительна. Для тех, кто отрицает внутренний смысл в судьбах народов, здесь — лишь какое-то необычайно счастливое стечение обстоятельств. Но христианство оценивает ветхозаветную историю с иной точки зрения и признает в ней проявление того незримого Разума, который направляет ход мироздания, человеческую историю и судьбу отдельной личности. Вера древних израильтян в то, что они «народ Ягве», не была проявлением их умственной ограниченности, но выражала живое ощущение народа, что его призвал и охраняет сам Бог.
Моисей отказался от мысли повернуть со своим караваном на восток и сразу двинуться по направлению к Ханаану. Он знал, что там израильтян ожидает столкновение с многочисленными ханаанскими и еврейскими княжествами, знал, что Обетованная Земля покрыта укрепленными городами, в которых еще находились кое-где египетские гарнизоны 404). Следовательно, пока не было никакой надежды на завоевание страны, «текущей молоком и медом».
С другой стороны, он видел, что Израиль еще не способен к борьбе. Нужно было, чтобы беглецы расправили крылья после многих лет унизительного рабства, научились воевать, научились уважать себя, превратились бы в народ сплоченный, энергичный и закаленный. Моисею предстояло вдохнуть в израильтян веру и сделать Истину, открывшуюся ему, их достоянием.
Многие историки полагают, что не только во время странствий в пустыне, но и после вторжения в Ханаан Израиль, вплоть до эпохи царей, не был народом. Это мнение, однако, несколько утрировано. Из надписи на победной стеле Мернептаха мы узнаем, что египтяне, долгое время не дифференцировавшие «аперу» (евреев), увидели в якобы уничтоженном ими племени нечто целое, племя, носившее единое имя. Однако это было лишь внешнее единство, легко разрушимое под влиянием обстоятельств. Возникло оно, как мы видели, прежде всего в результате притеснения. Здесь была лишь простая солидарность рабов, над головами которых свистела одна плеть, солидарность, укрепляемая, кроме того, общими преданиями и общим происхождением.
В духовном отношении жизнь в Гесеме дала самые плачевные результаты. Израильтяне лишились тех великолепных качеств, которые отличали их предков. Миролюбие, смелость, терпимость, дружеское отношение к другим народам, присущие Аврааму и его людям, исчезли у обитателей Гесема, для которых четыре столетия пролетели как дым, не нарушая их однообразного полусонного бытия. Как ни тяжелы были работы на строитель-
217
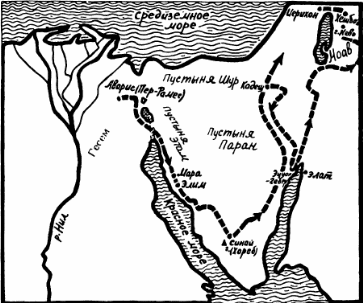
Путь исхода
ствах, как ни жестоки были дискриминационные меры египтян, многие израильтяне без особенного энтузиазма, почти неохотно последовали за левитами, увлекавшими их в пустыню. При этом они укоряли своих вождей на каждом шагу, вспоминая о своей относительно сытой жизни в «Доме рабства».
В общем, не будет преувеличением сказать, что те, кого Мернептах называл «племенем Израиль», в сущности, представляли собой разноплеменную толпу, состоявшую из нескольких тысяч рабов, пастухов, рабочих и просто бродяг, искавших приключений 405). Многие из них были людьми битыми и запуганными. В годы угнетения они отупели и приобрели дурные привычки, рождаемые унижением. Таков был «человеческий материал», с которым пришлось иметь дело пророку Ягве. Здесь не было ни одного обнадеживающего элемента, а одни лишь препятствия.
Первой задачей Моисея было завоевать доверие народа и старейшин. В этом решающую роль сыграли обстоятельства исхода. Мор, который не коснулся израильтян во время эпидемии, свирепствовавшей в Египте, чудесная переправа через море — все это рисовалось им как цепь небесных знамений, как явное вмешательство Верховной Воли в их жизнь. Моисей, на которого даже египтяне смотрели с суеверным страхом, как на колдуна и мага, представлялся им в совершенно необыкновенном свете 406). Это была большая победа, так как только такое отношение отдавало неорганизованную толпу в руки вождя.
218
Но вот исход совершился, страшные заросли Тростникового моря позади, не слышно больше шума погони. Впереди раскинулись недвижимые просторы мертвой пустыни. Безоблачное небо, бурые холмы, безводная вымершая страна. Здесь царит смерть. Это область мрачного Азазела, владыки волосатых демонов. Козлоликое чудовище стелет свое губительное дыхание над каменистой почвой. С ужасом всматриваются беглецы в горизонт, подернутый красноватой дымкой. Для них, привыкших жить среди влажных лугов и болот, эта картина мертвой природы кажется невыносимо жуткой. Все здесь для них незнакомо, таинственно, угрожающе: и молчание барханов, и оголенность почвы, и непонятные звуки...
* * *
Три дня продолжался томительный, непривычный путь. К этому времени запасы воды уже подошли к концу. Напрасно вожаки каравана всматривались в даль. Нигде не видно было никакого признака источника, ручья или колодца. Наконец набрели на водоем, который местные бедуины называли Меррой (т. е. горечью). Вода в нем действительно была непригодна для питья. Для истомленных путников это было уже слишком. С упреками окружили они Моисея: «Что нам пить?» Но опытного вождя, прекрасно знавшего пустыню, трудно было удивить горьким источником. Он указал людям растение, которое, будучи опущенным в воду, отбивает у нее неприятный вкус, и путники могли утолить свою жажду 407).
Этот случай вновь поднял авторитет Моисея, пошатнувшийся было под влиянием первых впечатлений от ужасов пустыни.
Вообще все дальнейшее путешествие Израиля среди безводных долин и гор состояло из страхов и неожиданных радостей. Им казалось, что они попали в какую-то волшебную страну, где на каждом шагу их ждут чудеса. Однажды, проснувшись утром, голодные путники увидели, что земля, как инеем, покрыта мелкой крупой. Удивлению их не было границ, а когда Моисей, знавший, что бедуины употребляют эту крупу в пищу, объяснил, что ее можно есть, изумление превратилось в ликование. Поистине Ягве посылает с неба пищу своему народу. Они называли эти мелкие съедобные зернышки «даром небесным» — манной 408). В другой раз тучи перелетных перепелов пронеслись над станом Израиля и опустились близ него. Охота на птиц, ослабевших после долгого пути, не представляла труда, и изумленные неожиданной удачей израильтяне вновь и вновь повторяли слова: «Ягве хранит людей своих» 409).
Один эпизод навсегда врезался в память народа. На границе пустыни Син, у предгорий Хоривского хребта, караван вступил в оголенную местность и долгое время продолжал путь, не ветре-
219
чая ни колодца, ни ручья. Путников мучила жажда, уныние охватило всех. Ропот недовольства против вождя, приведшего их в такую дикую местность, перешел в открытое возмущение. Они почти ненавидели своего избавителя. Годы мук и унижений в Египте уже не казались им такими ужасными; пустыня была куда страшнее строительных площадок, а голод и жажда беспощадней египетских надсмотрщиков. «Зачем ты вывел нас из Мицраима? Уморить жаждою нас, и детей наших, и стада наши?» — кричали все. Было мгновение, когда в голову Моисея чуть было не полетели камни. Это был критический момент: власть над взбунтовавшейся толпой ускользала из рук вождя...
В эту трудную минуту Бог вновь пришел на помощь своему избраннику. Моисей приказал долбить известковую скалу шестами, и, когда после долгих усилий образовалась впадина, он сильно ударил своим посохом, и в образовавшееся отверстие хлынула ключевая вода. Раздались радостные восклицания. Путники были спасены 410).
Все эти на первый взгляд незначительные события играли колоссальную роль для Сынов Израиля, непрерывно колебавшихся между страхом и надеждой.
Какова же была конечная цель Моисея? Почему он уводил свое племя все дальше и дальше на юг, в глубь пустыни? Ответ на этот вопрос может быть только один. Он решил дойти до тех самых мест, в которых он пас стада во время бегства, где прозвучал для него голос Божий. Он хотел там, у святой горы, вдохнуть в Израиль новый дух, вдохнуть веру, энергию, смелость. Он хотел привести к подножию Синая своих соплеменников, как бы говоря: «Боже! Вот люди, которых Ты призвал меня спасти. Я привел их к Тебе». Он верил, что там, где ему открылся Бог мира, откроется Он и Израилю и, открывшись, окончательно возьмет его под свое могущественное покровительство.
Только для этой цели Моисей, вместо того чтобы свернуть к горе Сеир, заставил евреев пробираться в горную синайскую страну, над которой, как подножие Божества, высились священные утесы Хорива. Только ради этого пришлось израильтянам перенести все тяготы пути по безводным равнинам, где каждая пальмовая роща казалась вестником из другого мира. У одного из таких оазисов произошло первое столкновение евреев с бедуинами. Синайское племя амаликитов выслало свои отряды против Сынов Израиля. Им навстречу из еврейского стана двинулся вооруженный отряд, который возглавил Иошуа-бен-Нун 411). Моисей же с вершины скалы следил за исходом схватки. Предание гласит, что успех сопутствовал евреям лишь тогда, когда Моисей взывал к Богу с воздетыми руками, и поэтому поддерживаемый с обеих сторон вождь не опускал рук до заката.
После жестокой битвы бедуины были рассеяны, народ воспрянул духом; в нем стало просыпаться чувство собственного достоинства, утраченное в Египте.
220
Израильтяне были уверены, что сам Ягве сражался вместе с ними, что война за их свободу — Священная Война. Поэтому они называли свои битвы — «битвами Ягве» 412).
Но не только враждебными были встречи в пустыне. В израильском стане побывал мадианитянский шейх Иетро — старый учитель Моисея, который некогда приютил его у себя. Эта встреча принесла большое облегчение вождю: мудрый старик помог ему советами, указав, как удобнее установить порядок и законность среди израильских родов.
Взгляд историка не может проникнуть сквозь густую тьму, окутывающую фигуру тестя Моисея и его взаимоотношения с пророком. Одно только ясно: по крайней мере дважды в поворотные моменты жизни вождя синайский жрец появлялся на его пути и протягивал дружескую руку. И эти встречи становятся решающими для дальнейшей судьбы Моисея 413).
* * *
Шел третий месяц с того дня, когда толпы Сынов Израиля покинули Дельту 414). Теперь они двигались через пустыню Синайскую, которая окружала святую гору. На горизонте уже были видны ее зубчатые вершины 415). «Синайская гора, — говорит французский писатель, — состоящая из глыбы темного гранита, которую уже много веков купает в своих золотых лучах солнце, есть одно из самых своеобразных явлений земного шара. Это законченный пейзаж безводного мира, какой мы себе представляем на Луне или на другой планете, лишенной атмосферы. Правда, на вершинах Синая часто скопляются страшные грозовые тучи, но гроза, вообще благодатная, здесь внушает только ужас... Из всех элементов природы здесь есть только камень, изборожденный жилами руды, порой сияющий на солнце своей алмазной поверхностью, но всегда враждебный жизни и ее влияниям. Тишина этих уединенных мест наводит ужас; слово, произнесенное тихо, рождает странные отголоски; путника смущает звук его собственных шагов; эта гора, с ее неуловимыми очертаниями, с ее обманчивой прозрачностью, ее странными отсветами, поистине «гора Элогима» 416).
У подошвы Синая, в оголенной долине, Моисей приказал разбить лагерь. Со страхом смотрели израильтяне на гранитные утесы, которые стояли подобно сторожевым башням при входе в загадочный мир духов. Из уст в уста передавались леденящие кровь рассказы. Здесь, в обители грозного Ягве, оживали все те предания, которые издревле окружали священную гору. Говорили, что ночами Владыка Синая ходит среди ущелий и горе тому, кто встретит Его на пути 417). Ягве обитает в таинственном мраке, у Него нет никакого образа, и только голос Его может прозвучать с вершины, как он прозвучал Моисею из пылавшего куста 418).
221
Другие, напротив, полагали, что Ягве имеет человекоподобный облик, но ни один смертный не может остаться живым, взглянув на Его лицо 419).
Для народа синайский Бог был прежде всего Божеством огня и бури. Быть может, не случайно само Его имя созвучно со словом «хава» — «веяние». Он всегда является в пламени, от Его раскаленного дыхания тают холмы и плавятся гранитные утесы. Его окружают сонмы «сынов Божиих», Он повелевает небесными светилами. Среди богов нет более могущественного, чем Ягве. Он Бог Синая, но он же Владыка пустыни, Сеира и Ханаана. После исхода Ягве показал свою власть над Амоном и другими богами Мицраима 420). Так постепенно в сознании кочевников синайский бог грома и огня превращается в мирового Бога. Ведь «мир» для них ограничивался Египтом и Передней Азией, а дальше начинались окраины Вселенной.
Наконец Моисей открыл свою цель народу. Он объявил, что Ягве для того освободил Израиль и привел к Себе, чтобы заключить с ним вечный союз, или Завет. Отныне Израиль станет избранным народом Ягве, а Ягве берет на себя особое попечение о своих людях.
Если в прежние времена евреи молились тому же Божеству, что и многие семитические народы, то теперь они обретают своего Бога и благодаря тому становятся нацией. Ибо ничто не может явиться более прочным фундаментом для единения людей, чем общая вера.
Через несколько дней после остановки у Синая вождь велел готовиться к великому моменту: люди заключали торжественный союз с Богом. Это было нечто неслыханное, ибо в сознании восточных народов человек был совершенным ничтожеством по сравнению с Божеством и заключение между ними союза было бы невероятной дерзостью 421).
Но здесь сам Владыка Жизни устами своего пророка объявляет условия этого поразительного договора: «Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым».
Так рождается Народ Завета, Народ Божий, из семени Авраамова выходят первые, еще слабые ростки Ветхозаветной Церкви, прародительницы Церкви Вселенской. Отныне история религии будет уже не только историей тоски, томления и поисков, но она станет историей Завета, диалога между Творцом и человеком.
«Отделившись от язычества и поднявшись своей верой выше халдейской магии и египетской мудрости, — говорил Вл. Соловьев, — родоначальники и вожди евреев стали достойны Божественного избрания. Бог избрал их, открылся им, заключил с ними союз. Союзный договор или завет Бога с Израилем составляет средоточие еврейской религии» 422).
222
Библейское предание рисует величественную картину заключения этого священного Завета.
Народ покинул лагерь и подступил к самой подошве горы. Все в трепете устремили взоры на ее вершину, над которой повисли непроницаемые тучи. Время от времени среди них вспыхивали молнии, и удары грома отдавались среди расселин трубными звуками...
Между тем Моисей отделился от толпы и стал подниматься все выше и выше к синайской вершине. Вот он уже скрылся среди утесов, уходя туда, где тучи, где неистовствует гроза и буря, где густой сумрак окружает божественную Тайну...
223
Глава девятнадцатая
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ
Синай, ок. 1230—1200 гг.
Каким маленьким кажется Синай,
когда Моисей стоит на нем.
Г. Гейне
Человечество во все века смотрело на горные вершины с каким-то невольным благоговением и страхом. Эти гиганты, вздымающиеся высоко над грешной землей, уходящие пиками в небесные дали, кажутся святилищами, созданными самой природой, естественными алтарями и храмами, своим немым величием прославляющими Творческую мощь. Поэтому легко вообразить, что чувствовали израильтяне, когда их пророк начал восхождение на священный Синай. Они строили догадки, рисовали себе грандиозные и устрашающие картины встречи Моисея с Ягве. Человек, дерзнувший взойти по ступеням великого Алтаря, не побоявшийся проникнуть во мрак, где сокрыто Божество, казалось, не мог быть простым смертным...
Но вот Моисей снова в лагере Израиля. В торжественной тишине провозглашает он Божий Завет и кропит народ жертвенной кровью в знак заключения Союза.
* * *
В чем же заключался этот Завет? Что открыл Моисей людям как Вечный Божественный Закон? От ответа на этот вопрос зависит ответ на вопрос о том, кто был Моисей и в чем заключалась сущность религии, им основанной.
В прежние времена думали, что этот Моисеев Закон, или
224
Тора (т. е. Учение), есть не что иное, как Пятикнижие с его законодательствами. Однако это мнение не имеет основания в самой Библии, и оно почти полностью оставлено современным библейским богословием 423).
Тем не менее в еще большую ошибку впадают те, кто отрицает за Моисеем роль законодателя и полагает, что до нас от него не дошло ни строки. Стойкая традиция, засвидетельствованная письменно уже через несколько поколений после смерти вождя, говорит именно о Моисее как о пророке, давшем народу Закон. Остается открытым лишь вопрос: что же считать за первоначальную Моисееву Тору?
В Пятикнижии мы находим сложное ритуальное законодательство (Книга Левит), которое не только не могло возникнуть в условиях пустыни, но и не было известно в допленную эпоху. Иерусалимский священник Иезекииль в 570 г. еще не знает важнейших уставов Левита 424).
Далее имеется Второзаконие, оно, возможно, и восходит к Моисеевым преданиям, но строгая централизация культа, которой эта книга требует, не была известна ни народу, ни религиозным вождям до VIII в. Гедеон, Давид, Илия приносят жертвы в самых различных местах, там, где подсказывало им сердце или обстоятельства 425).
В Священной Истории, записанной в VIII в., содержится так называемая «Сефер-ха-Берит» — Книга Завета426). Это религиозно-правовой кодекс, юридическая часть которого опирается на известные древневосточные законы. Кодекс упоминает поля, виноградники, крупный рогатый скот и, следовательно, относится к послемоисееву периоду. Во всяком случае он не мог быть составлен в годы пребывания в пустыне.
В Священной Истории, которая была записана в Иудее около X в., приводится так называемый Малый Обрядовый Кодекс421). Он состоит из 10 или, вернее, из 12 заповедей. По мнению Роули и других историков, этот кодекс принадлежал мадианитянским поклонникам Ягве и был как бы символом веры Иетро — тестя Моисея 428).
Остается Декалог, или Скрижали Завета. В нем нет указаний на оседлую жизнь, нет сложной ритуальной системы, он не представлял собой обширного манускрипта, как Левит или Второзаконие. Все его десять заповедей умещались на двух каменных плитах — скрижалях. И сам этот способ написания Декалога говорит о его древности.
Нет такого периода в истории Израиля, о котором можно было бы сказать, что заповеди Декалога ему неизвестны. Его цитируют пророки, он включен в Священную Историю VIII в. (Элогиста), включен во Второзаконие. Формулировки его напоминают Книгу Мертвых и свидетельствуют о том, что автор знаком с Египтом 429).
Эти и многие другие соображения приводят большинство
225
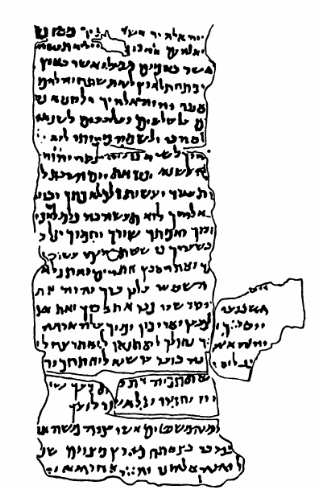
Фрагмент копии древнейшего текста Десяти Заповедей,
начертанного на египетском папирусе
(1 век до н. э.)
историков к той мысли, что именно Декалог и есть первоначальная Моисеева Тора.
При его записи был использован, видимо, так называемый «синайский алфавит», который в ту эпоху употребляли семиты, соприкасавшиеся с Египтом. И лишь впоследствии, когда евреи восприняли ханаанскую письменность, Декалог был переписан на пергамент или папирус. Хотя при включении в Св. Историю он был несколько переработан, но сущность его осталась неизменной 430).
Заповеди, начертанные на скрижалях, гласили: 431).
1. Я — Ягве, Бог твой, который вывел тебя из земли Мицраим, из Дома рабства. Ты не должен иметь других богов пред Лицом Моим.
2. Ты не должен делать себе никакого изображения божества.
226
3. Ты не должен употреблять понапрасну имя Ягве, Бога твоего.
4. Помни день субботы, чтобы праздновать его.
5. Почитай отца и мать.
6. Ты не должен убивать.
7. Ты не должен распутничать.
8. Ты не должен красть.
9. Ты не должен давать ложного свидетельства на ближнего своего.
10. Не желай дома ближнего твоего, ни жены его, ничего, что у ближнего твоего.
Какие простые на первый взгляд слова! Но если нам они кажутся чем-то само собой разумеющимся, то для древнего мира они звучали небывалым откровением. Достаточно вспомнить, какие отношения между человеком и Божеством царили в Египте, Вавилоне, Греции, чтобы понять, насколько необыкновенными должны были представляться современникам священные законы, начертанные на скрижалях. Эти два невзрачных, грубо отесанных камня имели неизмеримо большее значение для духовной истории человечества, чем тысячи искусно украшенных ассирийских и египетских памятников.
Есть что-то глубоко символическое в том, что самый древний отрывок Ветхого Завета, сохранившийся до наших дней, — это «папирус Нэш», содержащий именно Десять Заповедей Моисеевых...
* * *
В Декалоге нас поражают две основные черты: учение о Боге и учение о путях служения Богу.
Первая заповедь повелевает Израилю поклоняться только тому Богу, который избавил его от египтян. Поклонение другим богам, безусловно, запрещается. Был ли это чистый монотеизм? Многие авторы ожесточенно это отрицают, полагая, что религия Моисея есть в лучшем случае лишь монолатрия, т. е. поклонение одному Богу при признании существования других 432).
Здесь отвлеченное мышление историков сталкивается с живым мироощущением людей древности и обнаруживает полное его непонимание. Для первобытного и древнего человека не могло быть несуществующих богов. Он чувствовал все колоссальное многообразие духовного мира и был восприимчив к его воздействиям гораздо больше, чем человек позднейших эпох. Он мог знать, что над миром царит, как Верховный Владыка, Всевышний Творец, но при этом ему не приходило в голову отрицать бытие существ второго порядка. Более того, при случае он не считал зазорным принести жертву этим богам, или обратиться к ним с просьбой, или заклясть их магической формулой. Лишь только

15*
227
впоследствии пророки в разгар полемики против культа низших божеств стали отрицать их бытие совсем.
Однако поучительно то, что Моисей в первой же заповеди запрещает поклонение каким бы то ни было богам, кроме Сущего. Ягве — Богу Вселенной, Богу отцов — единому подобает слава. Он есть единственный Бог Израиля. Этим категорическим запретом еврейский пророк преградил путь, на который в то время была увлечена индо-арийская религия и по которому пошли религии греков, египтян и семитов. Приспосабливаясь к мышлению своих людей, он просто объявил им, что Ягве взял народ израильский под Свое особое покровительство и что Он, в свою очередь, требует, чтобы израильтяне не обращались ни к каким богам, кроме Него. Это был поворотный момент: приходилось выбирать между живым сопричастием одухотворенному космосу и спасением Единобожия. Пророк выбрал второе и одним ударом разрубил нити, протянутые из сердца человека к сердцу стихий. «Да не будет у тебя других богов». Это навсегда исключает всякую двойственность 433).
Весь многоликий пантеон богов Востока и Запада был запутан в сложных родословных; боги вступали в браки, рожали, умирали, воскресали. Они воевали с чудовищами, как Мардук или Аполлон, они подчинялись Судьбе, как Зевс, они нуждались в пище и жертвоприношениях. Боги создавали группы, семьи, войска, образуя родственные Триады, Эннеады.
Но Бог Моисеевой религии стоит вне этих мифологических сплетений. Мысль о Его рождении или зависимости от иных сил — кощунственна.
В этом отношении очевидна связь Моисеевой веры с религией Авраама. Эта связь засвидетельствована хотя бы в наименовании Ягве «Богом отцов», Богом патриархов. Поздние пророки классической поры: Амос, Осия, Исайя, Иеремия — исходили в своей проповеди из основ, заложенных Моисеем. В то же время сам Моисей отождествлял свое Откровение с древней религией семитических кочевников, которые не знали ни мифологии, ни идолов и чтили лишь одного своего Бога-Покровителя 434).
Итак, Ягве — это Бог, как бы открывшийся заново, но известный людям издревле, Бог, который чтился народами под такими именами, как Эль, Ан, Бэл, Дьяус, Атум.
И в то же время Ягве отличается от абстрактных безликих божеств вроде Брахмана или Атона тем, что Он Бог Живой, что Он Личный Бог, действующий в созданной им Вселенной и в истории людей, Бог, который может открываться человеку. Это Он создал на земле Свой удел — народ Израильский, Он «как бы на орлиных крыльях» привел его к Себе, остановив преследователей. Он некогда заключил Завет с Авраамом и обещал дать его потомкам землю Ханаан для того, чтобы они взрастили там «благословение всех племен земли». Авраам был пришельцем в Ханаане. Потомки его стали изгнанниками в Египте. Теперь
228
Бог открывает Народу Завета путь к Обетованной Земле. Он заключает с ним второй Завет через Моисея и является как «Бог Израилев», как Избавитель от рабства.
Во второй заповеди Декалога пророк требует отказа от всяких изображений Бога.
Это стало отличительной особенностью ветхозаветной религии. Если арьи первоначально и не имели идолов, то у них не было никакого запрета изображать Божество. Эхнатон допускал символы Бога в виде сокола и солнечного диска. Моисей же отмел всякие попытки воплотить невоплотимое.
Весь древний мир не мог отрешиться от представлений о Боге как о существе человекоподобном, звероподобном или, по крайней мере, имеющем форму, облик. Моисей решительно отвергает эти представления. Бог невидим. Он не имеет изобразимой формы. Когда Он является человеку, он обретает облик Малеах-Ягве, т. е. «Ангела Ягве». Это не ангел в обычном смысле слова. Это теофания, богоявление. Бог не может непосредственно говорить с человеком, ибо смертный не может вынести Его испепеляющей мощи. Поэтому и голос Ягве, обращенный к Моисею из пылающего терновника, — это только «Ангел», и Синайское Откровение есть явление «Ангела», как и все теофании Ветхого Завета 435).
Малеах-Ягве, по словам о. С. Булгакова, «есть тварный бог, не по благодати только, как человек, но и по причастию. Однако именно эта тварность ангельской ипостаси только и делает возможным для человека вынести нестерпимый огонь богоявления. Это есть та мера, в которую человек может принять явление Бога раньше Его вочеловечения» 436).
Но в таком умаленном, «ангельском» облике не должен, согласно Моисею, изображаться Создатель.
Кажется невероятным, чтобы в такую отдаленную эпоху явилось столь возвышенное понятие о духовности Божества. Это приводило многих к отрицанию подлинности второй заповеди, тем более что впоследствии израильтяне нередко соблазнялись идолопоклонством. Тем не менее существует свидетельство в пользу того, что в целом евреи остались верны Моисееву завету. Археологи обнаружили в почве Палестины древнее оружие и домашнюю утварь, жертвенники и украшения, языческие амулеты и надписи на камне, развалины дворцов, крепостей, конюшен, хозяйственных построек; есть среди находок изображения херувимов, львов, птиц, есть изображения ханаанских богов. Но изображений Ягве не было найдено 431).
* * *
Но самым оригинальным в Декалоге нужно считать учение о Богослужении. Мы видели, что основным языком, на котором человек того времени обращался к Божеству, был язык ритуала
229
и магии. Заклинания, священные формулы, таинственные действия, жертвоприношения, циклы обрядов, табу-запреты — вот что было главным содержанием религиозной практики. Только строго соблюдая всю систему ритуального порядка, можно было угодить Богу. Вспомним, какое значение придавали египтяне обрядам погребения для решения своей загробной участи. А раб в вавилонской «Беседе господина с рабом» лишь потому отвергает культ, что сомневается, можно ли заставить «научить божество ходить за собой как собака». Такова была цель Магизма: овладеть духовными силами в своих корыстных интересах.
Моисей не отвергал культовых форм. После победы над амаликитянами он воздвиг из камней жертвенник, назвав его «Ягве-Ниши» (Ягве — мое знамя), и впоследствии он приносил жертвы. Но в Декалоге о них нет ни слова.
Это кажется неправдоподобным, но тем не менее это бесспорный факт: в основном Законе, данном всему Израилю, текст которого народ учил наизусть, внешние формы Богопочитания обходятся полным молчанием. Здесь, в пустыне, у подножья Синая, было выковано оружие, которое пророки вознесут над всем грандиозным храмом магического миросозерцания.
* * *
Что же заменяет в Декалоге внешний культ? Как Ягве повелевает человеку служить себе? По учению Моисея, это служение заключается в соблюдении нравственного закона; человек тогда исполняет волю Неба, когда избегает зла и учится творить добро другим людям. Смысл этого этического монотеизма великолепно передан в известной молитве, ставшей знаменем Израиля, молитве, которую предание вложило в уста Моисея: «ШЕМА ИСРАЭЛЬ! Слушай, Израиль! Ягве Бог наш, Ягве един есть, и люби Ягве, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею и всеми силами твоими». К этой молитве добавляется заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя».
Выше этих заповедей нет ничего, говорил столетия спустя Иисус Назарянин фарисеям 438). В них — сердце Закона Божия, их суть в том, что человек служит Небу, делая добро для других людей. Именно через соблюдение этого Божественного Завета будет достигнута цель, которую Бог ставит перед своими людьми, — «стать царством священников и народом святых».
Величайшая заслуга Моисея перед человечеством заключается в том, что он осмелился провозгласить утраченный Закон, открыть забытые пути к Богу, не устрашившись противодействия и непонимания. Он говорил, обращаясь не только к Израилю, а ко всему миру, к будущим векам. Бесстрашие, с каким он начал ломать ложные представления людей о религии, поистине заслуживает восхищения.
Если проповедь Магомета была подготовлена распростране-
230
нием воззрений халифов, то Моисей трудился над почвой, заросшей вековыми сорняками. Если у Эхнатона для проведения его реформы были под рукой все средства абсолютной власти, то еврейский пророк мог опираться только на свой моральный авторитет, который нередко колебался в глазах толпы, вздыхавшей о египетских горшках с мясом.
* * *
В дни торжественного праздника в честь заключения Завета с Богом Моисей часто уходил в горы из шумного лагеря, и напрасно мы будем пытаться проникнуть в тайну его синайского уединения. Мы знаем лишь, что там, высоко, в соседстве с проносившимися над горой облаками, среди гранитных глыб, в надмирной тишине, Моисея осенило высшее вдохновение, плодом которого явились простые, но вечные глаголы, выбитые на скрижалях.
Иногда пророк скрывался в горах по многу дней. В таких случаях часть пути его сопровождал Иошуа или кто-либо из левитов. Однажды Моисей исчез особенно надолго, а тем временем наступил один из скотоводческих праздников, во время которого пастухи водили хороводы, пели песни, пировали под открытым небом, прославляя своего Бога-Покровителя. В этот день приносились жертвы перед традиционным семитическим идолом, имевшим облик быка 439). Теперь, после строгого запрета, данного вождем, этот праздник лишался видимого знака присутствия Божества.
Накануне праздника, как повествует автор Св. Истории, толпа окружила брата Моисея — левита Аарона. «Сделай нам Бога, — требовали пастухи, — который бы шел перед нами, ибо с этим человеком, с Моисеем, который вывел нас из земли Мицраим, не знаем, что сделалось». В этой просьбе нельзя не уловить нотки некоторого облегчения, которое испытали израильтяне, когда суровый вождь покинул их 440).
Между тем, продолжает летописец, Моисей спустился с горы и шел к стану вместе с сыном Нуна. Внезапно из долины послышался шум. «Это шум битвы», — решил воинственный Иошуа. Но Моисей разобрал в шуме пение. Когда же они приблизились к лагерю, то увидели, что праздник был в полном разгаре. В центре возвышался камень, на котором стояла фигура тельца, наскоро сделанная к торжеству. Народ пел и плясал вокруг идола, слышались восторженные крики: «Вот Бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли Мицраим!» При виде этого зрелища Моисей в порыве гнева бросил на землю скрижали, и они раскололись на куски. Вслед за тем на глазах смутившейся и растерявшейся толпы он низвергнул идола в костер, горько укоряя брата за предательский поступок. «Ко мне все, кто верен Ягве!» — воскликнул он громовым голосом, перекрывая шум толпы. Его окружили только левиты. Народ смотрел на своего пророка недовольно
231
и враждебно. Еще минута, и они бросятся на вождя и его дружину и разорвут их в клочья, мстя за своего идола.
Ждать было некогда. На карту было поставлено все: судьба Израиля, судьба новой религии, жизнь Моисея и левитов. В следующее мгновение по сигналу Моисея левиты обнажили мечи и бросились на толпу. Началось побоище...
На следующее утро в лагере было тихо. Суровость возымела свое действие. Больше никто не смел вспоминать о злополучном «золотом тельце». Моисей же снова ушел в горы, чтобы прийти в себя после потрясения. Очевидно, его мучили сомнения, может ли дикий народ, врученный ему, когда-нибудь приблизиться к возвышенным идеалам Закона-Союза. Гнев его прошел. Теперь он только молил Владыку Жизни пощадить неразумных людей. «И возвратился Моисей к Ягве, — читаем мы в Библии, — и сказал: «О Ягве, народ сей сделал великий грех — сделал себе бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги Твоей, в которую Ты вписал» 441). В этом рассказе запечатлелось великое самопожертвование пророка, который, несмотря ни на что, продолжал больше жизни любить свой злосчастный народ.
* * *
Все говорит о том, что эпизод с идолом заставил Моисея глубоко задуматься. Быть может, раньше он полагал, что народу достаточно веры в то, что Ягве хранит его и ведет по пути к Обетованной Земле, но теперь он понял, что его людям необходим внешний знак присутствия Божества. Им нужен был символ Бога, «который бы шел перед ними» и вселял в них бодрость.
Это не было просто данью суевериям толпы. То, что Господь воистину присутствует среди Израиля, было основным догматом Моисеевой веры. Бог сокровенный, голос Которого гремит с вершины Синая, всемогущий и опаляющий, сошел с высот, чтобы посеять в мире Свой народ, как семя будущего. Он изменил течение судеб, Он избавил Израиль, и Он идет вместе с ним по пустыне. Моисей — вождь народа и его представитель — «вступил во тьму, где Бог» 442). Он достиг высочайшего богообщения, какое только было возможно в Ветхом Завете. Действие воли Бога проявилось в чудесных событиях Исхода. И Его присутствие должно было иметь видимый символ.
Библия прямо говорит, что мысль о создании этого символа была внушена пророку свыше 443). Однако возможно, что некоторые детали его были навеяны Моисею воспоминаниями о Египте. Он мог часто видеть в стране Мицраим торжественные процессии жрецов, несших на плечах священную барку, наос, или ковчег. Это был миниатюрный храм, в котором помещалось изображение божества. Когда такой ковчег с пением проносили по улицам, для египтян это было равнозначно тому, что сам Амон-Ра или другой бог проходит среди них. Такая переносная святыня,
232

Юлиус Шнорр фон Карельсфельд.
Моисей разбивает скрижали
разумеется без идола, как нельзя лучше подходила целям Моисея.
Итак, в один прекрасный день вождь приказывает изготовить священный Ковчег Завета (Арон-ха-берит). Его переносят в особый шатер, или Скинию, которая устанавливается вне лагеря 444).
Внешне ковчег выглядел довольно скромно: это был ящик, сколоченный из деревянных досок, длиной немногим больше метра. Снаружи он был обит металлом, над его крышкой простирали крылья грубо сделанные керубы, или херувимы, — фантастические существа с львиным телом, ликом человека и крыльями орла. Они склоняли свои головы над ковчегом, а их крылья служили престолом, на котором незримо восседал Бог Израилев. Вероятно, керубы были изображением духов бури, которая в израильской поэзии обычно сопровождала Богоявления 445).
Когда народ снимался с лагеря или выступал в сражение, левиты шли впереди и несли ковчег на шестах, продетых в его боковые кольца, а Моисей произносил молитву:
233
Восстань, Ягве!
И да рассеются враги Твои,
И да бегут от лица Твоего ненавидящие Тебя!
А когда ковчег останавливался, Моисей говорил:
Воссядь, Ягве!
И благослови
Тысячи Израиля! 446).
Вероятно, одновременно с введением ковчега Моисей установил ряд обрядовых предписаний. Ему пришлось, например, сделать уступку народу и сохранить обычай принесения в жертву демону пустыни Азазелу козла. Но он преобразовал этот обряд, превратив его из жертвы в очистительный символ. Перед тем как козла угоняли в безводную пустыню, как того требовал обычай, левиты возлагали на него руки, и козел уносил с собой грехи всего народа 447). Быть может, Моисей установил и особую одежду для совершающих жертвоприношения 448).
Очевидно, навсегда останется загадкой, что представлял собой Нехуштан, или Медный Змей, которого, согласно преданию, Моисей укрепил на племенном штандарте, или знамени. Известно, что культ его продержался у евреев до VIII века, до тех пор, пока царь Иудейский Езекия не приказал истребить Нехуштана. Быть может, в сооружении этого Змея нужно видеть очередную уступку народу со стороны Моисея. Но не исключено, что и сам Моисей придавал ему какое-то особое значение.
Существует предположение, что Змей был геральдическим знаком левитов, аналогичным египетскому урею, что само название клана «леви» связано со словом «Левиафан» (извивающийся), которым в Библии обозначаются змеи и чудовища 449). Можно предполагать, что установление специфически левитского культа Змея исходило от Аарона и других левитов, которые претендовали на власть в Израиле.
Все это сокрыто во мраке истории 450).
* * *
Наконец наступило время покинуть Синай. Теперь перед Израилем стояла новая цель: захват территории в стране, где в древности обитал Авраам. Табор кочевников превратился в военный лагерь. Сам Ягве, восседавший на херувимах ковчега, вел свой народ в Землю Обетованную. Он говорил: «Довольно вам жить у этой горы! Поднимитесь и отправляйтесь в путь, и идите на горы аморитов и ко всем соседям их, живущим в долине Иордана... Я даю вам землю эту» 451).
Путь от Синая к южным границам Палестины был хотя и недолог, но труден 452). Каменистые пустыни, непроходимые горные кряжи и обрывы преграждали дорогу каравану. Вновь начался ропот и усилились жалобы. В довершение всего те же самые левиты, которые были опорой и дружиной Моисея, изме-
234
нили ему. Аарон, видя приближение решительного дня вторжения в Ханаан, очевидно, решил захватить руководство племенем. Он стал открыто возмущаться тем, что Моисей сделал себя единственным вождем 453).
Его поддержали другие левиты. Но Моисей сумел успокоить недовольных. Он обратил все помыслы Израиля на зеленые нивы и тенистые рощи Обетованной Земли, которая была уже где-то близко за горами.
Когда был разбит лагерь в пустыне Фаран, на западе от залива Элат, Моисей сделал решительный шаг. Он послал разведчиков на восток, чтобы узнать, можно ли рассчитывать на успех вторжения. Разведчики вернулись, неся роскошные плоды Обетованной Земли. Кочевники с восхищением смотрели на огромные виноградные кисти, на гранаты и смоквы. Они уже столько месяцев не видели ничего подобного, блуждая среди песчаных просторов. Им давно уже опротивела манна, которой они кое-как утоляли голод. Разведчики наперебой расхваливали Ханаанскую землю, говоря, что она действительно «течет молоком и медом». Но, с другой стороны, они наговорили таких страхов о жителях Палестины, об их силе и смелости, об их неприступных крепостях, что кочевников охватила паника, перешедшая в новый мятеж против Моисея.
Напрасно Иошуа, бывший одним из разведчиков, пытался успокоить разбушевавшуюся толпу. «Побить их камнями!» — стоял вопль. Было решено повернуть на запад и снова просить милости у фараона. С огромным трудом удалось вождю и на сей раз удержать власть в руках. Из этого эпизода он понял, что несчастные беглецы, которые, избавившись от египетских палок, готовы были вновь идти под их удары, никогда не будут способны к завоеванию. Поэтому он торжественно объявил, что отныне пустыня станет жилищем Израиля и что лишь следующее поколение вступит в Землю Обетованную.
Однако были уже в то время среди евреев смельчаки, которым не нравилось это решение. Покинув соплеменников, они направились на восток и, невзирая на запрет Моисея, вторглись в пределы Негиба. Но там на них напали превосходящие силы хананеев и рассеяли их. Так окончилась первая неудачная попытка начать завоевание Ханаана 454).
* * *
После этого еще не один год обитали израильтяне в пустыне 455). Их центром стал большой оазис Кадеш. Снова потянулись однообразные дни среди безводных холмов. Не один раз вспыхивал мятеж против старого вождя. Один из таких заговоров возглавил левит Корах, у которого нашлось много сторонников. Они хотели насильственно устранить Моисея и начали с того, что стали подрывать его авторитет. Они обвиняли его в том, что
235
он оказался беспомощным и не сумел привести народ, как обещал, в землю, текущую молоком и медом, обвиняли в том, что он превозносится перед всеми, выставляя себя особым доверенным лицом у Бога. Легенда говорит, что сама земля разверзлась и поглотила мятежников. Очевидно, в стане израильском было все-таки много людей, преданных вождю до конца 456).
Наконец, после долгих скитаний, около 1200 года Моисей решил, что пора начать наступление на север.
* * *
Ханаан в то время представлял собой следующую картину. На юге образовалось два маленьких еврейских государства — Моав и Эдом, или Идумея; на востоке в Заиорданье находилось царство амонитян. Амориты, которые утвердились в Северной Палестине, стали продвигаться на юг. Они захватывали город за городом и прочно оседали в них, как некогда в Месопотамии. Хананеи — народ, родственный финикийцам, — владели многочисленными крепостями по всей стране и оказывали аморитам отчаянное сопротивление. Непрерывные войны, племенные распри и столкновения превращали Палестину в бурлящий котел. Как только ослабела власть Египта и многочисленные царьки получили самостоятельность, началась настоящая «борьба всех против всех». Этот момент как нельзя лучше подходил для вторжения 457).
Сами израильтяне за годы жизни в Кадеше сильно переменились. Это были уже не те жалкие рабы, которые, только услышав о ханаанских крепостях, были готовы бежать обратно в Египет. Теперь Моисей вел новое поколение, выросшее в пустыне среди трудностей и испытаний, закаленное в стычках с бедуинами, буквально рвавшееся начать нашествие на Ханаан.
Первые стычки с ханаанскими царьками не принесли успеха. Дорога на восток преграждалась войсками царя Эдома. Напрасно Моисей высылал своих людей для переговоров, обещая мирно пройти через землю эдомитян и напасть на идущих с севера аморитов. Эдом отказался пропустить воинственные орды кочевников. Моавитяне оказались более сговорчивыми. Они были слишком измотаны войнами с аморитами, которые постоянно угрожали им. Нашествие израильтян, казалось, могло принести избавление от более могущественного врага.
Итак, миновав возвышенность Сеир, израильтяне двинулись по равнине Моава навстречу аморитам. На восток от Мертвого моря произошло кровопролитное сражение. Амориты бежали на север 458).
Эта победа встревожила все окрестные города. Моисей приказал разбить большой лагерь на территории, отбитой у аморитов.
С ужасом смотрели моавитяне на неотвратимое нашествие. Рассказывают, что моавитский князь Валак, не решаясь оказать
236
сопротивление незваным пришельцам, в страхе прибегнул к колдовству. В то время огромной популярностью пользовались прорицатели из Вавилона, жившие во всех восточных странах. Валак решил обратиться к одному из таких кудесников, по имени Валаам, с просьбой подняться на вершину и оттуда произнести проклятие на кочевников. Он был уверен, что анафемы колдуна принесут гибель Израилю.
Но даже и в этом предприятии Валак не преуспел. Когда перед вавилонским заклинателем с крыши храма Ваала открылся вид на холмы, усеянные палатками израильтян, он отказался выполнить просьбу Валака. Вещун привык повиноваться лишь своему внутреннему голосу, а тут, очевидно, он почувствовал, что в этом кочевом народе, вторгшемся в Палестину, заключены великие силы и его ждет славное будущее. Вместо того чтобы произнести магические проклятия, он благословил пришельцев и после этого скрылся, к немалому разочарованию Валака. Впрочем, он дал моавитянину добрый совет не относиться к Израилю как к врагу, а постараться сблизиться с ним и заключить с ним союз 459). Вероятно, его совет возымел действие. Постепенно местное население перестало бояться кочевников и вошло с ними в дружеские отношения. Язык у них был общий, и те и другие были евреями и сознавали себя братскими племенами. Но это мирное содружество оказалось чреватым опасностями. Моавитяне целиком восприняли ханаанскую культуру. Они не только приносили своему богу человеческие жертвы, но и предавались открытому распутству во время праздников.
И вновь, как во время поклонения золотому тельцу, Моисей мог видеть, что его люди увлечены сладострастным языческим культом и забыли о всех заветах и клятвах. На веселом празднике Бога Ваал-Пеора многие израильтяне предавались разврату и без смущения приносили жертвы перед идольскими алтарями 460). Таково, казалось, было печальное завершение многолетнего Моисеева руководства народом. Вновь, как и тогда, у подножья Синая, Моисею пришлось идти на крайние меры, и левиты жестоко наказали забывшихся.
Согласно преданию, именно в это время в Моаве Моисей вновь заключил Завет с Богом и заклинал народ не соблазняться языческими верованиями. Он призывал разрушать все идольские жертвенники и строго следить за чистотой веры. Это завещание Моисея мы находим в книге Второзакония 461). Некоторые полагают, что одновременно с этим пророк создал комментарий к Декалогу, названный Книгой Завета. В ней этический монотеизм был раскрыт еще глубже, но к религиозно-нравственным заповедям были прибавлены юридические законы, отражавшие принятые на Востоке правовые нормы 462). Впрочем, это было скорее ядро Книги Завета, которая получила окончательную форму лет через сто, т. е. в эпоху судей.
Тем временем наиболее воинственные колена Израиля не
237
желали больше прозябать в Моаве. Они устремились на север и вторглись в Заиорданье, разрушая крепости и тесня хананеев. Так было положено начало развалу племенного союза Бене-Исра- эль. Колена Махир, Иаир, Рувим и Гад осели на злачных пажитях левобережья Иордана, предоставив остальным своими силами добывать себе земли. Но это не могло остановить движения израильтян. Их исторический час пробил. Началась эпопея завоевания Обетованной Земли.
* * *
Как страстно должен был мечтать старый вождь о том, как поведет своих неразумных детей туда, куда обещал их привести много лет назад! С вершины моавитской горы Нево седовласый старец всматривался в зеленые равнины, раскинувшиеся за Иорданом. Кто знает, какие мысли проносились тогда в его уме? Во всяком случае он мог быть доволен. Цель его достигнута: он вывел народ, избранный Ягве, из земли Мицраим, привел его к горе Божией, руководил им и боролся с ним, воспитывал его. Много раз он был на волосок от смерти, много раз его ждало горькое разочарование, охватывала неуверенность в своих силах. Теперь все испытания позади. Он научил этих людей всему, дал им законы, превратил их из толпы рабов в народ. Земля Авраама, земля, текущая молоком и медом, обещанная Богом, — здесь, у его ног. А он, пророк, учитель и вождь, несмотря на преклонные годы, еще полон душевных и физических сил 463). Теперь ему оставалось пересечь этот сверкающий и извилистый рубеж — Иордан, за которым начинается желанный Ханаан! Но в этот момент завеса истории внезапно опускается и скрывает от нас могучую фигуру Моисея...
Загадочные тени витают над могилой пророка. Он умер не от болезни и не от старости. Место его погребения осталось никому не известным. Смерть настигла его где-то возле Бет-Пеора в Моаве, где он дал последний суровый урок Израилю 464). Что произошло там? Быть может, народная память сокрыла от нас трагедию? Быть может, святилище Ваал-Пеора связано какими-то тайными нитями со смертью Моисея? Века спустя пророк Осия с особенным отвращением вспоминает эпизод при Бет-Пеоре. «Через пророка вывел Ягве Израиль, — говорил он, — и через пророка охранял его. Сильно разгневал Эфраим Ягве, и за то кровь его оставит на нем» 465). Что могут означать эти зловещие слова? О какой крови может идти здесь речь? Неужели основатель Израильской религии пал от руки убийцы? Мы никогда не узнаем об этом. Прошлое ревниво хранит многие свои тайны.
Не приходится ли признать, что Моисей умер таким же одиноким, как Эхнатон и многие другие духовные вожди человечества? Не очевидно ли, что его энергия разбилась о недвижную стену народной косности и дикости? Не кажется ли злой насмеш-
238
кои, что все свои ритуальные законы евреи впоследствии припишут Моисею, который учил о служении Богу через добро, творимое людям? На первый взгляд кажется, что нужно признать миссию великого левита неудавшейся. Ведь едва только Израиль переселился в Палестину, как ростки Моисеева учения были, казалось, заглушены влиянием местной культуры и местных культов.
Однако дальнейший ход событий покажет нам, насколько неосновательны были пессимистические прогнозы. Моисей предстанет уже не одиноким мечтателем, а зачинателем целого движения, которое проложит путь от Древнего Завета, заключенного на Синае, к Новому Завету, возвещенному Сыном Человеческим...
239
Глава двадцатая
ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
Ханаан, ок. 1200—1125 гг.
В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо свое, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.
Н. Гумилев
Вскоре после смерти Моисея израильтяне почувствовали, что они уже не могут больше жить в Заиорданье. Колена теснили друг друга; узкая полоса земли, ограниченная с одной стороны аравийскими степями, а с другой — Мертвым морем и Иорданом, не могла прокормить массы кочевников с их станами. Израиль оказался на распутье: надо было или отступить на восток в пустыню, где с незапамятных времен скитались его предки, или повернуть на запад, где за рекой манили изумрудные холмы благословенной земли, и с мечом в руках овладеть ею. Последняя перспектива была слишком соблазнительной, чтобы от нее отказаться. Не обещал ли Моисей привести свой народ в страну, «текущую молоком и медом»? Не отдан ли Ханаан Самим Ягве во владение Израилю? Теперь пришло время, и нужно было решаться.
Конечно, Палестина могла рисоваться роскошным садом только скитальцам, глаза которых в течение многих лет привыкли видеть лишь голую землю, песок и камни. Хотя там действительно кое-где были великолепные пастбища, плодородные долины и луга, виноградники и масличные сады, но повсюду они чередовались с горными хребтами, базальтовыми скалами и суровыми безводными пустынями, которые, подобно тому как это было в Греции,
240
дробили страну на небольшие участки, плохо связанные между собой.
Иордан со своими отвесными берегами резко разделял Палестину на центральную часть и Заиорданское плоскогорье. Эта капризная быстротечная река, низвергающаяся с горных уступов севера в провал Мертвого моря — одну из самых глубоких впадин на земле, — никогда не играла в жизни Палестины такой роли, как Нил или Евфрат в жизни Египта и Двуречья.
В верхнем своем течении Иордан широко разливается, образуя Киннерет, или Геннисаретское озеро, называемое иногда Галилейским морем. Его берега в древности были покрыты роскошной растительностью, а воды изобиловали рыбой, и потому здесь всегда было густое население. Если Иордан делит страну на Западную часть и Трансиорданию, то с севера на юг Ханаан также разделялся на две области, имевшие каждая свой собственный характерный облик. Север отличался плодородием и хорошим климатом. Юг же, напротив, представлял собой негостеприимную горную страну, в которой пустыни сменялись ущельями. Однако южане сумели извлечь выгоды из своего ландшафта и, понастроив в горах крепостей, успешней других сопротивлялись врагам 466).
Палестина была населена с древнейших палеолитических времен. В пещерах Галилеи находили кости, груды ритуальных камней и примитивных орудий, свидетельствующих о многочисленности первобытных обитателей этой страны. На территории Палестины возник самый древний в мире город — Иерихон.
В доизраильский период Палестина, с ее смешанным населением, никогда не была самостоятельной. Тем не менее роль ее в истории древнего мира была огромна. Через нее проходили пути торговых караванов, шедших из Финикии в Египет, из Египта в страну хеттов, Миттани и Двуречье. Отсюда совершали набеги гиксы и амориты, через Ханаан двигались армии фараонов и ассирийских царей. Побережье его служило воротами, через которые проникали на восток племена Крита и Эгейского мира. Наиболее продолжительным было египетское господство в Палестине. Она была главным объектом экспансии фараонов Среднего и Нового царств. Однако их владычество было весьма непрочным. Жители Палестины — хананеи, амориты и другие семитические племена — пользовались каждым моментом ослабления власти в империи для того, чтобы свергнуть иго Египта. Так было и во времена Эхнатона, и в первые годы правления Мернептаха.
Как мы уже знаем, вскоре после смерти Мернептаха Египет охватила анархия. XIX династии пришел конец, а трон узурпировал неизвестный сириец Ирсу. Этот момент был самым благоприятным для похода израильтян на запад. Власть Египта в Ханаане почти не ощущалась; местное население было ослаблено раздорами и войнами.
Хананеи были близкими родичами евреев и финикийцев.
241
Они, очевидно, так же как и израильтяне, пришли некогда из пустыни, но в Палестине жили уже более тысячи лет. За это время, несмотря на египетское, эламское, вавилонское и хеттское владычество, несмотря на смуты и войны, они стали прекрасными строителями, деятельными торговцами, земледельцами и скотоводами. Их зодчие возводили мощные цитадели, их ремесленники изготовляли оружие из бронзы и даже железа, красивую мебель, ювелирные изделия. В ханаанском городе Мегиддо найдено интересное изображение сцен из жизни царя. Мы видим его возвращение с победой на колеснице, запряженной конями, видим его сидящим на пиру. Его трон украшен керубами, перед ним царица в богатых одеждах, музыкант, играющий на арфе, слуги, подносящие вино 468).
Таким образом, хананеи могут быть признаны вполне цивилизованным народом. Однако у них не развилась самобытная духовная культура. Они целиком подчинились влиянию Египта, Вавилона и особенно Финикии.
Раскопки показали, что Ханаан был в отношении искусства и религии типичной страной синкретизма 469). Здесь не было национальных богов, а почитались преимущественно боги соседей. Среди развалин найдены фигурки Гора, Хатор и других египетских богов, а также изображение вавилонской Иштар.
Но главными божествами хананеев были, как и у финикийцев, боги-хозяева, Владыки пашен, рощ, источников. Их называли «царями» или «господами» («ваал», «молох», «бэл»). Каждая местность имела своего ваала. Крестьяне и жители городов верили, что ваалы помогают им, и обращались к этим божествам во время сева, засухи или падежа скота. Символом ваалов обычно был бык, хотя иногда они имели и человекоподобный облик. От ваала зависел и дождь, и урожай, приплод скота и здоровье людей. Для того чтобы снискать его милость, хананеи устраивали в праздники торжественные пиршества, на которых ваал должен был невидимо присутствовать в качестве гостя; он вдыхал аромат приношений, пил вино и угощался плодами земли.
Наиболее почитаемым из ваалов был бог бури и грозы. Согласно финикийской мифологии, он являлся сыном «отца богов» — Эля. Ваал-громовержец был очень похож на Зевса и Индру. О нем слагали песни, в честь его на пышных богослужениях звучали патетические гимны. Многие из этих финикийских поэм отличаются высокими художественными достоинствами и оказали влияние на библейскую поэзию. Приведем один из гимнов, особенно напоминающий ранние еврейские песни:
Когда звенит священный глас Ваала,
Когда раздаются раскаты Ваалова грома,
Земля сотрясается, горы трепещут,
Пляшут холмы и скалы.
Враги его прячутся за склонами гор
Или в дремучих лесах,
242
От востока до запада в диком смятенье
Они бегут от лица его.
Скажите, враги Ваала,
Почему вы ныне в таком страхе?
Потому, что глаза его зорки,
Его руки могучи.
Каждый, кто будет спорить с Ваалом,
Будет сражен его мощью.
Падут сильные и высокие кедры
Перед порывом гнева его 470).
Рядом с Ваалом стояла Анат — кровавая богиня войны, которая «мыла руки в потоках крови врагов». Она была сестрой-женой властителя бурь. Другая богиня, Ашера, обеспечивала плодородие земли.
Обряды в честь богов совершались чаще всего у каменных столбов «массеб», которые считались обиталищами духов. Такие же волшебные свойства приписывали холмам и рощам. Веселые, но порой и коварные существа гнездились там, и человек стремился заручиться их дружбой. На священных холмах «бамот» (высотах), если они были оголены, нередко устанавливали «ашеру» — изображение дерева, в котором, как полагали хананеи, обитала богиня Ашера.
В годы народных бедствий люди в отчаянии шли на самые большие жертвы. Духам приносили детей, надеясь этим смягчить их гнев. Эта жертва считалась особенно действенной. Когда однажды израильтяне осаждали Моавитскую крепость, царь Моава вывел своего сына на стену и заколол перед лицом Кемоша, бога моавитского. Видя это, израильтяне обратились в паническое бегство, будучи уверены, что теперь Кемош непременно отомстит им. Огромное число обгорелых детских скелетов, зарытых в землю, замурованных в стенах и фундаментах, было обнаружено повсюду в Ханаане.
Особую роль у хананеев и финикийцев играли сладострастно-вакхические культы. Это было редчайшее в истории обожествление чувственности. Здесь культивировали все виды извращений и разнузданности. Все было поставлено на службу воспаленной эротике: и обилие непристойных символов и фетишей, и возбуждающий напиток из мандрагоры, который употребляли участники оргий, доводившие себя в неистовстве до самооскопления. Существовали даже специальные жрицы распутства, которые назывались «кедешим», т. е. священные. Хананеи верили, что радения исступленных людей, обуянных чувственной стихией, угодны богам и магически помогают созреванию нив и размножению скота.
Израильтяне, пришедшие из пустынь и гор, не могли, конечно, меряться с хананеями в смысле цивилизации. Их появление воспринималось, вероятно, как нашествие дикарей. Но с другой стороны, они явились как бы очистительной бурей, ворвавшейся в тлетворную атмосферу суеверий и извращенности.

16*
243

Финикийская богиня плодородия.
244
Поэтому в том, что Израиль смотрел на свои войны как на священные Войны Ягве, была известная доля исторической правды. Это убеждение подкреплялось поразительными успехами, которые на первых порах сопровождали евреев.
* * *
С тех пор как Египет потерял власть в Палестине, она превратилась в своего рода «ничью землю». Однако население ее, хотя и не образовало единого государства и даже конфедерации, было вполне способно защитить себя. Строго говоря, у израильтян не было почти никаких шансов на победу. Крепости, конница, хорошее оружие с одной стороны и пешая, вооруженная чем попало толпа — с другой: соотношение сил было слишком неравным. Однако Иошуа сын Нуна, который стал во главе израильтян после смерти Моисея, глубоко верил в то, что обетование сбудется и что странники обретут наконец желанное пристанище. Народ разделял эту уверенность. Хотя авторитет нового вождя был несравним с авторитетом Моисея, тем не менее Иошуа был признан большинством колен. В такие решительные минуты даже неорганизованные толпы чувствуют острую потребность в сильной руке. Иошуа был прирожденным воином, еще при Моисее отличавшимся в сражениях 471). Суровый, непреклонный человек, он был истинным сыном своего века, с его жестокостью и дикостью. В отличие от Моисея он не был пророком, религиозным вождем, однако сознавал, что, стоя во главе Израиля, он выполняет миссию, возложенную на него Ягве 472).
Главным препятствием, которое нужно было преодолеть на пути в Западную Палестину, являлся Иерихон. Его циклопические стены возвышались среди пальмовых рощ в двух часах пути от Иордана. Не было никакой надежды миновать его без боя.
Иошуа колебался недолго. И в один прекрасный день по его сигналу был поднят Ковчег, свернуты палатки, и израильтяне двинулись на запад, к берегам Иордана.
Боевые песни отразили дух тех лет, когда совершался этот удивительный поход:
Хананеи трепещут,
Напал на них страх и ужас,
Могуществом руки Твоей
Да онемеют они, как камни,
Доколе не пройдет мимо них народ твой, Ягве,
Доколе не пройдет народ, созданный Тобою...
Море видело и побежало,
Иордан отступил в страхе,
Горы прыгали, как козы,
И холмы, как резвые ягнята.
Что с тобою, море, что ты побежало?
Что с тобою, Иордан, что отступаешь в страхе?
Перед лицом Ягве трепещет земля,
Перед лицом Бога Иаковлева! 473).
245
Исход из Египта переживался Израилем как цепь чудес, точно так же и это вступление в Обетованную Землю запечатлелось в памяти народа в виде сверхъестественной эпопеи, происходившей при явном вмешательстве таинственных сил. Действительно, какие-то стихийные явления, очевидно, способствовали стремительному натиску отрядов Израиля. Это был район землетрясений, и камни, как это бывает в тех местах, перекрыли течение реки. Ковчег Владыки Синая посуху был перенесен на правобережье 474).
Лагерь разбили уже в виду Иерихона. Жители города могли видеть костры в долине и готовились к отпору... Это происходило в то самое время, когда ахейцы осаждали Трою.
До сих пор остается загадкой, как мог пасть столь надежно укрепленный город. В Библии сохранилось поэтическое сказание о том, как стены его рухнули от звуков израильских труб. Возможно, здесь, так же как и на Иордане, произошло землетрясение, открывшее внезапно брешь в стене 475). Легко представить себе то впечатление, которое должен был произвести подземный толчок, расколовший стену как раз в момент приближения Израиля...
События разворачивались быстро, триумфальный марш Ковчега продолжался. Центральное области не оказывали сопротивления. В Сихеме, очевидно, обитали евреи, которых Библия, в противоположность пришельцам, называет «природными жителями» 476). Возможно, это были те эфраимиты, которые проникли в Ханаан еще при Эхнатоне или раньше. Здесь Иошуа, сам принадлежавший к колену Эфраима, устроил свою резиденцию и отсюда предпринял большой поход далеко на север, где готовилась к наступлению коалиция ханаанских царей. Этот большой поход кончился победоносно.
Войны, которые вел Иошуа, представлялись в то время израильтянам войнами самого Ягве 477). Их воображение, вероятно, рисовало грозного Бога святой горы, покидающего свой гранитный престол на Синае и в окружении небесных воинств несущегося на херувимах в огненном вихре. Им казалось, что звезды низвергаются с небосклона, чтобы вступить в бой с их врагами. Легенды повествуют о каменном граде, побившем аморитов, а в одной старинной песне говорится, что Иошуа заклял солнце и луну над Гаваоном, чтобы они стали его союзниками 478).
Весьма знаменательно, что археологи обнаруживают в слоях этой эпохи разбитых идолов. Очевидно, сыны пустыни, подобно фанатическим последователям Ислама, истребляли языческие капища и уничтожали изображения богов.
* * *
Сказания Библии содержат много очень древних источников о завоевании Ханаана, однако библейский редактор представил дело так, что кажется, будто за короткое время была завоевана вся страна 479). Между тем в других древних частях Св. Писания мы
246
находим совершенно иную картину 480). Израильтяне захватили лишь несколько крупных центров и предпочитали овладевать свободными территориями. Одни колена осели в Заиорданье и не последовали на запад. Другие обосновались на севере, близ Геннисаретского озера, и были отрезаны от собратьев цепью ханаанских городов. Колено Эфраима в центре страны также было окружено крепостями туземцев. А колено Иуды укрепилось в суровых горных областях; оно было более всего обособлено. Среди пустынь и скал в маленьких долинах иудеи легче могли оказывать сопротивление. Между тем северяне быстро переходили к земледелию и мирной жизни бок о бок с хананеями. Язык у них был сходный, это способствовало развитию контактов. Смешанные браки случались все чаще. Через каких-нибудь сто пятьдесят лет обе народности полностью слились 481).
Следует заметить, что с самого начала Израиль складывался из множества племен. В его состав влились египтяне, бежавшие во времена Моисея вместе с евреями, часть синайских мадианитов, племя Калеба и несколько мелких кланов, обитавших между Синаем и Сирией. После вторжения в Израиль влились те евреи, которые жили в Ханаане прежде, и, наконец, сами хананеи. Однако ядром народа, носителем его духовной традиции были именно те, кто пришел с юга под водительством Моисея. С годами весь народ отождествил себя с этой группой пришельцев и ее религиозным и национальным самосознанием 482).
Тем не менее какое-то существенное различие в традициях Севера и Юга осталось навсегда. Сейчас трудно установить, в чем коренился этот антагонизм. Но, как мы увидим, он был настолько силен, что уже после создания единого еврейского царства привел к разделению его на Израиль и Иудею.
Есть основания полагать, что Эфраим и прочие северные колена подверглись большему влиянию соседей, чем Иуда, отгороженный от Севера горами 483).
* * *
Изоляция израильских племен постепенно делала свое дело. Пока был жив Иошуа, он еще как-то поддерживал видимость духовного единства. По его призыву кланы собирались в Сихеме, где приносились жертвы и обеты. Иошуа заклинал народ сохранять верность Ягве, грозил небесным гневом в случае отступничества. В Сихеме был установлен огромный камень-памятник в знак подтверждения Завета. Ковчег находился неподалеку в городе Шило (Силом) на горах Эфраима. Но когда Иошуа умер, центробежные силы возобладали. Каждое колено постепенно замыкалось в тесном кругу своих местных интересов. Паломничества в Сихем и Силом были для многих трудными и опасными. К 1125 году единого Израиля уже не существовало. Страна представляла в то время своеобразную картину. Ее раздробленность достигла своего апогея. Не было крепости, горы, равнины, которые не были бы заняты каким-нибудь
247
отдельным племенем, кланом, народностью. Иерусалим был населен иудеями, а его Сионская цитадель оставалась во владениях хананеев. Некоторые колена, не сумевшие захватить собственной земли, бродили по дорогам воинственными ордами, угрожая жителям городов и сел.
Более слабый сосед платил дань более сильному, и нередко роли менялись. Был момент, когда царства Моава и Эдома пытались распространить свою власть на Палестину. Израильтяне выступали против них разрозненными группами. Колена или союзы колен возглавляли шофеты, или судьи, религиозные вожди-харизматики, которые действовали как посланники Ягве*. Но им почти никогда не удавалось сплотить народ воедино. Описывая эту смутную эпоху, библейский летописец с горечью замечает: «В те дни не было царя у Израиля: каждый делал то, что казалось ему справедливым».
Позднейшие предания рисуют судей как правителей всего народа, передававших друг другу власть. Но на самом деле никакой строгой преемственности и тем более общей власти над Израилем у судей не было. Они выдвигались в годину бедствия как люди, способные поднять народ на борьбу, а в мирное время лишь иногда сохраняли свой авторитет у некоторых колен. Но что действительно связывало эту плеяду — это их преданность религии предков. Судьи выступают как вестники Господни, как люди, вдохновленные Богом на борьбу за свободу и независимость народа. Один из древнейших памятников, дошедших до нас от времени судей, — «Песня Деворы» — повествует о том, как перед лицом военной опасности прорицательница Девора — «Мать Израиля» — бросила клич и призвала колена объединиться для отпора завоевателям, шедшим с севера 484).
В этой древней воинственной песне кипят первобытные страсти и боевой пыл сынов пустыни. В ней мы снова видим образ того Бога, который вел Израиль по Синаю. Это грозный и суровый Властитель, от Его поступи содрогаются утесы; Он ведет своих людей в битвы ради того, чтобы очистить языческую страну для своих приверженцев. В песне прославляются колена, пришедшие на выручку друг другу, и проклинаются те, которые остались в стороне. Здесь, как во времена Моисея и Иошуа, идея религиозная сплетается с идеей единства народа. Израиль должен быть предан своему Господу, сплотиться и ударить по своим врагам, которые, будучи идолопоклонниками, суть враги Божии.
Девора рисует плачевное состояние народа в момент нападения врага: поля заброшены, повсюду рыщут разбойники, у Израиля нет «ни копья, ни щита», очевидно, ремесла и торговля пришли в полный упадок. Но вот появляется вдохновенная пророчица Ягве, и под ее
* Термин «харизматик» (от греч. «харисма» — благодать, высший небесный дар) введен в употребление социологом Максом Вебером. Им он обозначал вождей, действующих по вдохновению свыше.
248
водительством Израиль разбивает врага. Эта победа рассматривается как победа «Воинства Господня», звезд небесных:
Так да погибнут все враги Твои, Ягве! Любящие же Тебя подобны солнцу, Восходящему в блеске своем!
* * *
Итак, обетование, данное Аврааму, исполнилось. Земля, которой так долго владели египтяне и хетты, теперь стала землей Израиля. Но главные трудности были впереди. Соединившись с хананеями фактически в один народ, израильтяне — вчерашние кочевники — волей-неволей стали воспринимать цивилизацию туземцев, а вместе с ней и их верования. Таким образом, подобно арьям в Индии, победители едва не оказались в положении побежденных.
249
Глава двадцать первая
БОГ ИЗРАИЛЕВ И ВААЛЫ
Палестина, 1125—1025 гг.
Когда Израиль был юн, Я любил его
И из Египта воззвал сына Моего.
Звали их, а они уходили прочь,
Приносили жертвы Ваалам, кмдали
Истуканам.
Пророк Осия 11, 1-2*
Израильтяне довольно легко освоили земледелие. Им не был свойствен упорный кочевой инстинкт, отличавший некоторые народы. И в Паддан-Араме, и в Египте, и в Кадеше они вели полуоседлый образ жизни, время от времени обрабатывая и засевая небольшие участки земли. Поэтому укрепление их на Земле Обетованной совершалось сравнительно быстро и безболезненно. Однако эта перемена образа жизни не могла не сопровождаться резкой духовной ломкой. Облик Израиля стал постепенно меняться. Во-первых, от воинственности пришельцев не осталось и следа. Для кочевника война — это родная стихия. Он жаждет добычи и грабежа, ему почти нечего терять, он бездомен и подвижен, и все его имущество с ним. Иное дело — земледелец, который знает, что война означает для него разорение и голод.
Переход к оседлости принес большие религиозные испытания израильтянину. Если прежде он был свободным сыном пустыни, воинственным поклонником сурового Синайского Бога, требующего верности и правды, то теперь его благополучие и сама жизнь оказались в зависимости от капризов климата, от засух и дождей, от
* См. церковнослав. текст.
250
урожайности нив и виноградников и, следовательно, от богов, которые являлись хозяевами земли.
Крестьянин (евреи стали крестьянами), как правило, по натуре своей язычник. Он гораздо больше, чем кочевник, связан с природными циклами, он чуток ко всем проявлениям стихийной жизни, он сливается с ее ритмами, любит ее, благоговеет перед ней. Он не может обойтись без магии и волшебства, ибо они — важное средство в его хозяйстве. Приметы для него — закон, заклинания — его оружие, эльфы и домовые — его друзья. Для того чтобы обеспечить себе спокойное существование, нужно было только заключить союз с теми существами, которые были «хозяевами» (ваалами) оливковых садов, пшеничных и ячменных полей, виноградников и родников. Они давали хлеб, масло, вино, они следили за плодовитостью стад и охраняли их от мора.
Израильтяне всему должны были учиться у хананеев. Они знакомились не только с их искусством виноделия или строительства крепостей, но и с их пышными религиозными праздниками, наблюдали, как вереницы женщин у ворот храмов оплакивали умершего Ваала или как ликующие толпы песнями и плясками встречали весть о его возвращении из преисподней. Им объясняли, как зависит урожай от обрядов плодородия, совершаемых в честь Астарты, приводили в их дома священных блудниц, учили, как задобрить и привлечь на свою сторону могущественных Ваалов.
Старые языческие святыни привлекали к себе множество народа. Храмы Ваалов, Астарты, Гада, Анат и других богов стояли в Сихеме, Мегиддо, Бет-Шане. Совместная жизнь израильтян и хананеев быстро привела к распространению язычества среди народа Ягве. Автор Священной Истории прямо говорит: «Оставили Ягве и стали служить Ваалам и Ашерам» 485). Однако это не означало полного отпадения израильтян от своей веры. Ягве по-прежнему оставался их Богом-Покровителем. Они хорошо помнили, что именно Он вывел их из Дома рабства и привел в Землю Обетованную. Но теперь, когда вокруг оказалось так много влиятельных богов, можно ли было гневать их и отказывать им в почитании? Так возникло двоеверие, столь свойственное народам низкой культуры, воспринявшим высокую религию. В этом отношении средневековый земледелец Европы и Руси во многом напоминает ветхозаветного израильтянина. Однако в истории Израиля действовала одна особая закономерность, которая сыграла огромную роль в сохранении наследия Моисея.
Как мы видели, Израиль представлял собой не что иное, как союз племен и кланов, весьма разнородных и не связанных ничем, кроме религиозной традиции 486). Поселившись в разных частях страны, они нередко совсем теряли контакты между собой, а, следовательно, легко могли стать добычей как местных жителей, так и врагов извне. Моисей не дал союзу колен никакого политического устройства. Все его управление было основано на Завете с Богом и религиозном единении. Даже религиозный центр не был определен
251
им. После завоевания он был то в Сихеме, то в Галгале, то в Шило. С усилением же ханаанских влияний в религии ослабевало важнейшее связующее звено между коленами — общая вера.
Библейский автор рассматривает историю этого времени в свете определенной богословской схемы: Израиль грешит, отпадая от Ягве, Бог насылает на него врагов и только после покаяния дает боговдохновенного вождя-избавителя 487). Такими вождями являются «судьи».
Хотя эта схема имеет все недостатки любой схемы, но она глубоко верно отражает самую суть событий. В самом деле, ослабление религиозных уз почти всегда приводило к потере коленами политической независимости. Более того, в иных случаях это вело к полному исчезновению некоторых колен, растворявшихся в массе ханаанского населения.
С конца XII столетия участились нападения с севера и юга. Вероятно, был момент, когда Египет едва не вернул себе власть в Ханаане. А около 1100 г. надвинулась новая опасность, общая и для израильтян, и для хананеев. Из пустыни стали совершать набеги бедуинские племена. Очевидно, их прельстил пример Израиля, и они обратили свои жадные взоры на Ханаан. Однако они не собирались оседать на земле, а лишь выбирали время жатвы или стрижки овец, чтобы сделать грабительский налет и снова скрыться в пустыне. Они раскидывали свои таборы по всей стране, и никто не в силах был сопротивляться им. «Они приходили,— говорит летописец,— со скотом своим и шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча; им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле израилевой, чтобы опустошать ее» 488).
Кажется совершенно непостижимым, как уцелели израильтяне в этой обстановке непрерывных набегов и голода, разобщенные и обессиленные. И тогда-то, в дни крайнего бедствия, в стране появляются проповедники, обличающие народ в отступлении от Моисея и видящие во всех несчастьях заслуженную кару Божию 489). Это показывает, что, несмотря на сильнейшее ханаанское влияние, в израильской среде осталось здоровое ядро, люди, которые не забывали Завета, заключенного с Богом. Некоторые из них в знак протеста против тлетворного воздействия местных обычаев отказывались жить в каменных домах, не пили вина — этого продукта земледелия — и не стригли волос. Они назывались «назиреями»— посвященными Богу 490).
Вероятно, проповедь одного из таких пророков побудила к активным действиям Иероваала — сына зажиточного земледельца из Офры в горах Эфраимовых. Библия повествует о бывшем ему видении Ангела Ягве в годы, когда бедуинские орды особенно бесчинствовали.
Семья Иероваала, очевидно, была предана языческому культу, о чем свидетельствует его имя, означающее «Да хранит меня Ваал» 491). Мотивы отступничества ясно выражены в словах, которые летописец вкладывает в уста Иероваала: «Если Ягве с нами, то
252
отчего постигло нас все это, и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря: «Из Египта вывел нас Ягве? Ныне оставил нас Ягве».
Когда же Иероваал уразумел причину бедствий, он начал с того, что повел борьбу против ханаанского культа. Вместе со своими слугами он ночью подпилил священное древо Ваала и разрушил его жертвенник, за что едва не был убит жителями Офры. И лишь после этого акта Иероваал начал собирать ополчение, чтобы изгнать кочевников из страны. Многие противились его начинанию и даже насмехались над ним, но все же ему удалось сплотить значительный отряд, который под покровом ночи сумел посеять панику среди кочевников и заставить их отступить в пустыню.
Вероятно, после этого победитель получил имя Гедеон, которое означает «лихой воин», «рубака».
Гедеон был первым, кого израильтяне захотели избрать царем. Они чувствовали, что централизованная власть есть надежная защита от врагов. Однако, как гласит предание, Гедеон отказался принять титул царя. «Пусть Ягве царствует над вами»,— сказал он. Вероятно, этот отказ имел чисто религиозное основание. В Моисеевой религии полностью отсутствовало учение о светской власти.
Истинные ягвисты никогда не могли примириться с идеей монархии. Они были уверены, что Закон Божий и «судьи», которые бы судили людей по этому Закону, вполне достаточная гарантия для процветания народа.
Однако Гедеон стал фактически властителем над израильтянами, обитавшими вокруг гор Эфраима. Войны с бедуинами обогатили его. Офра стала влиятельным центром, куда люди приходили решать свои дела и тяжбы. У Гедеона был большой двор и гарем, как у настоящего восточного царя.
Таким образом, первая попытка централизации была внешне связана с ягвизмом, но ягвизм этот был уже не тем простым и возвышенным учением, которое возвещал в пустыне Моисей. Он был трансформирован и приспособлен к новым условиям жизни. Вместо Декалога в эти дни стали употреблять в качестве свода заповедей «Сефер-ха-Берит», Книгу Завета 492). Этот свод заповедей религии и морали был записан финикийским шрифтом, который к тому времени был уже общепринят в Ханаане 493).
В Книге Завета повторялся Моисеев запрет делать изображения божества и запрещалось сооружать алтари из тесаных камней, ибо прикосновение железа — изделия язычников — оскверняет первозданный камень. Далее следовали уголовные законы, в основном заимствованные из ханаанского права 494). Обрядам и жертвоприношениям отводится уже существенная роль. Выдвигается требование приносить в жертву всех первенцев человека и животных. Это — несомненное проникновение ханаанских обычаев в религию Израиля. Впрочем, человеческие жертвы никогда практически не совершались в честь Бога Израилева и посвящение первенцев мужского пола Богу было лишь символическим обрядом 495).
253
В Книге Завета есть следы и первобытных табу, и элементы варварских законодательств, и примитивные правила судопроизводства 496). Но все это не может заслонить возвещаемую в ней истину, что Ягве есть Бог правды и справедливости. Это особенно ясно выступает в этической части Книги Завета. Она требует милосердия к вдове, сироте, бедняку. «Пришельца не притесняй и не угнетай его,— говорится в ней, — ибо вы сами были пришельцами в земле египетской... Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды... Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему». Заповеди предписывают отпускать раба на седьмой год на свободу, оставлять на седьмой год поля, сады и виноградники для неимущих, осуждают взяточничество 497).
Это чрезвычайно важное свидетельство того, что дух этического монотеизма оказался устойчивым, будучи даже облечен в ханаанские одежды.
Ковчег в правление Гедеона находился в городе Шило. Так как идея единого религиозного центра угасла, не успев зародиться, то Гедеон решил соорудить святилище Ягве в Офре. Из драгоценных металлов, составлявших его военные трофеи, он приказал соорудить Эфод — священный талисман, при помощи которого узнавали волю Бога.
Неизвестно, как выглядела эта реликвия, но она, очевидно, играла роль своеобразного оракула. В «вопрошании» участвовали два предмета, называвшиеся Урим и Ту мим. Один из них означал отрицательный ответ, другой — положительный 498). Итак, времена, когда Бог говорил через Своего пророка, ушли в область предания, а в употребление вошел механический оракул, приводимый в действие левитом. Это примитивное гадание со времени Гедеона надолго закрепилось в религиозной практике Израиля. Эфоды сооружались и в других местах, обычно частными лицами. Из-за них порой происходили столкновения. Так, однажды племя данитов во время переселения захватило Эфод, принадлежавший эфраимиту Михе, и увезло левита, служившего при нем 499). Библия свидетельствует, что рядом с Эфодом нередко ставили Терафима — домашнего божка, вопреки заповедям Декалога и Книги Завета 500). Позднейший священный автор сурово осуждает Гедеона за введение Эфода, однако во времена судей никто не считал его поступок предосудительным. Все, что говорится в Библии об Эфоде, показывает, что, в сущности, он мало чем отличался от аналогичных оракулов Вавилона, Египта и Греции 501).
Итак, две силы: Моисеева вера и ханаанский натуралистический культ — вели глухое единоборство. Несомненно, религия Ваала обладала всеми внешними преимуществами поклонения Природе: она имела красочные мифы, она благословляла все естественные проявления жизни и человеческой плоти, она соблюдала древние обряды, производившие глубокое впечатление, и, наконец, она была неотделима от земледелия — основы жизни Израиля. Это был опасный
254
соперник, который гораздо больше импонировал древнему человеку, чем суровая и требовательная вера Моисея. Даже тогда, когда ягвизм торжествовал над культом ханаанских богов, он сам принижался настолько, что становился как бы двойником религии Ваала. Это была еще более коварная, скрытая опасность, подобная болезни, поражающей изнутри.
* * *
Неизвестно, как бы пошла духовная история Израиля, если бы не новое потрясение, которое всколыхнуло все колена.
Появились еще одни претенденты на «землю, текущую молоком и медом», и на этот раз не сравнимые ни с кем из обитателей Ханаана по силе. Это были филистимляне, которые пришли на сирийское побережье почти в одно время с Израилем. В союзе с другими «народами моря» они нападали на Египет, и фараоны с трудом отбивали их натиск. Филистимляне имели опорную базу на Крите. Оттуда они переселились в Ханаан, где основали союз пяти городов (Газы, Аскалона, Азота, Гефа, Экрона). От них и сама местность получила название Палестины 502).
Филистимляне были воинственным и энергичным племенем, уже хорошо владевшим обработкой железа. Они занимались морским промыслом и пиратством. Очень скоро они восприняли обычаи, язык и верования хананеев.
Побережье из-за отсутствия удобных бухт не могло удовлетворить завоевателей, которые имели большой военный опыт и прекрасное вооружение. Перед ними лежала страна раздробленная и неспособная защищаться. Поэтому около 1080 г. они начали решительное наступление на восток, тесня как израильские, так и хананейские племена.
Кто мог остановить эту волну? Вооруженные чем попало крестьяне разбегались, едва заслышав грохот боевых колесниц и завидев пернатые шлемы. Филистимляне обложили данью почти весь Ханаан, и покоренным оставалось лишь вести партизанскую войну, неожиданно нападая на филистимские отряды или поджигая их посевы. О том, насколько неравной была эта борьба, свидетельствует легенда о библейском богатыре Самсоне, который дрался с филистимлянами, вооруженный лишь ослиной челюстью 503).
Наследники Гедеона в Офре не сумели продолжить дело отца. Все они погибли в междоусобной борьбе за престолонаследие. Последнюю попытку оказать отпор врагу предприняли левиты из Шило — хранители Ковчега Завета.
Позднейшее предание считает левитов коленом, которое обладало исключительным правом священнодействия. Но, как известно, это правило никогда не соблюдалось в древности 504). До сих пор неясно, были ли левиты когда-нибудь «светским» кланом или они являлись чем-то вроде сакральной касты священнослужителей. У мадианитян жрецы назывались «лавиу» 505). Возможно, Моисей
255
употреблял это слово для своих ближайших помощников. Быть может, было и светское колено Леви, впоследствии отождествленное с Моисеевыми левитами. Так или иначе, но в эпоху вторжения филистимлян в городе Шило жили левиты, носившие египетские имена (Финеес, Офни) и ведшие свой род от самого Моисея. Возглавлял это семейство старый священник Илий.
Левиты Силома, понимая необходимость поднять народный дух в годину бедствия, решили восстановить старую традицию — несение Ковчега перед войском 506).
Но при первой же стычке оказалось, что попытка левитов — безнадежное дело. Хотя Ковчег был встречен взрывом энтузиазма, но воодушевления хватило ненадолго. Когда колесницы филистимлян ринулись на толпу, сгрудившуюся вокруг древней святыни, всех обуял страх и израильтяне в панике отступили. Ковчег оказался в руках врагов, которые ликовали, думая, что пленили самого «Бога евреев».
Престарелый Илий, в тревоге ожидавший известий с поля боя, был потрясен сообщением, которое принес ему воин, и скоропостижно умер.
С этого времени господство филистимлян стало прочным и окончательным. По городам были расставлены вражеские гарнизоны, и повсюду хозяйничали сборщики дани. Переживавший глубокий духовный кризис Израиль оказался теперь лишенным и политической независимости.
* * *
Все эти события послужили как бы внешним толчком, способствовавшим возникновению нового религиозного движения, которое носило довольно странные формы, но благодаря которому Израиль вышел из состояния упадка и духовного умирания.
Последователей этого движения называли Бене-ха-Небиим — Сынами пророческими. Слово «наби» означало вестника Божьей воли 507). Но если раньше ясновидцы и прорицатели выступали как одинокие посланцы Неба, то теперь новые пророки собирались толпами на богослужения, ходили по дорогам страны, распевая боевые псалмы и призывая народ к верности Богу отцов. Прорицатели нередко приходили в состояние исступления или экстаза; их энтузиазм легко передавался окружающим. Зачастую, стоило им где-нибудь появиться, как к ним присоединялись все, даже случайные прохожие, увлеченные бешеным ритмом их пляски, завороженные свистом флейт и ритмичными ударами бубнов 508).
Подобные общины не были чем-то неслыханным. Во многих странах того времени существовали прорицатели, похожие внешне на Бене-ха-Небиим. У семитических народов: арабов, арамеев, финикийцев, аморитов — издавна известны такие ясновидцы, которые приводили себя в состояние экстаза и, охваченные таинственным вдохновением, говорили от лица Божества. В Библии мы встречаем-
256
ся с таким языческим пророком в лице Билеама (Валаама) Месопотамского. Там он назван «человеком с открытыми очами, который слышит слово Божие и видит видения Всемогущего» 509).
В архивах города Мари на Евфрате, относящихся к XVIII в. до н. э., есть упоминание о пророке Адада — бога-громовержца. Ветхий Завет знает «пророков» Ваала и описывает их неистовые ритуальные пляски и самоистязания. В записках египетского жреца Унуамона (X в. до н. э.) говорится о финикийском жреце, на которого «сошло божество» и осенило его священным вдохновением. О существовании института прорицателей в арамейских землях свидетельствует надпись Хаматского царя Закира (VIII в. до н. э.) 510). Есть точки соприкосновения между этим семитическим экстатизмом и греческими мистиками, особенно с религией Диониса.
Но каковы бы ни были проявления этого религиозного движения в странах древности, они, несомненно, есть лишь видоизменения доисторического шаманизма. Мы видели, что шаманизм невозможно считать просто лишь формой суеверия, что в сущности своей он есть одна из попыток человека проникнуть в тайны духовного мира 511). Существовало много разнообразных и тщательно разработанных методов, путей и способов, которые применялись ясновидцами для того, чтобы возвысить свой дух до созерцания Божественного.
Особенностью экстатической практики Сынов пророческих было то, что они искали мистического озарения в массовых коллективных действах. В этом отношении они, по словам В. Олбрайта, приближаются к мусульманским дервишам, хасидам иудаизма и таким протестантским движениям, как квакеры, методисты и пятидесятники.
«Массовые действа, — говорит Олбрайт, — не являются существенными в мистическом опыте современного человека, так как он предпочитает длинный путь особых аскетических упражнений как в индийской йоге, или в близком к ней исихазме византийских монахов, или через сосредоточение и молитву христианских мистиков средневековья и нового времени. Однако невозможно отрицать того, что результат достигается легче и быстрее, когда отдельные члены группы вовлекаются в общее действо» 512).
Разумеется, во всем этом групповом экстатическом мистицизме было много опасного, болезненного и отталкивающего. Это как бы конвульсии духа, пытающегося силой разорвать сковывающие его путы. И, возможно, от этих страстных усилий узлы лишь затягиваются. Тем не менее мы увидим, как из уродливой руды сирийского шаманизма выплавится сверкающий металл библейского профетизма. «В еврейской истории и религии все необычайно, — говорит Б. Tÿpaeв. — Подобно тому как религия Иеговы, очистившись от ханаанства, сделалась наиболее высокой верой в единого Бога, так и из этих вещателей уже в X веке выделились могучие личности, сделавшиеся духовными вождями народа и религиозными индивидуалистами, причем момент экстаза отступает, а то и совсем незаметен» 513).
257
Израильские Бене-ха-Небиим выросли из семитического экстатизма, который стал для них подготовительной психологической почвой для восприятия высшей духовной реальности. Подобно тому как в Индии практика йогического самоуглубления культивировалась поколениями в веках, так и в сиро-аравийском мире постепенно возрастала субъективная способность к ясновидческому озарению. Но сама по себе эта способность не могла бы породить ничего ценного, если бы темное лоно исступленной души не озарилось бы светом Откровения. Именно этот свет преобразил движение Сынов пророческих и не только возвысил его над древним шаманизмом, но и поставил во главе всех религиозных движений дохристианского человечества.
* * *
Сыны пророческие выступили как продолжатели Моисеевой традиции. Несомненно, в их среде сохранялось устное предание об Исходе и Синайском Завете, которое легло в основу Священной Истории. Они складывали псалмы и гимны и пели их на дорогах и на священных холмах. В этих псалмах прославлялся Ягве — Бог бури и грома, Ягве — избавитель своего народа. Это была вдохновенная, красочная эпическая поэзия, которая на первых порах развивалась под влиянием ханаанской.
Воздайте Ягве, сыны Божии,
Воздайте Ягве славу и честь,
Воздайте имени Ягве славу,
Поклонитесь Ягве во святилище Его!
Голос Ягве над водами,
Бог славы возгремел.
Ягве над водами великими,
Голос Ягве могуч,
Голос Ягве величав,
Голос Ягве сокрушает кедры.
Ягве сокрушает кедры Ливана,
Он заставляет Ливан скакать, как тельца, И Сирион, как молодого буйвола.
Голос Ягве высекает языки огня,
Голос Ягве потрясает пустыню,
Ягве сотрясает пустыню Кадес,
Голос Ягве сгибает дубы и обнажает леса...
Ягве воссел над потопом,
Ягве восседает царем во веки! 514).
Бог Израиля, как он открылся взору Сынов пророческих, был всемогущ и космичен, подобно Верховному Богу всех народов. Но в то же время Он не безличен и не абстрактен. Он близок к человеку, хотя Его слава может опалить смертного. Он управляет миром, и события, совершающиеся в жизни людей, есть проявления Его воли.
Ягве поклялся Аврааму, что благословит его потомство, и
258
Он не отменит своей клятвы. Он будет верен своему Божественному Слову, но ждет, чтобы народ, избранный для Его свершений, также был верен Его Завету. «Будете Моим уделом... — говорит Бог, — будете у Меня царством священников и народом святым».
Сыны пророческие положили много сил на то, чтобы сплотить израильские колена. Они укрепили волю к борьбе, подобно Деворе, взывая к чувству религиозного единства народа. Две поэмы, появившиеся в то время: «Благословение Иакова» и «Благословение Моисея», — посвящены братству всех колен, скрепленных Заветом 515).
Мы очень мало знаем о деятельности Сынов пророческих и о людях, которые возглавляли их движение. Предание связывает с ними фигуру последнего крупного еврейского вождя эпохи Судей — Самуила. В одном месте Библия даже прямо изображает его руководителем общины пророков 516).
Однако сам он был выходцем из других кругов и человеком иного склада. Мы никогда не видим его впадающим в восторженное состояние или экстаз. Это трезвый, дальновидный человек с характером непреклонным и властным. Он был воспитанником левитской семьи из Силома и с детства служил при Ковчеге. Там он проводил ночи у святыни Ягве и был призван стать служителем Бога и народа 517). Именно такой человек нужен был Израилю в эту трудную годину.
Неизвестно, что делал Самуил после смерти Илия и пленения Ковчега. Когда филистимляне, руководимые суеверным страхом, вернули Ковчег, он оказался в частных руках, но Самуил уже не служил больше при нем. Много лет спустя мы видим Самуила уже человеком преклонного возраста, он живет в городе Раме, пользуясь славой роэ, т. е. ясновидца. К нему приходят за советами в житейских делах, с просьбами разрешить тяжбы и спорные вопросы 518).
Самуил, несомненно, считал своей главной задачей духовное сплочение израильтян. В этом он, очевидно, и получил поддержку Сынов пророческих, которые своим энтузиазмом, воинственными псалмами и музыкой поднимали народ на борьбу с филистимлянами. Подобно монахам, проповедовавшим крестовый поход, эти библейские «армии спасения» оказались внушительной моральной силой, и на нее опирались люди более уравновешенные и трезвые. В результате совместных действий Самуила и Бене-ха-Небиим удавалось устраивать торжественные богослужения, на которых присутствовали представители разных колен. Иногда Самуил совершал продолжительные путешествия по городам Израиля, повсюду ведя настойчивую проповедь покаяния и духовного возрождения.
Согласно одному преданию, ясновидец добился даже общенародного раскаяния и клятвы покончить с языческими богами. Идолы были выброшены, и с того времени «Сыны Израилевы стали служить одному Ягве» 519). Центром этого движения стали
259
города Рама и Мицпа (Массифа) в области Вениаминова колена, где Самуил пользовался наибольшим влиянием.
Филистимляне были достаточно хорошо осведомлены о деятельности Самуила и о собраниях старейшин Израиля. Они решили подавить мятеж в зародыше, но неожиданно встретили такое сопротивление, что принуждены были поспешно отступить. Однако это была лишь отсрочка. Убедившись, что израильтяне начинают серьезную борьбу, филистимляне стали готовить большой карательный поход для усмирения данников.
Вероятно, ввиду надвигавшейся угрозы старейшины впервые подняли перед Самуилом вопрос о необходимости избрать царя. В ту эпоху в Ханаане царь в первую очередь являлся военачальником с пожизненной властью. Самуил был стариком и человеком невоенным. Сыновья его, претендовавшие на власть, были непопулярны. Старейшины настаивали, однако, чтобы именно Самуил выбрал правителя Израилю. «Поставь над нами царя, чтобы он судил нас, как у прочих народов» 520).
Предание по-разному изображает отношение Самуила к этой задаче. В одном рассказе говорится, что пророк усмотрел в требовании избрать царя измену Ягве и в мрачных красках изобразил монархический образ правления. Но в другом месте мы видим, что Самуил без колебаний помазывает на царство молодого вениамита Саула 521).
Некоторые критики хотят видеть в обоих рассказах отражение разных эпох. Между тем они отражают острый конфликт между светской властью и религией Моисея, который существовал еще до Самуила.
260
Глава двадцать вторая
ТЕОКРАТИЧЕСКОЕ ЦАРСТВО. СИОНСКИЙ ЗАВЕТ
Палестина, 1020—950 гг.
Будет непоколебим дом твой
и царство твое на веки
пред лицом Моим,
и престол твой устоит во веки.
Пророчество Нафана
«В Священном Писании, — писал Н. Бердяев, — нет оснований для религиозно-мистической концепции самодержавной монархии и есть много убийственного для этой концепции» 522). Действительно, вся Библия проникнута духом протеста против автократии. От Моисея до Эздры политическим идеалом религиозных учителей Израиля оставался свободный союз верных, для которых единственным авторитетом является Закон Божий. Это была, если употребить слово, введенное Иосифом Флавием, теократия, но теократия не в смысле правления духовенства, а в смысле подлинного Боговластия 523). Священники Ветхого Завета не были могущественной политической силой, подобной касте жрецов Амона. Они приобрели влияние на государственный строй лишь после плена, в V в. В истинной теократии царем был Ягве, и его заповеди были равно обязательны как для простых крестьян и горожан, так и для нагизим — предводителей, вождей, царей. В теократическом правлении, основанном Моисеем, уже находились зародыши религиозной Общины, Ветхозаветной Церкви и одновременно такого общества, которое построено не на произволе монарха, а на конституции и законе.
В этом отношении Библия резко противостоит почти всему древнему Востоку 524). Египетское самодержавие, как мы видели, покоилось на мифе о царях-магах, о воплощенных на земле богах.
261
Фараон был божественным существом, которому подвластны стихии. С этим взглядом не мог порвать даже такой смелый человек, как Эхнатон.
Двуречье обожествило власть со времен Нарамсина, но даже шумеры, не знавшие абсолютизма, верили, что «царская власть спустилась с небес». Монарх рассматривался в первую очередь не как правитель, а как сверхчеловек. Цари Мемфиса, Аккада, Крита были в глазах народа чудотворцами, от которых зависели дождь, урожай, атмосфера.
В Ветхом же Завете монархия приемлется лишь как терпимое зло, как несовершенное установление, порожденное грехами и слабостью людей. Она допускается для того, чтобы народ Божий, который не смог осуществить свободной теократии, не погиб от руки врагов, обессиленный раздорами. Действительно, еще «Песнь Деворы» показывает, что религиозный Завет оказался слишком слабым объединяющим началом для израильских колен. Возникла нужда в «сильной руке», в светской власти. В Библии Бог говорит Самуилу: «Не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтобы Я не царствовал над ними» 525). И тем не менее Ягве благословляет избрание царя ввиду несовершенства и слабости народа. Самуил, объявляя об этом, открыто говорит о тяжком бремени, которое отныне ляжет на плечи Израиля.
Даже если признать, что это предание было записано уже в царскую эпоху под впечатлением тех бедствий, которые принесли цари, следует сказать, что антимонархическая тенденция была старой тенденцией у израильтян 526).
Еще в те времена, когда шла борьба между наследниками Гедеона, в народе получила хождение притча о терновнике. В ней рассказывается, как деревья выбирали себе царя. Ни одно благородное растение, ни маслина, ни виноградник не согласились оставить свое природное место и дело; только колючий терновник согласился принять корону. «Идите, покойтесь под тенью моей, — надменно сказал он, — если же нет — то выйдет огонь из терновника и сожжет кедры ливанские!» Смысл притчи прозрачен. Только негодные и надменные люди приходят к власти, а прок от их царствования такой же, как тень от терновника в палящий полдень 527).
Если за два-три поколения до Самуила уже существовали такие представления о царской власти, то нет ничего удивительного в том, что он противился желанию старейшин избрать царя. Кстати, и отказ Гедеона принять царский титул был бы немыслим без существования в Израиле сильного антимонархического течения.
Политическая обстановка, угроза филистимского нашествия — все это, несомненно, повлияло на Самуила и примирило его в конце концов с необходимостью избрать царя. Однако он хотел, чтобы кан-
262
дидат был выдвинут им самим. Однажды, когда к нему за советом пришел молодой крестьянин Саул из колена Вениаминова, он принял решение поставить именно его в качестве «предводителя народа» 528). После беседы с юношей Самуил возвестил ему волю Ягве, но тот пришел в полное смущение. Нелюдимый, застенчивый, отличавшийся странным порывистым характером, Саул ужаснулся одной мысли, что Бог ставит его вождем. Тогда Самуил послал его в общину Бенеха-Небиим для того, чтобы вселить в него мужество и веру в то, что он посвящен делу Божию. «Сойдет на тебя дух Ягве, — говорил Самуил, — и ты станешь прорицать вместе с ними, и ты станешь другим человеком» 529).
Саул в точности исполнил повеление провидца. Вернувшись в родной город Гиву, он встретился с Сынами пророческими, и вскоре горожане с изумлением увидели, что сын почтенного землевладельца охвачен исступлением, подобно бродячим пророкам.
Из этого библейского рассказа следует, что чаша священного елея, которую Самуил вылил на голову Саула, оказалась недостаточной для «помазания на царство». Саул должен был стать вдохновенным прорицателем, прежде чем возглавить народ для борьбы. Таким образом, «Саул, подобно судьям, бывшим до него, возвысился старинным путем, как харизматический герой» 530).
Самуил воспользовался народным собранием, которое по его почину происходило в Мицпе, и предложил провозгласить Саула царем. Саул, однако, вновь пришел в смятение и спрятался. Когда его вывели перед всеми и народ увидел его мужественную красоту и огромный рост — раздались восторженные крики: «Да здравствует царь!»
И все же собрание кончилось ничем. Саул должен был показать свою силу, доказать, что он действительно избранник Ягве. Без этого люди, привыкшие покоряться только духовному авторитету, не могли принять Саула. «Ему ли спасать нас?» — насмешливо говорили некоторые, глядя на молодого крестьянина.
Саул тем временем вернулся в Гиву к своим привычным занятиям. Но все происшедшее глубоко запало ему в душу. Он, очевидно, осознал, что призван стать избавителем Израиля, и ждал только случая явить свою силу.
Случай представился очень скоро. Заиорданский город Ябеш (Явис) был осажден амонитским царем. Пользуясь тем, что филистимляне угнетали Израиль с запада, он стал предпринимать враждебные действия на востоке страны. Амонитяне обещали пощадить жителей Ябеша только при условии, что все они дадут выколоть себе правый глаз. Осажденные послали гонцов с просьбой о помощи. Но никто не торопился на выручку. Весть о бедствии Ябеша и бесчувствии израильтян к горю братьев дошла до Саула. В это время он возвращался с поля, ведя своих волов. Выслушав гонцов, он пришел в ярость и неистовство, «Дух Божий сошел на Саула», — говорит летописец; он заколол на месте своих волов и, разрезав на части, дал куски кровавого мяса послам. Эти куски мяса он велел
263
нести спешно по городам как боевой призыв: «Так будет поступлено с волами тех, кто не пойдет за Саулом и Самуилом!»
Угроза возымела действие. К царю собралось значительное ополчение; ему удалось быстрым маршем достичь Ябеша и нанести поражение амонитянам. Этот первый успех показал всем, что Саул может быть настоящим царем-воином, в котором так нуждался Израиль.
Второе собрание народа прошло уже без протестов. Избрание Саула получило общее признание. Однако Самуил, как повествует Библия, предупредил всех израильтян, что они могут надеяться на благополучие только в том случае, если будут по-прежнему видеть в Ягве своего высшего царя и чтить Его Завет. «Если же вы будете делать зло — то и вы, и царь ваш погибнете» 531).
Иными словами, царь был уравнен перед Богом со всеми Его подданными. Он не бог и не маг, управляющий атмосферой, а простой человек, который так же ответствен перед совестью и Законом, как и любой израильтянин. Ему дана харизма быть нагидом — предводителем Народа Божия в его сражениях, он должен вершить суд. И этим его роль и ограничивается. «Помазание» есть как бы назначение его управителем «наследия Ягве», но отнюдь не возводит его в ранг высшего существа.
Первые годы принесли Саулу быстрые успехи. Ему во всем помогал сын Ионафан — одна из самых привлекательных личностей Ветхого Завета. Это он дал сигнал к восстанию, разбив со своей дружиной филистимский гарнизон в Гиве, он совершил героическое нападение на вражескую армию в окрестных горах.
Повсюду звучали боевые трубы, люди, готовые сражаться, стекались в Гиву. Под большим тамариском, держа в руках неразлучное копье, сидел Саул, принимая ополченцев. Никакого опыта в военном деле он не имел; уже будучи царем, он по-прежнему оставался крестьянином с узким кругозором и деревенскими привычками. Но на первых порах душевный подъем подавлял все его слабости. Он делал отчаянные вылазки и не раз обращал в бегство филистимлян.
Но у него не было ни хорошего оружия, ни настоящей столицы, ни людей, пригодных занимать административные должности. Хуже всего было то, что сам царь постепенно стал чувствовать свою неполноценность. Вспыльчивый и наивный, склонный к суевериям и беспричинным тревогам, он легко бросался из одной крайности в другую. Он не сумел сохранить дружбу с Самуилом, и между ними произошел разрыв. Причина его крылась, по-видимому, в антипатии Самуила к царской власти вообще и в его подозрениях относительно Саула. Старому пророку казалось, что царь стремится присвоить себе религиозные санкции. Так, однажды между ними произошла размолвка из-за того, что Саул принес жертву в отсутствие Самуила.
В конце концов Самуил полностью порвал с царем и удалился в свой город Раму, где и жил до самой смерти, не встречаясь с
264
Саулом. Крестный отец еврейской монархии, он своими руками фактически развенчал «помазанника». После этого разрыва Саул стал страдать припадками тяжелой душевной болезни. Он терзался тем, что Ягве оставил его, болезненно воспринимал любой, даже мнимый, намек на свое недостоинство, на несоответствие званию царя. Иногда его страхи доходили до границ безумия. Современники приписывали это воздействию злого духа. Только музыка успокаивала больного.
В это самое время в доме Саула появился Давид, человек, которому суждено будет сменить его на троне и совершить переворот во всей истории Израиля.
* * *
В ветхозаветной религии Давиду принадлежит особое место, хотя он не был ни пророком, ни учителем веры. Он — основатель Иерусалима как духовного центра Израиля, он — великий религиозный поэт-псалмопевец, его имя связано с зарождением библейского мессианизма, составляющего самую суть Священной Истории.
Однако следует помнить, что есть два Давида — Давид легенды и Давид истории, и они сильно отличаются друг от друга. Легенда, приписывая Давиду всю Книгу Псалмов, превратила его в мистика-индивидуалиста и чуть ли не в христианского святого. Ополчаясь против этой легенды, некоторые увлекающиеся критики готовы были изображать Давида бесчестным разбойником и свирепым язычником 532).
Давид истории — не мрачный злодей и не христианский святой, это личность сложная и яркая, редкая среди венценосцев всех времен. Библия, освещая историю его возвышения и правления, приводит источники, восходящие непосредственно к его времени. Неведомый историк, писавший на пятьсот лет раньше Геродота, сумел с неподражаемым мастерством запечатлеть реального живого Давида во всей его противоречивости и эпическом великолепии. Это менее всего панегирик, в котором замалчиваются теневые стороны героя. Мы видим Давида щедрого и обаятельного, великодушного, беззаветно отважного, хранящего свято любовь и дружбу, видим Давида пламенно-религиозного, поэтичного и страстного. И одновременно это искусный тактик, необузданный и властный человек, беспощадный к врагам, не пренебрегающий порой сомнительными средствами для достижения своих целей. Таков Давид истории, при жизни возбуждавший глубокую любовь и такую же ненависть, а после смерти окруженный легендарным ореолом.
Давид произвел глубочайшее впечатление на современников. И в первую очередь остался он в памяти народа не как великий воин и создатель Единого Израильского Царства. (Библия, кстати, очень мало говорит об этой его политической деятельности.) В нем видели человека, которого возлюбил Бог и на котором почило Его благословение. Таким он был в глазах народа еще в правление
265

Давид
(скульптура Микеланджело)
266
Саула, когда Давид был представлен ему как храбрый воин и искусный музыкант.
Давид происходил из Вифлеема, небольшого иудейского городка. С детства он пас стада своего отца Иессея и во время странствий по горам научился владеть оружием и лирой 533). Именно в таком человеке нуждался Саул. Он сделал юношу своим оруженосцем, а его игра на инструменте развеивала меланхолию царя. С этого момента начинаются драматические приключения молодого иудея, приведшие его на вершины власти.
В доме Саула Давид очаровывает всех. Наследник Ионафан покорен им и делается его преданным другом, дочь царя Мелхола влюблена в него, он становится необходимым человеком у Саула. Царь дает ему ответственные военные поручения, которые Давид выполняет блестяще, женит его на Мелхоле и, наконец, ставит его «начальником над военными людьми». Каждый шаг смелого и красивого юноши приносит ему успех. Он глубоко предан Богу отцов и искренне верит в Его постоянную помощь. Более сильному противнику он говорит: «Ты идешь против меня с мечом, и копьем, и щитом, а я иду против тебя во имя Ягве Саваофа, Бога Воинств Израилевых» 535). Эта вера делает двадцатипятилетнего полководца неуязвимым. Он наголову разбивает филистимское войско, его с триумфом встречают восторженные толпы, а женщины слагают песнь в честь его победы, в которой он ставится выше Саула. Иными словами, Давид в глазах всех становится как бы антиподом мрачного царя, терзаемого злыми духами.
Легко понять, что у мнительного Саула вскоре возникает подозрение насчет любимца. Этот баловень судьбы, «белокурый, с красивыми глазами и приятным лицом», начинает казаться ему опасным соперником. Возможно, до царя дошел слух, что Самуил тайно помазал Давида на царство, предрекая падение дома Саулова. Но даже если это и не так, огромная популярность Давида, затмевавшая самого царя, была достаточным поводом для ревности. А если добавить к этому психическую неуравновешенность больного Саула, то станет ясным, как быстро атмосфера в Гиве стала угрожающей.
В припадках ярости Саул несколько раз метал копье в Давида, когда тот играл на арфе. Становилось ясно, что царь решил уничтожить соперника. Но дети Саула становятся между отцом и Давидом. Ионафан предупреждает друга об опасности, навлекая на себя гнев царя, Мелхола спускает мужа из окна, когда за ним приходит стража.
Давид скрывается из Гивы и бежит в Раму к старому Самуилу. Этот шаг показывает, что юноша всерьез принял вызов, брошенный царем. Рама — центр оппозиции Саулу. И тщетно люди, посланные туда царем, пытаются найти беглеца. Когда же сам Саул устремляется в погоню, припадок безумия парализует его в Раме.
Остается тайной, о чем совещались Давид и Самуил. Но, несомненно, пророк принял сторону Давида. А вскоре Давид получил
267
союзника в лице Авиафара — священника из Номвы, последнего отпрыска семейства Илия, некогда охранявшего Ковчег. Это семейство служило при Эфоде, но по приказу Саула все номвские священники были перебиты за сочувствие Давиду. Спасся один Авиафар, который явился к Давиду и принес с собой Эфод 536).
В течение некоторого времени будущий основатель Святого Града скрывается в горах и пустынях. К нему стекаются всевозможные бродяги, беглые слуги, недовольные, искатели приключений. Из этих отчаянных людей вне закона образуется большой отряд дружинников. Давид умеет великолепно управлять этим грубым народом. Его великодушие, отвага и сильная воля покоряют даже разбойников.
Отряд вынужден постоянно менять свое местопребывание. Саул, одержимый манией, уже не может более жить спокойно в Гиве. Он забрасывает дела и рыщет по горам в поисках Давида. Несколько раз случай внезапно сталкивает их, но Давид неизменно проявляет благородство по отношению к своему бывшему господину.
Женитьба Давида на вдове богатого землевладельца (Саул выдал Мелхолу за другого) улучшает положение его отряда. Теперь это уже внушительный лагерь, располагающий своими стадами и землями. Но чем больше укрепляется Давид, тем настойчивее становятся преследования Саула.
В конце концов Давид со своими людьми вынужден просить убежища у филистимского царя Анхуса, который с радостью принимает его, довольный тем, что Израиль лишился такого вождя. Анхус дает своему новому вассалу во владение город Секелаг, откуда Давид делает постоянные набеги на бедуинские племена. По тогдашним понятиям это означало «оставить наследие Ягве и служить богам чужим» 537). Но Давид и в Секелаге оставался верным Богу отцов. При нем неразлучно находился пророк Ягве и Авиафар с Эфодом, через который Давид постоянно вопрошал Бога 538).
* * *
Между тем готовилась решающая битва между Саулом и филистимлянами. Царя мучили страшные предчувствия. Он был уверен, что счастье навсегда покинуло его. Все попытки узнать волю Ягве оказались тщетны. Оракул молчал: «не отвечал Ягве ему ни во сне, ни через урим, ни через пророков». Единственный человек, который мог бы поддержать царя, — Самуил — умер, не примирившись с Саулом. В отчаянии царь прибегнул к последнему средству и под покровом ночи отправился к колдунье, чтобы она вопросила дух Самуила. Полученный через некромантку ответ окончательно сразил Саула: его и всю его династию ждала гибель.
Разумеется, после бессонных ночей и тяжелых душевных мук Саул вышел в бой как обреченный. С гор Гелвуйских он смотрел на вражеские войска, и один вид их приводил его в смятение. Натиск филистимлян был подобен урагану. Отряды Саула были смяты и
268
обратились в бегство. Колесницы врага неслись за ним по пятам, и стрелки поражали бегущих. Вот уже погибли трое сыновей царя, и сам Саул был весь изранен стрелами. Не желая живым попасть в руки филистимлян, он бросился грудью на собственный меч...
Смерть еврейского царя означала полное торжество филистимлян в стране. Отныне они чувствовали себя хозяевами израильтян и хананеев. Тела Саула и его сыновей они повесили на стене крепости Бефсана как трофеи. Но ночью жители Ябеша, некогда спасенного Саулом, сняли трупы и предали их погребению.
Давида глубоко поразило известие о гибели Саула и Ионафана. Несмотря на вражду и соперничество, его связывали с царским домом узы любви и дружбы. Кроме того, невольный вассал филистимлян, он мучительно переживал поражение Израиля и свое отсутствие на поле боя. На смерть Саула и Ионафана он сложил элегию, которая проникнута такой искренностью, что нет оснований считать ее плодом только политического расчета:
Красота твоя, о Израиль, лежит поверженная на высотах твоих!
Как пали герои!..
Вы, горы Гелвуйские!
Да не падет на вас ни роса, ни дождь — поле мертвых!
Ибо там брошенный лежит щит героев,
Щит Саула, не помазанный елеем...
Вы, дочери израильские!
Плачьте о Сауле:
Он одевал вас в багряницу с драгоценностями
И привешивал к одеждам вашим золотые украшения.
Как пали герои на поле брани!
Сражен Ионафан на высотах твоих!
Скорблю я о тебе, брат мой Ионафан.
Как ты был дорог мне!
Любовь твоя была для меня чудеснее любви женской.
Как пали герои!
Не стало оружия бранного! 539).
Итак, первый «предводитель народа Божия» погиб на поле битвы. Он был царем, целиком зависящим от следования Богу. Едва только он захотел поставить свою волю над божественной волей, возвещенной пророком, как «Дух Ягве» покинул его и он стал бессилен. Правда, остатки его войска во главе с двоюродным братом Саула скрылись за Иорданом и там провозгласили царем принца Иевосфея, но никакой реальной власти этот наследник Саула не имел.
Между тем Давид почувствовал, что настало его время. По совету священника и пророка он собрал всех своих людей, свои стада и имущество и двинулся из Секелага в родную Иудею. Там в городе Хевроне у него было много сторонников. Старейшины иудеев встретили его как единственного человека, на которого можно опереться. Он предстал перед ними в ореоле своих прежних заслуг и был единодушно признан царем Иудейским. Дело в том, что Иудея благодаря своей обособленности не слишком считалась с властью Сау-
269
ла. Давид же был для южан куда более близким, чем Иевосфей, живший за Иорданом.
Несколько лет продолжалось соперничество между сторонниками Давида и Иевосфея. В этой борьбе Давид старался проявить максимум справедливости, и для своего времени он отличался несомненным великодушием. После того как Иевосфей пал жертвой заговора, Давид взял под свою защиту прямого наследника — сына Ионафана — в память погибшего друга.
Давиду исполнилось тридцать лет. На его пути никто не стоял. Народное собрание в Хевроне провозгласило его царем над всеми коленами.
«Вот мы — кости твои — и плоть твоя, — говорили старейшины. — Еще недавно, когда Саул царствовал над нами, ты был вождем Израиля. И тебе сказал Ягве: ты будешь пасти народ Мой» 540).
Оставшиеся в живых потомки Саула были окончательно отстранены. Мелхола — первая жена Давида, дочь Саула — была еще при жизни Иевосфея возвращена Давиду, и это как бы закрепило его наследственные права. Итак, воин-певец, беглец и вассал филистимлян превратился в израильского царя. Это произошло около 1000 г.
Давид, несомненно, видел во всех превратностях своей судьбы водительство Бога Израилева, Который избрал его для спасения народа. Хотя вера Давида и носила на себе печать того варварского времени, она была искренней и пламенной, являя пример личного живого отношения к Богу.
Если мы хотим составить верное представление о вере и характере Давида, то должны обратиться к одному псалму, который, несомненно, ему принадлежит. Это великолепное, полное ярких монументальных образов славословие, дышащее ароматом поэзии Востока, приоткрывает завесу времени и вводит во внутренний мир переживаний Давида 541):
Возлюблю Тебя, о Ягве, оплот мой!
Ягве, скала моя, крепость моя, мой избавитель.
Бог мой — скала убежища моего,
Щит мой, рог спасения моего, крепость моя.
Прославляемого Ягве я призову
И спасусь от врагов моих.
Муки смертные объяли меня,
Гибельный потоп устрашил меня,
Цепи преисподней опутали меня,
И сети смерти окружили меня,
В томлении моем воззвал я к Ягве,
Взмолился я к Богу моему,
Из чертога своего Он услышал голос мой,
И мой вопль дошел до слуха Его.
Загудела и содрогнулась земля,
Задрожали основания гор
И тряслись от гнева Его.
Дым поднялся от ноздрей Его,
И пылающий огонь от уст Его,
Раскаленные уголья рассыпались от Него.
270
И склонил Он небеса, и сошел Он вниз
Во мгле, окружающей ноги Его.
Он встал на херувима и полетел,
Понесся на крыльях ветра.
И Он сделал мрак одеянием своим,
Темные тучи покровом своим.
От вспышек пламени Его бегут облака,
Падает град и уголья...
Простирает Он руку с высоты и берет меня,
Извлекает из вод великих,
Избавляет меня от могучего врага,
От ненавидящих меня, когда они усилились...
В этом псалме весь Давид: восторженный, горячий, беззаветно верящий в помощь и покровительство Бога Израилева. Он зовет Его в тяжкий час, и Бог отцов слышит его. Он покидает свои неприступные вершины и в урагане мчится защитить от врагов своего избранника. Ягве, преломившийся через призму души Давида, — это Бог-воитель, грозный микеланджеловский Саваоф, парящий среди молний над ревущей стихией. Но внезапно в космические раскаты псалма вторгаются иные звуки:
Ягве воздал мне по правде моей,
По чистоте рук моих наградил меня,
Ибо я держался пути Ягве
И не был нечестивым перед Богом моим,
Ибо — предо мною все заповеди Его,
И от заветов Его не отступал я,
И я был непорочен пред лицом Его,
И остерегался я впасть во грех...
Угнетенных людей Ты спасаешь
И одним взглядом поражаешь надменных 542).
Это знаменательные слова! Бог Давида, Властитель первобытного человечества, Ягве-Воитель, Который с грохотом проносится в облаках на херувиме, повелевает людям быть чистыми, милосердными, непорочными... Великое, священное мгновение! В древнем псалме мы становимся свидетелями совершающегося чуда. Сквозь покровы наивной, грубой веры пробиваются первые лучи Истины. Свет борется с предрассветным мраком, и борьба их совершается в душе человека. В этой борьбе разгадка личности Давида.
* * *
Пока шло соперничество между Иудеей и сторонниками Сауловой династии, филистимляне не вмешивались в эту распрю, т. к. она была им выгодна. Но едва только стало известно, что Давид воцарился в Хевроне, как они немедленно двинули свое войско против недавнего вассала. Объединение страны-данницы не входило в их планы.
Но дружина Давида уже имела большой боевой опыт. Когда неприятель вышел на равнину Рефаимскую, воины Давида сумели
271
напасть на них с тыла и нанести тяжелое поражение. До самого Газера преследовали израильтяне филистимлян. Эта победа положила конец зависимости Израиля. Впоследствии несколько кампаний Давида на западе полностью обессилили филистимлян и принудили их заключить мир.
Если Саул был просто военным вождем, а в мирное время мало чем отличался от других богатых земледельцев, то Давид проявил себя одаренным правителем.
Он уделял много времени ведению судебных дел и прославился как справедливый и проницательный судья. Он умел ослаблять сепаратизм колен, оказывал покровительство хананеям, которых признавал равноправными членами общества. В состав его армии входили отряды наемников — филистимлян, критян, среди полководцев его были хетты и хананеи. Давид создает необходимые государственные должности, при его дворе появляются секретарь и летописец («мазхир» и «софер»), он проводит всеобщую перепись. Военные успехи Давида привели к созданию империи, объединившей не только родственные евреям народы — амонитян, идумеев и моавитов, но и области арамеев-сирийцев до самого Кадеша на Оронте. Северные соседи — финикийцы — вступили с Давидом в дружественный союз.
Но самым большим достижением Давида было создание обще- израильской столицы. Он не захотел остановить выбор ни на одном из старых городов, каждый из которых принадлежал тому или иному племени и мог стать причиной раздоров. Царь обратил свой взор на мощный замок Сион, возвышавшийся над потоком Кедронским на высокой скале. Он находился в руках небольшого хананейского клана и считался неприступным. Ходила поговорка, что Сион могут защитить слепой и хромой. Однако Давида не остановили трудности, и он, невзирая ни на что, сумел овладеть Сионом. Замок был назван «Град Давида», а окружавшему его городу было возвращено древнее его название Иерусалим 543).
Так родилась священная библейская столица. В те далекие дни долины, окружавшие ее стены, были настоящими пропастями, хорошо защищавшими горную цитадель от прямого нападения. Стены, сложенные из огромных камней, возвышались над ущельем, готовые встретить напор любого врага.
Давид понимал, что его новый город должен стать знаменем единства для всей державы. Ни эфоды, ни урим не могли служить залогом присутствия Ягве со своим народом. Давид совершенно оставляет талисманы и оракулы и обращается к древней Моисеевой святыне — Ковчегу Завета.
Все эти годы Ковчег находился на хранении в частных руках. Давид решает торжественно перенести его в новую столицу и тем самым сделать Сион — Святым Градом.
Около 995 года произошло торжественное перенесение «Трона Ягве» в Иерусалим 544). К стенам Града Давидова стекались многотысячные толпы со всех концов страны. Народ восторженными кри-
272

273
ками сопровождал процессию. Гремели литавры, ревели трубы, а на плечах у левитов, как во время странствий, вновь покачивался Ковчег, прошедший долгий путь от Синайских гор, побывавший в битвах и в филистимском плену. Теперь скитания его закончились. Ворота крепости были открыты для того, чтобы принять палладиум народа Божия. И отзвуком героических Моисеевых времен звучал гимн Ковчега, как радостная хвала, как победный марш, как песнь ликования:
Восстанет Бог — рассеются враги Его,
И побегут ненавидящие Его от лица Его.
Как рассеивается дым, так рассеиваются они.
Как тает воск перед огнем,
Так злые погибнут пред лицом Божиим,
А справедливые возрадуются и возвеселятся пред Богом,
Они восторжествуют в ликовании и радости.
Пойте Богу, превозносите Его,
Прославляйте имя Его, шествующего в облаках,
Имя Его — Ягве!
Торжествуйте пред лицом Его!
Отец сирот и защитник вдов,
Бог — в обители своей святой.
Бог скитающимся дает дом,
Освобождает узников от цепей,
Только непокорных оставляет в знойной пустыне.
Боже, когда шел Ты пред лицом народа Твоего,
Когда шествовал Ты по пустыне,
Земля содрогалась; небеса таяли Пред лицом Божиим,
Пред лицом Божиим,
Пред лицом Бога Израилева...
Что вы смотрите завистливо, горы высокие,
На гору, где Бог восседает на престоле,
Где Ягве будет обитать вечно?...
Колесниц Божиих мириады, их тысячи тысяч,
Господь грядет с Синая во святилище,
Страшен ты, Боже, во святилище Твоем, Бог, Бог Израилев,
Он дает силу и крепость народу своему.
Благословен Бог! 545).
Сам царь в белых одеждах шел впереди Ковчега, играя на арфе. Через каждые несколько шагов процессия останавливалась, и перед святыней приносили жертву.
Когда Ковчег вносили в ворота цитадели, всех охватил восторг, раздались нестройные крики, перекрываемые пронзительными звуками фанфар. Давид же, забыв о своем царском достоинстве, кружился, подобно Сынам пророческим, в бурной пляске «перед лицом Ягве»...
Воскрешая традицию кочевой эпохи, Давид не внес Ковчег в дом, но поставил его под сенью походного шатра. Празднество закончилось обильным жертвоприношением и угощением народа. Рассказывают, что, когда Давид вернулся домой, жена его, дочь
247
Саула, Мелхола, укоряла мужа за пляску, показавшуюся ей непристойной, роняющей авторитет монарха. На это Давид ответил: «Перед лицом Ягве, Который предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня вождем народа Ягве — Израиля, перед Ягве буду плясать и играть». Из этих слов явствует, что Давид видел во всех своих успехах знак избранничества.
* * *
Перенесение Ковчега на гору Сион явилось событием исключительной важности. Был основан духовный центр дня ветхозаветной религии, которому со временем суждено будет играть огромную роль. Иерусалим станет Святым Градом народа Божия, а впоследствии — Церкви. В прежние годы Ковчег в походах скитальцев был знаком Богоприсутствия, теперь оно откроется в городе Давида через храм, через веру пророков и мессианистов и завершится явлением царя Иудейского.
Удивительная судьба ожидает Иерусалим. Здесь прозвучит мощный голос великих духовидцев Исайи и Иеремии, здесь будет совершаться великая драма веры, здесь воздвигнут будет крест Христов, здесь родится Церковь и прольется кровь первого мученика. Иерусалим не потерял притягательной силы за тридцать веков, за него борются, как боролись во времена Тита, крестоносцев или Саладина. «Город был взят тридцать шесть раз, при этом по крайней мере два раза завоеватель сравнял его с землей. Но он всякий раз снова возникал — этот город, более вечный, чем Рим» 546).
И хотя Иерусалим существовал уже за пятьсот лет до Давида, но сделал его тем, чем он стал, только Давид, перенеся в него Ковчег Завета.
Еще когда Ковчег пребывал в Силоме, там был построен для него «Дом», т. е. храм. Он был, очевидно, разрушен филистимлянами. Теперь, когда перед роскошным царским дворцом, отделанным драгоценными породами дерева, стоял убогий шатер, покрывавший Ковчег, у Давида, естественно, возникла мысль о сооружении храма в Иерусалиме. Однако этот замысел встретил противодействие со стороны пророка Нафана. Библия мало говорит об этом человеке, но те скудные сведения, которыми мы располагаем, указывают на то, что этот пророк пользовался огромным нравственным авторитетом во времена Давида. С ним связаны некоторые поворотные моменты жизни царя.
Нафан, вероятно, был, как и многие другие пророки, назиреем, не принимавшим цивилизаторских нововведений и предпочитавшим патриархальную простоту Моисеевых времен. Он настороженно относился к финикийским веяниям, которые стали проникать в Израиль. Построение храма было для пророка актом подражания язычникам. Ягве был Богом, возлюбившим горы и пус-
275
тыни, «не жившим в доме с того времени, как вывел Сынов Израиля из Египта» 547).
Тем не менее ревность Давида о славе Божией в глазах Нафана, несомненно, заслуживала высшей похвалы. И пророк изрек на царя и на его род прорицание, ставшее впоследствии символом веры тех, кто ожидал полного осуществления Царства Ягве на земле.
Пророчество Нафана не было освящением монархического принципа, но обещало благословение Божие Давиду как избраннику. Это было особое, исключительное обетование царю, воплотившему в себе веру и преданность Богу народа Израилева.
«Будет непоколебим дом твой, — гласило пророчество, — царство твое навеки пред лицом Моим, и престол твой устоит во веки» 548).
В одном древнем тексте, приписываемом Давиду, это обетование выражается в форме Завета, который Бог заключает с «предводителем народа». От вождя требуется праведность и страх Божий, тогда и Бог исполнит обетование, «завет вечный, твердый и непреложный». Это обетование говорит об идеальном Царе из рода Давида, который станет основателем Царства Божия на земле. В течение веков эта вера в Грядущего Царя и Царство будет все более и более просветляться и одухотворяться. Она станет символом величайшего чаяния народа Божия, и в словах Благовещения прозвучит вновь, через десять веков, пророчество Нафана. Когда Иисус Назарянин явится среди людей, вера в Него будет исповедана словами этого пророчества. Он будет назван Помазанником, Мессией, сыном Давида.
* * *
Всякий союз подразумевает известные условия. Точно так же и Завет Божий есть не только обетование, но и требование. Быть может, Давид, подобно другим царям Востока и Запада, полагал, что Высшая Сила будет всегда покровительствовать ему и даже покрывать его преступления. Но именно здесь-тο и обнаружилось, что Бог Израилев — это не бог царя или династии, но Бог, взыскующий правды, для которого все люди одинаково ответственны за свои поступки. Тот самый пророк Нафан, который изрек благословение на род Давида, при других обстоятельствах выступил как обличитель и судья монарха.
Этот эпизод имеет огромное значение для понимания ветхозаветной религии в ее отношении к власти 549).
Однажды весенним вечером царь прогуливался по крыше своего дома. В саду, примыкавшем к царскому, он увидел купающуюся женщину необыкновенной красоты. Он послал разузнать о ней. Это оказалась Батшеба (Вирсавия), жена царского гвардейца — хетта Урии. Увлеченный внезапно вспыхнувшей страстью, царь приказал привести Батшебу к себе, а хетта отправил в самое
276
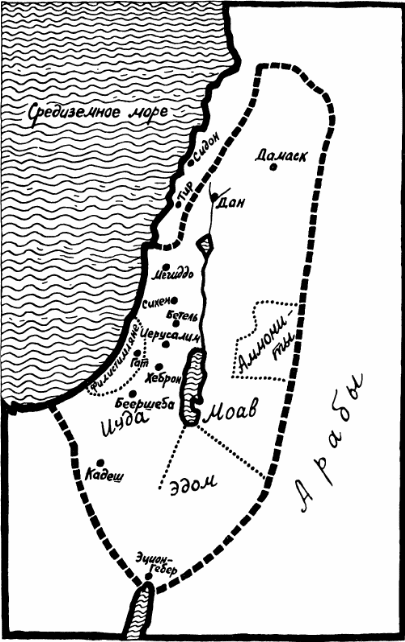
Царство Давида
опасное место сражения, где тот был вскоре убит. После этого жена Урии стала четвертой женой Давида.
Случай вполне обыкновенный в истории восточных деспотий, однако завершение его оказалось совершенно неожиданным. Вероятно, Давид хранил в тайне свою причастность к гибели Урии,
277
но преступление не укрылось от проницательного взора Нафана. Едва только он узнал о том, что царь совершил «зло в очах Ягве», он немедленно явился к нему.
Он начал с того, что рассказал Давиду притчу: у одного богатого человека было большое стадо, а у бедняка — единственная овца, которую он очень любил. Но когда к богачу пришел гость, он не захотел брать овец из своего стада, а отобрал овцу бедняка, чтобы приготовить угощение гостю. Давид, привыкший разбирать судебные дела, решил, очевидно, что это одна из тяжб, которую пророк повергает к его ногам для решения. Он пришел в крайнее негодование, выслушав рассказ, и воскликнул: «Да живет Ягве! Смерти достоин такой человек!» И тут же вынес приговор: за овцу богач должен уплатить вчетверо.
Но внезапно тон пророка изменился: из ходатая он превратился в обвинителя.
«Ты — этот человек, — сказал он твердо. — Так говорит Ягве, Бог Израилев: Я помазал тебя царем над Израилем, и Я избавил тебя от руки Саула, и дал тебе дом господина твоего и жен господина твоего на лоно твое, и дал тебе дом Израилев и Иудин, и если этого для тебя мало, прибавил бы больше. Зачем же ты пренебрег словом Ягве, сделал злое пред очами Его?..»
Так среди варварства, насилия и жестокости звучит голос неподкупного пророка, звучит голос Бога, открывшегося Моисею, воля Которого запечатлена в Десяти Его заповедях. Здесь обнаружилась подлинная природа теократического царства. Не воля монарха, а воля Бога есть высший закон. Никакая корона, никакое «помазание» не может служить оправданием преступлению.
Нужно отдать справедливость Давиду. Иной царь скорее всего заставил бы замолкнуть обличителя. Но Давид искренне признал свою вину. «Согрешил я перед Ягве», — сказал он. И с этого времени, стараясь искупить свой грех, он делал все, чтобы Батшеба не несла на себе тяжести его последствий. Он поклялся, что сын, который родится у нее, будет наследником. Пророк Нафан также принял участие в судьбе этой женщины, ненавидимой женами, наложницами и сыновьями Давида, очутившейся в затхлой атмосфере дворца, полной интриг.
Пророк предсказал царю бедствия, которые постигнут его за нарушение закона Божия, но в то же время подтвердил Сионский Завет и обетование. Пророчество не замедлило исполниться. Царство Давида потрясли мятежи и восстания, одно из которых возглавил его сын Авессалом. Царю на время даже пришлось бежать из Иерусалима. Борьба между принцами едва не погубила государство. Многоженство, принятое в то время на Востоке, вело к непрерывным столкновениям между членами огромной царской семьи. Но когда Давид состарился настолько, что уже не мог управлять, он по настоянию Нафана провозгласил соправителем сына своего от Батшебы — Иедидию, принявшего тронное имя Со-
278
ломон, что значит «миротворец». Вскоре после этого в 961 г. Давид умер. В его лице сошел в могилу один из самых одаренных и выдающихся людей Израиля. Библейское предание не исказило его образа, как это сделали поздние легенды. Писание сохранило нам его живым, во всей противоречивости его натуры и со всеми чертами человека, способного на взлеты и падения. Во многом принадлежа миру суеверий и кровной мести, миру узкому и ограниченному, он в то же время внес свой вклад в созидание народа Божия, дав ему Святой Град. Он положил основание религиозной поэзии, которая с этого времени станет лучшим выражением духовной жизни Ветхого Завета.
И когда на латинском, славянском, греческом, на всех языках древнего и нового мира звучат библейские псалмы, волнующие человеческие сердца так, будто они написаны вчера, следует вспомнить, что в этих сердечных раздумьях, мольбах, стонах, гимнах радости и благодарения в какой-то мере присутствует душа Давида. Пусть лишь немногие из псалмов принадлежат лично ему, но, несомненно, все псалмопевцы в целом остались верны тому направлению религиозной поэзии, которое получило начало от великого израильского царя.
* * *
Соломон был мало похож на отца. Выросший в роскоши и не изведавший жизни, он вступил на престол, когда ему еще не было двадцати лет. Он не знал ни войн, ни трудностей, ни опасностей. Мать имела на него большое влияние, и он очень считался с ней. Очевидно, прислушивался он и к голосу пророка Нафана, который способствовал его вступлению на трон. И, очевидно, лишь после смерти Нафана он решился осуществить мечту отца: построить в Иерусалиме храм Ягве.
В Израиле не было ни искусных ремесленников, ни опытных строителей, поэтому Соломон выписывал мастеров из Финикии. Оттуда же доставляли ему дорогой кедровый лес, который сплавляли по морю.
Храм строился несколько лет и был освящен в 950 г. Это было сравнительно небольшое, но великолепно украшенное здание в финикийском стиле. Позднейшие поколения представляли себе его в виде фантастически пышного, огромного сооружения. На самом же деле храм Соломона был меньше, чем Успенский собор в Кремле или собор св. Софии в Киеве 550).
Храм отличался благородной простотой форм. Он был сложен из тесаных камней, внутри обшит ценным деревом, на которое была наложена позолота.
Как зримая, земная обитель Божия, храм представлял собой Вселенную. Золотые светильники были звездами, два медных столба с узорными капителями символизировали силу произрастания; карнизы украшены были рельефами цветов, плодов, живот-
279
ных, херувимов (т. е. духов стихий). Во дворе храма стоял жертвенник и огромная бронзовая чаша, поддерживаемая изваяниями быков. Она называлась «медным морем» и, очевидно, обозначала мировой океан.
Следует заметить, что все эти подробности храмового устройства были навеяны финикийским и египетским искусством. Но самой замечательной особенностью Соломонова храма были не эти заимствованные украшения, а то, что он был уникальным храмом, в котором отсутствовало изображение Божества. В его Дебире, или Святая Святых, не было ни эфода, ни кумира, ни фетиша, а стоял лишь сокрытый в полном мраке Ковчег, охраняемый двумя огромными херувимами.
Храм был построен на горе Мориа, рядом с Сионской горой. Перенос Ковчега в Дом Божий был превращен Соломоном в общенародный праздник. В последний раз Ковчег был поднят на плечи. Отныне он обрел свое место в Дебире, и здесь он будет стоять до того часа, когда погибнет в пламени вместе с Домом Господним.
Вероятно, от этого времени сохранился гимн, свидетельствующий о глубоком впечатлении, произведенном на весь Израиль освящением храма. Этот праздник, несомненно, воспринимался как новый знак утверждения Завета с Богом:
О врата, поднимите своды ваши,
И поднимитесь, двери вечные,
Да войдет Царь Славы!
Кто этот Царь Славы?
Ягве могучий и сильный,
Ягве мощный в битве! 551).
Соломон был вдохновлен торжественностью минуты. Он верил, что через него Бог продолжает осуществлять обетование, данное Давиду. Он просил у Бога мудрости для того, чтобы справедливо «судить народ». И вот теперь перед всеми храм Ягве — первое детище его мудрости.
Предание повествует, что во время освящения Дом Господень наполнился блистающим облаком в знак Богоприсутствия. А царь, стоя перед храмом на ступенях в окружении народных толп, произнес: «Ягве, благоволивший обитать во Мгле! Я построил храм для жилища Тебе, место, чтобы пребывать Тебе во веки». После этого, окутанный волнами фимиама, под звон кимвалов и арф, Соломон поднял руки, призывая на своих людей благословение Божие.
Эти картины навсегда врезались в память народа. И хотя впоследствии Соломон изменил своему призванию теократического монарха, пошел по пути деспотизма, это не могло отнять у него заслуги продолжателя дела Давида.
280
Глава двадцать третья
СВЯЩЕННАЯ ИСТОРИЯ
Израильское царство, 950—930 гг.
Я убежден, что, чем больше будут
понимать Библию, тем прекраснее она
будет казаться.
Гете
При Соломоне, который царствовал почти сорок лет (961 — 922), в Палестине наступил наконец долгожданный мир 552). Молодой царь не искал новых завоеваний; он даже утратил кое-что из владений отца. Так, от Израильской империи отпала арамейская область и часть Эдома. Но это окупалось теми несомненными благами, которые приносит долгий мир.
С этого времени начинается стремительный взлет культуры Израиля. Народ, еще совсем недавно перешедший к оседлости, с поразительной быстротой догоняет своих соседей. Подобные примеры хорошо известны в истории. Достаточно указать на Киевскую Русь, культурный расцвет которой наступил вскоре после эпохи полупервобытного и родового общества.
Разумеется, духовный подъем Израиля в правление Соломона вышел не из пустоты. Как мы знаем, еще из пустыни были принесены семена высоких религиозных постижений и поэтического творчества. Однако войны и междоусобицы, нападения кочевников и филистимское иго мало способствовали культурному развитию в период Судей. Но даже и в это тревожное, суровое время создаются героические былины и священные гимны, записываются правовые уставы и нравственные заповеди. Когда же после побед Давида и воцарения Соломона кончилась многолетняя раздробленность и борьба с врагами, подавленные войной творческие силы народа как бы вырвались на свободу.
В эти годы у Израиля на всем Востоке не было соперников, и за будущее, казалось, можно было не опасаться. Царь хотя и не
281
вступал ни разу в войну, но укреплял фортификации, завел конницу и большой арсенал. Он заключил союз с Египтом, который скрепил браком с дочерью египетского царя. Фараон нуждался в этом договоре; утратив власть над Сирией, он не хотел терять торговых путей, проходивших через владения Соломона. Особенно оживленной была торговля лошадьми, которые ценились очень высоко. Из Израиля их вывозили в Дамаск и Хеттское государство.
Южноаравийские царства в это время также расширяли свои торговые связи. С появлением верблюдов стало возможным перевозить через пустыни большие грузы. Арабы из царства Савского везли на север дорогие благовония, и их путь также проходил через Палестину. Царица Савская посетила Соломона, очевидно, с целью заключить договор о пропуске купеческих караванов. Финикийские цари продолжали, как и при Давиде, дружескую политику в отношении Израиля. Хирам Тирский снабжал Соломона материалами для храма и дворца, присылал искусных мастеров и ремесленников. В обмен он получал из Израиля пшеницу и оливковое масло.
Торговые связи способствовали общему подъему уровня жизни в городах. В зажиточных домах появились дорогая мебель, утварь, одежда, привозимые из Финикии, Вавилона, Египта. Соломон построил корабельные доки в Эдоме; оттуда его моряки ходили вместе с финикийцами в торговые экспедиции. Они привозили из земли Офир (вероятно, Пунт — в Восточной Африке) золото, серебро, ценные породы деревьев.
У залива Элат близ развалин Эцион-Гебера археологи обнаружили огромные медеплавильные печи, равных которым не было на древнем Востоке. Эти печи принадлежали Соломону. Как полагают, Израиль был крупнейшим по тем временам экспортером меди. Если учесть, что медь широко применялась при изготовлении оружия и утвари, то станет понятным источник богатства Соломона 553).
По образцу соседних государств царь Израильский разбил страну на провинции, не считаясь с делением по коленам. Он, несомненно, стремился этим преодолеть сепаратизм Севера и Юга, и на некоторое время ему это удалось. Более тесные контакты между коленами, а также между Израилем и иноземцами содействовали культурному расцвету. Вавилонская космология и география получили распространение среди образованных людей Израиля. Из Вавилона же были заимствованы основы математики, медицины, названия месяцев 554).
* * *
Каждая выдающаяся культура начинает свою историю с подражания. Неудивительно поэтому, что храм Соломона был построен в чужеземном стиле и что израильское прикладное искусство целиком зависело от египетских и финикийских образцов.
282
Но и впоследствии искусство и наука в Израиле не пошли дальше повторения и подражания. Гений народа Ягве заключался в иной сфере и находил свое воплощение в слове, в поэзии, в книге.
К сожалению, значительная часть древней еврейской литературы не сохранилась. Мы знаем некоторые из этих исчезнувших книг, и то лишь по названиям.
Во-первых, здесь следует упомянуть о «Книге войн Ягве», которая содержала древние песни времен Моисея. Согласно Библии, в нее входила «Песнь о колодце», приведенная в Пятикнижии 555). Другой аналогичный сборник героической поэзии назывался «Книгой Яшар». Это обычно переводят как «Книга Доблестных». Однако возможно, что это название означало просто «Книга песен» 556). В нее входила былина о том, как Иошуа защищал Гаваон и остановил солнце, а также элегия Давида на смерть Саула и Ионафана 557). Вероятно, в эти свитки входили также «Песнь Деворы», «Песнь Моисея», «Благословение Иакова», элегия Давида на смерть военачальника Абнера, речения Валаама, «Гимны Ковчега» и другие произведения древнеизраильской поэзии 558).
Предание приписывает и самому Соломону участие в литературном движении эпохи. По свидетельству Библии, Соломон любил записывать изречения житейской мудрости. Нет серьезных оснований отрицать это предание. Многие цари древности любили изрекать подобные афоризмы. И хотя библейская Книга Притч не может быть целиком приписана Соломону, но какая-то часть заключенных в ней сентенций, вероятно, принадлежит ему 559).
Со времен Давида при дворе был летописец. Соломон приказал описать свое царствование в особой «Книге деяний Соломоновых», которая лишь в отдельных фрагментах дошла до нашего времени 560). Гораздо полнее сохранилась история Давида, написанная вскоре после его смерти. Ее автор, блестящий рассказчик, современник событий, вряд ли есть одно лицо с царским летописцем. Он нисколько не жертвует правдой ради возвеличения Давида, а, как мы уже видели, изображает его со всеми недостатками, не умалчивая о его пороках и преступлениях. Такая честность не свойственна придворным историкам.
Вероятно, в это же время появились книги, повествующие о деяниях героической эпохи: о подвигах Гедеона, Деворы и других судей.
Таким образом, царствование Соломона было временем расцвета литературы. Этот расцвет был ярким свидетельством новой ступени в умственной и духовной истории народа. Именно в эти годы и были впервые изложены основы веры народа Божия, его понимание человека, мира и Бога. «Кредо» Израиля восходило к Декалогу, Книге Завета и молитве, которая сложилась в первые годы оседлости. В этой молитве говорилось о том, как народ Ягве был угнетаем египтянами, и о том, как «мощною
283
рукою» Ягве вывел его оттуда и привел в землю, «текущую молоком и медом» 561).
Характерно, что эта молитва носит исторический характер. С того времени, когда Бог открылся Израилю в событиях Исхода, странствий и завоеваний, именно события истории в первую очередь становятся свидетельством Божественного Промысла. Поэтому и символ веры Израиля получает форму исторического повествования, сначала устную, а в царствование Соломона — письменную. Неизвестно, как называлась эта первая Священная История и кто был ее боговдохновенный автор. В библейской науке его принято называть Ягвистом, так как он предпочитает употреблять имя Божие — Ягве и считает, что его знали еще до Моисея 562).
Ягвист — основатель библейской философии истории, человек, впервые обобщивший Моисееву религиозную традицию, мудрец, возвестивший своему народу Откровение Божие.
В прежние времена автором первой Священной Истории считали самого Моисея. Но если в узком, прямом смысле это не так, то в плане духовном Ягвист, несомненно, связан с Моисеем и излагает учение, которое проповедовал некогда великий пророк. У разных колен священная традиция, идущая от Моисея, приобрела свой особый облик. Ягвист же сумел слить все линии традиций воедино, дав народу единый символ веры и изложение его истории 563).
Есть все основания утверждать, что писатель опирался и на устные предания домоисеева времени. Сказания о патриархах, которые сложились в годы пребывания в Египте, вошли в его книгу лишь в слегка обработанном виде. Соприкосновение праотцев Израиля с Месопотамией в XIX-XVII веках ощущается и по сей день в Библии. В истории Творения и Потопа мы не видим ни египетских, ни ханаанских влияний. Но зато явственно проступают черты вавилонских сказаний.
Автор первой Священной Истории жил, очевидно, на юге, в Иудее, быть может, в Иерусалиме. Он уделяет большое внимание южным областям, отводит особую роль колену Иуды 564). Но тем не менее он противник всякого сепаратизма. Он ничего не желает знать о племенных распрях, а проповедует кровное и религиозное единство всех колен Израиля. В этом отношении он духовный продолжатель дела Давида. Многие исследователи предполагают, что он был тесно связан с кругом, из которого вышла «Давидова история», или даже был ее автором. В самом деле, и ягвистические фрагменты Библии, и эпизоды жизни Давида имеют много общего в стиле. И тут и там автор выступает как мастер психологического портрета, его интересуют переживания людей и большие нравственные проблемы.
Хотя Ягвист основывается на устном сказании, более упрощенном и архаичном, но он великолепно использует этот древний материал для воссоздания живых индивидуальных характе-
284
ров. Таковы Авраам, Иаков, Иосиф, Агарь, Ревекка, Рахиль и многие другие герои Книги Бытия. Столь же блестящим даром обладает и биограф Давида. Есть еще одна черта, сближающая двух библейских писателей. Оба они видят в едином царстве осуществление обетований, полученных Авраамом и Моисеем. Ягвист хотя и говорит о временах отдаленных, но явно осмысливает их в свете пророчества Нафана о доме Давидовом 565).
Появление ягвистической Священной Истории свидетельствует о существовании в Израиле в ту эпоху духовной элиты, которая была совестью и разумом народа. История этой элиты начинается, собственно, с Моисея, который определил ее призвание и характер. Хотя многие этапы ее развития ускользают от историка, но одна черта отличает ее во все времена. В противоположность Греции, здесь народная религиозность не могла занять господствующего положения в духовной жизни. Библейские мудрецы и пророки чаще всего рассматривали популярные верования как затемнение истинной веры и в целом противопоставляли свое учение привычным понятиям масс. Тем не менее учители Израиля не замыкались, как египетские жрецы или индийские брахманы, в горделивую касту. Они были неустанными проповедниками, миссионерами, воспитателями народа. Они не признавали нарочитого эсотеризма и чувствовали свою ответственность за людей перед Богом, пославшим их на служение. Борьба за души шла столетиями, достигая порой небывалого напряжения и накала, и именно она привела Израиль к порогу Нового Завета. Если была Дева Мария, сказавшая: «Се раба Господня», если был Петр, сказавший: «Ты — Мессия», если были Стефан и Павел, апостолы и мироносицы, мученики и борцы, вышедшие из лона Ветхозаветной Церкви, то этим мы обязаны духовным вождям Израиля. Это они вспахали поле, на которое вышел Сеятель сеять.
Ягвистический бытописатель был одним из этих апостолов Ветхого Завета. Обращаясь к своим современникам, он говорил с ними на языке, понятном самым широким кругам. Он нес им возвышенную истину, но «словесная плоть» его повествования была, по выражению известного православного богослова, «только скромным повторением праотеческих колыбельных сказаний первобытного человечества» 566). Это создает уникальную многоплановость и многогранность Книги Бытия. Среди страниц, написанных человеческой рукой, едва ли можно где-нибудь еще встретить такое изумительное сочетание «народной» формы с глубоким духовным смыслом. Правы поэтому те, кто называет Бытие книгой и для младенцев, и для мудрецов.
Ягвист пользуется языком народной саги, преломляет древние мифы Шумера и Вавилона, но всюду проводит свою особую мысль. Он подобен строителям Соломонова храма, которые, пользуясь иноземными средствами и иноземными материалами, создали святилище Единому Богу. В сложное переходное время, когда Из-
285
раиль вступил в новую эпоху существования, когда пришел для него час оглянуться назад, осмыслить свое прошлое и свое религиозное призвание, библейский мудрец воздвигает перед ним как икону свою Историю, где говорит о Боге и человеке, добре и зле, о вере и измене Богу, о страданиях и спасении. Эта священная книга Завета и Обетования давала ответы на важнейшие вопросы, она указывала путь через рассмотрение прошлого. Язык ее был образным, живым, картины написаны свежими, сочными красками, ее легко мог понять всякий. Она смогла пережить тридцать веков, и в наши дни мы чувствуем очарование ее величавых и таинственных страниц, будящих воображение подобно старым монументальным фрескам.
Многие поколения художников и поэтов вдохновлялись библейской мистерией и пытались воплотить видения Ягвиста. Первый братоубийца и потоп, башня и странствования патриархов возникали вновь и вновь в произведениях Рафаэля и Микеланджело, на стенах древнерусских соборов и на полотнах Рембрандта, в строках Данте, Байрона, Мильтона.
* * *
Священная История для ягвиста — это драма, разыгрывающаяся между небом и землей, между Богом и человеком. Истории народа Божия он предпосылает Пролог, в котором говорит о завязке мировой драмы. В Прологе он не изображает событий внешнеисторических и поэтому принужден обращаться к языку мифа. Значит ли это, что он подменил реальность вымыслом? Для того чтобы ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть само понятие «мифа».
Миф следует отличать от легенды, хотя обычно эти два понятия смешивают. Легенда есть узорно расшитая оболочка, в которой память народа хранит воспоминание о действительно бывших событиях. Сказания греков о Троянской войне и еврейские сказания о патриархах — яркие примеры легенд. Прежде к легендам относились с излишним скептицизмом. Археология показала, что они почти всегда содержат историческую основу. Достаточно привести пример раскопок Трои или Миносского дворца.
Миф — это тот язык, на котором древний человек говорит о самом важном для себя. Древние евреи не создавали абстрактных схем, они мыслили картинами, образами, они прибегали к мифотворчеству. Миф — это «недифференцированное единство религии, поэзии, науки, этики, философии» 567). То, что открывалось внутреннему взору человека, он выражал в пластической символике мифа. Часто случалось, что исторический факт, став легендой, превращался в миф. Но тогда он обретал уже новое бытие не просто в качестве воспоминания о прошлом, а как образ непреходящей истины. Таким мифом стал Исход из Египта. Историческое событие было для Израиля подлинным Богоявлением.
286
Поэтому Исход превратился во вневременной символ праздника Пасхи, в знак непрекращающегося действия Промысла в жизни народа.
«Не человек создает миф, — говорил о. С. Булгаков, — но миф высказывается через человека» 568). Это не парадокс. В мифе, действительно, усматривается облик подлинного тайноведения. И это относится не только к вершинам Откровения, но и ко всякому духовному постижению. Полнота сокровенной реальности не может вместиться в прокрустово ложе сухих отвлеченностей и интеллектуальных схем. Поэтому, как справедливо утверждает Н. Бердяев, «язык духовного опыта есть неизбежно символический и мифологический язык, и в нем всегда говорится о событиях, о встречах, о судьбе» 569). Миф не есть форма только древнего мышления. Он и поныне присутствует во всякой действенной религии и живой философии. Во всех философских системах основная, первичная интуиция мыслителя выражена в своеобразном мифе. Отличие древнего мифа от нового заключается лишь в материале, из которого он складывается. Если в новый миф входит опыт современной души, то древний облекается в декоративные формы сказания, столь близкого и понятного людям тех эпох.
Даже тогда, когда библейский миф говорит о каких-то исторических событиях, он не есть история в прямом смысле этого слова. Его можно назвать олицетворенной метаисторией, картиной, выражающей вдохновенное видение смысла вещей.
Но если миф не есть история, его тем не менее нельзя считать вымыслом. Те, кто думает так, повторяя вслед за Смердяковым: «Про неправду все написано», доказывают лишь свою неспособность приподнять пестрый покров сказания, чтобы увидеть его глубинный смысл. Миф греков о Прометее, индийцев о Пуруше, персов о борьбе Ормузда и Аримана — это не просто плоды фантазии, а великие мифы человечества, воплощающие религиозное постижение и мудрость народов.
В свое время говорили, что Израиль не создал мифов. Для одних это было свидетельством высоты его религиозного сознания, для других — доказательством творческой бедности народа. На самом же деле Библия свободна лишь от вульгарной мифологии, которая есть проекция в сферу мифа человеческих пороков и страстей; но миф в высоком смысле слова, миф-икона и миф-символ, составляет самую основу Ветхого Завета. Творение мира, Завет с Богом, Исход, День Ягве, Царство Мессии — все это боговдохновенные мифологемы, заключающие в себе истины Откровения.
* * *
Ягвист, как мы говорили, продолжатель дела Моисея. Он проповедует Бога, Который открылся пророку на Синае и некогда явился Аврааму. Живя в среде народа, который заимствовал у
287
соседей все: от алфавита до земледелия, он твердо держится Моисеева наследия — веры в Единого Бога. Это Бог непостижимый в своем величии и в то же время близкий к человеку. Он знает все, что совершается в сердцах людей, и постоянно входит в их жизнь, иногда незримо, а порой и зримо, в виде Малеаха — Вестника (Ангела). Он есть живая Личность в противоположность Высшему Божеству или Началу внебиблейских религий.
«Язычники, — говорит Д. Райт, — мыслили творение в терминах борьбы между различными силами природы и Мировым порядком, как достижение гармонии среди многообразия. Но что привело природу в порядок и установило гармонию с божественной волей? Верили, что некий принцип Порядка был установлен в творении, и ему были подвластны даже боги. Греки называли этот принцип Мойрой — роком, необходимостью, что вполне соответствовало его характеру. Египтяне говорили о нем как о Маат — слово, обычно переводимое как Правда и Истина, — но она же была и космической силой гармонии, порядка, равновесия, вечно нисходящей в творение... В Месопотамии слова Парсу и Шимту, кажется, означали процессы одинаковой важности. Парсу — нечто более могущественное, чем боги, всемирный закон, без которого не было бы богов. Человечество имеет Шимту или Судьбу — предопределение, данное ему в начале его бытия.
Эта концепция сохранилась через греческую философию в некоторых формах современного детерминизма, т. е. признания некоторого порядка, установленного во Вселенной, который делает вещи тем, что они есть. Согласно современному марксизму, мир рождается в борьбе противоположностей и конфликтов классового общества: это движение происходит в силу известных законов, которые движут мир этим путем.
Фактически большинство нехристианских философий верит в некий рациональный принцип во Вселенной, объясняющий ее порядок и движение. Одной из причин, почему были так популярны религии мистерий в греко-римскую эпоху, было то, что они обещали освобождение от всевластия Рока. Христианство тоже обещало освобождение от греха и сил тьмы. Для библейского учения не существовало веры в какой-то принцип мирового порядка, как не было в нем и ничего похожего на вавилонскую Шимту или человеческий детерминизм. Вверение себя Богу Библия понимает как новое осознание личности, как ее проблему и утверждение ее значения в этом мире» 570).
Бог-Промыслитель, Бог, требующий правды, Бог, верный данному Им обетованию, — таков Бог Библии, о котором говорит Ягвист. Для этого Бога человек — возлюбленное дитя.
В мифах Месопотамии человек возникает как нечто второстепенное, как существо, которое должно «трудиться, богов освободив». Для греков человек был одним из многих порождений Матери-земли, наряду с богами, титанами, нимфами, сатирами и животными. Библия же утверждает примат человека в Творении. Свя-
288
щенная История откровенно антропоцентрична. В древней библейской поэме о Творении человек призван «владычествовать» над природой 571). А Ягвист выражает эту мысль образно-конкретно. Бог сначала творит Человека, а потом создает для него райский сад и всех животных 572).
Это центральное положение человека в мире, по учению Библии, не проистекало из неведения относительно природы. Хотя авторы ее располагали только вавилонской наукой, однако они достаточно ясно сознавали величие Вселенной и ничтожество человека пред природным миром. Библия в своей антропологии прямо указывает на этот контраст между духовной значительностью человека и его малым местом в мирозданье. Эта мысль нашла свое высшее выражение в одном из псалмов той эпохи:
О Ягве, наш Господь!
Как славно имя Твое во всей земле!
Слава Твоя простирается выше небес!..
Смотрю я на небо Твое, на деяние рук Твоих,
На луну и звезды, которые поставил Ты —
Что есть человек — что Ты помнишь его?
И сын человеческий, что Ты печешься о нем?
Ты немногим умалил его перед Богом,
Славою и величием увенчал его,
Поставил его владыкою над творением рук Твоих,
Все положил Ты под ноги его 573).
В другом псалме, тоже очень древнем, явственно ощущается влияние эхнатоновского Гимна Солнцу. Там также дается картина ночной земли и воспевается ее пробуждение в утренних лучах солнца. Человек в этом псалме как бы составляет один хор с природой, славословящий Бога 574).
Итак, библейский антропоцентризм проистекал не из ложного представления о мире, а из учения о богоподобии человека. Ягвист не употребляет выражения «образ и подобие Божие»; его мы находим в Шестодневе. Но он использует свой обычный прием наглядности для того, чтобы указать на особую близость человека к Творцу. Бог создал Человека (ха-адам) из «пыли земной» (афар мин ха-адама), но человек стал самим собой только тогда, когда Творец вдунул в него «нишмат хайим» — дыхание жизни. Таким образом, человек оказывается, с одной стороны, частью земли, а с другой — особым духовным творением Божиим. Это двуединство человека Бытописатель подчеркивает не раз.
В Шестодневе человек прямо призван «владычествовать» над миром. Ягвист в своем Прологе тоже по-своему изображает человека как второго творца после Бога. Ягве создает землю голой и пустынной. Это равнина, лишенная растительности, почва которой ждет руки работника. Только сад Эдем (Ган Эден) был насажден в восточной стране, тенистый приют первого человека.
289
И не как раб, и не для праздности поселяется Человек в Эдеме, а для того, чтобы «леовада в-лешамра» — возделывать и хранить его 575). Человек, следовательно, оказывается призванным к творческому и бережному отношению к природе, которая ему подвластна.
Эдем, согласно Библии, находится где-то в Месопотамии. Еще шумеры упоминали о местности Гу-Эдин. А в аккадских текстах встречается слово «эдину», которое, очевидно, означает равнину. Но, с другой стороны, ясно, что перед нами не Вавилония, которую евреи уже хорошо знали, а скорее сцена для мистерии, разукрашенная вавилонским орнаментом. Нигде не сказано, что после изгнания Человека Эдем был взят с земли. Быть может, с самого начала он предполагался существующим в особой плоскости бытия, которую можно было бы назвать еще и «метаисторической Месопотамией». Это подтверждается еще и тем, что посредине Эдема возвышается Древо Жизни и загадочное Древо Познания добра и зла.
Священное Древо было распространенным на Востоке символом. На ассирийских рельефах встречается изображение небесного Древа, охраняемого ангелами. Оно означало сокровенную мощь и тайну бытия, которой владеет только Божество 576).
Для Ягвиста Древо Жизни прежде всего источник бессмертия. Бог не закрывает Человеку путь к нему и тем самым продолжает свое особое попечительство о Человеке. Он запрещает ему лишь вкушать плоды Древа Познания, предупреждая, что это грозит Человеку гибелью.
В Шестодневе и в вавилонской «Энума элиш» человек появляется последним в чреде всех живых существ. Ягвист отодвигает сотворение животных назад. Бог создает животных для того, чтобы они были помощниками Человека, ибо ему «нехорошо быть одному». Эти последние слова лаконично выражают мысль о социальной, общественной природе человека.
Создав животных «из земли», т. е. из того же вещества, что и Человека, Ягве приводит их к нему, чтобы «видеть, как он назовет их». Наречение имени в лексиконе древнего Востока означало проявление власти. Цари-победители обычно давали покоренным царям новые имена. Таким образом, здесь ясно утверждается царственная власть человека над миром. И не только власть. Осмотрев всех животных, Человек не нашел себе помощника, «подобного ему». Проще невозможно было выразить уникальность человека в природе. Для нас эта истина кажется бесспорной. Но в прошлом, когда животные казались сверхъестественными существами, когда процветал культ быков, ибисов, обезьян, крокодилов, бесспорное отделение человека от мира живых существ было новым учением. Впрочем, и в новое время, поспешно используя выводы науки, люди готовы были приравнять себя к миру бессловесных, полагая, что между человеческим разумом и разумом животного лишь «количественная разница». В противовес всем
290
этим древним и новым верованиям Бытописатель утверждает исключительность Человека в природе.
Человеку может быть равен только человек. И поэтому Ягве создает ему «помощника» из него самого. Бытописатель использует мотивы какого-то старого шумерского предания для того, чтобы показать единокровность и единосущность Мужчины и Женщины. «Вот это кость от костей моих и плоть от плоти моей», — говорит Человек, когда видит жену. Рассказ завершают слова Ягвиста, которыми освящаются любовь и брак: «Оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей и станут двое — одна плоть». За пятьсот лет до Платона библейский мудрец рассматривает тайну пола не только в плане продолжения рода, но и в плане восстановления некой полноты цельного человека 577).
Первая Женщина, по выражению Ягвиста, «мать всех живущих». Этой краткой формулой отвергаются все сомнения относительно единства человеческого рода. Здесь нет, как в индийском мифе о Пуруше, людей «второго сорта», а недвусмысленно утверждается общий корень и кровное родство всех людей. Это утверждение будет не раз повторяться Ягвистом в рассказе о потопе и о происхождении племен.
Ягвист не проповедует иллюзий. Он слишком глубоко проник в человеческую природу, чтобы не видеть ее пороков и слабостей. Его метаисторический Пролог к истории народа Божия — это печальная повесть о безумии человека, о его противлении Богу и повторяющихся актах возмездия. «Велико развращение человеков на земле, и все мысли и помышления сердца их злы во всякое время» 578). Это умение прямо смотреть в глаза действительности сближает Бытописателя с вавилонскими мудрецами, с авторами поэм об Этане и Адапе, о господине и рабе и Гильгамеше. Тем не менее их безысходный пессимизм чужд Библии.
Ягвист строит свое повествование как теодицею, «богооправдание». Он решительно не принимает мысль о том, что зло создано Богом. Напротив, в творении все прекрасно и гармонично, хотя и не окончено. Земля обнажена и пустынна, но она ждет человека- творца, и на ней появляется Эдем как начало мирового цветения. Человек не только господин природы, окружающей его, но и господин над своей собственной природой. Его плотская, стихийно-чувственная жизнь протекает естественно и гармонично. Об этом свидетельствует нагота первых людей, которым нечего было стыдиться. Древо Жизни, от которого Человек еще не вкусил, ожидало его. И если вспомнить о многогранном значении этого символа, то можно думать, что не только вечную жизнь обещало оно, но и приобщение к высшей мудрости. У шумеров есть указание на Древо Истины, а в Притчах Соломоновых Премудрость прямо названа «древом жизни» 579).
Итак, бедственность человеческого бытия проистекает не от Божества, как в шумерском мифе, а от самого человека. Это
291
он восстает против Творца, пытаясь утвердить свою волю вопреки Тому, Кто его создал. Пролог Священной Истории — это цепь грехопадений и преступлений человечества.
Ягвист еще не знает учения о Первородном грехе в той форме, в какой оно раскрылось в позднем иудействе и в Новом Завете 580).
В Прологе он рассматривает лишь главные аспекты богопротивления, зарождающегося в человеке; это отвержение Воли Божией, братоубийство, извращенность и гордыня богоборческой цивилизации. Библейский автор использует для их описания старинные легенды и строит Пролог из сказаний о Змее, Каине, Потопе и Башне. Он располагает эти эпизоды в хронологическом порядке. Многие богословы считают, что это лишь символический язык иконы, говорящий о вневременном. Так, Бердяев видит в Грехопадении нечто совершившееся за пределами этого бытия, а один из выдающихся новых библеистов Клаус Вестерман полагает, что вкушение от Древа Познания, братоубийство Каина, развращение перед Потопом и построение Башни — все это лишь различные способы описания одного и того же метафизического события или факта: восстания Человека против Создателя 581).
Обратимся теперь к самому Прологу.
* * *
Осененный божественным благословением, призванный быть владыкой мира, Человек, согласно Библии, получает предостережение от Ягве. Ему угрожает гибель, если он вкусит от Древа Познания добра и зла. Эта заповедь есть как бы пробный камень для испытания преданности Человека воле Творца.
Что же означает это Древо — «Эц хадаат тов вэ-ра»? Если рассматривать этот символ в аспекте нравственном, то может на первых порах создаться впечатление, что Древо Познания означает различение моральных категорий, неведомое природному миру. Но из библейского текста явствует, что Человек сотворен разумным существом и предполагать в нем неведение добра и зла, свойственное животным, нет ни малейших оснований. Есть и другой аспект нравственной интерпретации символа. Согласно Вл. Соловьеву, «сущность грехопадения состоит в том, что человек решился испытать зло на деле» 582). А католический богослов Роланд де Во рассматривает познание добра и зла «как способность лично решать, что является добром и злом, и действовать в соответствии с этим решением» 583).
Это последнее понимание очень удачно вскрывает основной мотив непослушания человека, стремление к автономии, к независимости от Бога 584). Но прямой смысл ягвистического сказания, хотя и подтверждает эту мысль о стремлении человека к автономии, имеет несколько иной оттенок.
292
Прежде всего характерное ветхозаветное словосочетание «добро и зло» («тов вэ-ра») не имело прямого нравственного смысла. Буквально «тов» означает не абстрактное «добро», а «полезное», «доброе», «доброкачественное», и, соответственно, слово «ра» означает «худое», «вредное», «опасное». А вместе они представляли собой идеоматическое выражение, означавшее «все на свете», «все важное для человека», «все стороны жизни». Эта идиома свойственна как ягвисту, так и автору «Истории Давида» 585). Таким образом, библейское Древо можно назвать просто Древом Познания.
Но если это так, то легко может возникнуть мысль, что Бог считает необходимым для человека пребывать в темноте и невежестве, мысль, которая находится в вопиющем противоречии с царственностью человека и «наречением имен» животным.
Здесь следует обратить внимание на то, что библейское слово «даат» («познание») коренным образом отличается от соответствующего греческого слова «гнозис». «Даат» означает не теоретическое знание, а овладение, обладание, умение. Оно употребляется для обозначения супружеских отношений и владения мастерством 586).
Таким образом, перед нами попытка человека «стать как Элогим», присвоить себе высшую власть над миром и его тайнами и сделать это независимо от Бога 587).
Религиозная история является замечательной иллюстрацией к этой жажде быть самодовлеющим властелином над миром. Она составляет самую сущность Магизма, который можно определить словами Тареева как «религиозную вражду», как желание овладеть ключами могущества независимо от Бога. В этом смысл посягательства на Древо Познания. «Греховным, — говорит Тареев, — в пожелании первых людей было не само по себе стремление к божественному совершенству, к божественному содержанию своей жизни, а стремление к внешнему абсолютному совершенству» 588). Бог — предмет зависти, Бог-соперник, Бог как нечто чуждое — вот что рождается в помраченном грехом сознании человека и толкает его на преступление заповеди. То, что этот надлом в отношении человека к Богу произошел в самом начале существования человека, подтверждает Магизм, паразитирующий на религии уже в самые ранние эпохи предыстории.
* * *
Ягвист знает, что человек пошел на преступление под воздействием враждебных сил. Но кто они, эти силы? Богословского учения о Духе Зла в ту эпоху Израиль еще не знал. Ему были известны демоны других народов, но они были составной частью пантеона, злыми богами, населявшими небо и землю, отравлявшими жизнь человека 589). Признать их бытие означало для еврейского мудреца сделать огромную уступку язычеству. Только
293
после окончательного утверждения единобожия израильские богословы впервые начинают говорить о Сатане 590).
Итак, Бытописатель должен был найти соответствующее обличье для враждебного начала, действие которого он ощущал в Эдемской трагедии. В древней Месопотамии существовали мифы о драконах — противниках богов, эпос о Гильгамеше говорил о змее, похитившей у богатыря траву вечной юности. Но решающим для Бытописателя могло явиться то обстоятельство, что Змей выступал обычно как атрибут ненавистного культа плодородия. Змей был фаллическим символом и изображался на многих языческих рельефах и фетишах. Мы видим его в руках чувственных богинь Сирии, Финикии, Крита. В Палестине были найдены змеевидные талисманы и модели храмов со змеями 591). В Египте Змей тоже играл роль хтонического божества. Змеиный облик имела богиня жатвы Рененут и сам бог земли Геб. Кобры были также символом магической власти и поэтому изображались на тронах и коронах царей 592). Культ змеи просуществовал до поздних эллинистических времен. В святилищах Змея часто содержали живых рептилий как воплощение божества 593).
Таким образом, если с одной стороны змея была эмблемой языческого культа, а с другой — внушала невольный страх и отвращение, то следует признать, что Ягвист не мог найти для враждебных сил более подходящей маски, чем маска Змея.
Змей (Нахаш) Ягвиста — это разумное, но коварное существо. Очевидно, он ходил на четырех ногах, т. к. ползанье стало его уделом лишь впоследствии. Изображения таких четвероногих змеев можно видеть на египетских и шумерских рельефах 594). Но во всяком случае Бытописатель ясно говорит о том, что Нахаш принадлежал к животному миру. Это может вызвать недоумение, т. к. большинство читателей Библии привыкло видеть в нем просто дьявола. Ягвист же говорит о Нахаше как о наиболее «мудром» или «хитром» (арум) существе среди «зверей полевых, которых создал Ягве» (ми кол хайат хасаде, ашер аса Ягве). И тем не менее принадлежность к животному миру не снимает с Нахаша ореола таинственности. Дело в том, что, хотя ягвист и утверждает уникальность человека среди прочих существ, он мог в какой-то степени разделять взгляд своих современников на животных. В ту эпоху животных не рассматривали просто как низшие существа. Они казались обладателями неких тайн, граничащих с миром потусторонним.
На всех алтарях древнего мира мы видим изображения зверей, птиц, рыб, пресмыкающихся. Даже в храме Иерусалимском были помещены изваяния быков. Следовательно, то, что некий древний четвероногий Змей заговорил с Женщиной, могло представляться для того времени вполне естественным. Ибо сам Змей казался сверхъестественным.
Итак, Нахаш соблазняет Еву, нарушив запрет. Их беседа передана с такой неподражаемой живостью, с таким тонким знанием
294
человеческой психологии, что остается на века типичным образом соблазна и падения. Змей заставляет Женщину усомниться в истинности того, что сказал Творец. И она делает выбор, доверяя больше Змею, чем Богу...
То, что люди, согрешив, познали стыд, свидетельствует о какой-то связи между падением и чувственностью. Это опять приводит нас к Змею как символу магического, сексуального культа. То, что проводником искушения стала Женщина, тоже может рассматриваться как намек на этот культ. Магические обряды Сирии были тесно связаны с поклонением богине, которая была воплощением Вожделения, Размножения и Материнства. Таким образом, если мы сопоставим эти звенья: запретный плод, Змей, женщина и стыд, то принуждены будем согласиться с богословом, утверждающим, что «Ягвист описал падение человека в терминах своего времени и своей цивилизации, как нечто идентичное культу плодородия» 595). Это становится еще очевиднее, если мы обращаемся к первобытным религиям и религиозной истории самого Израиля. Подобно тому как в доисторическом мире начало язычеству положил культ Богини-Матери, так и в Израиле главным религиозным соблазном были сирийские верования, связанные с женщиной, змеем и изменой своему Богу.
* * *
Отныне Эдемский сад закрыт для людей. Херувим и огненный меч охраняют доступ к Древу Жизни. Мы уже знаем, что херувимы были олицетворением бури и статуи их ставились как стражи дворцов и святилищ. Точно так же и «огненный меч» обозначает атмосферный огонь, охраняющий запретные сферы 596). Эти древневосточные образы должны означать лишь то, что человек был лишен богообщения и вечной жизни.
Нередко представляют дело так, будто грех обрек Человека на труд. На самом деле, как мы видели, Человек еще в Эдеме вел активную созидательную жизнь. Но отпадение от Бога наложило проклятие на землю, и труд из радостного превратился в мучительный и тягостный. Природа вооружается против Человека, и он принужден добывать себе пропитание «в поте лица» до тех пор, пока не «возвратится в землю, из которой был взят».
Некоторые историки любят сравнивать повествование Ягвиста с поэмой об Адапе. Однако между ними почти нет сходства. Полубог Адапа теряет бессмертие в результате путаницы и недоразумения. В поэме нет никакого нравственного смысла. Напротив, библейское сказание утверждает вину и ответственность человека за катастрофу, лишившую его Древа Жизни 597).
Здесь мы оказываемся перед лицом еще одной загадки Ветхого Завета. Не только Ягвист, но и последующие библейские мудрецы и пророки ничего не говорят о посмертном воздаянии. Они как будто не знают о нем. Утратив вечную Жизнь,
295
даруемую райским древом, человек живет долго, многие столетия, но в конце концов он навсегда уходит во тьму могилы. Правда, личность умершего не исчезает совсем. Она ведет одинокую жизнь в подземной области Шеоле, который аналогичен шумерскому Куру, вавилонской Преисподней и греческому Аиду. Там человек отлучен не только от близких, но и от Бога, он погружен в непроглядный мрак и ведет полусонное существование. Он не мечется, как тени в Аиде, но объят мертвенным покоем 598).
Вообще Библия настолько мало и глухо говорит о посмертии, что почти невозможно составить ясное представление о нем по книгам Ветхого Завета. Только в последние столетия перед Рождеством Христовым мы видим появление среди иудеев веры в посмертное воздаяние и грядущее воскресение мертвых 599).
Объяснять этот странный факт влиянием Вавилона возможно, но такого объяснения мало. Тем более что именно после вавилонского плена у евреев впервые появляется учение о бессмертии. Мы видели, каким холодом пессимизма веет от поэзии Двуречья именно в связи с отсутствием веры в бессмертие. С другой стороны, египтяне — соседи Израиля — могли дать учение более утешительное. И тем не менее допленная религия Ветхого Завета не знает бессмертия. Это можно объяснить лишь одним: евреи не пережили этого учения в своем религиозном опыте, истина бессмертия не была им открыта в течение долгого времени.
Это явилось величайшим религиозным испытанием, исторгшим из народной души вопль Иова. Но в то же время оно предохранило Израиль от соблазна «потусторонности». То, что посмертие оставалось тайной, не позволяло пророкам злоупотреблять загробным миром, как то случилось с Платоном или Пифагором. Их страстное требование справедливости было укреплено этим неведением в отношении загробного мира. И лишь тогда, когда основные идеи истинной ветхозаветной религии прочно вошли в сознание народа, явилось откровение о вечности. Книга Даниила, Книга Маккавеев, апокалиптические писания, Книга Премудрости возвестили грядущее Воскресение из мертвых и радость праведных в лоне Отца.
В эпоху же появления первой Св. Истории даже духовные вожди народа не видели горизонтов посмертия.
* * *
Вслед за первой трагедией Священная История говорит о второй: о братоубийстве. Если первый бунт был направлен прямо против Бога, то теперь человек идет против человека.
Но и в этом преступлении обнаруживается искажение религиозного сознания. Когда Каин и Авель приносили жертвы, то Ягве благосклонно принял дар Авеля, а Каиново приношение отверг. «И было досадно Каину весьма, и поникло лицо его», (причина предпочтения Авеля не указана, но она, несомненно,
296
существовала в утерянной части рассказа.) Охваченный злобой Каин решился убить брата, который якобы похитил у него благословение. Ведь их было только двое жертвоприносителей, и со смертью Авеля Каин мог рассчитывать на особое внимание со стороны Бога. Само же убийство он надеялся скрыть от Ягве. Таким образом, Каинов грех коренился в наивном убеждении, что небесные дары можно получить путем насилия и обмана. Это убеждение, столь характерное для Магизма, Ягвист разрушает тем, что показывает Всеведение Бога, который проникает в глубины человеческого сердца и видит истинные мотивы поступков. Ягве еще до братоубийства предупреждает Каина, что «грех лежит у входа» и надо «властвовать» над ним. Поэтому в отношении к Богу человек должен руководствоваться только искренностью и чистосердечием.
В сказании о Каине и Авеле есть еще один существенный мотив. Противопоставлением Каина и Авеля Бытописатель хочет показать, что высота цивилизации не есть обязательно доказательство нравственной высоты. Каин — земледелец, он обрабатывает землю, но Ягве предпочитает ему простого пастуха Авеля.
Само имя Каин — не вымышленное. Так именовался предок-эпоним племени кенитов, или каинитов, входивших в израильскую федерацию племен. Так как слово «Каин» означает «кузнец», можно предполагать, что в древности кениты были более цивилизованны, чем их собратья израильтяне. Это подтверждается тем, что Ягвист называет первыми цивилизаторами потомков Каина 600).
Но если символика имени Каин имеет, таким образом, ясную генеалогию, то происхождение имени Авель менее понятно. Скорее всего оно происходит от аккадского слова «аплу», что значит «сын», и Авель является собирательным образом свободных пастушеских народов. Более примитивные в своем быте и более слабые, они тем не менее угодны Богу своим благочестием.
Кровь, которую пролил Каин, вопиет к небу. Убийца изгнан в пустыню, где он обречен скитаться вдали от людей. Там он и его дети основывают первый город, впервые осваивают металлы и изобретают музыкальные инструменты.
В языческих мифах людей обучают цивилизации боги. В библейском сказании культура — область чисто человеческого творчества. Однако Ягвист знает, что цивилизация несет с собой много опасностей, и относится к ней с большой осторожностью. Это так понятно, если вспомнить, что Св. История писалась в те годы, когда цивилизация в Израиле была в основном иноземного, языческого происхождения. Но помимо этого осторожность и даже некоторый скептицизм мудреца имеют значение общечеловеческое. Как свобода может привести людей к безумству богопротивления, так и цивилизация может стать орудием греха. Нам ли в XX в. ставить под сомнение эту истину?..
297
Что касается восьми поколений от Адама до Ноя, то здесь Ягвист, несомненно, использовал древнее шумерское сказание о восьми царях, которые правили один за другим перед Потопом. Это литературное заимствование не имеет никакого отношения к смыслу повествования в целом 601).
С Потопом связан рассказ Ягвиста о третьем аспекте или этапе богопротивления.
* * *
Мы уже говорили о том, какую роль играли маги и заклинатели в утверждении абсолютной власти над племенами. По всему Востоку и Западу ходили сказания и легенды об этих полу- божественных существах, которые иной раз прямо отождествлялись с богами. Одни из них считались мифическими основателями династий, другие — зачинателями искусств и ремесел. По распространенному убеждению, они владели секретами природы, и им были подвластны духи стихий 602).
Бытописатель использовал эти легенды для того, чтобы нарисовать картину нового посягательства человека на божественную власть.
«Исполины, — говорит он, — были на земле во дни те, особенно после того, как стали входить сыны богов (бене-ха-эло-гим) к дочерям человеческим и те стали рожать для них. Они были богатырями, которые издревле люди прославленные (буквально «анешей хашем» — люди с именем, именитые). И увидел Ягве, что велико зло человека на земле и все мысли его сердца только зло во все дни» 603).
Кто были эти «сыны богов»? Прежние толкователи видели в них потомков благочестивого племени, которое развратилось, вступив в брак с «дочерьми человеческими», т. е. женщинами Каинова рода 604). Но такое толкование в высшей степени сомнительно. Библия под «сынами богов» или «сынами Божиими» подразумевает духовные существа 605). То, что в результате брачного союза «детей богов» и женщин рождаются Исполины, лишний раз указывает на то, что священный автор имеет в виду существа сверхъестественные.
Связь любви и семьи, брачный союз в Библии нередко выступает как символ союза религиозного, религиозной верности. Пророки описывают ветхозаветную религию в терминах брачного союза Ягве и Израиля, Бога и Его общины. Этот мотив Св. Писания находит свое отражение у апостола Павла, когда он говорит о Христе и Церкви.
Брачная символика употреблялась и в языческих религиях. Богини нередко являлись как бы супругами царей. Языческие властители обычно вели свою родословную от богов, и многие из них титуловались «сынами богов».
В свете этого раскрывается и смысл библейского иероглифа. Ветхий Завет нигде не упоминает прямо о возникновении
298
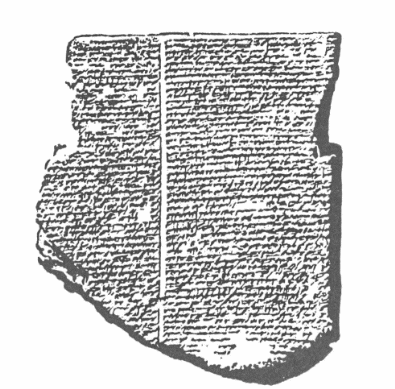
Обломок глиняной плитки с мифом о Потопе,
обнаруженный Дж. Смитом
язычества. Но зато здесь, в гл. 6 Бытия, Ягвист говорит о брачном союзе людей со сверхчеловеческими существами. Образ оккультного разврата, незаконного, помимо Бога происходящего, смешения — есть образ демонолатрии и магического политеизма. Вспомним о титанах-богоборцах, о Гильгамеше, который бросал вызов небесам, о властителях-магах древности, и станет вполне вероятным, что история Исполинов — это картина извращения религиозного сознания, богоборческая цивилизация, построенная на языческой основе.
Магический политеизм не есть просто ошибка или иллюзия. Он есть подпадание человека под власть демонических сил, «брак» с темными оккультными стихиями и измена Богу истинному.
Замечательной чертой сказания является то, что в нем люди действуют уже совершенно независимо от Бога. Если еще Каин лицом к лицу говорит с Ягве, то «сыны богов», женщины и их потомки Исполины действуют уже вполне автономно, так, будто бы Бога не существует. Растление захватывает человеческий род, и зло торжествует...
Однако Бытописатель в своем Прологе показывает, что в мире царит закон воздаяния. За преступлением следует наказание: Адам лишается Древа Жизни, Каин изгоняется в бесплодную
299
пустыню; Исполины и весь развращенный род человеческий также не могут избежать возмездия. Для того чтобы изобразить это, Ягвист вновь прибегает к вавилонским сказаниям и повествует о Потопе, истребившем грешное племя.
Когда речь шла о Творении, Адаме и Каине — мы знали лишь фрагменты литературных прообразов Библии. Что касается Потопа, то тут Книга Бытия перекликается с многочисленными сказаниями древнего мира 606).
Многие ученые в настоящее время полагают, что в местах обитания древнейшего человечества за несколько тысяч лет до н. э. произошла грандиозная катастрофа. Общность многих мифов в какой-то степени свидетельствует о реальности этого события. Существует мнение, что потоп был вызван включением луны в земную орбиту; ссылаются на сохраненное Платоном предание об огромном атлантическом острове, который «в один день и одну бедственную ночь» погрузился в океан. Много споров вызывает сходство культуры древней Мексики и Центральной Америки и с культурами Египта и Вавилона. Вопрос этот остается открытым и поныне 607).
Для нас важна не сама катастрофа, а ее описание в Библии. Несомненно, что образцом для сказания Ягвиста послужила шумеро-вавилонская легенда. Шумерский вариант ее сохранился в отрывках. Он говорит о семидневном наводнении, которое по воле богов уничтожило людей. Только царь Зиусудра, предупрежденный тайно богом Энки, построил корабль и спасся от гибели 608).
Вавилонский вариант сохранился полностью. Он вошел в поэму о Гильгамеше. Здесь все происходит как и в шумерском мифе. По воле богов на землю обрушивается страшная буря. Поэма дает незабываемую картину катаклизма:
Едва занялось сияние утра,
С основанья небес встала черная туча.
Адду гремит в ее середине,
Шуллат и Ханиш идут перед нею,
Идут гонцы горой и равниной...
Подняли факелы Аннуннаки,
Чтоб их сияньем зажечь всю землю.
Из-за Адду цепенеет небо,
Вся земля раскололась, как чаша.
Первый день бушует южный ветер,
Быстро налетел, затопляя горы,
Словно войною людей настигая.
Не видит один другого,
С небес не видать людей.
Боги потопа устрашились,
Поднялись, удалились на небо Ану,
Прижались, как псы, растянулись снаружи.
Иштар кричит, как в муках родов,
Госпожа богов, чей прекрасен голос...
Боги смирились, пребывают в плаче,
Теснятся друг к другу, пересохли их губы 609).
300
Единственным спасшимся человеком был царь Утнапишти. Бог Эа (семитический двойник Энки) предупредил его и научил построить большой ковчег. На этом ковчеге он носился по волнам во время бедствия и своими глазами видел, как «весь род людской превратился в глину». Потоп свирепствовал семь дней, а на седьмой день воды утихли, и ковчег прибило к горе Ницир. Утнапишти выпустил голубя, но тот вернулся; вернулась и ласточка. Когда же полетел ворон, он не вернулся, а стал клевать трупы. Утнапишти принес жертву богам, которые «как мухи» собрались вокруг алтаря. Они были очень рады, что потоп не лишил их последнего жертвоприносителя. В конце концов Утнапишти и его жену провозглашают богами.
В 1929 г. археолог Л. Вулли, производя раскопки в районе Ура Халдейского, обнаружил следы «такого наводнения, которого Месопотамия не знала за всю свою многовековую историю». Слой наносов покрывал пласт культуры, существовавшей примерно 6000 лет тому назад. «Если максимальная толщина слоя доходит до трех с половиной метров, вода должна была подниматься по крайней мере метров на семь с половиной» 610). Таким образом, шумеро-вавилонский миф основывался на легенде в сущности достоверной.
Ягвист почти дословно заимствовал многие детали Вавилонского сказанья, однако придал ему совершенно иной смысл. Мы не видим в Библии ни духов, несущих молнии, ни причитающих богов, которые в ужасе от бедствия, ими самими вызванного. Библейский автор говорит о катастрофе, допущенной Небом за человеческие преступления. Ной и его семья спасаются не благодаря прихоти или конкуренции богов. Он избран как единственный праведник среди развратившегося людского рода.
Был ли потоп всемирным? Те, кто ищет в Библии фактов геологических, будут разочарованы. Поэтическая оболочка сказания заслоняет внешние детали и факты. К тому же понятие «мир» было для древних весьма ограниченным, оно не шло дальше Средиземного моря и Двуречья. При этом надо отметить, что Библия часто употребляет слово «земля» и даже «вся земля» для обозначения только лишь одной локальной местности 611). Геология не знает глобального потопа, но вполне возможно, что бедствию подверглись наиболее древние очаги цивилизации.
Потомки Ноя в библейском повествовании стали родоначальниками трех основных языково-племенных групп древности: семитов, яфетидов и хамитов. Этими племенами для автора Книги Бытия ограничивалось человечество 612). По поводу этого указания на братство народов Б. Тураев писал: «Библия сохранила единственный в своем роде памятник, доказывающий, что еврейский народ опередил, может быть, своих более культурных соседей, не только созрев до сознания единства человечества, но и до его классификации» 613). И пусть научная сторона этой этнической классификации порой и кажется наивной, но непреходящими ос-
301
таются слова Ягвиста: «От них населилась вся земля»; это означает, что люди, разные по крови и языку, в сущности представляют собой единую семью.
Сказание о сынах Ноя завершается последним актом богоборческой драмы: сооружением Башни. Начало текста, очевидно, урезано, так как неизвестно, о каких людях идет речь. Можно полагать, что это были все потомки Ноя, представлявшие собой людей «одного языка и одного наречия». Но так как перед этим уже шла речь о первых государствах Востока, то, вероятнее всего, библейский автор имел в виду семитическое племя.
Итак, эти люди, составляющие «один народ и один язык», укрепляются в «земле Сеннаар», в Месопотамии. Там они строят город и Башню «высотою до небес». Делается это для прославления своего имени и главным образом «для того, чтобы не рассеяться по лицу земли» 614). Но этот замысел был неугоден Ягве. Он смешал языки строителей и рассеял их по лицу земли.
В заключение автор указывает на название этого города: Вавилон — и добавляет, что так он был назван от слова «балал» — смешение 615).
На первый взгляд замысел строителей башни не кажется заслуживающим упрека. Они хотели жить вместе, боялись рассеяться и вот поставили себе как бы ориентир в гладкой равнине. Образ Башни был, несомненно, навеян зиккуратами Месопотамии. Но они не были указателями, а посвящались богам. Эта языческая их сторона могла быть причиной гнева Божия, но на нее в Библии нет ни малейшего намека. К этому нужно добавить, что, вероятно, именно в виде ступенчатого сооружения представляли себе и древние евреи лестницу, ведущую в небо 616).
Итак, ключ к расшифровке сказания нужно искать не в самой Башне и не в городе, а в чем-то ином. И тут на помощь приходят древние клинописные тексты. Оказывается, в надписях воинственных царей Месопотамии нередко встречается выражение «сделать людьми одного языка». Так, Тиглатпаласар I (ок. 1000 г. до н. э.), говоря о своих победах и наложении дани, заключает манифест словами: «Я сделал их людьми одного языка». Саргон II (ок. 715 г. до н. э.) требовал от жителей своей столицы, чтобы они «говорили на одном языке». Эту терминологию использовали и Саргон Аккадский, и последний великий царь Ассирии Ассурбанипал 617).
Эти надписи бросают неожиданный свет на библейскую Башню. Она оказывается недвусмысленным символом империй, подчинявших себе людей путем насилия. Сплочению человечества в Боге и через Бога строители «Вавилона» противопоставляют единение внешнее, на чисто человеческой основе, и для этого воздвигают свою исполинскую Башню. От Саргона, вавилонян, фараонов и ассирийцев, от персов, македонцев и римлян вплоть до нашего столетия высятся на дороге истории обломки этих недостроенных имперских башен...
302
Уже не первобытный человек, а питомец цивилизации ищет автономии и идет по пути самообоготворения. Но сущность трагедии остается все той же, что и в Эдеме. Башня-империя есть символ попытки «устроиться без Бога на земле». Вновь и вновь хлопочут строители, вновь и вновь озабочены решением задачи «устроения» общества («чтобы нам не рассеяться по лицу земли»), но вновь и вновь сходит Господь «посмотреть на город и Башню», и неизменно плоды демонической гордыни рушатся, как сделанные из песка...
* * *
Библейский Пролог есть повесть о богопротивлении человека, рисующая мрачную картину мирового Грехопадения. Но не следует забывать, что это только Пролог. Если бы все ограничивалось им, то мы имели бы право назвать Ягвиста проповедником пессимистической философии, подобно поэтам Месопотамии. Но именно тогда, когда завершается рассказ о Башне, Бытописатель впервые говорит о возможности спасения человечества. Пробил час. Среди падших и противящихся Богу людей появляются такие, которые с полным доверием следуют за его призывом. Так вступают в мир первые избранники, «люди Ягве», Народ Божий, в котором «благословятся все племена и народы земли».
* * *
«Весь Ветхий Завет есть не что иное, как история войны Бога за утверждение лика Своего в душе человека. Явить лик Божий миру и был призван Израиль» 618). Начало его — в вере и послушании Авраама, с которым Ягве заключает союз, или Завет.
Самое замечательное в Св. Истории это то, что Бог не открывает Аврааму своих конечных замыслов. Он не говорит, для чего патриарх должен выйти из дома отца своего, для какой цели ему обещано владение Ханаанской землей. И тем не менее Авраам безоговорочно подчиняется. В противоположность Адаму, Каину, Исполинам и строителям Башни он добровольно признает над собой Высшую Волю. Поэтому прав был Вл. Соловьев, когда видел в Аврааме основателя теократии, «боговластия».
Бог — это тайна, невыносимая для человеческого существа. Только в Новом Завете открывает Предвечный истинный свой Лик. Поэтому Бытописатель не рассуждает как богослов и не дерзает говорить о сокровенном. Он лишь исповедует ВЕРУ. Его Авраам готов идти за Господом не вопрошая и готов отдать на Его алтарь Исаака, ибо он «поверил Господу». Это центральный акт дохристианской истории духа.
Величавый, благородный Авраам, кроткий, доверчивый Исаак, настойчивый и упорный Иаков — все они объединены одним
303
порывом веры, и с ними Бог заключает союз во имя Грядущего.
И хотя пути Божии неисповедимы и тайна Его недоступна человеку, вера патриархов делает Творца бесконечно близким человеку. Такова поразительная диалектика Ветхого Завета. С одной стороны, Ягве проявляет Себя лишь в Своих деяниях, но с другой — Он делает Авраама Своим «другом» и приходит в его шатер как простой странник. Конкретность, человечность Бога выражена в предании о патриархах при помощи прямого антропоморфизма, в котором открывается неисповедимая близость Предвечного к людям. Эта интимность библейской религии побудила Паскаля предпочесть «Бога Авраама, Исаака и Иакова» Богу философов и ученых 619).
Следующим этапом Священной Истории является Завет Ягве с народом, заключенный через Моисея. Тайна Божия остается по-прежнему сокрытой. Сущий является в буре и пламени, опаляющем человека. Но Он же в огненном столпе идет посреди стана и своею рукою ведет Сынов Израиля от Египта до Синая.
«В эпосе об исходе дано религиозное учение об откровении Бога в истории и через историю» 620). В событиях, разыгравшихся в земле Рамсес и в Синайской пустыне, Ягве явил Свою волю и создал Свой Народ, которому надлежало стать «царством священников и народом святых», т. е. Церковью. «Смысл Исхода прежде всего в том, что Ягве усыновляет Израиль. Это усыновление вполне равноценно новому рождению. В союзе с Ягве только и обеспечивается сама жизнь народа в качестве чада Божия, вместо прежнего раба, обреченного на смерть» 621). Поэтому Пасха становится не просто праздником пастухов или воспоминанием о событии прошлого, но она есть непрекращающееся свидетельство о явлении на земле Божьего удела. Судьба Ветхозаветной Церкви двуедина. Это, с одной стороны, «исход», «отделение», «обособленность», но, с другой стороны, в этом же уделе заключено духовное будущее «всех племен и народов». Это двуединство сохранилось и в Церкви Новозаветной, отраженное в двух ее наименованиях: Православная и Вселенская (Католическая, Кафолическая). Исключительность и универсализм идут здесь рука об руку, и эти два аспекта останутся навсегда в земной истории Церкви.
Теократия не есть подавление человека внешней властью, а — высшее осуществление его свободы. Он сам избирает себе жизнь с Богом. Небесные обетования и дары должны быть завоеваны для того, чтобы стать достоянием человека. Человек должен активно участвовать в осуществлении Божественного Плана, который постепенно открывается ему. В этом смысл Завоевания Святой Земли, обещанной еще Аврааму 622).
Неизвестно, чем заканчивалась первая Священная История как цельное произведение, но в плане целостной концепции она должна была завершиться Давидом. Вместе с великим еврей-
304
ским царем рождается идея мессианизма, которая выражена была в пророчестве Нафана. Давид, как завершитель Божественного Плана о Земле Обетованной, как избранник Ягве, получит в лице своего потомка вечное универсальное Царство.
Это будет человек, посвященный Богу, помазанный на высшее служение. Помазанник, Мессия, с этого времени постепенно входит в веру Израиля как ее средоточие. Ему посвящен древний мессианский псалом:
Сказал Ягве Владыке моему:
— Воссядь по правую руку Мою,
Доколе не положу врагов твоих
К подножию ног твоих.
Жезл силы твоей
Ягве пошлет с Сиона,
Правь среди противников твоих! 623)
«Истинный религиозный идеал Израиля, — говорит С. Трубецкой, — есть идеал Царства Божия, осуществляющегося на земле через избранный народ и предзаложенный в союзе живого Бога с этим народом». Поэтому помазание царя есть не освящение идеи монархии, а залог грядущего Царства Божия. «Царь есть Мессия, т. е. помазанник Божий, но не все цари верны своему помазанию, не все соответствуют тому религиозному идеалу, который в нем заключается. Самые совершенные из них. царь-пророк Давид и Премудрый Соломон, ниже этого идеала» 624).
Ягвист и его единомышленники были далеки от идеализации прошлого и настоящего именно потому, что страстно верили в Грядущее. Бог открылся им в Своих деяниях, через эпопею народной истории. Они отвергли языческие концепции о круговороте и цикличности, разрушили миф о статичной Вселенной и увидели мир и человечество как Историю, Драму, Становление, как прелюдию к Царству Божию. Это учение будет углубляться и одухотворяться у великих библейских пророков.
Во имя этой веры в Мессию и Царство Ягве духовные вожди Израиля начнут борьбу с собственными первосвященниками и царями.
Ибо над сильными и великими стоит неизменно высший Закон Божественной правды.
305
Глава двадцать четвертая
БОРЬБА ЗА ВЕРУ. ПРОРОК И ЦАРЬ
Израиль и Иудея, 930—850 гг.
Автор Священной Истории не случайно с таким недоверием относился к цивилизации. На его глазах с ее распространением приходили в Израиль чужеземные обычаи и языческие верования. В плане же социальном она вела к усилению имущественного неравенства и к укреплению деспотического характера монархии.
Соломон, заботясь о престиже своей власти, постепенно усваивал привычки восточного деспота. Его уже не удовлетворяла сравнительная простота нравов, царившая при дворе отца. Он сооружает себе огромный дворец, который по роскоши соперничает с храмом и строительство которого занимает гораздо больше времени и стоит куда дороже. Чертоги отделываются драгоценными камнями и редкими породами дерева. Парадный зал превращен в чудо великолепия: трон из слоновой кости, украшенный офирским золотом, окружают изваяния львов по числу двенадцати колен. «Подобного сему, — говорит летописец, — не было ни в одном царстве» 625).
По понятиям древности, величина гарема соответствовала могуществу властелина. Поэтому гарем Соломона был превращен в целую колонию разноплеменных женщин, обитавших в обширных покоях, специально для этого построенных. Говорили, что число царских жен доходило до тысячи. Эта огромная масса женщин стоила казне очень дорого. Но царь не жалел средств. Он любил показывать приезжим свои богатства, свои огромные золотые щиты, свою драгоценную посуду, обезьян и павлинов, привезенных из Офира.
306
Гарем служил источником соблазна. Жены Соломона исповедовали разные религии. Частично для них, а частично для приезжих царь приказал построить в столице святилища Астарте, Милхому, Хамосу и другим сирийским богам 626). Эти храмы должны были содействовать торговым связям. Иностранные купцы, посещая Иерусалим, могли теперь приносить жертвы своим богам в городе Ягве. К старости Соломон все больше и больше подпадал под влияние своего окружения: женщин и евнухов. Он не останавливался перед крутыми мерами для того, чтобы изыскивать средства для роскошных пиров, приемов и содержания гарема. Но дороже всего обходились постройки в Иерусалиме. Для пополнения казны увеличивали и без того непомерные подати, а хананейское население было объявлено общественными рабами. Все области, за исключением Иудеи, жестоко страдали от поборов. В довершение всего в угоду своим женам сам царь открыто стал участвовать в языческих обрядах.
Это превращение благочестивого сына Давида в полуязыческого деспота вполне объяснимо. Сам воспитанник придворной среды, Соломон был далек от пуританских традиций старины, а с годами все больше подвергался тлетворному влиянию неограниченной власти. Подобных примеров известно множество. Не был ли даже Нерон учеником Сенеки, подававшим большие надежды на первых порах царствования?
Соломон запечатлелся в народной памяти двуликим. С одной стороны — мудрым и справедливым, строителем храма, а с другой — жестоким угнетателем, самодуром и поклонником чужих богов. Скорее всего, положительная сторона его правления была оценена позднее. При жизни же Соломона многие видели в нем прежде всего тирана, который принес народу больше зла, чем добра.
Когда израильтянин смотрел на зубчатые стены царского дворца, на пышные шествия и вельмож в роскошных одеяниях, он, вероятно, расценивал все это как измену Богу Израилеву. Священная История рассказывала людям о Моисее, о временах странствования в пустыне, о свободной жизни пастухов до появления царей. Прошлое все больше рисовалось утраченным раем, о котором вздыхали свободолюбивые израильтяне.
Возможно, что именно в это время возник цикл свадебных песен, в которых говорилось о юной девушке, не желающей идти в гарем Соломона, а предпочитающей ему своего возлюбленного пастуха 627).
Эти перекликающиеся песни, которые Гете назвал «самым нежным и неподражаемым из всего, что дошло до нас, как выражение страстной, пламенной любви», превращаются в ликующий гимн свободе, весне, юности. Они передают буйный ритм захватывающего танца среди зеленых полей, виноградников и расцветающих лилий. Картины весенней природы выступают как контраст мертвенной роскоши Соломонова дворца.
307
В последние годы царствования Соломона северные области стали очагом непрестанных волнений. Одно из самых значительных восстаний было вдохновлено пророком Ахией из Силома. Он побудил к мятежу эфраимита Иеровоама, начальника строительных работ в столице, который хорошо знал недовольство народа, отбывавшего повинности. Подробности заговора неизвестны. Летописец говорит лишь, что Иеровоам «поднял руку на царя» 628). Заговор был раскрыт, и Иеровоаму пришлось бежать в Египет.
Там мятежник был встречен как желанный гость. Дело в том, что фараон, который состоял в союзе с Соломоном, умер и теперь царствовал Сусаким I (935—914 гг.), мечтавший восстановить египетскую гегемонию в Сирии. Смуты в еврейском царстве внушали фараону надежды на успех.
* * *
Таким образом, закат Соломона был омрачен его собственным отступничеством, неудачами и восстаниями. Едва только гробница в сионской цитадели приняла под свои своды тело царя, как северные колена заволновались. Старейшины племен образовали сильную оппозицию Иерусалиму. Ее вожди хотели, чтобы наследник Ровоам (Рехабеам) явился на их сходку в Сихем и там выслушал их условия. Ровоам вынужден был пойти на переговоры; северяне потребовали от него смягчения налогов и барщины. Но царь под влиянием своих молодых советников отвечал угрозами. Он высокомерно заявил, что если Соломон наказывал непокорных плетками, то он, Ровоам, будет стегать их бичами. Этот ответ вызвал взрыв возмущения и послужил сигналом к восстанию. Снова зазвучала старая песня северян:
Что нам за дело до Давида?
Нет у нас доли в сыне Иессея.
По шатрам своим, Израиль!
Теперь держись за свой дом, Давид!
В это время в Сихеме появился Иеровоам, спешно прибывший из Египта. Северяне единодушно провозгласили его царем. Чиновник Ровоама, который был послан к восставшим, был встречен градом камней. Ровоам едва успел бежать из Сихема и запереться в Иерусалиме. Единству Израильского царства был положен конец. Это произошло в 922 году. Область, управляемая династией Давида, сузилась до размеров колена Иудейского 629).
В политическом отношении раскол был губительным. Началась цепь братоубийственных войн. Палестина снова стала добычей соседей. Сусаким I не упустил случая вмешаться в борьбу Севера и Юга. Вероятно, призванный на помощь Иеровоамом, он вторгся в Палестину, взял богатый выкуп у иудейского царя,
308
а потом прошел как победитель и по землям своего недавнего союзника. В победной надписи, установленной после этого похода в Фивах, Сусаким перечисляет многие десятки захваченных им еврейских городов. Его триумфальная плита была поставлена в Меггидо. Только смерть помешала фараону окончательно овладеть раздробленной страной 630). Воспользовались ослаблением Израиля и сирийцы Дамаска: в союзе с Иудеей они нанесли Эфраиму тяжелые поражения.
Тем не менее «разделение царств» имело, как это ни странно, положительное значение. «Будущность Израиля в области религии, — как верно отмечал Ренан, — зависела от степени свободы, которой будут пользоваться пророки» 631). А между тем монархия Соломонова типа угрожала задушить проявление свободного духа. Не случайно к восстанию был причастен пророк Ахия. А впоследствии пророк Самея протестовал против попыток Ровоама отвоевать власть над Севером.
Ослабление царской власти в обеих частях Израиля обеспечило возможность проповеди независимых взглядов и открытой религиозной оппозиции против власть имущих.
* * *
В Иерусалиме бедствие было воспринято как кара Ягве за грехи Соломона 632). Однако Ровоам, будучи сыном амонитянки, почитательницы бога Милхома, религиозной щепетильностью не отличался. К тому же ему вообще было свойственно упрямство, и он не отменил ничего из порядков, бывших при отце. Только его внук Аса (913-873) начал планомерную и решительную борьбу против язычества, побуждаемый проповедью пророка Азарии633). Преемник Асы — царь Иосафат (873-849) — посылал священников в иудейские города с книгой «Закона Ягве», чтобы они наставляли народ 634). Таким образом, в первые десятилетия после раскола Иудея сумела в какой-то степени преодолеть посеянный Соломоном соблазн. Совершенно иную картину мы видим в северном Эфраимском, или Израильском, царстве.
* * *
Иеровоам I (922-901) оказался во главе царства по размерам гораздо большего, чем Иудея, и где сосредоточивалось основное крестьянское население. Здесь были наиболее прочные староханаанские традиции. Древние города: Вефиль, Сихем, Дан — связывали себя с великими героями прошлого Иаковом, Моисеем, Иисусом Навином, Деворой, Самсоном, Гедеоном. Здесь жила основная часть хананеев. Управлять этой разнородной и строптивой массой было нелегко. Дух независимости, который послужил отделению от дома Давидова, мог пошатнуть любой трон.
309
Резиденцией Иеровоама сначала был Сихем, но потом он покинул его, поселившись в Фирце. Однако основная трудность заключалась не в выборе столицы. Нужно было решать вопрос религиозного единства Эфраима. Дело в том, что Иерусалим с Ковчегом и храмом стал постепенно даже в глазах северян общенациональной святыней. Храм, встреченный поначалу несколько холодно, приобретал популярность. В Иерусалим на торжественные богослужения стекались люди со всей Палестины.
Иеровоам I понимал, что это угрожает его престижу, и решил ослабить привлекательность иудейской столицы сооружением собственного храма. Выбор его пал на Вефиль. Здесь издревле было ханаанское святилище. Говорили, что сам патриарх Иаков называл это место «домом Божиим» и приносил здесь жертвы. Вефильский храм был установлен на высоком холме, и перед ним сооружен большой жертвенник. Знаком присутствия Божества здесь были уже не херувимы, как в храме Иерусалимском, а священный бык 635). Очевидно, таким выбором царь, шел навстречу старой склонности северных колен к этому символу. Для простого народа он уже вскоре стал образом Самого Ягве. О нем говорили: «Это Бог наш, который вывел нас из земли Египетской» 636). Уступив языческим инстинктам толпы, Иеровоам низвел ягвизм на уровень примитивной земледельческой религии. Деревянный бык, покрытый листовым золотом, превратился в настоящего идола, которому оказывались божеские почести.
Кроме царского святилища Иеровоам учредил и второе — в Дане, на северной окраине подвластных ему земель. Еще в смутную эпоху Судей здесь был построен храм с изображением Ягве 637). Теперь вместо изображения Иеровоам приказал установить в Дане священного быка, такого же, как в Вефиле.
Для новых храмов был назначен штат жрецов и установлены праздники, чтобы отвлечь паломников от Иерусалима. Народ приводил во дворы храмов жертвенных животных, и после совершения обрядов начинался веселый пир «пред лицом Ягве». Эти торжества мало чем отличались от ритуальных трапез язычников. Но мало этого: царь стал, вероятно, считаясь с местными ханаанскими обычаями, покровительствовать некоторым старым культам. Таким образом, он пошел по стопам Соломона и толкал Израиль на путь синкретизма, угроза которого стала теперь столь же реальной, как и при Судьях. Впоследствии пророки окрестили это двоеверие «грехом Иеровоамовым», а его священных быков в насмешку называли «телятами» и «телками».
К сожалению, очень мало известно о реакции ревнителей веры тех лет на религиозную политику Иеровоама. Но есть свидетельства того, что она вызвала протест с самого начала. Языческий характер новоучрежденного северного «ягвизма» был разгадан скоро. Уже во время первого праздника в Вефиле,
310
когда Иеровоам готовился принести жертву, некий «человек Божий» из Иудеи явился на торжество и в присутствии царя проклял нечестивый царский алтарь. Пророк Ахия, который еще при Соломоне поддерживал Иеровоама, теперь отвернулся от него, предсказывая падение его дома 638).
И действительно, династия пресеклась уже на сыне Иеровоама, убитом заговорщиками. Это было начало династических смут и переворотов, которые не прекращались до самой гибели Северного царства в 722 г. Половина эфраимских царей погибла насильственной смертью. В Иудее верность дому Давида подкреплялась религиозными мотивами. На Севере их не было, и поэтому монархия там находилась постоянно под дамокловым мечом. Это не значит, впрочем, что цари Эфраима были людьми колеблющимися и слабыми. Библия при всей антипатии к ним не умалчивает ни об их военных подвигах, ни о положительных сторонах их правления.
Одним из наиболее выдающихся властителей Эфраима был Омри (876-869), имя которого стяжало известность на всем Востоке. Поколение спустя ассирийцы продолжали называть Израиль «Бит Хумри», т. е. дом или царство Омри. Надпись на знаменитом памятнике моавитского царя Меши свидетельствует о том, что Омри покорил Моав и взимал с него дань в виде отар овец 639).
Омри купил землю на вершине холма близ Сихема и построил там крепость Шомрон, или Самарию. Она стала новой столицей Эфраимского царства, способной выдержать длительную осаду. Это была разумная мера, т. к. на востоке впервые появились ассирийские армии. Тир и Сидон откупились от завоевателей богатыми дарами, и они ушли восвояси. Но можно было в любой момент ждать нового нападения.
С этого времени финикийцы стали снова искать дружбы с Израилем. В эпоху раскола и переворотов прежние связи с Тирским царством ослабели. Но теперь союз с ним был возобновлен. Его закрепили тем, что дочь финикийского царя Этбаала I была выдана за сына Омри Ахава.
Когда Ахав (869-850) унаследовал самарийский престол, эти связи с Финикией стали еще более тесными. Торговцы мирового масштаба, финикийцы нуждались не только в военном союзе, но и в деловых партнерах. Они постоянно втягивали израильтян в орбиту своих операций, приводя караваны в Самарию, скупая продовольствие, привозя на продажу дорогое оружие, изящные предметы роскоши, ювелирные изделия и ткани.
Ахав вел продолжительные войны с сирийцами, но после победы над ними заключил союз с сирийским царем. Этот шаг был продиктован новой опасностью со стороны Ассирии. На этот раз ассирийского царя Салманасара III встретило огромное войско, которое преградило ему путь. В войске были соединены сирийцы, израильтяне, финикийцы, амонитяне. Ахав выдвинул 2000 колес-
311
ниц и 10 000 воинов. Столкновение произошло у Каркары в Сирии. Салманасар в своей надписи похваляется, что разбил войска коалиции. Однако это сомнительно, т. к. после сражения он спешно отступил на восток 640).
Таким образом, и политические, и экономические мотивы содействовали сближению Израиля с соседями, особенно с Финикией. Однако это сближение было чревато внутренними опасностями.
Еще при Соломоне торговля способствовала росту имущественного неравенства. Введение монетной системы привело к концентрации богатств. Была подорвана сплоченность маленьких сельских общин. Появились люди, которые скупали и перепродавали земли. Это было чем-то неслыханным. В прежние времена «земли отцов», почва, над которой трудились предки, была священна; патриархальный обычай охранял права вдов и сирот на владение земельными угодьями. Продажа отцовской земли рассматривалась как грех, что способствовало стабилизации в сфере землевладения. Новые экономические отношения не щадили обычаев. Крестьяне очень быстро стали попадать в кабалу, закладывать и даже продавать землю. Распространилось долговое рабство. Состоятельная верхушка тяготела к роскоши; в домах купцов, чиновников, царедворцев предпочитали все «финикийское», как во времена Соломона. Библия говорит, что Ахав построил себе дворец из слоновой кости. Раскопки обнаружили на этом месте тысячи обломков костяной резьбы. Очевидно, она широко применялась в царском доме для облицовки 641).
И подобно тому как финикийская цивилизация при Соломоне шла рука об руку с язычеством, так и при Ахаве религия Моисеева оказалась перед лицом новой языческой опасности. Очагом идолопоклонства явилась опять-таки женская половина дворца.
* * *
Жена Ахава Иезавель пользовалась неограниченным влиянием на мужа. Отец ее Этбаал в прошлом был жрецом тирского Ваала — Мелькарта. Вероятно, от него Иезавель унаследовала страстную привязанность к этому культу 642). Впрочем, легко заметить, что сиро-финикийские верования вообще были популярны среди женщин. Ахав считал Ягве национальным Богом Израиля. При его дворе были всегда «пророки Ягве», которых он вопрошал перед походами или в делах государственной важности 643). Однако ему казалось вполне допустимым почитать кроме Ягве и других богов, как это повелось со времен Иеровоама I. К тому же он не мог ни в чем отказать своенравной царице, требовавшей от него льгот тирскому культу. По ее настоянию в Самарии был построен храм Мелькарта, который первоначально, видимо, посещался только финикийцами 644). Но Иезавель имела
312

Ваал
Фрагмент рельефа из Суз, XIII в. До н. э.
313
широкие планы и активно способствовала распространению в Израиле своей религии. В честь Ваала устраивались великолепные торжества. Красочные мистерии изображали его борьбу с богом смерти Мотом, его схождение в преисподнюю и оживление. Возможно, участие в этих мистериях обещало преодоление смерти, и поэтому они обладали особой притягательностью. С другой стороны, многие обряды Мелькартовой религии сопровождались захватывающими плясками и исступленными вакханалиями, манившими, как запретный плод. Символом Мелькарта был священный бык — образ, привычный для израильтян, хотя иногда Ваала изображали в виде бородатого, длинноволосого воина с мечом и молнией в руках и рогатым шлемом на голове. Все места его культа украшались массебами — каменными столбами, которые также были известны в Израиле. Эти внешние точки соприкосновения с народной верой, соблазнительные стороны культа и, наконец, покровительство царицы сделали ваализм серьезным соперником религии Моисея.
Иезавель содержала несколько сот прорицателей Мелькарта, участвовавших в радениях и пышных процессиях. Храм Ваала и его символы постоянно напоминали о добром Господине, повелителе земных благ, и о его супруге Астарте, сулящей все мыслимые радости плоти. Зараза постепенно стала распространяться в Самарии и за ее пределами; уже не только финикийцы, но и сами израильтяне участвовали в поклонении Мелькарту 645). Впрочем, все это, кажется, мало смущало придворных «пророков Ягве», которые безропотно делили с жрецами Ваала царские милости.
* * *
Однако с какой бы быстротой ни распространялась языческая эпидемия, оппозиция созрела не менее быстро. Центром ее был клан рихавитов, которые, подобно назореям, не только строго держались веры в Ягве, но и частично отрицали всю ханаанскую цивилизацию. В знак протеста они отказывались от вина, жили в шатрах, не обрабатывали земли 646). Эта попытка остаться вольными пастухами в земледельческой стране была формой пассивного сопротивления тлетворному влиянию языческой цивилизации.
Но этим сопротивление не ограничивалось. Вновь появились общины пророков, именовавшиеся, как и встарь, «Бене-ха-Небиим» — Сынами пророческими. Члены общин ставили своей задачей ниспровержение Мелькарта и восстановление чистоты веры. Подробности их борьбы неизвестны. Вероятно, эти «люди Божии» ходили по городам и весям, проповедуя против языческой веры, громя отступников и колеблющихся. Этот «крестовый поход» был вскоре пресечен царицей. Она приказала схватить и казнить
314
бунтовщиков, а алтари Ягве, сооруженные ими, разрушить. Только некоторые из пророков были спасены богобоязненным царедворцем Авдием, который скрыл их и тайно снабжал продовольствием в горах 647).
Но Иезавель не достигла главного: не был схвачен вождь мятежников Илия Фесвитянин.
Жизнь и деятельность этого необычайного человека — какая-то непрерывная цепь загадок. Он пришел с востока, с границ пустыни 648). Никто не знал, откуда он появлялся и где проводил большую часть времени. С непостижимой быстротой переходил он с места на место. Тщетно искали его слуги царицы — он оставался неуловимым...
Вид его поражал с первого взгляда: смуглое лицо, обрамленное косматой гривой волос, простая пастушеская власяница; движения его стремительны, он резок, импульсивен, весь в порыве, в огне и буре 649).
Его имя означает «МОЙ БОГ — ЯГВЕ». В этих словах — кредо загадочного странника, альфа и омега его учения. Он объявляет Ваалу войну не на жизнь, а на смерть и не успокоится до тех пор, пока не поразит финикийского демона.
Илия произвел огромное впечатление на современников, быть может, самое большое после Моисея. Его окружал ореол легенд и тайн. Народ смотрел на него с каким-то суеверным страхом. Столетия спустя он продолжал свое странствие по земле. Говорили, что он явится помазать на царство Мессию. Евреи оставляли для него прибор за трапезой; он взирал на мир с византийских фресок и русских икон.
Илия — воплощение бескомпромиссности и страстный защитник справедливости. Когда Иезавели удалось расправиться со всеми поборниками Бога Израилева, он выступил один против царицы и царя, против Ваала и соблазненного народа.
О таких людях не пишут биографий. Их жизнь — это легенда, явление небывалого и немыслимого. Пророк казался пришельцем из неведомых миров, истинным «наби», провозвестником и орудием Бога. Он предстает перед нами как существо, которому подчиняются стихии, и одновременно как человек, в котором вдруг ярко проявляются слабости обычных смертных. Это делает фигуру Илии особенно привлекательной.
В общине Сынов пророческих сказание об Илии существовало, вероятно, в более полном виде, чем в Библии. Составитель Книги Царств внес в нее только четыре основных эпизода, которые условно можно назвать: «Засуха и состязание на Кармиле», «Илия на Синае», «Виноградник Навуфея», «Вознесение Илии» 650). Отделить в этих сказаниях историческую часть от поэтического орнамента поистине невозможно. Да и важны здесь не столько детали и подробности, сколько сам дух, атмосфера, которая создавалась вокруг Илии. А именно это-то и передано великолепно.
315
* * *
В первом сказании Илия появляется перед Ахавом после расправы царицы над пророками. «Клянусь Ягве, Богом Израилевым, перед Которым я стою, в эти годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по слову моему!» Произнеся это грозное пророчество, Илия скрывается за Иорданом.
Между тем бедствие превзошло все ожидания. В условиях того края засуха — это неизбежный и страшный голод. Зной выжигает нивы Эфраима. Выгорают луга, высыхают источники, гибнет скот. Даже до царского дворца добирается голод. Ахав вынужден покинуть дом и отправиться со своей свитой в поисках пропитания для своей кавалерии.
Илия тем временем живет в пустыне, на берегу потока Хора- фа, и ворон приносит ему пищу. Когда поток высыхает, он удаляется в Финикию и там живет инкогнито у бедной вдовы. Пребывание в ее доме человека Божия становится благословением для финикиянки. Чудесным образом не истощаются запасы в доме, а когда умирает ее сын, Ягве по молитве Илии возвращает ему жизнь...
Наконец силы народа истощились, и все стали понимать, что над землей тяготеет проклятье. В это время Ахаву объявляют: «Илия здесь». Пророк и царь встречаются лицом к лицу.
«Ты ли это, губитель Израиля?» — мрачно спросил Ахав. «Не я губитель Израиля, — резко ответил пророк, — а ты и дом отца твоего, тем, что вы презрели повеления Ягве и идете вслед ваалам». В этом лаконичном ответе весь Илия со всей решимостью биться до конца. Он не колеблясь бросил вызов Ахаву и предложил созвать прорицателей Ваала для того, чтобы они показали силу своего бога. Будут воздвигнуты два жертвенника — один Ваалу, другой — Богу Израилеву. На чей жертвенник снизойдет огонь — тот истинный Бог.
Великое состязание пророков совершилось на горных склонах Кармила 651). Толпы народа робко окружили Илию, прислушиваясь к каждому его слову. Прошли времена, когда они беззаботно смотрели на нововведения царя и сами курили фимиам перед изображениями чужеземных божеств. «Долго ли вы будете хромать на оба колена? — воскликнул Илия, обращаясь к народу. — Если Ягве есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал — то ему последуйте». Это было решительное и окончательное осуждение религиозного синкретизма, воцарившегося в Израиле.
Все в смущении хранили молчание, чувствуя свою вину. Страшный голод заронил в сердца сомнение относительно всемогущего Ваала и его жрецов.
«Я один остался пророк Ягве, — продолжал говорить Илия, напоминая народу о том, что никто не вступился за преследуемых, — а пророков вааловых четыреста пятьдесят человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тель-
316
ца и рассекут его и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и огня не подложу; и призовите имя бога вашего, а я призову имя Ягве — Бога моего. Тот бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог». «Пусть будет так», — закричала толпа.
Эта картина нарисована в Библии широкими, смелыми мазками; Илия одиноко стоит перед десятками ожесточенных языческих жрецов и перед полуязыческой толпой, жаждущей чуда. Внизу, у подножья горы, расстилается сухая, раскаленная долина...
И вот прорицатели Мелькарта начали свой священный танец. Они скакали и кружились вокруг жертвенника много часов подряд, неустанно выкликая: «Ваале, Ваале, услышь нас!» Но по-прежнему неподвижное небо оставалось безоблачным, по-прежнему неумолимо жгло солнце... «Кричите громче, — иронически заметил Илия, наблюдавший их заклинания, — может быть, он задумался и занят чем-нибудь, или в дороге, а может быть, он спит, так он проснется». Но жрецам было не до шуток. Нестерпимый жар палил их головы, они еле передвигали ногами от усталости, чувствуя на себе насмешливые и недоверчивые взгляды толпы. Наконец в исступлении они стали прыгать вокруг жертвенника, с громким криком поражая себя ножами. Их кровь стекала на горячие камни. «Они бесновались до самого времени вечернего жертвоприношения, но не было ни голоса, ни ответа, ни слуха».
И тогда пророк Илия приступил к жертвеннику. Это был решающий момент. Он должен был показать народу силу своего Бога, Его торжество над Ваалом. Он знал, какая участь ждет его, если Господь не услышит его молитвы. Народ был беспощаден к лжепророкам, считая, что в них вселился демон. Но подобно св. Стефану Пермскому, бесстрашно привлекшему зырянского шамана в пылавший сруб, Илия готов был отдать жизнь для торжества истины.
«Господи Боже Авраамов, Исааков и Израилев! — воскликнул пророк. — Услышь меня, Господи, услышь меня ныне в огне. Да познают ныне эти люди, что Ты один Бог в Израиле и что я, раб Твой, сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Ягве — Бог, и Ты обратишь сердца их».
Он призывал Бога «в огне», ибо огонь был той стихией, через которую чаще всего проявлялось присутствие Ягве. Он явился Моисею в неопалимой купине, Он шел перед станом Своего народа в виде Столпа огненного. Он давал людям Своим заповеди на святой горе «из среды огня». И теперь Он должен явить перед заблудшими силу и славу Свою, и явить через знамение огня. Сам служитель Его подобен огненному пламени, глаза его сверкают, как молнии, голос гремит, как гром. Седые волосы как дым развеваются вокруг головы. Народ со страхом ждет исхода. Явит ли Огненный Бог силу свою?..
317
В следующее мгновение блеск молнии ослепил присутствующих, и все увидели, как черный дым поднялся над опаленной жертвой. Пораженные израильтяне пали ниц, восклицая: «Ягве есть Бог!» А с моря тем временем потянул ветер, и показалась туча. «Иди домой, ешь и пей, — обратился Илия к потрясенному Ахаву, — ибо слышен шум дождя»...
Для жрецов Ваала состязание на Кармиле кончилось плачевно. Вооруженная толпа стащила их вниз к берегу Кисеона, и там они были убиты. В расправе принимал участие и Илия, сам подавший сигнал к истреблению лжепророков. Здесь обнаружилось, насколько он был еще сыном жестокого древнего мира, в котором царил суровый закон «око за око, зуб за зуб».
Так рассказывает легенда, в основе своей, вероятно, передающая достоверное событие. Засуха много месяцев свирепствовала в Сирии, о чем свидетельствуют финикийские источники 652). Естественно, что каждый молился своему богу или покровителю. Несомненно, что Илия и его сторонники говорили, что бедствия — наказание свыше. Очень возможно, что сцена на вершине Кармила произошла в действительности. Древняя и средневековая история знает немало примеров подобных «судов Божиих».
* * *
Когда Иезавель узнала о побоище, она пришла в ярость. Конец засухи она, конечно, приписала молениям своего отца Ваалу, а никак не Илии 653). Но зато она поклялась всеми богами отомстить пророку. И снова Илии пришлось скрываться. Он бежал на юг — в Иудею, а оттуда отправился в далекую пустыню. Ему хотелось своими глазами узреть Божию гору Синай и там узнать волю Неба.
Путь его был долог и утомителен. После торжества над язычниками Илия, очевидно, почему-то не чувствовал удовлетворения. Быть может, жестокость борьбы внесла горечь в его душу, быть может, вообще наступил закатный час жизни, когда усталость и разочарование стучатся в сердце. Он сетовал на свое одиночество и бессилие, и не раз ему казалось, что все его старания напрасны, а борьба бесполезна. «Довольно уж, — восклицал он, — о Ягве! Возьми мою душу, ибо я не лучше отцов моих!»
К концу второй недели перед пророком открылись вершины Синая.
В грозном молчании застыли голые скалы. С трепетом священного ужаса смотрел Илия на гранитные утесы, где некогда Моисей говорил лицом к лицу с Богом.
Ночь застала его в пещере у подножья Хорива. Там, гласит сказание, совершилось самое значительное событие его внутренней жизни. Во время горьких жалоб и молитв пророк вдруг почувствовал приближение Всемогущего. Он закрыл лицо свое плащом, ибо знал, что Ягве — это палящий Огонь, и обратился к Господу: «Воз-
318
ревновал я об Ягве, Боге Воинств, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили жертвенники Твои и пророков Твоих убили мечом, остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». И что же? Над Илией пронесся ураган, сокрушающий горы, «но не в вихре Господь», затем страшное землетрясение заставило вздрогнуть горные уступы, «но не в землетрясении Господь», после землетрясения палящий жар охватил пещеру Илии. Вот она, священная стихия! «Но и не в огне Господь». Внезапно жар сменился веянием тихого прохладного ветра. «И там Господь».
Что означают эти слова сказания?
Нет ли здесь первого намека на какую-то новую сторону в Богопознании, неведомую доселе?..
Во всяком случае уже через столетие после Илии в Северном царстве выступит пророк Осия, который первый заговорит о Божественной Любви. С этого времени «веяние прохладного ветра» будет постоянно ощущаться в огненных богоявлениях Ветхого Завета. Оно, по словам Дармстетера, «придает пророчеству тот неповторимый характер гнева и нежности, под влиянием которого растаяло каменное сердце древнего человечества» 654).
«Не в громе Господь, а в веянии прохладного ветра»... Это одно из потрясающих мест Ветхого Завета. В мировой литературе нет ему подобных. С ним можно сравнить лишь финал «Бранда», где суровый пастырь, неумолимый к себе и к людям, погибая под лавиной, слышит последний свой приговор: «Он есть Deus Charitatis!» Бог милосердия...
Легенда связывает Синайское богоявление Илии с концом его жизни. Ягве в тот день велел пророку назначить себе преемником Елисея и помазать на царство в Дамаск Азаила, а в Израиль Ииуя. Однако, очевидно, здесь отражены замыслы самих Сынов пророческих, сподвижников Елисея. Именно они имели связи с Дамаском, и они подготовили переворот Ииую. Им хотелось освятить свои действия именем Илии. Единственное, что, вероятно, соответствует действительности, — это призвание Елисея, который стал учеником Илии.
* * *
Второе сказание об Илии рисует его как защитника угнетенных и провозвестника правды Божией. Очевидно, это — один из наиболее исторически достоверных эпизодов сказания, т. к. он лишен всяких поэтических украшений.
Это происходило в лучшие годы царствования Ахава, когда он, окончив благополучно войны на востоке, занимался украшением своей резиденции. В городе Изрееле, своей второй столице, царь построил дворец и захотел разбить вокруг него сад. Препятствием к этому служило то обстоятельство, что примыкавший к дворцу виноградник принадлежал крестьянину Навуфею, кото-
319
рыи ни за какие деньги не хотел расставаться с наследием отца и деда. Патриархальное право было еще достаточно сильным в Израиле, чтобы царь решился просто отобрать участок, поэтому отказ Навуфея очень огорчил его. Иезавель, узнав о причине его печали, была изумлена. Для высокомерной финикийской принцессы отказ крестьянина царю и бессилие царя перед этим отказом казались нелепостью. «Что за царство было бы в Израиле, если бы ты так поступал?» — говорила она. «Встань, ешь хлеб и будь спокоен; я добуду тебе виноградник Навуфея Изреелитянина». Она написала письмо старейшинам от лица Ахава и обвинила ничего не подозревавшего крестьянина в поношении Бога и царя. По ее поручению нашли лжесвидетелей, был назначен лицемерный суд, и злополучного Навуфея приговорили к смерти.
Немедленно после его казни Иезавель с торжеством объявила мужу о том, что теперь он хозяин виноградника. Ахав был огорчен, узнав о смерти невинного, однако не утерпел и поспешил полюбоваться на виноградник. Но там случилось неожиданное. Среди зеленых кустов стоял не кто иной, как сам пророк Илия. «Ты убил и еще вступаешь в наследство?» — сурово спросил пустынник. «Настиг ты меня, враг мой!» — пробормотал в смущении Ахав. А пророк продолжал обличать и грозил полным истреблением династии Омри. Царь воспринял голос Илии как голос самого Ягве. Это смягчило пророка, и он сказал, что гибельные для Израиля дни наступят лишь после смерти Ахава.
Если сравнить это сказание с другими эпизодами, то не может не броситься в глаза, что именно попрание справедливости вызвало самое сильное негодование пророка. Распространение ваалова культа было наказано временной засухой, произвол же повлек за собой смертный приговор династии. Этот приговор Илия выносит не на Кармиле, а в винограднике Навуфея. Как и в истории Давида и Нафана, бесстрашное обличение царя было свидетельством высоких этических требований религии Ягве и решимости пророков отстаивать их до конца.
Илия сохранился в памяти людей как заступник гонимых перед сильными мира сего, как пророк униженных и оскорбленных. Это сделало его имя бессмертным.
Пророк пережил царя. Ахав погиб раньше, чем Израиль вынужден был склониться перед Ассирией. После битвы с Салманасаром царь, очевидно, полагал, что опасность миновала, и вновь порвал союз с Дамаском. Он захотел отнять у сирийцев важный стратегический пункт на востоке.
Пророк Михей предупреждал его, что поход кончится плачевно, но царь велел посадить его в темницу до того дня, пока израильское войско не вернется с победой в Самарию. Пророк оказался прав. Во время сражения произошел несчастный случай. Один воин, натягивая лук, смертельно ранил Ахава: стрела вонзилась между швами лат. Царь не хотел уходить с поля боя и вечером умер от потери крови 655).
320

Юлиус Шнорр фон Карельсфельд
Вознесение Илии
После его гибели на престол вступил Охозия, при котором фактически продолжала править Иезавель. Книга Царств говорит, что он «служил Ваалу и поклонялся ему». Кроме Ваала Мелькарта Охозия почитал филистимского Ваала-Зебуба и во время болезни посылал вопрошать оракулов этого божества. Существует сказание о том, как Илия встретил посланников Охозии и предсказал царю смерть в наказание за его измену Богу Израилеву 656).
* * *
Последняя легенда об Илии повествует о конце его земного странствия.
Почувствовав приближение кончины, пророк стремился к уединению. Елисей не мог не заметить волнения, которое охватило учителя. Невзирая на его просьбы, он не отставал от Илии. Со свойственной ему стремительностью пророк переходил из города в город, а Елисей неотступно следовал за ним. Илия уже дал понять
321
своим ученикам, что час его настал, но что он встречает его не как час ужаса, а как час торжества, ибо он избегает мрачного Шеола, куда идут души умерших, а сам Ягве «берет его». Последний раз Илия, сопровождаемый Елисеем, встретился со своими последователями у Иерихона. «Знаешь ли ты, что сегодня Ягве берет господина твоего?» — спрашивали Елисея Сыны пророческие. «Знаю, молчите», — отвечал тот.
Так шли они вдвоем по берегу Иордана; Илия спросил Елисея, каково будет его последнее пожелание. Тот попросил, чтобы Илия сделал его своим достойным преемником. «Дух, который в тебе, пусть будет во мне вдвое». «Трудного ты просишь», — отвечал Илия. Это была их последняя беседа.
Легенда повествует о том, что Елисей действительно увидел взятие своего учителя на небо. Сверкающая колесница, запряженная огненными конями, умчала пророка в небесные выси.
Что скрывается здесь под обличием легенды? Скорее всего «вознесение Илии» знаменовало веру Израиля в то, что пророк избавлен от общей участи пребывания в Шеоле. А быть может, и действительно последние минуты великого борца сопровождались какими-то необыкновенными явлениями, описанными в Библии в виде «огненной колесницы». Достоверные биографии многих мистиков и святых дают в этом отношении немало примеров.
* * *
Илия был как бы вторым Моисеем Израильской религиозной истории. В решительный момент, когда угроза язычества была самой серьезной, он нанес по нему сокрушительный удар. Выступая как глашатай справедливости, он не посчитался с притязаниями самодержавной власти, ибо был рыцарем и служителем единого царя — Бога.
Исполинская фигура Илии стоит как маяк на стыке двух эпох. Он был суровым воином, высоко поднявшим знамя Моисея, и своей борьбой расчистил путь великим еврейским пророкам — проповедникам этического монотеизма.
Но ни Илию, ни пророков, которые пришли ему на смену через столетие, нельзя рассматривать как изолированные явления. В то время уже все человечество как бы просыпалось после магического сна, готовясь освободиться от власти демонов, тяготевшей над миром. Авторы Упанишад и Будда, Лао Цзы и Заратустра, Анаксагор и Сократ одновременно с Амосом и Исайей готовились открыть миру новые пути Богопознания, но об этом будет рассказано в следующих книгах.
322
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
