13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Шмеман Александр, протопресвитер
Шмеман А., прот. О духовности, церковности и мифах
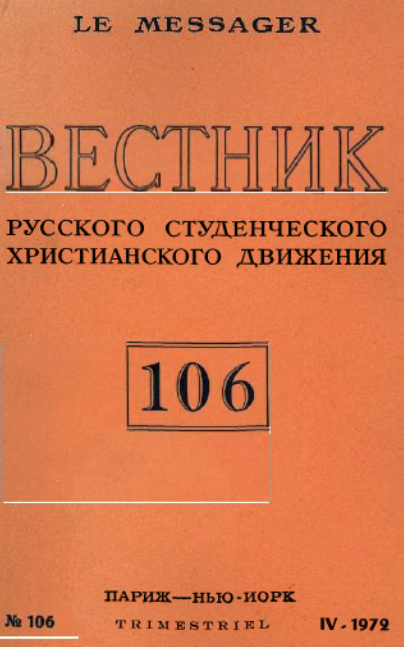
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Прот. Александр ШМЕМАН
О ДУХОВНОСТИ, ЦЕРКОВНОСТИ И МИФАХ
Ответ на письмо о Солженицыне *)
1.
Поскольку Ваше письмо, хотя и не мне адресованное, обращено несомненно и ко мне, я не могу оставить его без ответа. К этому побуждает меня и мое глубокое уважение к Вам и та неожиданная, глубоко поразившая меня, резкость, с которой Вы пишете о Солженицыне.
Да, конечно, Вы правы, когда пишете, что «не легко разобраться из Нью-Йоркского далека в сложности Вашей жизни, в ее, по Тютчеву, «особенной стати», радикально отличающей ее во всем, и внешнем и внутреннем строе, от жизни всего Запада». Я вполне сознаю, что мое восприятие и понимание процессов, совершающихся в России, может быть неполным и ошибочным и заранее готов, всякий раз, что мне на них укажут — в моих ошибках открыто сознаться. В свое оправдание, вернее, в защиту того, что я вообще дерзаю писать о России и Русской церкви, скажу только, что с годами я не только не меньше, но все больше именно от России и особенно от русского православия чаю того внутреннего возрождения, без которого не выйти всему миру из страшного духовного кризиса. Я никогда не брал на себя права какого-либо «суда» над многострадальной Русской Церковью хотя, как Вы знаете, большая часть жизни прошла в мучительных с нею разногласиях и разделениях. Поэтому и недавно, здесь, в Америке, восстановление канонического и евхаристического с нею общения я пережил и переживаю как победу церкви Христовой, ее единства, ее любви над «стихиями мира сего». Прибавлю, однако, и то, что голоса, свидетельства, оценки, доходящие до нас из
*) Речь идет об одном письме из московских церковных кругов адресованном западному журналисту для прочтения, но не для публикации.
245
России, часто противоречивы, и не значит ли это, что не только современникам, но даже и непосредственным участникам тех или иных событий, не всегда дано понимать и толковать их во всей их глубине и сложности?
2.
Но перейду к тому, что больше всего и горестно поразило меня в Вашем письме — к Вашему резкому и, я бы сказал, окончательному осуждению Солженицына. Чтобы не быть голословным, приведу Ваши собственные слова. Вы утверждаете, что «в русском православном религиозном сознании и выражающей его теперь нашей церковности, Солженицын, увы, ничего не понимает», что ему «не доступны мифы, как первофеномен духовной жизни, как духовная реальность...», что духовную, а не душевную, глубину вещей Солженицын не чувствует» и потому «о ней он нигде ничего сказать не сумел и не сказал», что «его мироощущение закрыто, может быть, наглухо для духовной глубины бытия и всего в ней коренящегося», что «духовность ему чужда, а не душевность, не эмоциональность и даже просто сентиментальность» и что именно из этой его духовной слепоты, закрытости к «духовности», он «по ком только не бьет с маниакальной уверенностью в собственной безусловной непогрешимости в чем бы то ни было». «Так — пишете Вы — появилось его открытое письмо Всероссийскому Патриарху, в котором он бьет палкой по патриарху, по иерархии и по всей нашей церкви. С ссылками, от которых за него становится стыдно, на «изучение русской истории последних веков»...
Этот Ваш духовный приговор Солженицыну, именно потому что он духовный, т. е. направлен на последнюю, духовную сущность Солженицына — человека и Солженицына — писателя, и потому еще, что исходит он от человека, к голосу которого, всегда мудрому, умеренному, мы привыкли прислушиваться, столь страшен, что, читая Ваше письмо, я ужаснулся: неужели же правда, мы так ошиблись в Солженицыне, так не распознали его сущности? Неужели правда то, что он лишь талантливый, но, увы, самовлюбленный, славой опьяненный, да и к тому еще и мало начитанный писатель, так-таки ничего не сумевший понять ни в России, ни в Церкви, ни в «духовности», ни в «мифах» и подменяющий, как Вы пишете, «правду —· отталкивающе — соблазнительной полуправдой и даже неправдой, служащей неизвестно чему и кому?»
246
Эти обвинения, этот приговор, выходят, таким образом, далеко за пределы присущих нам вкусовых ощущений и оценок — о которых, как известно, не спорят, от рассуждений о том, нравятся нам или не нравятся произведения Солженицына, прав он или не прав в том или в ином из своих произведений. Вы сами вопрос о Солженицыне поднимаете до главного и последнего вопроса, обращенного к каждому христианину: «испытывайте духов, от Бога ли они» (1 Ин. 4.1). И на этот вопрос, в применении к Солженицыну, Вы отвечаете категорически «нет»! — Не от Бога!» Такой ответ вряд ли можно дать сгоряча, в порядке полемического преувеличения. Речь, следовательно, идет о чем-то очень глубоком, очень важном, не только для Солженицына, но и для всех нас, призванных безостановочно «испытывать духов», искать узкого пути правды среди «соблазнительных полуправд и неправд», наполняющих мир.
3.
Прежде всего, и именно в виду серьезности и глубины поднятых Вами вопросов, я отвел бы как неубедительное, да и просто ненужное Ваше объяснение Солженицына тем, что он не выдержал «испытания славой», возгордился и возомнил себя — «с маниакальной самоуверенностью» — непогрешимым. Отвел бы потому, что такого рода обвинение можно было бы легко предъявить и к тем нашим «великанам», которых Вы, как раз, и противополагаете Солженицыну и именно в духовном плане, как писателей, в отличие от Солженицына, открытых «мифам, первофеноменам духовной жизни». Толстому, например, который преспокойно, с твердокаменной уверенностью в своей правоте, исправлял Евангелие, выбрасывал из него все не укладывавшееся в созданную им, до ужаса упрощенную, религию. Достоевскому, который нет-нет да и облекался в тогу непогрешимого пророка в своем «Дневнике Писателя» и о котором его недоброжелатели любят вспомнить, как на Пушкинских торжествах он подсчитывал — сколько минут рукоплескали ему и сколько Тургеневу. Не говоря уже о Гоголе, который в своей «Переписке с друзьями» дописался до такой нестерпимой непогрешимости, что в ярость привел даже Аксакова. Увы, уж если на то пошло, то христианского смирения в нашей литературе было больше, чем, пожалуй, у наших «агностиков»: Тургенева, Чехова... Однако, все это нисколько не умаляет всего подлинного, великого и вечного в творчестве наших «великанов» и потому, мне кажется, спрашивать нужно не о том, в каком
247
состоянии ими создано то или иное произведение, а просто — хорошо оно или плохо, соответствует или нет той высшей, в последнем счете всегда духовной, правде, которой одной мы и ждем от писателя.
Я не знаю Солженицына лично, не знаю ни «строя его души», ни «строя его личной жизни». Но даже если бы и знал, то все равно не взялся бы измерять его личной «духовности»; как, впрочем, «духовности» любого человека, ибо кто, кроме Бога, знает это, проникает в тайные глубины человеческой души? Мы говорим о Солженицыне — писателе, и именно к его писаниям применяете Вы критерий духовности. Но тогда, очевидно, речь может идти только о мироощущении Солженицына, поскольку оно определено и воплощено в его творчестве, о том насколько соответствует оно христианскому восприятию Бога, мира, человека и жизни. Только этот вопрос мы в праве, мне кажется, предъявлять к писателю, испеведующему себя писателем христианским, оставляя его личную жизнь его совести, его личному стоянию перед Богом.
4.
Что же разумеете Вы под той «духовностью», в которой Вы так резко отказываете Солженицыну? Из Вашего письма ясно, что, в отношении к писателю, Вы видите ее, прежде всего, в его открытости к «мифам как первофеноменам духовной жизни, как духовным реальностям». Так «мифы Толстого и Достоевского — пишете Вы — уходят в духовную глубину. Но выдуманные ими, такие мифы возникают иначе, они там увидены были, почувствованы и оттуда вытащены были обоими нашими великанами». Вот в такой «открытости к мифам» Вы и отказываете Солженицыну, утверждая что «мироощущение его закрыто, может быть наглухо, для духовной глубины бытия и всего в ней коренящегося».
Но о каких же мифах идет речь? Какие это мифы, закрытые для Солженицына, и в каком же это там, были увидены Толстым и Достоевским, из какого оттуда вытащены? Разобраться в этом вопросе тем более необходимо, что сам Солженицын слово «миф», поскольку мне кажется, вообще не употребляет и, следовательно, Ваша защита мифов как «первофеноменов духовной жизни» направлена, да Вы и сами это признаете — против меня, против моих слов о Солженицыне как «экзортисте» ложного и губительного мифа о России.
248
Должен, прежде всего, сказать, что слово «миф» я употребляю в его самом обыденном и ходячем смысле: как обозначение чего-то, отличного от простой правды, надуманного и даже выдуманного. Ведь именно в этом смысле мы и употребляем это слово, когда, на нашем обычном житейском языке, говорим про что-нибудь, что «сплошная мифология».
Конечно, я знаю, что современная религиозная мысль, особенно западная, давно уже занята реабилитацией мифов и что Ваше определение их как «первофеноменов духовной жизни» и «духовных реальностей» укоренено именно в этом новом подходе к мифам. Я считаю, однако, что нам, православным, следовало бы распознать и обличить глубочайшую двусмыслицу и «соблазнительную полуправду», лежащую в основе этого западного течения. Ибо на последней своей глубине она есть нечто иное, как своеобразное «алиби» для того как раз, что составляет саму суть религиозной трагедии Запада: соединения неверия ума с религиозностью, именно религиозностью, а не верой, сознания. Успех нового понимания мифа в том именно, что оно позволяет гордому западному уму «принимать» религию, не отказавшись от своей прерогативы быть ее верховным судьей и арбитром. Так, например, разум не принимает бессемейного зачатия и воскресения тела — они не умещаются в его категории. Но назовите их «мифами», определите их «мифами», определите миф как «первофеномен духовной жизни», как «духовную реальность» и все в порядке: и права ума сохранены и религиозность удовлетворена и можно праздновать Пасху, не мучаясь вопросом — воскрес ли Христос «реально» или не воскрес? А, ведь, именно на такой уловке, на таком «алиби» построено очень многое, если не все, в современном западном богословии, в современной западной интерпретации христианства, обращенной целиком к тому, чтобы сделать христианство приемлемым «современному человеку». Но, вот, я убежден, что ни я, ни Вы — сколько бы Вы ни защищали «мифы» —не назовем воскресение Христово, евангельский рассказ о рождестве Христовом и даже творение мира — «мифами». Не назовем не потому что не доросли до западной мудрости и застряли в анархическом наивном реализме, а потому что, в свете нашего духовного предания, в свете всего опыта Церкви, мы не можем не ощутить двусмыслицы и, в сущности, неверия, лежащих в основе всей этой западной возни с мифами.
Духовная реальность удостоверяется не разумом и не посредством «мифа», а верой, которая и есть единственный «первофено-
249
мен духовной жизни». И в том-то и все дело, что по отношению к вере, миф есть всего лишь «эпифеномен» и потому всякая подлинная вера, как и подлинная духовность, не только не укоренены в мифах, а, напротив, всегда направлены на их распознание и даже «обличение». Не случайно, по согласному свидетельству всей нашей духовной письменности, условием духовной жизни и духовного роста всегда называется трезвенность, собранность духа, борьба с воображением и всяческим «взыгранием» мысли и сознания, та, иными словами, внутренняя простота и целостность, которым одним дано видеть правду и распознавать духов — от Бога ли они. В известном смысле подлинная духовность есть борьба с «мифами», которые, часто неведомо для нас, владеют нами, освобождение от них, достижение самой «духовной реальности», т. е. Бога.
Говоря все это, я нисколько не отрицаю ни места, ни значения «мифов» в истории религии и истории культуры. Человеку свойственно мифотворчество, в нем выражает он свои верованья, свое мироощущение, свое понимание мира и жизни. Но поскольку это верование, это мироощущение, это понимание могут быть ложными, ложным и даже губительным может быть и миф, воплощающий их. Христианству потребовалось положить много усилий, чтобы преодолеть эллинский «миф вечного возвращения» или гностическую редукцию к мифу самого христианства. Но, ведь, и сейчас мифы, страшные мифы —владеют миром. Ведь еще совсем недавно, на нашей памяти миллионы людей были заворожены «Мифом XX века» Розенберга и неужели все это еще требует доказательств? Неужели не ясно, что на какой-то последней глубине, христианство всегда было, есть и будет разоблачением мифов, вечно затемняющих человеческое сознание, и духовным освобождением от них?
5.
Итак, я должен прямо сказать, что, в отличие от Вас, я не только не отожествляю «мифа» с «духовностью», но, наоборот, склонен по старинке назвать «мифом» («баснями» в старом славянском словоупотреблении) все то в сознании — религиозном или ином, что как раз требует духовной проверки и оценки.
Так, например, любовь к родине, ощущение ее единственности, сознание особой связи с нею есть несомненная реальность и реальность, в известном смысле, духовного порядка. Эта реальность может легко породить и на деле часто порождает «мифы»,
250
в которых она сама же и искажается и становится реальностью недоброй и лжедуховной. Сказать про Россию, «особенная стать» можно просто и правдиво — так, как, в сущности, может каждый человек сказать о своей родине; можно даже пытаться эту «особенную стать» понять и определить. Но это же самое можно сказать в порядке некоего ложного, и потому — губительного, мифотворчества, что и присуще всякому обостренному, в идолопоклонство впадающему, национализму. Дорогое для каждого русского выражение «Святая Русь» можно легко из некоего печального замысла и призвания, которое, однако, прежде всего, судит и обличает русскую «эмпирию», превратить в «миф» о якобы когда-то уже исторически существовавшей «Святой Руси», о святости, как чуть ли не природном и самоочевидном свойстве России и, таким образом, в источник безграничного духовного самопревозношения и самодовольства.
Я не знаю, что Вы имеете в виду, когда пишете о мифах, которые у Толстого и Достоевского «уходят в духовную глубину» и о которых Вы говорите, что «невыдуманые ими, такие мифы возникают иначе, они там увидены были, почувствованы и оттуда вытащены были обоими нашими великанами, что бы ни утверждал на этот счет о. Александр Шмеман, со всем своим обычно великолепно — но не в этот раз — направленным мифоненавистничеством». Что касается меня, то я имел в виду нечто очень простое, хотя, вероятно, и недостаточно ясно выразил это в своей статье об «Августе Четырнадцатого». Говоря о ложном и губительном мифе о России, я говорил о широко в русском сознании распространенном, в его плоть и кровь вошедшем убеждении в такой духовной исключительности России в такой ее «особенной стати», которые делают заведомо неприменимыми к России обычные критерии понимания и оценок. «Мы русские, с нами Бог»... Нет, не только в свете того, что произошло в России и с Россией за последние десятилетия, звучит это и ему подобные утверждения, нестерпимой фальшью; в том то и все дело, что они всегда были ложными, никогда не были укоренены ни в какой духовной глубине и реальности и чуждыми подлинной русской духовной традиции. Что они, как всякая духовная ложь, и самая страшная из них — гордыня, несут свою долю ответственности за трагический обрыв русского пути. Что наконец нет ничего страшнее, как видеть в возврате к этому религиозно окрашенному, на деле же языческому и анти-христианскому национализму — противоядие против духовного зла, завладевшего Россией.
251
Да я убежден, что в насаждении этого мифа в русском сознании и Толстой и Достоевский приняли участие, тем хотя бы, что поддались ему, вмешали его в свои другие, и по-другому великие и вечные, прозрения. Разве не ясно нам, что в «Войне и Мире», например, наряду с вечной, непревзойденной, изумительной правдой, есть и неправда? Есть идеи и утверждения, которые Толстой нам навязывает, потому, конечно, что сам верит в них, но которые мы имеем нравственное право назвать неправдой? Читая описание Литургии в «Воскресении» неужели же не к Толстому, а к Солженицыну, должны быть обращены Ваши слова о «полном непонимании природы церкви, о извне подходе к ней». Также и о Достоевском. Неужели нужно доказывать духовную несоизмеримость между его действительно потрясающими по своей глубине и духовности прозрениями о человеке и иными из его религиозно-патриотических и религиозно-политических высказываний, между духовным реализмом его творчества и мифами, которым в той или иной мере поддавался подчас и этот несомненный христианский пророк России?
Вот этот миф о России, ложный и губительный, и развенчивает, по моему глубокому убеждению, Солженицын, в своем «Август Четырнадцатого» и развенчивает противопоставлением ему не другого мифа, а правды. И эта его правдивость, это его бесстрастие в искании и защите правды, в которых я действительно вижу глубокий духовный двигатель его творчества, гораздо ближе, я уверен, к православному мироощущению, к православной духовности, и гораздо нужнее нам сейчас, чем породившие русскую катастрофу и все еще не заглохшие в русском сознании, двусмысленные мифы.
Увы, в нашем падшем и греховном мире правда, вечная правда, всегда «глаза режет». Я не могу иначе объяснить себе Ваших слов об «элементарности религиозного сознания и форм религиозной жизни Солженицына», Вашего определения мироощущения Солженицына и его религиозности как «наивно-реалистических». «И тут объяснение тому — пишете Вы — что, скажем, поэзия Пастернака, по его же словам, всегда была ему чужда и «абсолютно непонятна». Тут объяснение к выпадам против «мистических выходов в потустороний мир...» Скажу откровенно, что именно эта Ваша ссылка на Пастернака больше чем что-либо другое в Вашем письме, убеждает меня в правильности моего понимания Солженицына и, увы, в ошибочности Вашего. Ибо при всей моей любви и уважении к Пастернаку, я не могу не видеть
252
в его творчестве как раз той самой стихии мифа и мифотворчества, от которой Солженицын свободен. Творчество Пастернака остается в ключе нашего «серебряного века», в котором есть очень много «душевности», «открытости к мифам» и очень мало трезвости и духовности. И потому, сколь бы ни было во всех других отношениях творчество это замечательно, оно не свободно от духовной двусмысленности и даже соблазнительности, которым сама ткань, сам дух солженицынского творчества остаются непричастными. И потому то, что Вы называете «наивным реализмом» Солженицынского мироощущения и в чем видите его недостатки, я ощущаю как его качество и именно духовное качество. При всей несоизмеримости планов, при всех оговорках, при всех возможных ошибках и промахах Солженицына, «реализм» его сродни тому реализму, которым всегда светится подлинная христианская духовность и порожденная им христианская культура.
6.
Ваше письмо, однако, вызвано не «Августом Четырнадцатого», а в первую очередь Великопостным письмом Солженицына к Патриарху. В этом письме Вы видите плод Солженицынской гордыни, маниакальной уверенности в собственной непогрешимости «соблазнительную полуправду и даже неправду, служащие неизвестно чему и кому». И насколько мне известно, в такой резко-отрицательной оценке этого письма Вы не один.
Скажу сразу же, что мне бесконечно трудно писать об этом. «Защищая Солженицына, я как будто беру на себя право судить о делах, в которых прямого участия не принимаю и принимать не могу, об условиях жизни, которые, по своей сложности, по своему трагизму, настолько труднее тех, в которых довелось жить мне. Кто вы — каждый может сказать мне — чтобы судить о том, чего вы не знаете? И за что никакой ответственности не несете? Признаю и всем существом все это ощущаю и помню. Только хотя бы потому, что всю свою жизнь я прожил среди русской эмиграции, часть которой одержима действительно «маниакальной» ненавистью к возглавителям Русской Церкви и потому восприняли солженицынское послание как новое масло в огонь этой своей ненависти.
Если я все же решаюсь еще раз высказать мои мысли по этому поводу, то потому что к этому побуждает меня, во-первых, как раз это самое, злобой и слепотой пропитанное, использование письма врагами Русской Церкви, да, пожалуй, и России, а, во-вто-
253
рых, последняя часть Вашего письма, в которой Вы сами признаете относительное сходство между тем, что происходит в России и судьбами христианства на Западе.
Да, Вы правы, «Христианские церкви в Европе, да и во всем мире, охватил глубокий кризис». Кризис понимания Церкви. Кризис понимания мира и своего в нем назначения. Наконец, попросту, кризис веры. В этом кризисе для многих из нас Русская Церковь занимает особое ни с чем не сравнимое место. Уже одно то, что, омытая мученической кровью, она выжила в гонении, не имеющем прецедентов в истории, и продолжает жить в государстве не «нейтрально-атеистическом», но воинственно анти-религиозном, есть чудо, помогающее нам, дальним, и жить и верить и служить. В современном обессоленном христианстве она — та соль, без которой все становится пресным. Но потому и все, что происходит в ней и с нею, переживаем мы так остро, потому с таким жадным вниманием всматриваемся в каждое в ней событие, вслушиваемся в каждый, доходящий из нее, голос.
Поэтому поверьте, что великопостное послание Солженицына пережили мы с не меньшей, чем Ваши, болью и остротой. Ибо нет «вашей» и «нашей» церкви. Церковь одна, и одна и неделима в ней и радость и боль. Поэтому с негодованием отстраняемся мы от тех, кто в этом, живою болью пропитанном, письме, увидел только еще один повод для злорадного улюлюкиванья против Патриарха и русского епископата, для еще одного безжалостного и фарисейского удара по ним.
Сказав все это, я не могу, однако, освободиться от впечатления, что Ваша острая реакция на письмо Солженицына, как и другие, дошедшие до нас, реакции, проходят мимо чего-то в этом письме самого главного. Это главное я ощущаю, как вопрос об ответственности Церкви не только за саму себя и за составляющих ее верующих, но и за Россию в целом, за ее христианскую природу и назначение, за эту ее «особенную стать», в нечувствии которой Вы, как раз, Солженицына и упрекаете. Как эго ни странно, но обратив весь гнев на Солженицына за его якобы слепоту к духовной реальности, Вы как будто не слышите, что вопль его — о страшном, все углубляющемся отрыве русского народа от этой духовной реальности, об его, просто говоря, массовой дехристианизации, о прогрессивной утере им «последних черточек и признаков христианского народа».
А, ведь, даже обращение Солженицына, формально не точное, к Патриарху, как Патриарху Всероссийскому, вряд ли слу-
254
чайно, вряд ли от незнания Солженицыным настоящего патриаршего титула. Но Солженицын сознательно как бы «усиливает» этот титул, и, делая это, утверждает именно всероссийскую миссию, всероссийскую ответственность Патриарха и Церкви. В этом письме Патриарх не только иерархический глава Русской Церкви, м. б. видимой, своими членами ограниченной, организации, он — духовный глава России. И потому, ответственность его не только за одну из организаций верующих, имеющихся в Советском Союзе, а за духовную судьбу России и русского народа.
Письмо Солженицына, как я его слышу и понимаю, ставит перед нами во всем своем трагическом объеме вопрос, от ответа на который зависит, в сущности, всегда, во все эпохи, духовная судьба церковного общества. Это вопрос о том, как исполняет и воплощает это церковное общество ту антиномию, что лежит в самой основе церкви и выражается в по видимости противоречивом, двойном утверждении: «в мире сем, но не от мира сего». Антиномию, отказ от которой, путем приятия только одного из составляющих ее утверждений, неизменно означает ущербление христианства и, в пределе, измену христиан своей вере.
Нас, на Западе живущих, все больше и больше пугает усиливающаяся тенденция западных христиан свести все христианство к «миру сему», к социальному и политическому активизму, желание включить Церковь во все дела, заботы и конфликты современного мира, сделать ее «служительницей» — прогресса, всевозможных — классовых, расовых и иных — «освобождений», приятие, иными словами, целиком и безоговорочно — «мира сего», как единственного «объекта» христианства. В этой «редукции» видим мы одну из главных причин западного кризиса христианства.
Но не противостоит ли этой западной редукции, и не только в России, но и на всем православном Востоке, другая редукция, столь же опасная, хотя и обратная по своему содержанию и вдохновению? На неслыханные мутации, совершающиеся в мире, на воцарение в нем страшных по своей анти-человечности идеологий, на растление человеческой души, на разложение культуры, на весь ужас и всю глубину этого действительно анти-христова восстания против Истины, Добра и Красоты, не отвечают ли здесь одним, постоянно повторяемым призывом: сохранить Церковь, сохранить в целости саму ее трансцендентную, «неотмирную» сущность, заплатив за это, если нужно, любой ценой? Если не сохранит своего строя, своего преемства, своей видимости — откуда потечет поток благодати? Если не отделит себя от мирской суеты,
255
как даст алчущим и жаждущим хлеб жизни, то освящение и спасение, ради которых она только и пребывает «в мире сем»?
В том то, однако, и все дело, в том вся антиномическая глубина Церкви, что «неотмирная» ее сущность оставлена Господом в «мире сем» ради мира, ради спасения его путем обращения ко Христу к жизни во Христе человека. В каждом человеке спасается или гибнет весь мир и потому к каждому человеку направлена и обращена Церковь и ради одного, бесценного и купленного «дорогой ценой», призвана все время оставлять девяносто девять. Не для себя существует Церковь и не в самосохранении внутренний духовный двигатель ее жизни. И потому в ней всегда пребывает очень тонкая, огромным числом «церковников» слишком часто не замечаемая, черта, отделяющая подлинное и праведное охранение Церкви от соблазнительного самосохранения: когда церковное общество начинает, почти бессознательно, служить себе, а не назначению Церкви в мире. Когда верующие начинают ощущать Церковь как существующую только для них и для удовлетворения их «религиозных нужд», и в этих нуждах, в своих церковных навыках, в своем духовном удовлетворении полагать мерило всего в жизни Церкви. Когда по видимости все остается таким же — благолепным, молитвенным, духовным, утешительным, а на глубине уже искривлено тонким — самым тонким из всех! — духовным эгоизмом и эгоцентризмом. И потому главной заботой церковной совести не должна ли быть забыта эта черта, чтобы праведное охранение Церкви не превращалось в духовно-опасное, ибо двусмыслие и соблазнительное, самосохранение?
7.
И вот, перечитывая — в который раз! — письмо Солженицына, я снова и снова убеждаюсь в том, что именно этой и только этой заботой оно и вдохновлено, что в основе его — мучительная боль за Россию в целом, за то — «окончательно ли укрепится в народном понимании правота силы или очистится от затмения и снова засияет «сила правоты», о том — «сумеем ли мы восстановить в себе хоть некоторые христианские черты или дотерпим их всех до конца и отдадимся расчетам самосохранения и выгоды?».
Глубоко уважаемый мною о. Сергий Желудков утверждает, что вопросы эти задает Солженицын «не по адресу». Но кому же их задавать? Ведь, не советская же власть, не Брежнев с Косыгиным и Подгорным заинтересованы в сохранении в России «Христианских черт» и «Светлой этической христианской атмосферы,
256
в которой тысячилетиями устраивались наши нравы, мировоззрение, фольклор, даже само название людей...» Ведь они совершенно открыто и, по-своему, даже честно, заявляют, что для них эти «христианские черты» и «христианская атмосфера» — зло, с которым они борются. О чем же мог бы их спрашивать и к чему призывать Солженицын? Потому-то он и обращается к Патриарху, что он — Всероссийский Патриарх, уже в одном своем титуле воплощает в себе именно всероссийскую ответственность Церкви за христианский облик, за христианскую сущность России.
Но тут то и выявляется во всей глубине трагическое несоответствие и недоразумение между Солженицыным и его церковными критиками и обличителями: для этих последних интересы Церкви совпадают с интересами верующих, тогда как для него — долг и призвание Церкви всероссийские и совсем не обязательно совпадают с «интересами верующих». Ибо забота и боль Солженицына не о верующих, а, как раз, о неверующих и, в первую очередь, о детях — «которых мы должны отдать... беззащитными не в нейтральные руки, но в удел атеистической пропаганды, самой примитивной и недобросовестной...»
Это вечный вопрос, но который в наши дни во всем мире достиг предельной остроты: существует ли Церковь для верующих и для удовлетворения их «религиозных нужд» или же сами верующие (верные, по церковной терминологии), рождаемые духовно Церковью, только потому и верующие, что они верны делу Христову в мире и существуют для того, чтобы «в мире сем поступать как Он», чтобы быть Его свидетелями, чтобы ничего не уступить диаволу и его смертной державе? И кому же как не верующим задавать этот вопрос и к кому же как не к главе Церкви, обращать его?
Мой церковный опыт — в условиях религиозной свободы и возможности свободного суждения церковной жизни — не сравним с Вашим. Но как часто, даже в этих свободных условиях, я видел и вижу, как подлинные «интересы» церкви —ее настоящее призвание, подлинная ее сущность, приносятся в жертву вот этим самым «интересам верующих», их религиозному эгоизму и эгоцентризму, их твердокаменному равнодушию по отношению к сатанинским силам, бунтующим в мире. Есть церковная правда, есть храм, есть богослужение и молитва — чего еще надо? Есть возможность погрузиться в это сладостное инобытие и в нем отдохнуть от зла, суеты и безобразия жизни. Чего еще искать? Разве не тут «единое на потребу»? И потому всегдашний призыв: ради
257
этого, ради сохранения Церкви, ради интересов верующих — не поднимайте ненужных вопросов, не смущайте верующих... Так у нас, так, по-видимому, хотя и в других неизмеримо более трудных условиях и у Вас. Но значит ли это, что отпадает сам вопрос, вопрос, прежде всего, о том, в чем состоит «единое на потребу» для верующих во Христа, для слышавших его слово о зерне: «аще не умрет, едино пребывает...» Вы пишете о Вашем церковном пути, как особом пути «вольной жертвы». Но неужели от «вольной жертвы» те, по слову Солженицына, «традиционно-безмятежные послания, что исходят к нам с церковных вершин» — и не только в России, но и повсюду в православной Церкви, те «благодушные церковные документы» что звучат так, как «будто изданы они среди христианского народа?»
Нет, я не с теми, кто из письма Солженицына делает палку, чтобы бить по Патриарху и Епископам. Они действительно подменяют правду этого письма своей «отталкивающе-соблазнительной полуправдой и даже неправдой». Они, но не Солженицын. Не от него и не от его письма тот великий соблазн о Русской Церкви, что такой болью, таким мучением отзывается в сознании всех тех, для кого она мать, кто от нее чает духовного возрождения расслабленного христианства. Не от него, а как раз от того его казенного безмятежия и благодушия, которые так страшно противоречат воплям, слышным теперь уже во всем мире и которых не заглушить рассуждениями о «вольной жертве» и ссылками на интересы верующих.
Говоря о трагической участи русских писателей, Ходасевич как то написал «дело пророков — пророчествовать, дело народов — побивать их камнями». Ибо пророчество всегда вносит разделение и соблазн, всегда нарушает «тихое и безмолвное житие», всегда вредит навыкам, интересам и убеждениям. Но без пророческой правды, сколь ни была бы она страшной и невыносимой, не может жить ни церковь, ни мир. «Одно слово правды весь мир перетянет» — говорит Солженицын в заключении своей нобелевской лекции и прибавляет: «вот на таком мнимо-фантастическом нарушении закона сохранения масс энергий основана и моя собственная деятельность». И верится, что письмо всероссийского писателя всероссийскому Патриарху, носителя — в наши дни — русской христианской культуры духовному главе России, в конечном, нам еще не ведомом, итоге — на пользу Церкви.
Январь 1973
258
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
