13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Шестов Лев Исаакович
Шестов Л.И. Добро в учении графа Толстого и Нитше (философия и проповедь)
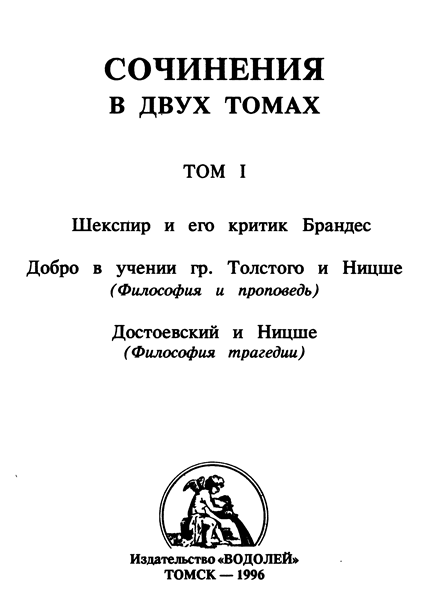
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
Шестов Лев
ДОБРО В УЧЕНИИ ГР. ТОЛСТОГО И НИЦШЕ
(ФИЛОСОФИЯ И ПРОПОВЕДЬ)
ПРЕДИСЛОВИЕ
В главе VII этой книги читатель найдет следующий отрывок из одного частного письма Белинского: «Если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень лестницы развития — я и там бы попросил вас отдать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II-го и пр. и пр.; иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен на счет каждого из моих братьев по крови. Говорят, что дисгармония есть условие гармонии: может быть, это очень выгодно и усладительно для меломанов, но уж, конечно, не для тех, которым суждено выразить своею участью идею дисгармонии». Эти строки приведены мною отнюдь не для того, чтобы поддержать высказываемые мною мысли авторитетом знаменитого писателя. Наоборот — для меня ясно, что авторитет Белинского-писателя не за, а против меня. Чтоб сослаться на него, мне пришлось обратиться не к его сочинениям, а к переписке. Но и это может показаться странным, если припомнить, что приводимый здесь отрывок уже не раз цитировался в русской литературе писателями всевозможнейших направлений. Что же это за загадочные слова, на которых сошлись люди самых различных убеждений? Быть может, заключающаяся в них мысль слишком обща и неопределенна, т. ч. поддается многообразным толкованиям? На мой взгляд — нет. На мой взгляд, едва ли во всем, что писал когда-либо Белинский, можно найти еще одно место, в котором ему бы удалось яснее и определеннее выразиться. И все-таки, несмотря на ясный смысл ничем не затемненных и простых выражений, различные толкования этого письма оказались возможными. Никто из цитировавших этот отрывок не заметил даже, что высказанная там мысль находится в самом резком, вопиющем противоречии со всем тем, что говорил Белинский в своих критических статьях. Это письмо истолковывалось в том же смысле, в каком истолковывалась его горячая литературная проповедь, даже его письмо к Гоголю. И здесь, как во всем, что исходило от Белинского, хотели видеть только великого идеалиста, возвышающего свой властный голос в защиту гуманности, человечности, добра. Он отвергает философию и Гегеля ввиду того, что они предлагают ему удовлетвориться по поводу гибели сотен
216
Иванов совершенством одного Петра! В этой требовательности хотели видеть и видели лишь своеобразное выражение запросов справедливой и гуманной человеческой души. По этому самому прощалась, даже не замечалась парадоксальная, в сущности нелепая, возмутительно нелепая форма, в которую Белинский облек свою мысль. И в самом деле, какое удовлетворение может дать Гегель Белинскому за каждую жертву истории, Филиппа II и т. п.? Бели Филипп II сжег на костре кучу еретиков, то требовать теперь за них отчета — бессмысленно. Они изжарились, и их дело безвозвратно, непоправимо, навсегда окончено. Тут уже никакой Гегель не поможет, и заявлять протесты, негодовать, требовать отчета от всей вселенной по поводу замученных и безвременно погибших людей, очевидно, уже поздно. Нужно либо прямо отвернуться от всех этих печальных историй, либо, если хочешь, чтоб в твою теорию необходимо вошли все существенные элементы, из которых складывается человеческая жизнь — придумать что-либо вроде общей гармонии, т. е. круговой поруки человечества и засчитывать в пассив Ивана актив Петра, либо совсем бросить всякие подсчитывания итогов жизни отдельных людей и, переименовав раз навсегда человека в «индивидуумы», признать, что высшая цель — в каком-либо общем принципе, и что этому принципу «индивидуумы» должны быть приносимы в жертву. Тогда пафос окончится, и начнется философия, настоящая, всеобъемлющая философия, в которой вполне точно и определенно будет выяснено, почему Филипп и история терзали и терзают людей и, ежели что-нибудь останется проблематическим, то разве несколько вопросов теории познания о пространстве и времени, причинности и т. д. Но с этими вопросами, как известно, время терпит. Бели для них еще не. подысканы настоящие объяснения — можно пока обойтись гипотезами. Ведь и возникли они, как и вся философия, если верить Аристотелю, δια το θαυμάζειν 1. Ну а чтобы удовлетворить истекающей из удивления любознательности, вовсе уже не так непременно нужно найти «истину». Скорей наоборот. «Истина», в сущности, не нужна. Если бы она оказалась внезапно отысканной — это был бы очень неприятный сюрприз. По крайней мере, Лессинг так утверждал (а он знал, что говорил), когда просил Бога, чтоб Он истину оставил при себе, а человеку сохранил бы его способность заблуждаться и искать. Но Белинский, вечный ученик европейских учителей, очевидно, наедине с собой или в не предназначенной для публики частной беседе думал и говорил иначе. Он уже не хотел одних
1 Из удивления.
217
исканий — он требовал всей, полной истины и горячо протестовал против традиции своих учителей.
Это был опасный протест. Опасный потому, что он грозил прежде всего самому «идеализму» Белинского. Ибо в чем сущность и психологическая основа идеализма? Человек верит, что все его сомнения, вопросы, искания — только дело времени. Все это уже давно окончательно и очень хорошо порешено; нужно только удосужиться или умственно вырасти, чтоб обстоятельно разъяснить и себе то, что другие давно знают. Оттого-то естественной почвой, на которой удачнее всего произрастает идеализм, оказывается молодая культура, если ей приходится развиваться в соседстве с более зрелой цивилизацией. Даже в семьях младшие члены обыкновенно выходят «идеалистами», принимающими на веру «убеждения» старших, уже больше знающих, более опытных, более искусных во всем и более совершенных братьев. Каждое слово взрослого человека представляется таинственно содержательным ребенку. Чем непонятней и недоступней оно, тем более соблазняет оно юный ум, который видит в нем источник силы и превосходства старшего. Молодая Россия долгое время стояла именно в таком отношении к Западу. Каждое приходившее оттуда слово казалось священным. Этим, главным образом, обусловливается идеалистическое направление нашей литературы вообще и Белинского — в частности. Старший Запад был несомненно умнее, богаче, красивее нас. И мы полагали, что причина тому — его знание, его опыт. Мы верили, что есть у него «слово», которым он разрешит все. И этого слова мы искали в его науке, которую начали обоготворять много раньше, чем узнали ее. Как ужасно должно было быть разочарование каждого идеалиста после того, как при более основательном рассмотрении своей святыни, он убеждался, что она — не «истина», а «искание истины»!
В этом разочаровании и смысл обсуждаемого здесь письма Белинского. Отсюда его странные, невыполнимые требования к Гегелю. Если бы Гегель прочел это письмо, он бы назвал Белинского дикарем. Требовать от философии, чтобы она дала отчет за каждую жертву истории! Да разве это ее дело?! И затем, разве вообще можно, должно, нужно являться с такого рода требованиями к кому бы то ни было?! Правда, Гегель утверждал, что действительность разумна. Но не вина Гегеля, если Белинский истолковывал его слова в том смысле, что «правде» гарантирована победа на земле. Совсем не то. Гегель ведь и сам был идеалистом. Немцы, как и русские, тоже имели свой Запад и научились в свое время верить в идеи. Только они были основательнее, прочнее в своей вере — это уже дело характера и национальных особенностей — и потому не иначе подходили к своей святыне, как с преклоненными коленями и
218
ничего от нее не требовали. «Действительность разумна» у Гегеля значило только то, что наука должна быть поставлена впереди всего, и что, следовательно, жизнь во что бы то ни стало должна быть изображенной как вполне соответствующая требованиям разума. Пусть на самом деле этого нет — идеалист об этом не заботится — главное, чтобы с кафедры, из книг эта истина всегда возвещалась. Немецкие идеалисты как нельзя более понимали своих учителей. В искусствах, в науках (даже в общественных и исторических) действительность обрабатывалась таким образом, что она постоянно свидетельствовала во славу человеческого разума, который и до сих пор в Германии продолжает гордиться своими a priori. Идеализм торжествовал и до сих пор продолжает торжествовать в этой удивительной стране. И вдруг на сцену является Белинский и требует отчета у вселенной за каждую жертву истории! За каждую — слышите? Он не хочет уступить за все мировые гармонии ни единого человека, обыкновенного, среднего, простого человека, которых, как известно, историки и философы считают миллионами, в качестве пушечного мяса прогресса. Это уже не гуманность и не идеализм, а что-то иное. Немецкие историки и философы тоже гуманны. После того, когда дела прогресса улажены, они очень охотно хлопочут о жертвах истории,— но это все, что требуется, что может требоватьсягуманностью. Еще, пожалуй, от них можно добыть обещания насчет будущего: как известно, наука обещает, что в будущем жертв уже не понадобится, и когда-нибудь да прекратится то нелепое движение истории, при котором условием успеха одного человека являются целые гекатомбы из других людей. Это все, чем располагает наука в утешение жертвам. В будущем обещается обязательное счастие решительно всех людей. Белинский это знает очень хорошо. Он сам это рассказывает — и как красноречиво — в своих многочисленных статьях; но наедине с собой он возмущается собственным пафосом. Он не только не хочет отдавать настоящих живых людей в жертву тем людям, которые имеют народиться через сто или тысячу лет — он вспоминает давно загубленных в пытках людей далекого прошлого и требует за них удовлетворения. Что это не простая гуманность — надеюсь, более чем очевидно. Гуманность должна смягчать, успокаивать, примирять людей на определенной деятельности в пользу ближнего. Короче, гуманность — отвечает, дает ответы на вопросы. Белинский же — спрашивает и так спрашивает, что его вопрос грозит сбить с толку самых верующих идеалистов.
Ибо, если дозволительно так спрашивать, то может статься, даже почти наверное, что ответить совсем и не придется или что за ответом нужно будет идти в такие области, которых
219
идеализм боится больше, чем самых ужасных пустынь. Здесь обычная формула идеализма может получить обратный смысл. «Действительность разумна» придется истолковывать не так, что ее следует сдабривать и обряжать до тех пор, пока «разум» не найдет ее устроенной по своим законам, а так, что «разуму» придется принять от нее взамен старых a priori новые a posteriori. Понимаете ли вы, какой отсюда выход? Может быть, что, если в этой действительности не найдется гуманности, иными словами, если не с кого будет требовать отчета за жертвы Филиппа, то разуму совсем придется отказаться от своих великодушных принципов и отыскать себе иной закон... И вообще, если действительность разумна, если от нее нельзя отказываться, если ее нельзя отрицать, если ее нужно принимать, уважать — то не есть ли выход отсюда — квиетизм, то страшное слово, которым до сих пор отпугивались от разных теорий самые смелые люди?
Всего этого «неистовый Виссарион» не рассказывает своим читателям. Все это держится под строжайшей тайной в лаборатории писательской души. В статьях же «неистовство» претворяется в смелую, живую, светлую веру, в веру в будущее, в лучшее будущее, которое приведет когда-нибудь с собой наука. Сомнения оставляются дома и там забываются за преферансом. Публике знать все это не нужно. Не нужно ей знать и того, что учитель пишет свои статьи за один почти присест, чуть ли не в порыве самозабвения. Вообще ей не следует слишком много знать. Ей требуются идеалы, и тот, кто хочет служить ей, обязан во что бы то ни стало поставлять их. Старая история! Писатель подобен раненой тигрице, прибежавшей в свое логовище к детенышам. У нее стрела в спине, а она должна кормить своим молоком беспомощные существа, которым дела нет до ее роковой раны. И у Белинского была такая рана — о ней свидетельствует и его «неистовство», и приведенное письмо, и преферанс,— но, тем не менее, до конца жизни он бессменно стоял на своем посту и делал свое дело.
В России существовало крепостное право — не только в своде законов, но и в сердцах людей; в России было еще многое другое в том же роде. Ей нужен был публицист, солдат. Белинскому некогда было отрываться от своей службы, ему нельзя было думать о своей стреле. И он сам всегда готов был бороться с теми, кто не приходил к нему активно на помощь.
В этом смысле я и сказал, что авторитет Белинского-писателя не за, а против меня. Но всему приходит свой черед. Быть может, в данный момент тактика Белинского была бы в такой же мере неуместна, в какой она была законна и необходима в его время. Быть может — теперь молчать о том, о чем молчал он, было бы не подвигом, а преступлением. Хотя мы и не знаем
220
до сих пор, есть ли дерево познания также и дерево жизни, но для нас уже выбора нет. Мы вкусили от плодов первого, и теперь — хотим не хотим — нам приходится приподнимать завесу над тайной, которую так тщательно скрывал Белинский, и говорить публично о том, о чем он говорил только наедине со своими близкими друзьями.
Л.Ш.
221
Wehe allen Liebenden, die nicht noch eine Höhe haben, welche über ihrem Mitleiden ist!
F. Nietzsche. Also sprach Zarathustra (Von den Mitleidigen)
I
В своей книге «Что такое искусство» граф Толстой не в первый уже раз, но со всей страстностью впервые вступившего в борьбу человека обрушивается на современное общество. Книга называется «Что такое искусство», но не нужно особой проницательности, чтобы понять, что не в искусстве дело, и что не оно занимает собою ее автора. Гр. Толстой говорит, что сочинение это задумано им еще 15 лет тому назад, но что оно не могло быть доведено до конца, потому что мысли по этому предмету не были еще и для него самого вполне ясны. В сущности, это не совсем так. 15 лет тому назад появилась в печати статья гр. Толстого, называемая «Мысли, вызванные переписью в Москве» — ив ней уже основные положения «Что такое искусство» были высказаны вполне. Та душевная буря, которая оторвала гр. Толстого от русской интеллигенции и унесла его к иным берегам, где он научился говорить странные и чуждые нам слова,— дело давно минувших дней. «Что такое искусство» — лишь заключительное слово длинной проповеди, начатой много лет тому назад. Я говорю «проповеди», ибо все произведения последних годов гр. Толстого, даже художественные, имеют исключительную задачу: сделать выработанное им мировоззрение обязательным для всех людей. Такое стремление уже резко проявилось в «Анне Карениной». Эпиграфом к ней служит евангельский стих: «Мне отмщение и Аз воздам». Мы привыкли его истолковывать в том смысле, что окончательный суд над людьми может и должен быть произнесен не человеком, и что удача или неудача нашей земной жизни не служит доказательством правоты или неправоты нашей. Но в «Анне Карениной» чувствуется совершенно иное понимание евангельского текста. Уже в этом романе гр. Толстой не только изображает человеческую жизнь, но судит людей. И судит не тfк, как должен судить беспристрастный, спокойный судья, не ведающий жалости, но не знающий и гнева, а как человек, глубоко и страстно заинтересованный в исходе разбираемого им процесса. Каждая строчка этого замечатель-
222
ного произведения направлена против невидимого, но определенного врага или в защиту невидимого же, но тоже вполне определенного союзника. И, чем сильнее враг, тем острее и утонченнее оружие, посредством которого побивает его гр. Толстой, тем искуснее, сложнее, незаметнее работа, посредством которой подкапывается под него автор. Степан Аркадьевич Облонский побивается легко — ироническими замечаниями, комическими затруднениями, в которые он каждый раз попадает. Каренин — уже посерьезней, но и с ним сравнительно немного приходится хлопотать. Иное дело — Вронский и Кознышев. Это люди покрупнее; если они не могут по собственной инициативе создать что-либо новое, то зато они умеют развить достаточно силы, чтобы поддержать то и тех, что и кого считают своими. Ими держится известный строй; они — столпы, устойчивость которых гарантирует прочность всего здания. И на них гр. Толстой обрушивается со всей силой своего громадного дарования. Не только вся деятельность — вся жизнь их сведена на нет. Они и борются, и хлопочут, и увлекаются — но все это оказывается чем-то вроде беганья белки в колесе. Они служат какому-то бессмысленному идолу, имя которому — тщета. Послушайте, как характеризует гр. Толстой нравственные убеждения Вронского: «Жизнь Вронского тем была особенно счастлива, что у него был свод правил, несомненно определяющих все, что должно и не должно делать... Правила эти несомненно определяли,— что нужно заплатить шулеру, а портному не нужно,— что лгать не надо мужчинам, а женщинам можно, что обманывать нельзя никого, а мужа можно, что нельзя прощать оскорблений, но оскорблять можно». Вы видите, что, по мнению автора, источник нравственных побуждений Вронского — пустые общественные предрассудки. С Кознышевым то же или почти то же. Его увлечения — есть только модная подражательность. Его душевная работа — поверхностная деятельность ума, которая тем меньше значит, чем полнее и последовательнее она выражается. Итог его жизни — никому не нужная книга, остроумные разговоры в гостиных и бесполезное участие в различных частных и общественных учреждениях. Вронский и Кознышев — это все, что мог найти гр. Толстой среди призванных им к суду представителей русского интеллигентного общества нового времени. К ним присоединяются еще мимоходом очерченные фигуры — но все это люди незначащие и не могущие сказать свое определенное слово читателям.
Но последним и главным подсудимым, по поводу которого, очевидно, и приведен в начале книги евангельский стих — является Анна. Ее ждет отмщение, ей воздаст гр. Толстой. Она согрешила и должна принять наказание. Во всей русской, а
223
может быть и в иностранной литературе ни один художник так безжалостно и спокойно не подводил своего героя к ожидающей его страшной участи, как это сделал гр. Толстой в своем романе с Анной. Мало сказать безжалостно и спокойно — с радостью и торжеством. Позорный и мучительный конец Анны для графа Толстого — отрадное знамение. Убивши ее, он приводит Левина к вере в Бога и заканчивает свой роман. Если бы Анна могла пережить свой позор, если бы у нее осталось сознание своих человеческих прав и она умерла не раздавленной и уничтоженной, а правой и гордой, у гр. Толстого была бы отнята та точка опоры, благодаря которой он мог сохранить свое душевное равновесие. Пред ним явилась альтернатива — Анна или он сам, ее гибель или его спасение. И он пожертвовал Анной, которая при живом муже пошла за Вронским. Гр. Толстой отлично чувствует, что это за муж для Анны — Каренин; как никто он описывает весь ужас положения даровитой, умной, чуткой и живой женщины, прикованной узами брака к ходячему автомату. Но узы эти ему нужно считать обязательными, священными, ибо в существовании обязательности вообще он видит доказательство высшей гармонии. И на защиту этой обязательности он восстает со всей силой своего художественного гения. Анна, нарушившая «правило», должна погибнуть мучительной смертью.
Все действующие лица «Анны Карениной» разделены на две категории. Одни следуют правилу, правилам и вместе с Левиным идут к благу, к спасению; другие следуют своим желаниям, нарушают правила и, по мере смелости и решимости своих действий, подпадают более или менее жестокому наказанию. Кому многое дано, с того много и взыщется. Анна — наиболее даровитая, ее ждет крайний позор. Другие страдают меньше — пока. Нужно думать, что если бы граф Толстой довел в «Анне Карениной» до конца жизни всех своих героев, то всем было бы воздано по соответствию с тем, насколько и как они нарушали «правила».
Однако, в «Анне Карениной» объем «правил», почитаемых гр. Толстым за обязательные, еще сравнительно невелик. В эпоху создания этого романа художник дает добру только относительную власть над человеческой жизнью. Более того, служение добру как исключительная и сознательная цель жизни еще отрицается им. Как в «Войне и Мире», так и в «Анне Карениной» гр. Толстой не только не верит в возможность обмена жизни на добро, но считает такой обмен неестественным, фальшивым, притворным, в конце концов обязательно приводящим к реакции даже самого лучшего человека. В «Войне и Мире» он произносит суровый приговор над Соней, этой добродетельной, любящей и так глубоко преданной семье Рос-
224
товых девушкой. В эпилоге, где выступают на сцену молодые семьи Николая Ростова и Пьера Безухова, жизнь выросших на наших глазах людей — Пьера, Наташи, Николая и княжны Марьи — изображается осмысленной и полной. Они все нашли себе свое место и свою работу и спокойно продолжают дело своих отцов. Их существование нужно, понятно. Одна Соня, случайный, всех стесняющий пришлец, уныло сидит за самоваром, исполняя роль не то няньки, не то приживалки. А за ее спиной подруга ее детства Наташа и княжна Марья, так много умилявшаяся над идеями о добродетелях и потом отнявшая у Сони Николая, обсуждают ее жизнь и приводят текст из Евангелия, которым ее жалкое положение признается вполне заслуженным.
Вот их разговор:
— Знаешь что,— сказала Наташа,— вот ты много читала Евангелие; там есть одно место прямо о Соне.
— Что? — с удивлением спросила графиня Мария.
— «Имущему дастся, а у неимущего отнимется», помнишь? Она — неимущий: за что? не знаю; в ней нет, может быть, эгоизма,— я не знаю; но у нее отнимется и все отнялось. Мне ее ужасно жалко иногда; я ужасно желала прежде, чтобы Nicolas женился на ней; но я всегда как бы предчувствовала, что этого не будет. Она пустоцвет (курсив гр. Толстого), как на клубнике.
Едва ли нужно говорить, что подчеркнутый «пустоцвет» и его объяснение: «у нее нет эгоизма», и потому у нее «все отнялось» — не только мнение Наташи и княжны Марьи, которая хоть и иначе толковала Евангелие, но все же, «глядя на Соню»,— соглашалась с Наташею; всякому очевидно, что это мнение двух счастливых, но не выдержавших испытания добродетели женщин, есть и мнение самого автора «Войны и Мира». Соня — пустоцвет; ей ставится в вину отсутствие эгоизма, несмотря на то, что она вся — преданность, вся — самоотвержение. Эти качества, в глазах гр. Толстого — не качества, ради них — не стоит жить; кто ими только обладает—тот лишь' похож на человека, но не человек. Наташа, вышедшая замуж за Пьера через несколько месяцев после смерти князя Андрея, княжна Марья, которой «состояние имело влияние на выбор Николая»,— обе, умевшие в решительную минуту взять от жизни счастье — правы. Соня — неправа, она — пустоцвет. Нужно жить так, как жили Наташа и княжна Марья. Можно и должно стараться «быть хорошим», читать священные книги, умиляться повествованиям странников и нищих. Но это — только поэзия существования, а не жизнь. Здоровый инстинкт должен подсказать истинный путь человеку. Кто, соблазнившись учением о долге и добродетели, проглядит жизнь, не
225
отстоит вовремя своих прав — тот «пустоцвет». Таков вывод, сделанный графом Толстым из того опыта, который был у него в эпоху созидания «Войны и Мира». В этом произведении, в котором автор подводит итог своей 40-летней жизни, добродетель an sich, чистое служение долгу, покорность судьбе, неумение постоять за себя — прямо вменяются человеку в вину. Над Соней, как впоследствии над Анной Карениной, произносится приговор,— над первой за то, что она не преступила правила, над второй — за то, что она преступила правило.
Но еще в «Анне Карениной» антипатия гр. Толстого к людям, посвятившим себя служению добру, проявляется со всей силой. Какой жалкой изображена там Варенька с ее бедными, больными и ее безропотной жизнью при госпоже Шталь! И с каким отвращением вспоминает Кити о своих попытках служения добру и свою встречу с Варенькой заграницей. Она предпочитает лучше, чтоб ее муж был неверующим — «она, которая считает, что неверие погубит его в будущей жизни» — чем чтоб он был таким, какой была она сама заграницей. Наконец, главный герой романа, alter ego автора (даже фамилия его произведена от имени гр. Толстого: Лев — Левин) — тот прямо заявляет, что сознательное служение добру — есть ненужная ложь. Вот что о нем рассказывает автор: «Прежде (это началось почти с детства и все росло до полной возмужалости), когда он (Левин) старался сделать что-нибудь такое, что сделало бы добро для всех, для человечества, для России, для всей деревни, он замечал, что мысли об этом были приятны, но самая деятельность всегда была нескладная и сходила на нет; теперь же, когда он после женитьбы стал более и более ограничиваться жизнью для себя, он, хотя и не испытал более никакой радости при мысли о своей деятельности, чувствовал уверенность, что дело его необходимо, видел, что оно спорится гораздо лучше, чем прежде, и что оно становится все больше и больше. Теперь он, точно против воли, все глубже и глубже врезывается в землю, как плуг, так что уж и не мог выбраться, не отвернув борозды». И благодаря тому, что он порвал со своим прошлым, что отказался думать о служении добру, всей России, всей деревне и т. д., он уже всегда, при всех жизненных обстоятельствах знает, что ему делать и как поступать, что важно и что не важно. Семья должна жить так же, как жили деды и отцы, хозяйство нужно вести возможно лучше и для этого нанимать рабочих как можно дешевле. О делах брата и сестры и всех мужиков, к нему ходивших за советами, нужно позаботиться, но работнику, ушедшему домой в рабочую пору потому что у него помер отец — простить нельзя, хотя и жалко его. Левина мучила мысль о том, что он не знает, для чего живет и как жить, но, тем не менее, он «твердо прокладывал
226
свою особенную определенную дорогу в жизни и под конец убедился, что хотя он и не ищет добра, а ищет своего счастья, но тем не менее или, вернее, именно потому его жизнь не только не бессмысленна, как была прежде, но имеет несомненный смысл добра».
II
Откуда же взялся этот «смысл добра»? Отчего добро пришло благословить Левина, а не других действующих лиц романа? Отчего Анна погибает и заслуженно, Вронский — обращается в развалину, Кознышев — влачит призрачное существование, а Левин мало того, что пользуется всеми благами жизни, еще приобретает право на глубокий душевный мир — прерогативу немногих и исключительных людей? Почему судьба так несправедливо оделила Левина и так жестоко обидела Анну? Для другого писателя — натуралиста, например — подобные вопросы существовать не могут. Для него несправедливость судьбы — основной принцип человеческой жизни, столь очевидно вытекающий из закона естественного развития, что ему и удивляться не приходится. Но такой писатель не цитирует Евангелия и не говорит о возмездии. У гр. Толстого, наоборот, самый роман «Анна Каренина» вызван этим вопросом. Он не описывает жизнь, а допрашивает ее, требует от нее ответа. Его художественное творчество пробуждается лишь потребностью разрешить мучающие его вопросы. Оттого все его произведения, и малые и большие, и «Война и Мир», и «Смерть Ивана Ильича», и публицистические статьи имеют характер совершенной законченности. Гр. Толстой предстает перед публикой всегда с ответами и ответами, данными в такой определенной форме, которая вполне удовлетворяет наиболее требовательного и строгого в этом смысле человека. И это, конечно, не случайность, не может быть случайностью. В этом — основная черта творчества гр. Толстого. Вся та огромная внутренняя работа, которая понадобилась для создания «Анны Карениной» или «Войны и Мира», была вызвана назревшей до крайней степени потребностью понять себя и окружающую жизнь, отбиться от преследующих сомнений и найти для себя — хоть на время — прочную почву. Слишком серьезны и настойчивы все эти запросы, чтоб можно было от них спрятаться за простой обрисовкой непосредственно бросающихся в глаза образов действительности или передачей воспоминаний из своего прошлого. Нужно иное. Нужно найти свое право в жизни. Нужно найти силу, большую, чем сила человека, которая бы поддер-
227
жала, защитила это право. Личные вкусы, симпатии, пристрастия, увлечения, страсти — все те элементы, на которые обыкновенно писатели-реалисты разлагают человеческую жизнь— не обеспечивают ничего и не могут успокоить гр. Толстого. Он ищет могучего, всесильного союзника, чтоб его именем говорить о своих правах. Вся сила гения гр. Толстого направлена к тому, чтоб отыскать этого союзника и переманить его на свою сторону. И в этом деле гр. Толстой беспощаден. Нет ничего такого, чего бы он не уничтожил, если б оно явилось ему препятствием к достижению этой цели. И нет границ его душевному напряжению, когда речь идет об этом священнейшем его интересе. Лгать, притворяться, придумывать ложные факты — гр. Толстой не хочет и не может. Он пишет не для других, а для себя. Поэтому-то он не только не прибавляет своему Левину ни одного не принадлежащего ему качества, но и честно и откровенно изображает все его недостатки и смешные стороны. «Таков Левин,— говорит нам гр. Толстой,— и преувеличенно ревнивый, и эгоист, бегущий общественных дел, и неловкий, неотесанный бирюк — и тем не менее добро с ним, его жизнь имеет определенный смысл добра». Он не только устроил свою жизнь сообразно своим потребностям и желаниям, но он верно угадал, куда идти, что делать для того, чтобы добро было на его стороне. А «добро» — это и есть та могучая сила, которая делает Левина великаном в сравнении с другими людьми, ибо сильнее добра — нет ничего. И в момент появления «Анны Карениной» вы могли в чем угодно убедить гр. Толстого, только не в том, что добро не за Левина. Мало того, что за Левина — оно против всех, кто думает, чувствует и живет не по-левински; оно против Кознышева, Вронского, против Анны, и оно им отмстит, оно их накажет, как бы временно они ни торжествовали свою победу над Левиным. Левин словно плуг врезался в землю. Та сила, которая нужна была гр. Толстому — найдена и на его стороне. Все Вареньки, Сони и другие добродетельные существа служат не настоящему добру; ибо они не по-левински живут — и их валит гр. Толстой в одну кучу с Вронским и Анной. Для них не уготовлены трагедии и жестокие удары, но их постылое существование хуже какого угодно несчастья. Гр. Толстой никого из жертв своих не жалеет. Вы нигде не услышите у него мягких нот сострадания, которые так часто слышны в произведениях Диккенса, Тургенева и даже у эксперименталистов, например, у Золя и Бурже, никогда не пропускающих возможности подчеркнуть свои гуманные чувства. Гр. Толстому, может быть, это покажется странным, но многие читатели упрекают его в холодности, в бесчувственности, в черствости. Вести Анну Каренину под поезд и ни разу не вздохнуть! Следить за агонией Ивана Ильича
228
— и не пролить ни одной слезы! Это кажется до того непонятным и возмутительным многим читателям, что они готовы даже отрицать художественный гений за гр. Толстым. Им представляется, что назвать гр. Толстого гением — значит оскорбить нравственность, ставящую впереди всех своих требований уменье сочувствовать несчастию ближнего. Они считают своей важнейшей обязанностью переводить гр. Толстого в разряд второклассных писателей, не могущих сравниться с Диккенсом или Тургеневым, полагая, что таким способом они отстаивают святое право сострадания. По их мнению, тот не может называться великим художником, кто не проявляет достаточно сочувствия к страданиям ближнего. И они — эти читатели — по-своему даже слишком правы. Они хотят быть сострадательными, потому что сострадание — это все, что они могут дать от себя обиженным судьбой людям. Жалея несчастных, проливая слезы над погибающими — они успокаивают вечно тревожащие их упреки совести. «Нельзя поставить на ноги свалившегося — так поплачем над ним, все легче будет»,— рассуждают они. Кому легче будет? На этот вопрос они не отвечают, этого вопроса они себе не ставят, не смеют ставить. И понятно, гр. Толстой, не проявляющий гуманных чувств, пугает их, и они торопятся к «Степному королю Лиру», к рассказам Диккенса, даже к «Лурду», ибо там ужас, возбуждаемый картинами несчастья, разрешается благородными чувствами сострадания, подсказываемыми авторами читателю. Даже Золя, тот Золя, которого так не любит гр. Толстой, во всех своих произведениях приводит нас в умиление своей способностью сострадать горю своих героев.
У графа же Толстого нет и следа такого мягкосердечия. Русская публика с ужасом услыхала весть о нарождении в Европе нового направления — ницшеанства, вождь которого проповедовал беспощадную суровость к слабым и несчастным. «Что слабо — то нужно еще толкнуть». «Не желай быть врачом у безнадежно больного»... Мы думали, что до Ницше никто не возвещал таких и подобных им правил, как заповедей нравственности. Более того, мы были убеждены, что попираемая на Западе нравственность найдет у нас в России надежное убежище. Против Ницше мы считали возможным выставить своего богатыря, «великого писателя земли русской» — гр. Толстого. Даже те читатели, о которых шла речь выше, читатели, инстинктивно бежавшие от гр. Толстого к Тургеневу, даже и они видели в авторе «Войны и Мира» своего естественного и могучего защитника против надвигающейся с Запада грозы. И гр. Толстой выступил против Ницше и его направления с чисто юношеской на вид свежестью и страстью убеждения. В книге «Что такое искусство», как уже было замечено, речь идет не об
229
искусстве и даже не о французских поэтах и операх Вагнера, о которых в ней подробно говорится,— речь вдет о более серьезных и важных вопросах, чем искусство — о нравственности, о религии и о более значительном и глубоком писателе, чем Верлен или Бодлер — о Ницше. Правда, имя Ницше редко называется гр. Толстым, цитат из его произведений совсем нет. Но гр. Толстой делает Ницше ответственным за новое направление в литературе. Он говорит: «Это последствие ложного отношения к искусству уже давно проявлялось в нашем обществе, но в последнее время, с своим пророком Ницше и последователями его и совпадающими с ним декадентами и английскими эстетами, выражается с особенною наглостью. Декаденты и эстеты вроде Оскара Уайльда избирают темою своих произведений отрицание нравственности и восхваление разврата». К сожалению, повторяю, гр. Толстой, возлагая на Ницше ответственность за все грехи нового поколения, не касается ни одним словом его философского учения. Мне кажется даже, что гр. Толстой знает о Ницше только понаслышке, из вторых рук. На это указывает, между прочим, сближение, делаемое гр. Толстым между Ницше и О. Уайльдом. Если бы гр. Толстой знал сочинения Ницше, он бы не повторил этих слов. Если бы гр. Толстой читал Ницше — он едва ли бы стал говорить о «наглости». Можно принимать или не принимать учение Ницше, можно приветствовать его мораль или предостерегать против нее, но зная его судьбу, зная, как пришел он к своей философии, какою ценою было им куплено «свое слово» — нельзя ни возмущаться им, ни негодовать против него. У Ницше было святое право говорить то, что он говорил. Я знаю, что слово «святой» нельзя употреблять неразборчиво, всуе. Я знаю, что люди охотно злоупотребляют им, чтобы придать больше весу и убедительности своим суждениям. Но в отношении к Ницше я не могу подобрать другого слова. На этом писателе — мученический венец. У него было все отнято, чем красится обыкновенно человеческая жизнь, и взвалена такая тяжкая ноша, какую редко кому-либо приходится нести на себе. У него есть рассказ о трех превращениях, которым подвергается человек в своей жизни. Сперва, говорит он, человек превращается в верблюда. «Что тяжело? спрашивает выносливый дух, и, подобно верблюду, опускается на колени и ждет, чтоб его нагрузили. Что наиболее тяжело, вы, герои? так спрашивает выносливый дух — я возьму все это на себя и буду радоваться своей силе. Унижаться, чтоб оскорбить свое высокомерие? Дать проявиться своей глупости, чтоб посмеяться над своей мудростью? Или покинуть свое дело, когда оно готово праздновать победу? Взбираться на высокие горы, чтоб искушать искусителя? Или питаться желудями и травой познания
230
и ради истины терпеть духовный голод? Или в том: быть бедным и отсылать утешителей и вести дружбу с глухими, которые никогда не слышат, что тебе нужно? Или в этом: идти в грязные воды, если это воды истины и отбрасывать от себя холодных лягушек и горячих жаб? Или в том: тех любить, которые нас презирают и протягивать руку привидению, явившемуся пугать нас? Все самое трудное принимает на себя выносливый дух, подобно верблюду, спешащему со своим грузом в пустыню, идет и он в свою пустыню»1. В этих образах — краткая история длинной подвижнической жизни. Да не подумает читатель, что здесь есть хоть тень преувеличения. Наоборот — здесь главного, быть может, самого ужасного,— нет. Читая эти строки, можно думать, что Ницше, выносливый дух, добровольно шел на муки, добровольно склонил колени и сознательно принял на себя непосильную для человека ношу. В таком сознательном и добровольном подвижничестве, как бы тяжело само по себе оно ни было, есть утешение гордости: человек чувствует, что он шел на великое дело. Но у Ницше этого не было. Несчастье свалилось на него внезапно, неожиданно, может быть, в тот именно момент, когда он ожидал себе награды за свою прошлую жизнь. Когда его поразил гром — небо было над ним ясно и чисто; он не ждал ниоткуда опасности, был доверчив и спокоен, как малое дитя. Он служил «добру», он вел чистую и честную жизнь немецкого профессора, искал идеалов у греческих философов и новейших музыкантов, изучал Шопенгауэра, вел дружбу с Вагнером и во имя всего этого,— что почиталось им тогда самым важным и нужным — отказывался от действительной жизни. Впоследствии он говорит: «Кто уже не жертвовал собой ради своего доброго имени!» и «ни за что нам так дорого не приходится расплачиваться, как за наши добродетели». Но в то время, когда он ради этих добродетелей, ради этого «доброго имени» ушел из жизни, чтобы в тиши своего кабинета создавать новые теории (так понимал он тогда служение добру) — он не знал, не подозревал даже, что придется так неслыханно расплачиваться за свою добросовестность. Если бы он мог хоть на минуту представить себе, что ждет его в будущем, он, конечно, сильно призадумался бы над выбором пути. Но кто может угадать свою судьбу? Кто не вверяется в молодости своим учителям и идеалам? Ницше только более беззаветно, более полно, более последовательно верил в непогрешимость своих принципов. Он все задушил в себе, все природные инстинкты и запросы, которые обыкновенно умеют заставить подчинить себе и самые добродетельные души. Но у
1 A. S. Ζ. Von den drei Verwandlungen.
231
Ницше середины не было. Он учился и учил — всему, что считал важным, нужным, серьезным, и за этим делом совсем позабыл о жизни. Даже при появлении первых грозных признаков болезни Ницше не обеспокоился. Он наскоро глотал разного рода лекарства, чтобы не возиться с сложным лечением и не отрываться от своего служения, и продолжал свои философские и профессорские занятия до тех пор, пока недуг не свалил его окончательно. Только тогда понял, наконец, Ницше, что добродетель не защитит его от всего. Но уже было «слишком поздно». Прошлого изменить нельзя было. Нельзя было «повернуть тот камень, который называется «то было». Осталось одно: размышлять — искать в прошлом оправдания, объяснения ужасного настоящего. А каково было это настоящее можно судить хотя бы по тому, что единственным облегчением для него служили мечтания о самоубийстве. На «три четверти слепой», подверженный вечным мучительнейшим и отвратительным припадкам, обреченный безжалостной болезнью на полное уединение, всегда на волосок от смерти и безумия — так прожил Ницше 15 лет, в течение которых были написаны им его главные сочинения. «Я с трудом принимаю жизнь,— говорит он,— я надеюсь, что скоро наступит конец моим страданиям». Но конец наступил не скоро. 15 лет и для менее ужасной болезни — срок слишком длинный. Кто столько страдал и чья «вина» была в только преувеличенном доверии к нравственным идеалам, тот вправе сказать свое слово, тот вправе требовать, чтоб его внимательно выслушали и не узнавали о нем от других.
Но возвратимся к гр. Толстому. Я сказал, что читающая публика — даже та, которая видела в гр. Толстом талант далеко не менее значительный, чем в Диккенсе или Тургеневе,— ждала от него наиболее серьезной оппозиции ницшеанству. Как ни холоден ей казался гр. Толстой — его называют человеком со стальной душой (это, между прочим, любопытно — гр. Толстой, учащий умиляться над детскими рассказами — и стальная душа!) — но в нем видели естественного защитника «добра» и противника Ницше. Особенно ввиду его публицистических статей, в которых он с такой решительностью высказался сторонником буквального понимания Евангелия. Правда, поклонники Диккенса и Тургенева далеко не всегда сочувственно относились к проповеди гр. Толстого. Они находили, что он слишком уже усердствует, требуя, чтобы образованные люди пахали землю и одевались по-мужицки. Но когда пришлось выбирать между доведенной до крайности, но привычной нравственностью и совершенно уничтожающим обычную мораль учением — все склонились на сторону первой. Сомнения ни у кого не было: граф Толстой и Ницше взаимно исключают друг
232
друга. Более того, даже оба учителя считали один другого своей противоположностью. Ницше, говоря о «толстовском сострадании», полагает, что указывает на нечто, ему самому совершенно чуждое. О гр. Толстом и говорить нечего: его последнее произведение, как было уже указано, имеет своей единственной целью отповедь ницшеанству.
Но так ли это? Действительно ли эти два замечательных современных писателя столь чужды друг другу? Вероятно, самая возможность такого вопроса покажется странной, тем более отрицательный ответ на него. Поэтому, ничего не предрешая, займемся первым значительным публицистическим произведением гр. Толстого, которое введет нас к его книге «Что такое искусство», а вместе с тем и к главным вопросам, занимавшим Ницше.
III
«Мысли, вызванные переписью в Москве» появились сравнительно скоро после «Анны Карениной» — промежуток между ними равняется 3-4 годам. В сущности, он еще короче, если принять во внимание признание гр. Толстого, что за эту статью он несколько раз принимался еще раньше, но ему никак не удавалось довести ее до конца. Очевидно, что перепись не была причиной перемены мировоззрения гр. Толстого. Все, что нужно было для нового душевного переворота, уже давно было подготовлено у гр. Толстого. Перепись, как это часто происходит в жизни людей, была только внешним поводом, которого гр. Толстой уже, по-видимому, давно искал. Его душевное равновесие — то, что он у Левина называл «жизнью, осмысленной добром», уже давно ушло в область воспоминаний. Может быть, «Анна Каренина» была только попыткой восстановить прошлое, и в то время, когда гр. Толстой с такой силой убеждения рассказывал нам, что «добро» с Левиным и за Левина; что Левин, как плуг, врезался в землю и делает самое лучшее, настоящее дело,— может быть, в это время сам гр. Толстой уже жил только воспоминаниями прошлого, к которым его тем настоятельнее тянуло, чем очевиднее и мучительнее было сознание, что казавшаяся когда-то столь прочной почва начинает уходить из-под его ног. Быть может, этим особенным настроением и объясняется его плохо скрытая радость по поводу возможности опозорить и уничтожить Анну. Он уже тогда сознавал, что теряет свои права, что хозяйство, семья, ограниченное вмешательство в жизнь крестьян, фрондирование против либерализма и газет, «отрицательное» служение добру,— сло-
233
вом, все то, что наполняло когда-то собою левинское существование — уже не удовлетворяет его, что снова явилась какая-то пустота, что снова недостает той прочности, которая давала ему право смотреть на всех людей сверху вниз и считать, что за него — Бог и против всех его врагов — Бог. «Анна Каренина» написана, по-видимому, ex post facto. Оттого-то в этом романе столько осторожной справедливости и преувеличенной внимательности ко всем действующим лицам анти-левинского направления. Никого из них, в конце концов, автор не пощадит, но именно вследствие этого все они описываются с их лучших сторон. Они — и добрые, и умные, и честные, и красивые. Гр. Толстой не торопится выставлять напоказ их слабости. Лишь изредка, мелкими штрихами, почти вставочными замечаниями он намекает читателю, в чем негодность этих людей. Но удар направлен верной и сильной рукой. Никто из них не спасется: левинское восторжествует.
Но не надолго. «Анна Каренина» — последняя попытка, сделанная гр. Толстым, чтоб удержаться на прежней почве. Все старые интересы уже для него не существовали; он ушел уже далеко за пределы левинских радостей и огорчений. Когда он приехал в Москву перед переписью, это уже, по-видимому, не был тот гр. Толстой, который недавно напечатал в «Русском Вестнике» большой роман с мировоззрением столь ясным и определенным. Это был хотя уже и не молодой человек — ему уже было тогда за 50 лет, хотя и прославленный всеми писатель, в котором прежде всего поражали твердость и смелость убеждений, но на самом деле это был человек, весь преисполненный сомнений, знавший только одно — что то, что у него есть — ничего уже не стоит, и что нужно искать другого. Как ни странно звучит это, но ужасы, открытые им при обхождении московских приютов для бездомных и бедных людей, были для него почти счастливой находкой. «И прежде,— рассказывает он,— чуждая мне и странная городская жизнь теперь опротивела мне так, что все радости роскошной жизни, которые прежде мне казались радостями, стали для меня мучением. И как я ни старался найти в своей душе хоть какие-нибудь оправдания нашей жизни, я не мог без раздражения видеть ни своей, ни чужой гостиной, ни чисто, барски накрытого стола, ни экипажа, сытого кучера и лошадей, ни магазинов, театров, собраний. Я не мог видеть рядом с этим голодных, холодных и униженных жителей Ляпинского дома». Такое противоположение роскоши и обеспеченности собственной жизни с нуждой, ляпинской нуждой — действительно может и должно вызвать в человеке, никогда не открывавшем глаз своих на несчастие ближнего, сильную реакцию. Но гр. Толстой не был новичком в этом деле. Автор «Войны и Мира», так мастерски нарисовав-
234
ший нам все ужасы 12-го года, видевший пред собой тысячи смертей и убийств, самые страшные и отвратительные проявления человеческой жестокости и низости и вышедший твердым из жизненных испытаний, не мог смутиться зрелищем нужды, подобно тому индийскому юноше, который, впервые вырвавшись из дворца, увидел больного, старика и нищего. Я не хочу этим сказать, что с наступлением зрелого возраста человек научается или должен научиться равнодушно относиться к царствующему на земле злу. Нет, наоборот даже, взрослый человек может ближе, чем юноша, принимать к сердцу несчастия людей. Но тем загадочнее становятся для нас переживания гр. Толстого по поводу виденного им в Ляпинском доме. Сначала, передает он, его до такой степени поразила обстановка и условия жизни обитателей ночлежных домов, что он не мог говорить об этом без слез и злобы: «Я, сам не замечая того, со слезами в голосе кричал и махал руками на своего приятеля. Я кричал: «Так нельзя жить, нельзя так жить, нельзя». Но потом все ему, по его словам, стали говорить, что он волнуется так не потому, что виденное им зрелище столь ужасно, а лишь потому, что он сам очень «добрый и хороший человек». И эти разговоры убедили его. «Я,— говорит он,— охотно поверил этому. И не успел оглянуться, как вместо чувства упрека и раскаяния, которое я испытал сначала, во мне уже было чувство довольства своей добродетелью и желание высказать людям». Впоследствии гр. Толстой понял, что его друзья обманывают его путем ложных и ловких софизмов, и что он не только не добродетельный и хороший, но очень дурной человек, и это привело его к проповеди отречения от цивилизованной жизни. Рождается любопытный вопрос, что было бы, если бы, рассматривая свою жизнь, гр. Толстой убедился, что его друзья правы, и что он точно хороший и добродетельный, а не дурной и виноватый человек? Положение обитателей ночлежных домов от этого не стало бы легче. По-прежнему на морозе толпились бы наполовину замерзшие люди, едва прикрытые разодранными лохмотьями, по-прежнему городовые водили бы в участки Христовых нищих, по-прежнему ночные обходы забирали бы кучи несчастных и отвратительных проституток — все осталось бы по-прежнему, кроме одного: у гр. Толстого совесть была бы спокойна. И тогда можно было бы быть довольным своей добродетелью и показывать ее людям, как это случилось с гр. Толстым, когда на время его друзьям удалось убедить его?
Этот вопрос гораздо важнее, нежели может показаться с первого раза. В нем объяснение того, какое дело занимает гр. Толстого, чего ищет он в московских трущобах. Очевидно — не в нищих ляпинского дома дело, а в нем самом, в гр. Толстом.
235
Придя к этим беднякам, он ищет не дать им, а взять у них, он спрашивает не за них, а за себя. Он мог бы уйти от них, закрыть глаза, забыть их, как он это делал в прежние годы, когда сталкивался с несчастием,— но на этот раз нищие ему нужны. Не все, а некоторые и даже не эти, ляпинские, а другие. И от тех, которые ему не нужны — он уйдет, отвернется, как отворачивался когда-то от Сони, от Вареньки, от Анны, с которыми не был непосредственно лично связан — и придет к тем, с которыми можно жить, которые не отнимают жизненную бодрость, а увеличивают ее, которые помогают врезаться, как плуг, в землю и дают возможность радостно чувствовать, что «добро» опять на твоей стороне. Словом,— те бедные, которые могут сделать то, что сделали для Левина хозяйство, пчелиная охота, семья и т. д. Что касается остальных, этих самых городских нищих, из-за которых, по-видимому, весь сыр-бор загорелся — их гр. Толстой покинет: им помочь нельзя. «У безнадежно больного не должно желать быть врачом». Эти слова, как помнит читатель, принадлежат Ницше. Я уже приводил их рядом с другим его изречением, почти тождественным: «Что слабо — то должно еще толкнуть». Последнее правило читатель, пожалуй, еще не решится применить к гр. Толстому. Но первое? Ему тоже ужасались. А оно резюмирует собою отношение гр. Толстого к ляпинским и рожновским беднякам.
Сейчас после переписи гр. Толстой, записав всех наиболее нуждающихся, решил заняться благотворительностью. Те из его знакомых, которые обещали ему свое содействие, денег ему не дали. Тем не менее, он своих бедных обходил некоторое время и кой-кому помог. В один из своих обходов он наткнулся на голодную, не евшую два дня женщину. На его вопрос, кто она, ему ответили: «Была распутная, теперь никто не берет, так и неоткуда взять». Я не стану передавать подробностей этой ужасной сцены. Женщина точно ничего не ела два дня. Но вот заключение рассказа гр. Толстого: «Я дал ей рубль и помню, что очень был рад, что другие видели это». Неужели это правда? Неужели правда, что гр. Толстой «очень был рад, что другие видели это»? Не верить нельзя: дальше он, словно желая рассеять могущие возникнуть по этому поводу сомнения, говорит: «Мне так было приятно давать, что я, не разбирая нужно или не нужно давать, дал и старушке».
Я не хочу уличать гр. Толстого или обвинять его. Автор «Войны и Мира», автор «Мыслей, вызванных переписью» — выше всяких обличений и обвинений.
Но тем важнее нам понять смысл и значение его проповеди. Эти откровенные признания — для нас путеводные знаки, которые поведут нас вслед за гр. Толстым к тому источнику, откуда он черпал свое пророческое вдохновение. В том, что ему
236
было приятно, «так приятно» давать милостыню даже и в тот момент, когда на его глазах разыгралась ужаснейшая драма — кто не почувствует ее в этих немногих словах: «Была распутная, теперь никто не берет, так и неоткуда взять» — в том, что друзья его могли хоть на время соображениями о чувствительности его души отвлечь его внимание от сцен московских ночлежных домов, кроется странная загадка, а может быть, и разгадка толстовской натуры. Уже теперь, не дочитывая статьи о переписи, можно предсказать, чем она окончится. Человек, которому так нужно быть добродетельным — так или иначе окажется правым перед собою и пред всеми. Добро уже придет к нему, он приведет его к себе, хотя бы для этого пришлось лишить добра всех людей.
Так и вышло, как помнят все, читавшие «Мысли, вызванные переписью». Гр. Толстой бросил московских бедных, потому что, как он подробно объясняет, им нельзя было помочь. Он кой-кому из них давал деньги — и раз, и два, и три раза, и давал столько, сколько, по их собственным расчетам, нужно было, чтобы стать на ноги — но все это ни к чему не повело. Ни одного из них гр. Толстому не удалось спасти. Тогда он уехал в свою деревню, чтоб на досуге разобраться в своих впечатлениях и найти выход из тяжелого положения. А положение, действительно, было ужасно. Слова, которыми определял гр. Толстой свое настроение: «Так нельзя жить», показывают нам, если его рассказы о московской бедноте и не произвели на нас должного впечатления, как он сам отнесся к обнажившимся перед ним язам столичной жизни. И точно, как может такой человек, как гр. Толстой жить, если наряду с ним существуют обитатели ночлежных домов? Хорошо тем, которые никогда не открывали глаза на эти ужасы. Но как быть тому, кто их видел, кто их не может забыть, не хочет, не должен забыть? Можно их помнить?
IV
Ответом на эти вопросы послужат для нас результаты, к которым пришел в своей деревне гр. Толстой. Их знают все, и подробно говорить о них не приходится. Он решил, что вся беда наша в том, что мы, интеллигентные и достаточные люди, собирающиеся помогать несчастным беднякам из ляпинского и иных домов,— что мы сами недостаточно нравственны для такого дела, и что прежде чем исцелять других, нам нужно исцелиться самим. Деньгами ничего сделать нельзя, ибо эти бедняки не в деньгах нуждаются. Их нужно научить работать,
237
ценить и любить труд — тот труд, которым приобретаются средства к существованию. А как же можем мы научить их этому, когда мы сами ничего не делаем? Следовательно, прежде всего нужно нам о самих себе подумать, исправиться, тогда все остальное само собою устроится. Тогда мы можем словом и делом учить, а не только словом, которому наши дела противоречат; и затем, мы, отказавшись от права на чужой труд, этим самым перестанем отнимать у других те средства, которые им необходимы, а нам служат для роскоши. И гр. Толстой, сбросивши с себя европейское платье, оделся по-мужицки, стал сам для себя топить печь, убирать комнату, пахать, сеять и т. д. «И тут-то, придя к этому сознанию и практическому выводу,— говорит он,— я был вознагражден вполне за то, что не заробел перед выводами разума и пошел туда, куда они вели меня».
В чем же оказалась награда? В том, что ляпинские жители стали иными, что их судьба стала менее ужасной? Нет, само собою разумеется; ляпинцы забыты: лучше стал сам гр. Толстой. Оказалось, объясняет он, что, «отдав на физический труд восемь часов, ту половину дня, которую я прежде проводил в тяжелых усилиях борьбы со скукой, у меня оставалось еще 8 часов..., оказалось, что физический труд не только не исключает возможности умственной деятельности, не только улучшает ее достоинство, но поощряет ее». И далее он говорит: «Чем напряженнее был труд, чем больше он приближался к считающемуся самым грубым земледельческому труду, тем больше я приобретал наслаждений, знаний и приходил тем более в тесное и любовное общение с людьми и тем более получал счастья жизни». Несмотря на предостережение врачей, физический труд не только не повредил здоровью, но наоборот, тем «сильнее, бодрее, веселее и добрее» себя чувствовал гр. Толстой, чем больше он работал. И сверх всего этого — что самое главное — он испытал полнейший душевный мир, успокоение совести, которое он в красноречивых и патетических словах обещает всякому, кто последует его примеру: «Ты почувствуешь радость жить свободно с возможностью добра, ты пробьешь окно, просвет в область нравственного мира, который был закрыт для тебя».
Таков результат, к которому пришел в деревне гр. Толстой. У нашего брата, учившегося человека, есть возможность хорошо жить, спастись от скуки, стать бодрым, веселым, радостным и сверх того, опять привлечь на свою сторону добро, успокоить свою совесть, сделаться очень хорошими, нравственными и счастливыми людьми. Гр. Толстой узнал это у нищих ляпинского дома, которым он шел помочь. Не правда ли, эти нищие были для него счастливой находкой, тем именно, в чем он более всего нуждался в ту эпоху, когда он уже не мог быть более
238
бодрым, веселым, счастливым и нравственным на тот левинский манер, когда пчелиная охота, семья и все прочее так высоко ценилось? Такова уже, видно, судьба бедняков: всегда они служили и служат средством для богатых. Если нельзя или не нужно брать у них материальные блага, то они доставляют «нравственные» утешения. Оказывается, что не только не «нельзя жить» нам ввиду ляпинской нужды, но можно жить отлично — радостно, весело, бодро, совсем так, как в свое время жил Левин или Пьер Безухов после женитьбы. Даже более того, теперь, после переписи, явился один совершенно новый и чрезвычайно важный ресурс в жизни — сознание того, что все эти радости не просто радости, как бывает у других, и даже не добро, как было у Левина, а подвиг во имя и ради страдающих ближних.
Если и прежде можно было негодовать против всех, кто не по-левински жил, если прежде можно было ради «добра» уничтожать Вронского, Кознышева, Анну Каренину — то теперь, нечего и говорить, это право переходит в обязанность, в святую обязанность, можно было бы сказать, если бы скрывающееся под словом «уничтожение» содержание не так плохо ладилось с нашими представлениями о святости. Гр. Толстой, по-видимому, только ждал того момента, когда, наконец, можно будет прямо и открыто начать проповедовать — не в романах, где нападать приходится осторожно, с соблюдением всех условий, поставляемых художественной задачей, а в специальных статьях, не имеющих никаких посторонних проповеди целей.
Теперь только он нашел себе дело, настоящее дело.
Правда, гр. Толстой утверждает, что он нашел способ исцелить человечество от всех общественных недугов. По его словам, он напал, наконец, на архимедов рычаг. Стоит только надавить — и.весь старый мир перевернется, все бедствия исчезнут, и люди станут счастливыми. Но об этой стороне дела он говорит очень мало. Это для него само собой разумеется, так само собою разумеется, что он даже не допускает искренних сомнений в годности средств, рекомендуемых им для спасения человечества. На все возможные возражения он отвечает либо сказками о человеке, испугавшем своей настойчивостью духа моря, либо общими рассуждениями вроде следующего: «Это будет тогда (т. е. все люди тогда начнут жить по принципам гр. Толстого), что будет очень очень скоро, когда люди нашего круга, а за ними все огромное большинство людей, не будут считать, что стыдно идти в личных сапогах в гости, а не стыдно идти в калошах мимо людей, у которых нет никакой обуви; что стыдно не знать по-французски или последней новости, а не стыдно есть хлеб и не знать, как его ставят; что стыдно не иметь крахмальной рубашки и чистого платья, а не стыдно ходить в
239
чистом платье, выказывая тем свою праздность; что стыдно иметь грязные руки, а не стыдно не иметь руки с мозолями, Все это будет тогда, когда этого будет требовать общественное мнение»... «Будет очень скоро!» Скоро, конечно, понятие условное: может, через 50, может, через 100 лет,— а может, и раньше. Пока с того времени, как была окончена статья «Мысли, вызванные переписью», прошло 20 лет. Несмотря на то, что гр. Толстой все это время неустанно проповедовал одно и то же, обстоятельства не только не изменились к лучшему, но стали еще ужаснее.
Если бы он теперь, как 20 лет тому назад, вздумал навестить московские ночлежные дома — он, конечно, не нашел бы там своих старых знакомых. О них позаботилось время, сметающее с земли и радости, и несчастия, но он нашел бы там новых людей, таких же ужасных, как и те, которых он когда-то видел. И этих людей теперь гораздо больше, чем было прежде. За 20 лет десятки, может быть, сотни тысяч прошли через рожновские дома, жили там, мучились там, совершали преступления, умирали — в то время как гр. Толстой совершенствовался нравственно в Ясной Поляне и готовил громовые статьи по адресу тех интеллигентов, которых его пример не соблазнял к подражанию. Что же это значит? Как может гр. Толстой говорить себе и убеждать нас, что он вполне удовлетворен за то, что не заробел перед выводами разума? О каком удовлетворении может быть речь, пока существуют ляпинцы, да еще в таком подавляющем количестве? Пророческое «будет очень скоро» оказалось неправдой, значит! И какой обидной неправдой!
Тут только сказывается то представляющееся на первый взгляд парадоксальным обстоятельство, что проповедь, как и многие другие виды духовной деятельности человека, не имеет и не ищет цели вне самой себя. По-видимому, гр. Толстой не только словом, но и примером учит людей помогать ближним. Но оказывается, что ни слово, ни дело к ближним отношения не имеют. Статьи и книги одна лучше другой, в смысле силы и полноты выражения, непрерывно напоминают читателям о беспокойном мыслителе Ясной Поляны; гр. Толстой все больше и больше укрепляется в своем убеждении, что он открыл новый путь, несомненно ведущий — и скоро — к всеобщему счастью, но счастье так же далеко, как и прежде, а горе, то ужасное горе, о котором так мастерски рассказал нам знаменитый художник, осталось все тем же и даже стало ужаснее. И он «удовлетворен»? И он уже забыл свое «нельзя жить» только потому, что пашет и пишет хорошие книжки, что ему снова удалось переманить на свою сторону «добро»? Ему «так приятно давать», он считает это дело даванья столь важным, что за ним можно забыть грозное «так нельзя жить» и даже выступать
240
с суровыми, уничтожающими обличениями против всех тех, кто не видит возможности выхода по указываемому им пути?! В «Мыслях, вызванных переписью» обличитель сравнительно еще не так заметен. Гр. Толстой, вновь почувствовав приятство добра, считает себя еще слишком богатым, чтоб сердиться и негодовать. Он как будто бы надеется лаской и добрыми словами повести за собой людей. Но люди, конечно, не пошли за ним. И по мере того, как уходило время и «это будет скоро» затягивалось, счастливые времена не наступали, пророчество не сбывалось,— раздражение гр. Толстого все росло. Явилось неизбежное «кто виноват»? Кто виноват, что простое и ясное учение гр. Толстого не осуществляется? Виноваты — люди и только, конечно, люди,— ибо кто же другой, кроме людей, ответит, кому можно будет вменить в вину, на кого можно напасть, кого упрекать? Таково уже свойство нравственности. Она не может существовать без своей противоположности — безнравственности. Добру нужно зло как объект мщения, а добрым людям — злые люди, которых можно призвать к суду, хотя бы к воображаемому суду совести.
Этим и объясняется странная симпатия гр. Толстого к кантовской «критике практического разума». Последователь Евангелия, ученик Христа заявляет, что критика практического разума «содержит в себе сущности нравственного учения». Уже одно происхождение «критики» отнимает у истинного христианина право называться кантианцем. «Критика практического разума» является только пристройкой к «критике чистого разума». Кант нашел синтетические суждения а priori и признал их источником наших знаний, условием существования науки. Таким способом, как он сам объясняет в своих prolegomena, он задержал скептицизм Юма, устанавливавший невозможность какой бы то ни было науки. Прав или неправ был Кант, разрешивши таким образом юмовскую задачу, но решение показалось ему до того важным, всеобъемлющим, что он, не затрудняясь, применил его к вопросам нравственной философии.
В опытных науках нас смущало понятие о причинности, и мы склонны были признать его незаконным детищем опыта. Кант доказал его законное происхождение, отнеся его к синтетическим априорным суждениям, т. е. к таким, которые предшествуют опыту, обусловливают собою опыт. Категорический императив построен по образу и подобию категории причинности и только потому, что для полноты системы ему должно было быть так построенным.
Действительные противоречия в области нравственной жизни для Канта уже не существовали. Пред ним стояло неоконченное здание метафизики, и его задача состояла лишь в
241
том, чтобы, не изменяя раз задуманного и наполовину выполненного плана, докончить начатое. И явились категорический императив, постулат свободы воли и т. д. Все эти столь роковые для нас вопросы имели для Канта лишь значение строительного материала. У него были незаделанные места в здании, и ему нужны были метафизические затычки: он не задумывался над тем, насколько то или иное решение близко к действительности, а смотрел лишь, в каком соответствии находится оно с критикой чистого разума — подтверждает ли оно ее или нарушает архитектоническую гармонию логического построения. И, конечно, своей цели он достиг. Логическое соответствие между частями здания ничего не оставляет желать: оно вполне кантовское. Но тем поразительнее отношение гр. Толстого к критике практического разума. Что общего между категорическим императивом или принципом возмездия, провозглашенным Кантом, и евангельским учением? Если немецкие профессора благоговеют пред нравственным учением Канта, если они восхищаются его «благородной защитой долга» — это понятно. Им больше всей? нравится то обстоятельство, что у Канта этика по прочности и точности своих выводов приравнена к математике. Но гр. Толстой? Как мог он примириться с учением, где принципом наказания выставляется не милосердие, а справедливость («гордое слово справедливость», как выражался он еще в «Войне и Мире»), где говорится, что наказывать нужно не затем, чтобы оградить общество от опасности, и даже не затем, чтобы исправить преступника, а потому, что преступление совершено. Для Канта возможность подменить в данном случае слово «затем» словом «потому» было настоящей и очень важной победой: ad majoren gloriam критики чистого разума, интересы которой для ее автора, естественно, казались самыми высшими. Но гр. Толстой говорит, что критика чистого разума никуда не годится, что она «только потакает царствующему злу». Что же привлекло его к критике практического разума? Едва ли ему пришлось по сердцу учение Канта о сострадании. Как известно, Кант отвергал сострадание на том «основании», что оно только увеличивает количество страдания, прибавляя к горю страдающего еще горе сострадающего. Все эти практические выводы, которые так подходили Канту, так мало гармонируют с запросами гр. Толстого, по словам которого — «все благо людей только в отвержении от себя и служении другим!» Что же подвигло его, так скупо расточающего похвалы ученым — особенно знаменитым — возносить «критику практического разума»? Очевидно одно: категорический императив, обязанность служить добру, как добру, то самое, что когда-то Левин после мучительных сомнений отверг как антижизненный, ложный принцип. Теперь же
242
для гр. Толстого этот принцип дороже всего. «Служить добру» — для него это не только бремя, а облегчение от бремени. И сверх того, это дает ему, помимо мнимых обязанностей, еще право требовать от других людей, чтобы они делали то, что он делает, чтобы они жили так, как он живет. Это дает ему счастливую возможность выступить с проповедью, открывает ему новые горизонты и перспективы, в которых он теперь более, чем когда бы то ни было, нуждается, после того как «Война и Мир» и «Анна Каренина» заключили собой иной период его существования, когда были другие горизонты и перспективы. И долг, чистый кантовский долг в той своей форме, которая не допускает никаких сомнений о том, что «можно» и чего «нельзя» делать, ложится в основание учения гр. Толстого, того самого гр. Толстого, который еще недавно так мало верил в разум и требовал от людей, чтобы они не меняли легкомысленно пути своих отцов и вверялись не соображениям ума, воображающего, что он может перекроить мир, а непосредственному инстинкту, дающему возможность «врезаться, как плуг в землю».
V
Быть может, читателю покажутся несправедливыми и ненужными сличения нового учения гр. Толстого с его прежним мировоззрением. Кто старое помянет — тому глаз вон. И затем, гр. Толстой так торжественно отрекся от своего прошлого, что укорять его в противоречии и непоследовательности уже совсем излишне. Он ведь сам признается, что был дурным. Чего же еще? Но прежде всего, я менее кого бы то ни было хочу укорять гр. Толстого. Он был, есть и навсегда останется «великим писателем земли русской». Если я заглядываю в его прошлое, то вовсе не затем, чтобы уличать его, а единственно с тем, чтобы лучше разъяснить себе смысл и значение его учения. И затем, меня не столько поражает разница между новым и прежним гр. Толстым, сколько единство и последовательность в развитии его философии. Правда, есть и существенные противоречия, и их забывать не следует. Гр. Толстой времени «Войны и Мира» и «Анны Карениной», во всяком случае, является для нас важным свидетелем, которого не только можно, но должно, обязательно выслушать. В особенности ввиду того обстоятельства, что, как было показано выше, этот замечательный человек упорно и постоянно в течение всей своей жизни высказывал убеждение, что вне «добра» — нет спасения. Все изменения его философии никогда не выходили за пределы «жизни в добре»: перемены происходили только в представле-
243
нии о том, в чем это добро и что нужно делать, чтобы иметь право считать его на своей стороне. Оттого-то в гр. Толстом всегда замечалась такая чисто сектантская нетерпимость в отношении к чужим мнениям и к отличному от его собственного образу жизни. Таково уже свойство добра. Кто не за него, тот против него. И всякий человек, признавший суверенность добра, принужден уже делить своих ближних на хороших и дурных, т. е. на друзей и врагов своих. Правда, гр. Толстой выражает постоянную готовность простить человека и перевести его из разряда дурных в разряд хороших,— но под непременным условием раскаяния. «Признайся, что ты был неправ, был дурным, живи по-моему, и тогда я назову тебя хорошим». Иного способа примирения нет. Более того — без этого условия объявляется вражда навеки. Вражда, конечно, не в обыкновенном смысле. Гр. Толстой не ударит, не подведет под несчастье своего противника. Наоборот даже, он подставит другую щеку, когда его ударят в одну, он примет и обиду, и горе, и тем больше будет доволен, чем больше нужно будет отдать. Одного только не отдаст — своего права на добро. При всяком посягательстве на это право гр. Толстой проявляет такую же жадность, какую проявляет у Шекспира Генрих V, когда дело идет о славе. Оба они — и гр. Толстой, и Генрих V — считают, что в данном случае жадность — не порок и не только не может быть поставлена в упрек, а прямо-таки должна быть вменена в достоинство человеку. С английского короля, конечно, спрашивать нечего, но когда гр. Толстой проявляет ту же готовность защищать свое благо, что и средневековый рыцарь,— это наводит уже на серьезные размышления. Та нравственность, то добро, которое, как мы всегда думали, стоит вне обычного соревнования эгоизма, оказывается вдруг таким же человеческим, неотчуждаемым благом, как и все другие чисто языческие блага, как слава, власть, богатство и т. д. Из-за добра тоже возможна неумолимая борьба — только при посредстве иного оружия. Вся жизнь гр. Толстого служит тому примером; вся проповедь его служит тому доказательством. В последнем своем произведении — «Что такое искусство», гр. Толстой, уже семидесятилетний старик, вступил в борьбу за свое право с целым поколением людей. И как эта борьба вдохновляет его! Книжка эта, вся задача которой сводится к тому, чтобы заявить людям: вы безнравственны, а я нравственен, т. е. высшее благо за мной, а не за вами — написана с мастерством, подобного которому вы не найдете в современной не только русской, но и европейской литературе. Несмотря на внешне спокойный, почти эпический тон, страстное возбуждение и негодование, направлявшие собой перо гр. Толстого, слишком чувствуются даже и теми, которые не очень интересуются источником творчества этого
244
замечательного писателя. Бранных слов, в которых обыкновенно выражается человеческий гнев, там нет и в помине. Гр. Толстой избегает даже открытой насмешки. Все его оружие — это тонкая ирония и затем несколько на вид безобидных эпитетов — «дурной», «безнравственный», «испорченный» и т. д. Слово «наглость» употреблено всего один раз — в применении в Ницше. Казалось бы, таким путем ничего и сделать нельзя, особенно в наше время, когда слово «безнравственный», по-видимому, уже давно потеряло свою прежнюю остроту, а противоположное ему слово «добродетельный», которым гр. Толстой не боится пользоваться для обозначения своего и своих, считается почти синонимом комического. И тем не менее, что может сделать талант! «Что такое искусство» является образцом полемической литературы. Сильнее сказать то, что сказал гр. Толстой — невозможно даже и вне тех условий христианской самообороны, в которые он добровольно себя поставил. Я глубоко убежден „что огромное большинство читателей, особенно русских — как бы далеки они ни были от идеалов гр. Толстого и как бы мало они ни были расположены отказываться от своих преимуществ привилегированного класса, с истинным наслаждением прочли его новое произведение и даже нашли, что «в сущности» он совершенно прав. Правда, и на этот раз, как и до сих пор было, дело «добра» нисколько не подвинулось вперед. Даже, если угодно, еще ухудшилось. Ибо между многочисленными читателями толстовской литературы, наслаждающимися художественным талантом великого мастера, есть и такие, которые на самом деле хотят у него научиться чему-нибудь и исправить свою жизнь. И на совесть этих людей слова гр. Толстого упадают свинцом, их и без того невеселая жизнь совершенно отравляется грозными нападками неумолимого судьи. «Да, мы едим, пьем, одеваемся и все берем у мужиков, которым ничего взамен не возвращаем»,— повторяют они слова учителя, но сделать, конечно, ничего не могут. Они идут в деревню, куда зовет их гр. Толстой и возвращаются оттуда с новым запасом укоров совести, ибо там они ничего или почти ничего не могли сделать по той программе, которая была выработана для них в «Ясной Поляне». От них требовалось, чтоб они жили среди мужиков и по-крестьянски; они, конечно, не могли этого сделать и ушли назад в город больные, обессиленные, измученные, с тяжким сознанием громадности числящегося за ними долга. Те, которых имел или, по крайней мере, должен был иметь в виду опрокинуть своим рычагом гр. Толстой, и ухом не вели, читая его произведения. Наоборот, они с удовольствием перечитывали его новые статьи как образцы душеспасительной литературы, как они читали Евангелие, пророков. Я знал одного фабриканта миллионера, отдавшего свои деньги на про-
245
центы и считавшего себя толстовцем. И этот случай — не исключение. Наоборот, он типично выражает собой отношение читающей публики к проповеди. Да что говорить! Ведь гр. Толстой не от своего имени проповедует. Он лишь повторяет на современном языке то, чему тысячи лет тому назад учили пророки и апостолы; но, если европейские народы, столько столетий подряд признававшие Библию своей священной книгой, не исполнили ее заветов, то как гр. Толстой мог серьезно надеяться, что его слово сделает больше, чем слово его учителей! Очевидно, его обещание «это будет скоро», как и весь пафос его проповеди, относился не к действительной борьбе со злом и неправдой, а к собственным, чисто личным задачам. Ему нужно было не вне себя сделать что-нибудь, не другим помочь, а себе найти дело, удовлетворение, которого он не нашел в своих художественных трудах. «Война и мир», носившая печать полной законченности и умиротворения, сменилась «Анной Карениной», «Анна Каренина», в свою очередь казавшаяся произведением цельного и самоудовлетворенного духа, сменилась проповедью нравственности. Конец ли это? Кто может предсказать? Может быть, у гр. Толстого еще раз хватит сил и мужества сжечь то, чему он теперь поклоняется и возвестить новое слово? Теперь он отвергает свою прежнюю художественную деятельность, которой он с такой искренностью и страстностью предавался когда-то. Она ни для чего не нужна, она ничего не сделала. Но проповедь, на которую он теперь рассчитывает, сделает ли больше? И какой критерий человеческой деятельности выставит гр. Толстой тогда? Теперь он отвергает все искусство, и свое, и не свое на том основании, что оно ненужно массе. Но если и проповедь его не облегчает положения масс, то, следовательно, и ее нужно отвергнуть?
Но в отношении к проповеди гр. Толстой, по-видимому, не признает — теперь, по крайней мере — того масштаба, которым он измеряет достоинство всех других родов литературы. Проповедь хороша сама по себе, независимо от результатов, ею приносимых. Есть возможность и все искусство сделать в этом смысле ценным. Для этого нужно ему поставить те же задачи, которые поставляет себе проповедь. Художник, который хочет иметь право называться этим почетным именем, должен в своих произведениях подчиняться двум условиям: во-первых, писать так, чтобы все решительно могли понимать его, а во-вторых — говорить не обо всем, что его занимает, а лишь о таких вещах, которые возбуждают в людях добрые чувства. С этой точки зрения гр. Толстой осуждает все современное искусство, начиная с собственных произведений и кончая Шекспиром, Данте, Гете — не говоря уже о менее видных и особенно более
246
новых писателях, для осуждения которых он в своем кратком репертуаре добродетельно-бранных слов не находит достаточно сильных выражений. Исключение он делает лишь для немногих произведений немногих писателей. В этом ограниченном списке достойных учителей слова любопытно видеть имя Достоевского — того самого Достоевского, которого и Ницше называл своим учителем. Собственно говоря, Достоевский не удовлетворяет основному условию, предъявляемому гр. Толстым к писателям. Мужики его не поймут, ибо он для них настолько же учен, как и Шекспир. По-видимому, гр. Толстой считает, что зато Достоевский более полно, чем какой бы то ни было другой писатель, удовлетворяет второму условию: он учит добру. В этом отношении гр. Толстой вполне прав. Достоевский точно во всех своих сочинениях (исключая отчасти особенно рекомендуемых гр. Толстым «Записок из мертвого дома») никогда не забывает учить добру. Но чем же тогда он мог снискать себе расположение Фридриха Ницше, для которого добро было приблизительно тем же, чем дьявол для гетевской Гретхен? Понять за что Ницше и гр. Толстой ценили Достоевского — значит найти ключ к объяснению их столь противоположных на вид философий. Поэтому мы остановимся на одном из самых характерных и наиболее прославившихся произведений Достоевского,— на «Преступлении и наказании».
VI
Основная идея «Преступления и наказания» почти уже высказана в самом названии романа. Сущность ее в том, что нарушения «правила» ни в каком случае дозволено быть не может — даже тогда, когда человек решительно не понимает, для какой надобности это правило придумано.
Раскольников, бедный студент, решается убить уже почти неживую старуху, чтобы добыть средства для устроения своей жизни. Раскольников человек даровитый, талантливый, полный жизни и желания найти себе соответствующую своим силам деятельность. Все мечтания его по душе и самому Достоевскому, у которого не было, как у гр. Толстого, убеждения, что всякого рода интеллигентный труд — безнравственен. Наоборот, если бы случайно Раскольников получил дозволенными законом способами нужные ему для занятия средства, Достоевский благословил бы все его планы. Но эти средства дозволенным способом достать невозможно. Нужно выбирать одно из двух: или отказаться от своего будущего и погубить жизнь
247
за черной бессмысленной работой, в борьбе из-за куска насущного хлеба, или открыть себе путь к настоящей (по мнению Достоевского, «настоящей») жизни при посредстве преступления, убийства. Половина романа наполнена размышлениями Раскольникова, борющегося против живущего в нем представления о недозволенности убийства. С одной стороны, внутренний голос говорит ему: нельзя убивать; с другой стороны, тысячи соображений являются к нему в доказательство того, что этого голоса слушать не надо, что убить — можно. В отыскании этих соображений Раскольников (т. е. Достоевский) неисчерпаем — и это называется «психологией преступника», этому роман обязан своей славой. Основная, впрочем, тема одна: убийство бесчисленное количество раз совершалось людьми — и безнаказанно. Все дело не в том, что «нельзя» убивать, размышляет Раскольников,— но что это «нельзя» связывает только маленьких, слабых людей. Большие же и сильные люди не боятся этого формального препятствия и, когда оно задерживает их в намеченных целях,— сметают его с пути. Пример — Наполеон. В таком духе написана была Раскольниковым и статья для журнала. Приблизительно эти же соображения заставляют его решиться и на убийство. Я не знаю, нужно ли говорить, что Раскольников — фантастический убийца, и что при его настроениях совершить убийство — дело невозможное. Мне кажется, что и сам Достоевский не стал бы этого отрицать. И в этом именно весь интерес романа. Настоящий убийца и те способы, которыми он преодолевает заповедь «не убий» — Достоевского совсем не занимали. Оттого-то и жертва для Раскольникова подобрана такая: полуживая старуха, со дня на день готовящаяся отдать Богу душу. Это именно и нужно было Достоевскому. Он стремился поставить своего героя в такое положение, при котором его преступление будет преступлением только с формальной стороны. Мне кажется, что, если б он мог, не запутывая слишком романа, так сделать, чтобы Раскольников ударил топором старуху уже после того, как она умерла раньше естественной смертью, он бы это сделал — и потом все-таки заставил бы Раскольникова угрызаться, отдать себя в руки правосудия, пойти в каторгу и т. д. Пред Достоевским вопрос стал так: кто прав, кто лучше — те ли, которые (как он сам, Достоевский) держатся правила, смысл которого им непонятен, или те, которые по тем или иным побуждениям осмеливаются нарушать это правило. Ответом и является вторая часть «Преступления и наказания», в которой Раскольников смиряется — и не в силу того, что ему жаль своей жертвы (жертва, обе жертвы не играют никакой роли в романе и для Достоевского, как и для Раскольникова, имеют только внешнее значение преграды, черты, дальше которой человек не
248
должен идти), а потому, что он постиг, что нельзя преступать правило. Чтоб привести Раскольникова к этому сознанию, Достоевский придумывает для него самые ужасные пытки.
Жестокий талант! Но откуда пришла к нему эта жестокость? Разве Достоевский иначе создан, чем все люди? Здесь та же история, что и у гр. Толстого, только на иной манер. Раскольникова (фантастического, никогда не существовавшего убийцу — повторяю это) нужно заставить покориться правилу, чтоб из покорности правилу создать свою добродетель. Достоевский, как и гр. Толстой, готов подставить щеку ближнему,— но добродетели своей, своего права на добродетель — не только не уступит, но отнимет у ближнего. И в борьбе за это право — он неумолим. Даже наоборот — чем больше он может проявить жестокости, чем сильнее может наказать он свою жертву, тем полнее его торжество. Но и этого ему мало; он не довольствуется тем, что мучает жертву — он вырывает у нее признание в ее неправоте, в ее виновности, преступности. Приведу несколько слов, в которых выльемся весь Достоевский: «Странно было видеть, как в этой маленькой комнатке сошлись за чтением вечной книги убийца и распутница». Убийца — Раскольников, распутница — Соня. Зачем понадобилось Достоевскому, не выпускавшему из рук Евангелия — клеймить этими ужасными именами изголодавшегося студента и содержавшую своим позором семью Соню? Это он в Евангелии прочел? Так он читал Евангелие? Нет, ему нужно было иное! Ему нужны были для себя особые правила и привилегии, ему, подпольному человеку, не умевшему не посторониться при встрече с офицером и тщетно надеявшемуся превзойти в величии Наполеона — и он ставил себе в заслугу свою готовность не преступать правило, свою нравственность, которую он придумал в долгие, бессонные ночи, проведенные в борьбе с соблазнами недоступной ему силы. В результате — «психология», две психологии даже. С одной стороны, первая часть «Преступления и наказания», в которой Раскольников заодно со своим творцом признает свою неспособность к преступлению — слабостью; с другой стороны — вторая часть, где Достоевский уже один, без Раскольникова находит для себя в готовности остаться нравственным новый ореол, источник славы и гордости.
И тогда только, когда сомнения в своей слабости побеждены, Достоевский начинает торжествовать победу правила над Раскольниковым как свою собственную победу. И чем больше унижен, опозорен, уничтожен Раскольников,— тем яснее на душе у Достоевского; под конец, когда Раскольников, уже лишенный всех, не только юридических, но и нравственных прав состояния, кается в совершенном, Достоевский дарует
249
ему душевный мир под условием, что все оставшиеся ему дни он проведет в каторге как кающийся, не смеющий надеяться на земное счастье «убийца», в обществе «распутницы» Сони, тоже искупающей добрыми делами несчастие своей молодости. «Жестокий талант» теперь понятен. Понятно теперь, почему и Ницше, и гр. Толстой пришли поклониться ему. Ницше близки были подпольные рассуждения первой части «Преступления и наказания». Он и сам, с тех пор как заболел безнадежно, мог видеть мир и людей только из своего подполья и размышлениями о силе заменять настоящую силу. Он простил охотно Достоевскому вторую часть — наказание за первую — преступление. Гр. Толстой — обратно: за вторую часть — простил первую. Ибо та «психология», которая грозит подорвать обязательность правила, наверное, не по душе гр. Толстому. Это все «испорченность», «развратность», это все «пакостные идеи», придуманные «праздной культурной толпой» (все слова гр. Толстого — если собрать их вместе, едва ли от них повеет смирением, да и отдельно взятые, особенно в том количестве, которое допускает в последней своей книге гр. Толстой — они достаточно говорят о «кротости» знаменитого писателя) — за это похвалить нельзя. Но Раскольников был наказан, у Раскольникова было исторгнуто признание вины, прощение было дано под условием жизни в добре — разве этого недостаточно, чтоб заслужить право на звание народного учителя?
Здесь я позволю себе небольшое отступление, которое, ввиду задачи этой книги, вероятно, окажется не лишним. Я хочу сравнить миросозерцание Шекспира, того самого Шекспира, которого не признает гр. Толстой, с миросозерцанием Достоевского. Сравнит не во всем объеме — а только отчасти: в их понимании зла и преступления. У Достоевского есть Раскольников, у Шекспира — Макбет. Сюжет — тождественен. И оба писателя — христиане. Только Шекспир никогда не ставит на вид этого обстоятельства, Достоевский же сделал из этого свое литературное profession de foi.
Больше всего поражает при сравнении «Макбета» с «Преступлением и наказанием» отношение их авторов к жертвам убийства. У Достоевского обе убитые женщины не играют никакой роли. Он бы, подчеркиваем это обстоятельство, оставил их жить или воскресил бы, если бы мог, до такой степени факт их смерти безразличен для него. Они введены в роман лишь потому, что нужен же хоть какой-нибудь объект для Раскольникова. Но смысл и значение преступления, с точки зрения Достоевского, не в том, какое зло сделал Раскольников своим жертвам, а в том, какое зло сделал он своей душе. В этом отношении и автор, и герой «Преступления и наказания» думают и чувствуют совершенно одинаково. Достоевский почти
250
не говорит ни о старухе, ни о девушке — хотя говорит о многом, что никакого отношения к роману не имеет, хотя часто является многословным до утомительности; Раскольников, в свою очередь, почти не вспоминает об убитых им, хотя фантазия его непрерывно рисует ему самые разнообразные ужасы. У Шекспира мы видим совсем иное. Макбет действительно только и размышляет, что о своей душе. Для него весь ужас совершаемых им поступков сводится только к личной ответственности. Он «погубил навеки свою душу», он «не может молиться», не может произнести аминь, когда другие говорят «Господи, помилуй» — и это мучительное душевное состояние застилает пред ним весь остальной мир, всех людей. Он так глубоко погрузился в кровь, что ему все равно не стоит возвращаться. Он чувствует, что отрезан от всего мира и видит во всех людях, живых и мертвых, только врагов, ищущих погубить его душу. Но Шекспир смотрит на Макбета своими собственными глазами. Он ни на минуту не забывает, что не только в душе и ее погибели дело, когда речь идет о зле и преступлении. Наоборот, его столько же занимают те несчастья, которые Макбет приносит окружающим его людям, сколько и психология преступной души. Вот в каких словах Росс описывает положение Шотландии:
Страна несчастная! Увы, ей страшно
И оглянуться на себя! Для нас
Она не мать, а темная могила.
Улыбки там не встретишь на лице;
На стон и вопль, звучащий без умолку,
Никто не обращает там вниманья,
Печаль слывет за пошлое безумство.
При мрачном звуке похоронной меди
Едва ль кто вздумает спросить: по ком?
И люди мрут, с болезнью не знакомясь,
Как вянет сорванный цветок.
Шекспир далее изображает ужасную сцену избиения семьи Макдуфа. Какое страшное впечатление производит на читателя немой ужас Макдуфа, узнавшего о гибели своих малюток и жены. Кто не помнит обращенных к Макдуфу слов Малькольма:
Творец небесный!
Макдуф, не надвигай на брови шляпу!
И затем, восклицание Макдуфа о Макбете: «Злодей бездетен». Ничего подобного у Достоевского мы не видим. Преступ-
251
ление его заинтересовало, могло заинтересовать только с одной стороны: со стороны своего значения для души преступника. Он подошел к своему Раскольникову с прямо противоположной стороны, чем Шекспир к Макбету. Его занимал вопрос, как могут, как смеют делать другие люди то, чего он, Достоевский, не может, не смеет делать. Оттого-то он и убийцу подобрал такого, который учится в университете, пишет статьи, не знает сегодня, что будет есть и будет ли вообще есть завтра. С этим
— он знал заранее — психология справится в желательном смысле. Т. е. убийство наверное раздавит и уничтожит его: его ли это дело? А вывод получится такой: в подчинении правилу высший смысл жизни; Достоевский правилу подчиняется, следовательно — смысл за ним. У Шекспира нет и следа таких настроений. Для него преступление становится преступлением только в силу того зла, которое оно причиняет людям — Дункану, Макдуфу, его детям, всей Шотландии. У него нет и не может быть вопроса о том, хорошо ли самому стать убийцей и не прибавит ли к его собственному душевному величию то обстоятельство, что он убьет кого-нибудь. Более, если бы он и убедился в том, что убийство может прибавить что-нибудь, даже очень много к величию его души,— он все-таки не убил бы. Если бы размышления выяснили ему, что такого правила — «не убий» — нет или что это правило для ничтожных и маленьких людей, а для больших, великих людей есть другое правило: убивай — он все-таки не убил бы. Ибо кроме расчетов, выгод своей души у него есть еще понимание счастья и несчастья других людей — малюток Макдуфа, короля Дункана и т. д. Если бы пред ним «убий» восстало бы в том всеоружии грозной повелительности, в каком пред Макбетом и Раскольниковым встало «не убий» — он все-таки не убил бы. Для Достоевского, очевидно, шекспировское отношение к преступлению было совершенно недоступным. У него весь вопрос сводился лишь к тому, какое правило лучше вооружено — «убий» или «не убий». Но и в этом вопросе он не был беспристрастным судьей. Он всю силу своего огромного таланта направил на поддержание престижа «не убий» главным образом потому, что он все равно не мог быть Наполеоном. Оттого-то он и душит своего Раскольникова, оттого-то он его отпускает только под условием признания своей «вины». У Шекспира нет и следа такого отношения к Макбету. Едва ли нужно говорить, что красок у Шекспира для изображения мук угрызения совести у преступника много больше, чем у Достоевского, что в коротеньком «Макбете» полнее и ярче обрисованы настроения и терзания героя, чем в длинном «Преступлении и наказании». Вспомните хоть эти слова несчастного убийцы:
252
По сводам замка Неумолкаемо носился вопль:
«Гламис зарезал сон, зато отныне
Не будет спать его убийца, Кавдор,
Не будет спать его убийца, Макбет».
От этого и подобных восклицаний Макбета веет истинно средневековым ужасом пред неизбежностью страшного суда. Шекспир понимал и умел обрисовывать самые ужасные трагические настроения, не делая ни малейшего напряжения, не прибегая к искусственным приемам, не выматывая душу у читателя вечным повторением мучительных длиннот. И тем не менее, какая разница между Шекспиром и Достоевским и здесь, в изображении психологии убийцы! Шекспир не только не ищет «погубить» душу Макбета, не только не хочет раздавить, уничтожить своим красноречием и без того уже уничтоженного и раздавленного человека, но наоборот, он весь, целиком на стороне Макбета — и без всяких условий, ограничений и требований, без которых Достоевский и все почитатели «добра» ни за что не отпустят своих преступников. И Шекспир ни на минуту не боится, что таким отношением он потакает убийце или поощряет убийство. И еще менее думает о том, что его нравственное величие потеряет, если за Макбетом останутся человеческие права, если преступник будет сметь думать о себе, о своем спасении, а не о покаянии; у Шекспира, по мере развития трагедии, Макбет не только не уступает, не склоняет повинной головы пред добродетельным автором, но наоборот, все более и более ожесточается с того момента, когда он понял или вообразил себе, что внутренний судья ни за что не простит ему «одного удара!» И это ожесточение не вызывает у Шекспира вражды к непокорному; оно кажется поэту естественной, справедливой реакцией против безмерной притязательности «категорического императива», осмеливающегося предавать вечной анафеме человека за «один удар». Для Шекспира Макбет не перестает быть человеком, ближним после рокового события, и, несмотря на то, что Шотландия обращена озверевшим королем в темную могилу, несмотря на то, что тысячи жертв вопиют к небу о справедливости, Шекспир не считает ни нужным, ни возможным заставить самого Макбета признать постигшую его кару законной. Чем безжалостнее преследуют Макбета фантастические призраки, тем энергичнее он готовится к отпору, и пока у него есть физические силы — он не смиряется. Нужно ли говорить о том, насколько психологически Шекспир правее Достоевского? Ибо как бы ужасно ни было прошлое человека, как бы он ни раскаивался в своих делах — никогда он в глубине своей души не признает, не может при-
253
знать себя справедливо отверженным людьми и Богом. Конечно, пред непобедимыми внутренними и внешними препятствиями каждый, в конце концов, смиряется. Но никто не признает, и не признает, что вечное осуждение справедливо, что все права его потеряны, что он зависит от милости и великодушия других людей, соглашающихся на известных условиях даровать ему прощение. Гигантская борьба Макбета с живыми и мертвыми врагами служит этому бесподобной иллюстрацией. Не всякий будет смел, как Макбет, не всякий решится до конца поступать и говорить по-своему, от своего имени. Обыкновенный, средний человек при подобных обстоятельствах сдается: он признает, что травля категорического императива законна, что он действительно заслуживает какого угодно вечного осуждения. Но это — притворство, ложь, посредством которой он ищет избежать именно той участи, которой он на словах признает себя достойным. В выборе сюжета сказались черты обоих художников. Шекспир заинтересовался непокорившимся и действительно ужасным злодеем. Достоевский — покорившимся и безобиднейшим убийцей. Шекспир искал оправдать человека, Достоевский — обвинить. Кто из них истинный христианин? И до какой степени по основной своей идее (я уже не говорю о выполнении) «Преступление и наказание» уступает «Макбету»! Меж этими двумя художественными произведениями, помимо степени дарования их творцов, существенная разница в основных задачах. У Достоевского — на первый план выдвигается проповедь. У Шекспира — вопрос чисто философского характера. Достоевскому нужно внушить людям, что можно служить «добру» jï «злу», что он сам служит «добру» и потому — очень достойный человек, а другие служат «злу» и — недостойные люди. У Шекспира вопрос о личном достоинстве в стороне. Перед ним — ужасное явление: преступление. Ужасное вдвойне: по тем несчастьям, которые оно приносит людям и по вечному проклятию, которому подвергается преступник.
Ему нужно понять, объяснить себе, что это значит: действительно ли наши представления о сущности преступной души правильны? Он не хочет великодушно поступить со своим злодеем — даровать ему прощение в доказательство собственной нравственной высоты. Он добивается найти право Макбета и потому не отнимает у него сил для борьбы. Прочитавши «Преступление и наказание», вы остаетесь под мучительным впечатлением, что выслушали проповедь безгрешного праведника, направленную против многогрешного мытаря. Прочитавши «Макбета» — в котором автора как будто и нет — вы выносите убеждение, что нет такой силы, которая могла, хотела бы уничтожить человека. Говоря словами Евангелия: «Нет воли вашего Отца небесного, чтобы погиб один из малых сих».
254
Более подробно останавливаться на Шекспире и Достоевском программа настоящей работы не дозволяет. Но и приведенного, кажется, достаточно для того, чтобы выяснить, в чем существенная разница между философией и проповедью, и кому нужна проповедь, кому философия.
VII
У нас для обозначения происшедшей в творчестве гр. Толстого перемены говорят, что он от художественной деятельности перешел к философии; об этом очень жалеют, ибо предполагается, что гр. Толстой, будучи отличным, гениальным художником, как мыслитель, философ — очень плох. Доказательством и, по-видимому, очень решительным в пользу такого предположения, является послесловие к «Войне и миру». Оно написано неясно, запутано. Гр. Толстой все топчется на одном месте среди не имеющих значения общих фраз. Это, пожалуй, справедливо. Послесловие написано не хорошо. Но «Война и мир»? Разве «Война и мир» не истинно философское произведение, написанное художником? Разве послесловие не есть только плохо сделанный план к чудесному зданию? Каким же образом могло случиться, что архитектор, проявивший столько искусства при возведении постройки, не мог нарисовать ее плана? По-видимому, не в архитекторе дело, а в самой задаче. По-видимому, послесловие плохо не от того, что гр. Толстой не владеет циркулем и линейкой, а от того, что циркуль и линейка непригодны для выполнения задачи. Отняв у себя право пользоваться красками, гр. Толстой этим самым обрек себя на непроизводительную работу, ибо смысл всей философии «Войны и мира» в том заключается, что человеческая жизнь находится за пределами, поставляемыми нам всею совокупностью имеющихся в языке отвлеченных слов. Несомненно, что попытка гр. Толстого пояснить «Войну и мир» посредством добавочный рассуждений могла только испортить дело. Он первой частью своего эпилога закончил все, что имел сказать: вся его философия в четырех томах этого романа вылилась с такой ясностью и полнотой, дальше которых он не мог уже идти. Князь Андрей, Пьер, Наташа, старик Болконский, княжна Марья, Ростовы, Берг, Долохов, Каратаев, Кутузов,— всех не перечесть — разве они нам не рассказали все, что видел и как видел в жизни гр. Толстой? Разве пребывание в плену Пьера, старческая прозорливость Кутузова, трагическая смерть князя Андрея, огорчения и радости Наташи, резиньяция Каратаева, стойкость русских солдат, непритязательное, тихое геройство безвестных
255
офицеров, массовое бегство жителей из городов — разве все это, с такой законченностью и яркостью изображенное гр. Толстым, не включает в себя «вопросы» о свободе воли, о Боге, нравственности, историческом законе? Не только включает, само собою разумеется, но более того, обо всем этом нельзя иначе говорить, как в форме художественного произведения. Всякий другой способ обязательно поведет к тому, образцом чего является послесловие. В особенности у художника, т. е. у человека, который знает, как много нужно сказать и чувствует, как мало говорят линии. Поэтому он пытается еще раз и еще раз на различные лады повторить уже сказанное, ничего, конечно, выяснить не может и приводит нас к сознанию, что он — не философ. Но это, конечно, наше заблуждение. Гр. Толстой в «Войне и мире» философ в лучшем и благороднейшем смысле этого слова, ибо он говорит о жизни, изображает жизнь со всех наиболее загадочных и таинственных сторон ее. Если послесловие ему не удалось — то только потому, что он искал недостижимого. Любой критик написал бы лучшее заключение к «Войне и миру», чем сам гр. Толстой, ибо критик, не чувствуя так, как сам художник, всей ширины задачи, держался бы в пределах обычных представлений и потому достиг бы известной, очень относительной логической закругленности и законченности, которая удовлетворила бы читателей. Но это значило бы, что критик — не лучший, а худший философ, чем гр. Толстой, что он не чувствует потребности передать все свое впечатление от жизни и потому превосходно владеет циркулем и линейкой, доволен своей работой и удовлетворяет своих читателей. Сказать про гр. Толстого, что он — не философ, значит отнять у философии одного из виднейших ее деятелей. Наоборот, философия должна считаться с гр. Толстым как с крупной величиной, хотя его произведения и не имеют формы трактатов и не примыкают к какой-нибудь из существующих школ. Как было уже указано выше, вся творческая деятельность его была вызвана потребностью понять жизнь, т. е. той именно потребностью, которая вызвала к существованию философию. Правда, он не касается некоторых теоретических вопросов, которые мы привыкли встречать у профессиональных философов. Он не говорит о пространстве и времени, монизме и дуализме, о теории познания вообще. Но не этим определяется право называться философом. Все эти вопросы должны быть выделены в самостоятельные дисциплины, служащие лишь основанием для философии. Собственно же философия должна начинаться там, где возникают вопросы о месте и назначении человека в мире, о его правах и роли во вселенной и т. д., т. е. именно те вопросы, которым посвящена «Война и мир».
256
«Война и мир» — истинно философское произведение; в ней граф Толстой допрашивает природу за каждого человека, в ней преобладает еще гомеровская или шекспировская «наивность», т. е. нежелание воздавать людям за добро и зло, сознание, что ответственность за человеческую жизнь нужно искать выше, вне нас. Только в отношении к Наполеону не выдержан общий тон, характеризующий «Войну и мир». Наполеон для гр. Толстого с начала до конца остается врагом — и врагом, нравственно виноватым. И не за те бедствия, которые он причинил России и Европе: это ему прощается. Гр. Толстого возмущает только притязательность императора, его уверенность, что он в течение 15 лет делал историю. «Человеческое достоинство говорит мне, что всякий из нас если не больше, то никак не меньше человек, чем всякий Наполеон», следовательно, не может быть, чтоб он вершил судьбы народов. Он сам — «только ничтожнейшее орудие в руках судьбы». Еще с Соней гр. Толстой не может примириться за ее постылое житье: в то время постылые, ни себе, ни другим не нужные люди смущали его бессмысленным своим существованием. Но затем — он никого не хочет и не находит нужным винить. Когда Наташа говорит Пьеру, что желала бы только пережить все сначала (смерть князя Андрея) и «больше ничего», Пьер с жаром перебивает ее: «Неправда, неправда, закричал он. Я не виноват, что я жив и хочу жить; и вы тоже». Так тогда разрешал гр. Толстой навязчивые вопросы совести, эти вечные «виноват», которые загораживали путь его лучшим героям. «Я жив и хочу жить» — было тогда ответом, пред которым смирялись даже такие щекотливые затруднения, как то, что Наташа была невестой друга Пьера, и что этот друг умер всего несколько месяцев назад на ее руках. И всякий, кто жил, как бы он ни жил, даже безнравственно, пошло, грубо, не вызывал негодования гр. Толстого. К Бергу, Друбецкому, князю Василию он относится с добродушной, веселой насмешкой; к злодею Долохову и крепостнику старику Болконскому — с уважением; к Элен — как к superbe animal и почти так же к ее, во всем на нее похожему, брату Анатолю. Все живое живет по-своему и имеет право на жизнь. Одни — лучше; другие — хуже; одни — маленькие; другие — крупные люди; но клеймить, отлучать от Бога никого не нужно. Спорить нужно только с Наполеонами, желающими отнять у нас человеческое достоинство, да с Сонями, так неудачно втирающимися своими безрезультатными добродетелями в богатую и полную жизнь. С какой любовью описывает гр. Толстой своего Николая Ростова! Я не знаю другого романа, где бы столь безнадежно средний человек был изображен в столь поэтических красках. Даже разбитый о физиономию мужика камень кольца не роняет его в глазах гр. Толстого. Если
257
бы теперь Николай попался под руку гр. Толстому! Какое бы грозное обвинение произнес бы он! Я уже не говорю о Пьере и кн. Андрее. Они, вдобавок к тому, что сами не работают, еще умствуют и считают себя высшими людьми! Несомненно, гр. Толстому необходимо было отречься от своих прежних произведений, особенно от «Войны и мира». Вопрос лишь в том — возможно ли это, достаточно ли признать свою прежнюю философию, прежнюю жизнь дурной, чтоб навсегда порвать с ней. Целая жизнь не опровергается несколькими книжками. Гр. Толстому никогда не развязаться с своим прошлым, так блестяще воплотившемся в его двух больших романах. Оно навсегда будет свидетельствовать — и самым уничтожающим образом — против него. Что бы ни стал он проповедовать теперь о «нравственном просвете» — он всегда будет слышать в устах других свой собственный голос, тридцать лет тому назад так искренне и страстно восклицавший: «Я не виноват, что жив и хочу жить, и что вы теперь, взяв уже от жизни все то хорошее, о чем вы так красноречиво рассказали нам в «Войне и мире», ищете чего-то другого, может быть, тоже хорошего и для вас необходимого, но мне чуждого, ненужного и непонятного. «Пустоцвет» Соня — вы ее забыли?»
Иначе говоря, если бы 30 лет тому назад гр. Толстому предъявили его собственные последние произведения — он бы тогда от них отрекся, как теперь отрекся от «Войны и мира», хотя и в то время он всегда хлопотал о том, чтобы жить «в добре». Отречение — против отречения. Которое из них принять? И более всего он отказался бы от своего «Что такое искусство»!
Мы уже сказали, что в этой книге собственно искусству отведено второстепенное место. Это уже видно по началу ее.
Гр. Толстой рассказывает о том, как ему однажды пришлось присутствовать на репетиции плохой оперы. По этому поводу он делает расчеты, сколько должна была стоить эта нелепая затея. Оказывается, что очень дорого. Затем он сообщает, что капельмейстер грубо бранил хористов и статистов, что хористки были неприлично обнажены, а танцовщицы делали сладострастные движения. Огромные расходы на постановку дурных произведений искусства и безобразное отношение старших к младшим, бесправным сотрудникам по общему делу, возводятся гр. Толстым в правило и предъявляются к искусству вообще, как первый тяжелый и серьезный обвинительный пункт. Что могут ответить на это составители драм и симфоний? «Хорошо было бы, если бы художники все свое дело делали сами, а то им всем нужна помощь рабочих не только для производства искусства, но и для их большей частью роскошного существования, и, так или иначе, они получают ее или в виде платы от богатых
258
людей, или в виде субсидий от правительства, которые миллионами даются им на театры, консерватории, академии. Деньги же эти собираются с народа, который никогда не пользуется теми эстетическими наслаждениями, которые дает искусство». В этом исходная точка зрения гр. Толстого: искусство стоит огромных денег, деньги собираются с народа, народ же благами, приносимыми искусством, не пользуется. Сверх того, под видом искусства нам преподносят множество всяких глупостей и гадостей, подобных той опере, на репетиции которой присутствовал гр. Толстой; во имя искусства одни люди оскорбляют человеческое достоинство других. Возникает вопрос: действительно ли искусство такое важное дело, чтобы из-за него приносить подобные жертвы? Не лучше ли совсем отказаться от искусства, а затрачиваемые на него силы и средства употребить на что-нибудь другое — хотя бы на народное образование, о котором так мало заботятся? Так поставлен вопрос гр. Толстым. Едва ли кто-нибудь из его читателей не угадал в самом начале книжки ответ. Народ так дорого расплачивается за искусство и не пользуется им. Разве может быть сомнение в том, что такое положение вещей грубо, возмутительно, несправедливо? Богатые люди, у которых все есть, идут к бедным и отнимают у них необходимые не только на образование, но на пропитание средства, чтоб устраивать театры, концерты, выставки. Разве во время голода в больших городах прекратились спектакли, разве богатые отказались от эстетических наслаждений, чтобы помочь несчастным ближним? В справедливости такого вопроса, по-видимому, не может быть сомнений. Любопытно, однако, иное обстоятельство. В русской литературе взгляд, подобный тому, который высказывает гр. Толстой — не новость. В шестидесятых годах так думали и чувствовали все, которые называли себя «мыслящими реалистами». Добролюбов во всех своих статьях только и говорил, что о необходимости все забыть, все забросить и сосредоточить силы общества и государства на поддержании погрязающего в нищете и невежестве народа. Нужно было разбить оковы крепостного права,' нужно было дать крестьянам все те блага, которыми пользуется каждый из нас. Гр. Толстому, конечно, еще памятно счастливое возбуждение этого бурного времени. После великого акта освобождения крестьян лучшим русским людям казалось, что для нас нет ничего невозможного, что в самое короткое время путем общественных реформ и литературной проповеди можно добиться уничтожения того обидного неравенства, которое господствовало у нас в старое время. Правда, этих надежд прямо не высказывали. Даже наоборот, многие демонстративно прикрывали свои упования грубыми названиями «положительной философии», «эгоизма» и т. д. Говорили, что
259
нужно резать лягушек и заботиться только о личном счастье. Но под всем этим для глаз всякого беспристрастного человека ясна была великая и благородная задача молодежи; она надеглась спасти отечество и возродить посредством России чуть ли не все человечество. Вслед за безвременно скончавшимся Добролюбовым явился Писарев. В нем идеи предшествовавших писателей сказались в еще более резкой форме. В свое дело спасения отечества он верил еще более, чем другие. Но слова {ля своих идей он подбирал еще более грубые, еще более скрывающие сущность его стремлений. И за ним вся молодежь того времени стала повторять разные страшные слова отрицания и вместе с ним лелеять надежды на близость лучшего времени и мечтать о величии предстоящих к исполнению задач. И тогда-то возник вопрос о значении искусства именно в той форме, в которой он представляется теперь гр. Толстым. Что делает искусство? — спросили они себя. Спасает народ от невежества? Кормит, поит, лечит? Развивает нравственно? Предохраняет от пьянства? — На все вопросы получился отрицательный ответ. Нет, искусство доставляет только «эстетическое наслаждение» богачам, которым и без того тепло и сытно живется. А если так, чего же с ним церемониться? И в результате знаменитые статьи Писарева о Пушкине, в которых вся его поэзия признается никуда не годной и никому не нужной забавой пустого человека. Хорошо пишет — Некрасов. У него есть «еду ли ночью по улице темной»: это призывает к справедливости, с состраданию, к человечности. А «Евгений Онегин», «Моцарт и Сальери» и т. д. — это искусство ради искусства, народу ненужное и великим целям, поставленным себе молодым поколением, не только чуждое, но прямо враждебное. Даже перше произведения гр. Толстого Писарев похвалил только потому, что нашел их полезными для общественных целей. Так поставили и разрешили вопрос об искусстве в 90-х годах молодые руководители молодого поколения. Нужно ли говорить, что их взгляды и их проповедь для историка русского общественного развития — одно из самых отрадных проявлений пробуждающейся мысли? Их юношеская честность, суровая на вид и стыдливая на самом деле горячность, их увлечение несбыточными надеждами, их детская и наивная вера во всемогущество печатного слова—до сих пор любовно привлекают с себе взоры даже тех, кто уже давно вырвался из власти их «убеждений» и «принципов». Но как странно нам теперь встретить в книге гр. Толстого рассуждения, так близко напоминающие нам нашу отдаленную юность, когда мы, вслед за своим учителем, Писаревым, полагали, что прежде всего нужно и важно разрешить вопрос о том, какое искусство полезно обществу, а потом лишь позволять себе признавать тех или иных
260
поэтов и художников; когда мы нападали на Пушкина со всей пуританской энергией строго воспитанных в нравственности людей за то, что он воспевал в романах ручки и ножки хорошеньких барышень, размышлял о вечности в «Фаусте», писал никому не нужного «Бориса Годунова», отдавал столько внимания бездельнику Онегину и проливал слезы над сентиментальной Татьяной, вместо того, чтобы звать людей к важному делу. И даже его дуэль мы ему ставили в упрек, и даже поставленный ему памятник вызвал в нас негодование. «За что?» — спрашивали мы, совсем как гр. Толстой. Разве он — мы не говорили, как гр. Толстой, «святой», это слово мы возбраняли себе употреблять, но мы именно его имели в виду,— разве он, говорили мы, полезный общественный деятель? Мы хотели, чтобы поставили памятник Некрасову за его любовь к народу, т. е. к униженным, оскорбленным, страдающим, Некрасову, за которым мы восторженно повторяли:
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Каково же было нам теперь встретить у гр. Толстого столь знакомый нам способ отношения к искусству и его представителям? Правда, гр. Толстой оказался смелее нас. Мы, например, Шекспира и Гете не трогали. Собственно говоря, мы отлично тогда понимали, что эти писатели, с нашей точки зрения, никуда не годятся, ибо у них нет того непосредственного и горячего призыва о помощи народу, который одушевлял поэзию Некрасова. Но даже сам Писарев не осмеливался нападать на них, и мы предпочитали обходить их молчанием, даже позволяли себе читать их в смутной надежде, что когда-нибудь мы с ними справимся. Но если бы в то время появилась книга гр. Толстого «Что такое искусство» и если бы в этой книге было поменьше добродетельных слов (такие слова в то время оскорбляли нашу стыдливость — мы делали добро исключительно, потому, что нам это было «очень выгодно») — она была бы для нас настоящим откровением. Нам только и нужно было, что получить право отрицать все искусство: и Рафаэля, и Бетховена, и Шекспира, и Данте — на том именно основании, что все они не считали себя призванными «воспеть страданья изумляющего терпеньем народа», говоря словами Некрасова, или, употребляя выражение гр. Толстого — выражать «религиозное сознание истинного христианства, сознание братства людей». Как тогда оскорбил нас гр. Толстой своей «Анной Карениной», т. е. своим Левиным, который, как только перестал думать о спасении России, человечества и т. д. — «как плуг, врезался в землю». Мы не могли простить гр. Толстому, что он сошел с
261
пути обличения общественных язв, за который его похвалил Писарев, и заговорил в своих романах о вопросах, к устроению народа никакого отношения не имеющих. «Война и мир», «Анна Каренина» были для нас «искусство для искусства», пленительным, захватывающим, но тем более раздражающим. Мы только жалели, что Писарева уже нет и что некому воздать гр. Толстому по достоинству за его грехи. Теперь гр. Толстой сам исполняет ту миссию, для которой мы ждали нового Писарева. Он причисляет свои романы к дурному искусству и мечтает о том, как бы создать новое искусство, которое служило бы народу и его нуждам. Каким же образом гр. Толстой вернулся к тем идеалам, от которых бежал в молодые годы? Писарев, воюющий с искусством ради искусства и уничтожающий Пушкина, нам понятен. В 27 лет естественно надеяться, что помехой к осуществлению великих идеалов служит преувеличенное преклонение людей перед эстетикой, и что несколькими статьями можно сразу подвинуть вперед дело разрешения экономических и иных вопросов. Писареву казалось, что каждая статья его является событием в этом смысле, и проповедь не могла не вдохновлять его. Но гр. Толстой отлично знает, что его книжки ничего изменить не могут. Он сам говорит: «Я мало надеюсь, чтобы доводы, которые я привожу об извращении искусства и вкуса в нашем обществе, не только были приняты, но серьезно обсуждены». И это в нем, конечно, не скромность говорит. Он на самом деле превосходно понимает, что никогда его «Кавказский пленник» или «Бог правду знает, да не скоро скажет» (только эти два рассказа из всего, что им написано, относит он к хорошему искусству) — не будут иметь для читателей того значения, которое имеют не только его большие романы — но даже «Смерть Ивана Ильича». Зачем же, для кого он пишет? Отчего он вместо «Что такое искусство» не написал еще двух-трех сказок для народа по тем правилам, которые он выработал для талантливых художников? Очевидно, что и сам он обращается к тем или иным вопросам не потому, что разрешением их надеется быть полезным мужику, а потому, что не думать о них он не может. Рецепт художественного творчества составлен им не для себя, а для других...
У Ницше в «Also sprach Zarathustra» есть одно очень любопытное место. После своей беседы с калеками Заратустра обращается с проповедью к ученикам своим. Один из калек — горбатый — с удивлением прислушиваясь к новым словам, спрашивает учителя: «Отчего ты с учениками иначе говоришь, чем с нами? — Чему ж тут удивляться! — отвечает Заратустра,— с горбатыми по-горбатому и говорить нужно. — Хорошо,— сказал горбатый,— и с учениками нужно разговаривать по-школьному (aus der Schule). Но почему Заратустра иначе
262
говорит к своим ученикам, чем к самому себе?»1 От гр. Толстого таких речей не услышишь. Он никогда не позволит читателю проникнуть дальше того, что им официально возвещается, как учение. Он предлагает нам считаться не с ним самим, а с его «школой». И Ницше умеет носить «маску» и даже слишком часто надевает ее на себя. Но он никогда так бережно не охранял святыню своего творчества от посторонних взглядов, как это делает гр. Толстой, хотя у него, несомненно, было больше поводов скрываться, чем у гр. Толстого, хотя он временами высказывал убеждение, что вся задача писателя сводится к тому, чтоб украшать себя и жизнь. Несомненно, что не только Ницше, но и гр. Толстой с учениками разговаривает по-школьному, делясь с ними только «выводами» и утаивая от них ту неспокойную и тяжелую работу своей души, которая представляется ему исключительным делом «учителя». Оттого у него на первый план выдвигается чисто писаревская, т. е. юношеская уверенность, что «стоит только захотеть людям», и искусство для искусства будет заменено другим, хорошим искусством. Гр. Толстой знает, что кроется под этим «стоит людям захотеть». В этих словах говорит не писаревская молодая вера, а разочарование долго и упорно боровшегося старого человека, решившегося отказаться от неравной борьбы. Он эти слова не для себя придумал, а для учеников, для других, чтобы иметь возможность отвязаться от преследующих сомнений и перейти от ставшего невыносимо тяжелым дела — философии, к более легкому, простому и утешительному занятию — проповеди.
Гр. Толстой кончает тем, с чего начал Писарев! Стоит только вдуматься в это загадочное явление, чтобы понять, зачем гр. Толстой в своих статьях громит нас и наше искусство. Он, как и все жившие до него люди, не умел сорвать покрывала с истины и должен забыть, во что бы то ни стало забыть роковую загадку жизни. Он написал «Войну и мир» и вышел на время победителем из искушавших его сомнений неверия. Все ужасы, двенадцатого года представились ему законченной, полной смысла картиной. И движение людей с востока на запад и с запада на восток с сопровождавшими его массовыми убийствами, и жизнь самых различных людей от Каратаева и Анатоля — до Кутузова и князя Андрея, все представилось ему единым и гармоническим целым, во всем он умел увидеть руку Провидения, пекущегося о слабом и не знающем человеке. «Война и мир» — высший идеал душевного равновесия, до которого только может дойти человек.
1 A. S. Ζ. Von Erlösung.
263
Белинский в одном из своих частных писем говорил: «Если бы мне и удалось взлезть на верхнюю ступень развития, я и там попросил бы вас дать мне отчет во всех жертвах условий жизни и истории, во всех жертвах случайностей, суеверия, инквизиции Филиппа II и пр. и пр. — иначе я с верхней ступени бросаюсь вниз головой. Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчет каждого из моих братьев по крови». В этих немногих и простых словах выражена сущность философской задачи. В них и программа «Войны и мира»: гр. Толстой требовал отчета у судьбы насчет каждого из своих братьев по крови. И — как ему казалось — получил полное удовлетворение. Во всех событиях он видел руку Творца и смирился, успокоился душою. Он никого не хотел учить, полагая, что все учатся у жизни, и каждый получает свое. Вот какими словами обрисовывает он в Пьере это настроение: «В Пьере была новая черта, заслуживавшая ему расположение всех людей — это признание возможности каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи по-своему; признание невозможности словами разубедить человека. Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие, иногда совершенное противоречие взглядов людей с своей жизнью и между собою радовало Пьера и вызывало в нем насмешливую и кроткую улыбку». Но как было уже указано, гр. Толстой ненадолго сохранил душевное равновесие, а вместе с тем потерял возможность оставаться на высоте философии «Войны и мира». У него, как и у Достоевского, стала развиваться черта нетерпимости, сознание противоположности своих интересов не только с интересами Наполеона и Сони, но многих, очень многих людей, и поэтому он ухватился за нищих ляпинского дома и народ, чтобы их именем защищать «добро» от «зла». Поэтому-то в современном обществе, в людях своего круга он не видит ничего хорошего. Это хорошее ему не нужно, ему нужно дурное, чтобы было на кого и на что излить накопившееся в сердце ожесточение против таинственной и упорной неразрешимости мучительных жизненных вопросов. Несмотря на то, что он всегда ссылается на Евангелие,— христианского в его учении очень мало. Если приравнивать его к св. Писанию, то разве к Ветхому Завету, к пророкам, которых он напоминает характером своей проповеди и требовательностью. Он не хочет убедить людей — он их запугивает. «Делайте то, что я говорю вам, иначе вы будете безнравственными, развратными, испорченными существами». Я пробовал подчеркивать такого рода слова в книге гр. Толстого: целые страницы оказались испещренными карандашом. Очевидно, гр. Толстому нужно прежде всего обидеть,
264
оскорбить «наше общество», выместить на ком-нибудь свою боль. И этого книга его достигает как нельзя лучше. Он хочет отнять у нас то, что нам больше всего нужно и заставить принять нас то, что нам совсем не нужно. Средство же простое: то, что нам нужно — зло, и те, которые от этого не отказываются,— безнравственные, дурные люди; то, что нам не нужно — добро, и те, которые его не принимают — не принимают добра. А добро — Бог. Вот его подлинные слова из «Что такое искусство»: «Добро есть вечная, высшая цель нашей жизни. Как бы мы ни понимали добро, жизнь наша есть не что иное, как стремление к добру, т. е. к Богу». Добро — есть Бог! Т. е. вне добра нет цели для человека.
Если бы гр. Толстой под добром и теперь, как в былые времена, понимал совокупность всего, чем живет человек — такое определение могло бы иметь не только полемическое значение. Но и тогда оно было бы неправильным и никоим образом не могло бы быть принятым. Из Библии мы знаем, что Бог создал человека по своему образу и подобию, в Евангелии Бог называется нашим Небесным отцом. Но нигде в этих книгах не сказано, что добро — есть Бог. Гр. Толстой, однако, идет еще дальше. Он утверждает: «Религиозное сознание нашего времени в самом общем приложении его есть сознание того, что наше благо, и материальное, и духовное, и отдельное, и общее, и временное, и вечное, заключается в братской жизни всех людей, в любовном единении нашем меж собой». Цель этого определения — тоже чисто полемическая, ибо оно дает право гр. Толстому клеймить всех тех, которые смеют думать, что, помимо братского единения есть еще блага в жизни, и тем более тех, которые во взаимной любви видят не цель, а только следствие более тесного сближения людей. Гр. Толстому нужно такое определение, которое давало бы ему право требовать от людей любви к ближним как исполнения их долга. На этом построена вся книжка, это дает повод ему негодовать, возмущаться, проповедовать — независимо от того, принесет ли все это хоть какую-нибудь пользу тем бедным, тому народу, от имени которых говорится. Как у Достоевского убитые Раскольниковым женщины дают возможность автору душить убийцу, так и у гр. Толстого эксплуатируемый народ является на сцену не затем, чтобы получить облегчение, а чтобы помочь гр. Толстому обличать и громить. Гр. Толстой знает, что не может помочь бедным и обездоленным, и что в этом смысле его проповедь обязательно будет гласом вопиющего в пустыне. Если он все-таки говорит — то лишь ради небольшой кучки слушающих его интеллигентов, которые тоже ничего или почти ничего не могут сделать, но у которых совесть при чтении толстовских статей всегда заводит свою унылую и бесцельную песню.
265
Они, эти интеллигенты, читают Шекспира и Данте, слушают Бетховена ri Вагнера, смотрят картины знаменитых художников. Им, конечно, это нужно — и как еще нужно! Но гр. Толстой этого не желает. Ступайте к ближним и любите их. Это — ваш долг. В этом должно быть ваше высшее благо. Те же произведения искусства, которые вы чтите, не только не хороши, но прямо дурны и безнравственны. Ради них грабят народ, и они ничего о братской любви не говорят. Следовательно, их нужно бросить.
Такова основная мысль «Что такое искусство» и таковы, как мне представляется, действительные мотивы толстовской проповеди «добра». Я не стану вдаваться в подробный разбор разного рода соображений, которыми обставляет гр. Толстой свои основные положения. Это представляет чисто внешний, литературный интерес. Нас здесь занимает не то, о чем гр. Толстой говорит со своими учениками, а как он говорит с самим собой; для нас важны не формальные «обоснования» его «правоты», а тот источник, из которого вытекла его проповедь, его ожесточенная ненависть к культурным классам, к искусству, к науке. Повторяем, не вера и христианство привели гр. Толстого к его отрицанию; о вере — у него нигде нет ни слова. Бог умышленно подменивается добром, а добро — братской любовью людей. Такая вера не исключает, вообще говоря, совершенного атеизма, совершенного безверия и ведет обязательно к стремлению уничтожать, душить, давить других людей во имя какого-либо принципа, который выставляется обязательным, хотя сам по себе он в большей или меньшей мере чужд и не нужен ни его защитнику, ни людям. Той любви и сострадания, о которых гр. Толстой все время говорит, у него нет и не может быть, как мы видели из многочисленных цитат, взятых из его сочинений. Не потому, что он менее «хороший человек», чем все те, которые любят и сострадают в жизни и книгах, что он «черствый, бессердечный, стальной» человек, как говорят поклонники Диккенса и Тургенева. Несомненно, что у гр. Толстого не меньше любви к людям, чем у Диккенса или Тургенева, и что он умеет отозваться на несчастие ближнего. Разница лишь в том, что эти «отзывания» для него не конец, как для других, а начало. Разница лишь в том, что ему мало отозваться на нужду и бросить подачку бедному — хотя он и говорит о приятности давания и возводит милосердие в принцип. Но это происходит именно потому, что он слишком хорошо понимает, как мало может помочь давание, ищет большего — и не находит и пускается в проповедь, ради которой уничтожает Анну Каренину, Вронского, Кознышева, всю интеллигенцию, искусство, науку...
266
VIII
Здесь мы подходим к философии толстовского антипода — Ницше. И у него, как у гр. Толстого, началом душевного переворота было сознание того великого события, что «Бог умер», как выражался впоследствии сам Ницше, или что «Бог — есть добро», как говорит теперь гр. Толстой, уверяя, что в этом сущность христианства, и что в этом — религиозное сознание нашего времени. В том, что «Бог есть добро» и «Бог — умер» — выражения однозначащие и что гр. Толстой и Ницше исходили из одной точки зрения могут служить доказательствами следующие слова Ницше: «Лучший способ начать день: проснувшись, подумать, нельзя ли в этот день порадовать чем-нибудь хоть одного человека. Если это станет заменой религиозных привычек, люди только выиграют от такой замены». И еще: «В мире далеко недостаточно любви и доброты, чтобы дарить их еще фантастическим существам». Русскому читателю, наслышавшемуся о жестокости анархиста и имморалиста Ницше, приведенные слова покажутся странными в его устах. А между тем, в них объяснение всех его будущих настроений. Оба эти афоризма взяты из «Menschliches, Allzumenschliches» — той книги, в которой Ницше впервые отрешается от шопегауэровской метафизики. Теперь для него метафизика, определившая собой содержание его первого труда, die Geburt der Тragödie,— этого типического образца талантливой ученой causerie в пессимистическом стиле — «лишь наука, говорящая о вечных заблуждениях человека, но с таким видом, будто речь идет о вечных истинах». У нее он уже не ищет объяснения. Он бежит от своих теорий эстетического истолкования трагедии — именно теперь, когда они, по-видимому, наиболее нужны, ибо трагедия, до сих пор происходившая в душах Прометея, Эдипа и других героев софокловых и эсхиловых драм — теперь происходит в его собственной душе. Он понимает уже, что великое несчастье не может быть оправдано тем, что о нем можно красиво и возвышенно рассказать; искусство, разукрашивающее человеческое горе, ему не годится. Он ищет другого убежища, где думает найти спасение от преследующих его ужасов. Он спешит к «добру», о котором он привык думать, что оно всемогуще, что оно может все заменить, что оно — Бог, что оно — выше Бога, что человечество только выиграет, если взамен Бога всю свою любовь будет отдавать ближним. Идея — чисто толстовская, как видит читатель. Разница лишь в том, что Ницше в те годы был еще не искушен и от всей души верил в спасение посредством добра — да еще в том, что вся судьба Ницше зависела от того, что принесет ему эта вера. Как помнит
267
читатель, ужасная болезнь поставила его в необходимость отказаться не только от работы, но и от всякого общества. Всегда один, преследуемый мучительными припадками, он мог только думать и записывать свои мысли в виде коротеньких афоризмов. При таких исключительных обстоятельствах сила «добра» была подвергнута серьезному испытанию. Может ли оно, как говорили философы, заменить человеку всю его жизнь? Ответом на это служит философия Ницше. Немецкие профессора, в том числе и А. Риль, произведения которого переведены на русский язык, хотя и признают, что «книги Ницше — не обыкновенные книги, а «переживания», «пережитые книги»,— но они же отнимают у сочинений Ницше все их значение и весь интерес, говоря, что они — только «переживания мыслителя», «мысли как переживания». Сам Ницше лучше знал источник своего творчества. Он говорил об основной, наиболее занимавшей его проблеме — проблеме нравственности, что она была его личным вопросом, что с ней была связана его судьба1. Очевидно, не о «мыслях как переживаниях» шла у него речь, хотя он и был философом, т. е. человеком, умеющим отдавать себе отчет в своих мыслях и чувствах. Его «переживания» связаны не с отвлеченными, лежащими вне интересов других людей вопросами, а с тем, из чего слагается вся наша жизнь. Он был мучительно болен, был обречен на невольную бездеятельность и обязательное уединение: эти ли и связанные с ними обстоятельства составляют «переживания мыслителя»? Из чего же тогда жизнь? То, что произошло с Ницше, происходит с тысячами людей сплошь и рядом на наших глазах. И, может быть, все эти люди так же, как и Ницше, реагируют на свои несчастья — но молчат: не умеют или не смеют возвысить свой голос против установленных другими, не знавшими их страданий людьми принципов. Чего больше? Сам Ницше вначале до того был смущен безвыходностью и унизительностью своего положения, что ничего другого не нашелся сказать, как эту фразу: «Больной не имеет права быть пессимистом». Имеющий уши да слышит! Что значит это «не имеет права»? Кто отнял это право у больного? До чего еще может дойти смирение и Самоуничтожение? У человека отнято все, человека обрекли на непрерывные пытки, и он еще не имеет права жаловаться, проклинать, протестовать против слепой силы, неведомо за что казнящей его?!
И это сознание своей бесправности не оставляет Ницше до конца его жизни. Профессор Лихтенберг заключает свой рассказ о литературной деятельности Ницше следующим наив-
1 Ν. Werke, т. V, с. 276.
268
ным замечанием: «... и когда пришло безумие положить конец его сознательной жизни, он пел победу. И эта ли судьба не прекрасна!» В pendant к этому могут служить слова уже цитированного пр. Риля, который тоже, в утешение читателю, рассказывает, что Ницше, подобно Руссо, «в своей личности и судьбе являет пример трагизма гения». Давно бы пора отказаться от этих общих мест, в которых с такой непозволительностью сказывается эгоизм людей, всегда готовых греться у огня и платонически завидовать «прекрасной судьбе» Прометея, у которого в это время коршун выклевывает печень. Была ли прекрасна судьба Ницше — об этом нужно его спросить. И вот что тогда он расскажет нам о «трагизме» гения: «Психолог, прислушиваясь к суждениям людей, молчит: с неподвижным лицом узнает он, что там уважают, удивляются, любят, прославляют — где он видел; он даже еще считает необходимым скрыть свое молчание и для виду соглашается с первым случайным мнением, Может быть, парадоксальность его положения доходит до такой ужасной степени, что именно там, где он научился великому состраданию и великому презрению,— толпа, образованные люди, мечтатели в свою очередь научаются великому уважению к «великим людям» и чудесным животным, ради которых можно благословлять и чтить отечество, мир, достоинство человека, самих себя, на которых указывают юношам, как на пример. И кто знает? Может быть, во всех великих случаях до сих пор происходило одно и то же: толпа молилась на бога, а этот бог был сам только бедным жертвенным животным»1. Так понимает «психолог» историю «великих людей», судьба которых кажется завидной пр. Лихтенбергу. Далее Ницше продолжает: «Эти великие поэты — Байрон, Мюссе, По, Леопарди, Клейст, Гоголь (я смею назвать более значительные имена, но я их имею в виду) — какими они были, может быть, должны были быть: люди мгновения, восторженные, чувственные, ребячески наивные, легкомысленные и непрочные в своей подозрительности и доверчивости; принужденные скрывать какую-нибудь брешь в своей душе; часто своими сочинениями ищущие отомстить за пережитый позор (innere Besudelung); в своем парении стремящиеся освободиться от напоминаний слишком хорошей памяти; топчущиеся в грязи, почти влюбленные в нее — до тех пор, пока они не уподобляются блуждающим у болота огонькам и не притворяются звездами — народ их тогда называет идеалистами; часто борющиеся с вечным отвращением к жизни, с постоянно вновь возвращающимся к ним привидением неверия, которое охлаж-
1 N. W., VII, 256.
269
дает человека и научает его желать «gloria» и жрать «веру в себя» из рук опьяненных льстецов: какое мучение эти великие художники и вообще эти великие люди для того, кто однажды разгадал их». В этом отрывке называются только имена Байрона, Мюссе, Гоголя и т. д. Более значительных писателей Ницше как будто бы не смеет назвать. Но в другом месте почти такое же, если не более ужасное, подозрение высказывается по поводу Шекспира. Читатель помнит ту сцену из «Юлия Цезаря», когда поэт врывается в палатку ссорившихся вождей — Кассия и Брута,— чтоб примирить их. Ницше говорит по поводу нее: «Шекспир пал ниц перед образом и добродетелью Брута и чувствовал себя далеким и недостойным его. Дважды является поэт в пьесе, и дважды на него изливается такое крайнее и нетерпеливое презрение, которое звучит как крик — как крик самопрезрения. Брут, сам Брут теряет терпение, когда является поэт, самоуверенный, патетический, надоедливый, какими обыкновенно бывают поэты, в качестве существ, умеющих высокопарно болтать о возможностях величия — также и нравственного,— но в философии действия и жизни редко достигающих обыденной честности. «Я буду слушать остроты его, коль вовремя он будет говорить их. К чему при войске эти скоморохи. Приятель, убирайся!» — восклицает Брут. Перенесите эти слова в душу поэта, написавшего их»1.
Такие мотивы творчества находил Ницше у великих поэтов. Нас теперь не занимает, насколько справедливы его догадки. Для нас гораздо важнее установить, что привело его к ним. У него прямого ответа нет. Когда однажды один из учеников спросил у Заратустры объяснения по поводу его слов, он получил такой ответ: «Я не принадлежу к числу тех людей, у которых спрашивают об их «почему». Разве мои переживания со вчерашнего дня?»2. В этом — одно из достоинств философии Ницше. Большинство разного рода «потому», которыми обыкновенно писатели обставляют свои положения, являются аргументами ex post facto. Убеждение давно созрело, нужно лишь заставить людей принять его: и все доводы считаются хорошими, если только они достигают своей цели, т. е. представляют суждение законным и правомерным с логической точки зрения. И Ницше иногда пускается «обосновывать» свои мнения, ссылаясь на историю, филологию и т. д.; и тогда его рассуждения настолько же проигрывают в своем значении и интересе, насколько они выигрывают во внешней обстановке. Его «познание» вытекло из внутреннего опыта, из того страшного опы-
1 W., т. V, с. 129.
2 A. S. Z. Von den Dichtern.
270
та, который приводит к убеждению, что больной не имеет права быть пессимистом, что великие писатели вымещают свое innere Besudelung, что там, где все чтят бога — на самом деле есть только «бедное жертвенное животное». Такие и им подобные «потому» — в ответ на любопытствующие «почему» в прямой форме никогда не рассказываются, не могут быть рассказаны. Они проявляются лишь в своеобразной проницательности насчет психики других людей. И если Ницше утверждает, что обращенные к поэту слова Брута нужно перенести в душу Шекспира, то мы наверное можем принять его собственные проникновения в тайны великих людей за невольные признания и в них найти те переживания, о которых он не хотел рассказывать ученику своему, ссылаясь на их отдаленность и свою плохую память. «Если я имею преимущество пред другими психологами,— говорит Ницше,— то оно состоит в том, что мой взгляд острее в том труднейшем и рискованнейшем виде обратного заключения, при котором совершались наибольшие ошибки: заключения от создания — к его творцу, от поступка — к поступающему, от идеала — к тому, кто в нем нуждается, от каждого строя мысли и оценки — к кроющимся под ними потребностям»1. Это он правду говорит о себе. Он научился там различать, где другие ничего не видели. Но откуда взялась в человеке, жившем за «семью уединениями», такая своеобразная проницательность? Очевидно — источник один: он находил у других то, что видел у себя.
«Каждый глубокий мыслитель,— говорит Ницше,— гораздо больше боится быть понятым, чем не понятым. В последнем случае, быть может, страдает его тщеславие; в первом же — его сердце, его любовь к людям, которая говорит: ах, зачем вы хотите то же вынести (es auch so schwer haben), что и я?»2 Из этого читатель может себе до некоторой степени представить, что значат нижеследующие слова Ницше: «Что касается моей болезни,— я ей несомненно большим обязан, чем моему здоровью. Я ей обязан высшим здоровьем, таким, при котором человек крепнет от всего, что его не убивает. Я ей обязан всей моей философией. Только великая боль — последний освободитель духа; она учит великому подозрению, она из каждого U — делает X,— истинный, настоящий X, т. е. предпоследнюю букву пред последней. Только великая боль, та длинная, медленная боль, при которой мы будто сгораем на сырых дровах, которая не торопится — только эта боль заставляет нас, фило-
1 W. VIII, 194.
2 Ib. VI, 268.
271
софов, спуститься в последние наши глубины, и все доверчивое, добродушное, прикрывающее, мягкое, посредственное — в чем, быть может, мы сами прежде полагали свою человечность — отбросить от себя»1. Эти невольные и вольные признания открывают нам, с какой нуждой пришел Ницше к «добру», и чего он ждал от нравственности, когда он утверждал, что ее проблема — была его собственной, личной проблемой, что с ней была связана его судьба. Повторяем, быть может, нравственности не впервые приходилось иметь дело с людьми, находившимися в обстоятельствах Ницше. И, может быть, многие вслед за Ницше могли бы повторить: «Я сомневаюсь, чтобы такое страдание делало человека «лучшим» — но оно делает его более глубоким»2. Но до Ницше никто не смел открыто, своим, таким своим опытом проверять общепризнанные суверенные права «добра». Если Ницше говорит: «Больной не имеет права быть пессимистом»,— то другие до него считали, что больной (несчастный) человек не имеет права претендовать на нравственность, если она не оправдывает его надежд, что вина не в ней, а в нем самом. Это станет яснее впоследствии, когда мы ознакомимся подробнее с теми причинами, которые заставили Ницше отшатнуться от своих юношеских идеалов; пока мы должны лишний раз подчеркнуть одно чрезвычайно важное обстоятельство. Ницше был и остался до конца своей жизни нравственным человеком в полном смысле — самом обыденном — этого слова. Он не мог и ребенка обидеть, был целомудрен, как молодая девушка и все, что почитается людьми долгом, обязанностью, исполнял разве что с преувеличенным, слишком добросовестным усердием. Мы уже приводили два его афоризма: «Ни за что так дорого человек не расплачивается, как за свои добродетели» и «кто уже не жертвовал самим собою ради своего доброго имени!»3 Для нас в этих словах неоценимое свидетельство, более важное, чем толстые биографические книги, в которых искренние и добросовестные люди из сил выбиваются, чтобы изобразить Ницше шаблонным великим человеком, т. е. таким, каким великому человеку быть полагается, сообразно установившимся у нас традиционным представлениям о сущности гения. Здесь же любопытно для нас, ищущих найти точки соприкосновения между немецким антихристом и русским христианином, вспомнить о соответствующем признании гр. Толстого. Гр. Толстой никогда не платился за свои добродетели. Но за пороки — платился, и очень. Вот его
1 Ib. VII, 207.
2 T. V, c. 8.
3 T. VII, с. 103 и 97.
272
подлинные слова: «В своей исключительно в мирском смысле счастливой жизни я наберу страданий, понесенных мною во имя учения мира столько, что их достало бы на хорошего мученика Христа. Все самые тяжелые минуты моей жизни, начиная от студенческого пьянства и разврата до дуэлей и войны, до того нездоровья и тех неестественных условий жизни, в которых я живу и теперь — все это мученичество во имя мира». Очевидно — помимо того, как теперь гр. Толстой оценивает свое прошлое — когда-то он грешил очень охотно и много, и такой эпохи в своей жизни, которая была бы посвящена всецело служению добродетели, он назвать не может (последние годы, понятно, не в счет). Его вывод из всей своей греховной жизни прямо противоположен ницшевскому: «Пусть всякий искренний человек вспомнит хорошенько свою жизнь, и он увидит, что он ни разу не пострадал от исполнения учения Христа». Вопрос лишь в том, может ли быть гр. Толстой судьей в значении добродетели для человека, когда он сам так много грешил. Очевидно, что в этом смысле «безнравственный», как его называет гр. Толстой, Ницше гораздо компетентнее: ни пьянства, ни разврата, ни дуэлей, ни всего прочего, чем была наполнена жизнь гр. Толстого, у него не было. Он служил «добру». И добро сыграло над ним коварную шутку. Пока он был молод, силен, здоров, пока он мог обойтись и без утешения добра, т. е. пока он имел в своем распоряжении все, чему обыкновенно радуются и чем живут люди, и добро приносило ему свои дары. Когда же все у него было отнято, когда он остался один — и добро, как неверный друг, покинуло его. Ему не было и 30 лет, когда с ним произошла та страшная метаморфоза, которая называется болезнью. Почти сразу, как роптавший магометанин в пушкинском стихотворении,— он, уснувший юношей, проснулся разбитым старцем с страшным сознанием, что жизнь ушла — и не вернется никогда. А смерти нет — нужно жить под мрачный напев фаустовской песни: entbehren sollst du, sollst entbehren. С такой мольбой пошел он к добру — единственному Богу, которому мог он молиться! Другого Бога у него не было, он не смел о другом Боге и думать потому же, почему не смел быть пессимистом: ибо этот Бог вышел бы, психологически говоря, придуманным ad hoc для облегчения и утешения, как и пессимизм, который у больного является результатом не объективного созерцания, а неудачно сложившейся личной судьбы...
273
IX
А искал ли Бога Ницше? Об этом уже достаточно свидетельствуют его страстные нападки на христианство. В наше время они звучат совершенным анахронизмом для «образованного» человека — гр. Толстой это лучше других знает. Тем более, что у Ницше они не вызываются, как у других писателей — у Вольтера и молодого Гейне, например,— совершенно посторонними, политическими соображениями. Как раз наоборот: все демократические чаяния обычных врагов государственных религий Ницше чужды. Более того, Ницше ставит в вину христианству широкое распространение современной идеи о равенстве людей и об этом говорит часто, много и как будто бы страстно — хотя, в сущности, он к общественным вопросам был равнодушен до наивности. Христианство занимало его именно как религия, как учение, которое должно было разрешить все его сомнения, освободить его от отвращения к жизни, которое постоянно овладевало им, несмотря на то, что он так убежденно утверждал: «Больной не имеет права быть пессимистом». В истории нового времени Ницше является первым, быть может, единственным, философом-врагом христианства как религии и, что еще важнее, одним из немногих, решившихся отвергнуть утешение Евангелия в то время, когда оно ему нужно было больше всего на свете. До сих пор, обыкновенно, говорили, что человек «обязан» верить, быть религиозным. По поводу Ницше нужно изменить это выражение. Нужно сказать: «Человек имеет право верить, быть религиозным». История атеизма Ницше есть история отыскания этого права. Если он не нашел его, то, очевидно, не по своей «вине». О «злой воле», которую так охотно приписывают неверующим — и которую так часто ставит в упрек гр. Толстой современным интеллигентным людям — здесь, конечно, не может быть и речи. Наоборот, Ницше положил все силы своей души на то, чтобы найти веру. Если же он ее не нашел, то, стало быть, условия таковы, что ему и найти ее нельзя было. Психология гр. Толстого, который допускает единственно возможную причину неверия — нежелание принять на себя обязанности, возлагаемые христианством, к Ницше, очевидно неприменима. Для него и людей, находящихся в его положении, христианство никаких обязанностей не уготовило: для обиженных, несчастных, больных — все права. И Ницше это слишком хорошо понимал. Во все времена, даже языческие, говорит он, люди жертвовали Богу всем, что им наиболее дорого. Что же нам, спрашивает он, осталось принести в жертву своему Богу? И вот какой получается у него ответ на этот вопрос: «Не должны ли мы, наконец,
274
пожертвовать всем утешающим, святым, исцеляющим, всеми надеждами, всей верой в скрытую гармонию, в блаженство и справедливость в будущем? Не должны ли мы пожертвовать самим Богом и, из жестокости к себе, обоготворять камень, глупость, тяжесть, судьбу, ничто? Пожертвовать Богом ради «ничего» — это парадоксальное таинство последней жестокости выпало на долю нашего поколения: мы все знаем кой-что об этом»1. Таков был атеизм Ницше: не пренебреженная обязанность, а утерянное право. «Свободомыслие наших господ естествоиспытателей в моих глазах — шутка; им недостает моей страсти в этих вещах, моего страдания»2,— говорит он в последнем своем произведении, в «Антихристе». Обычное равнодушие образованных людей к религии Ницше отлично знал и умел ценить: он помнил себя самого в молодые годы, когда Шопенгауэр и Вагнер ему заменяли все, и когда под гром пушек, сопровождавший ужасную трагедию 70-го года, он в отдаленном уголке Альпов так учено и мило объяснял «рождение трагедии». Вот его воспоминания об этом времени. По обыкновению, он говорит не о себе, а о других — о немцах, об ученых вообще. Но мы знаем уже, откуда он берет свои сведения. «Меж теми, которые в настоящее время живут в Германии вдали от религии — я нахожу людей всякого рода и вида «свободомыслия»; прежде всего множество таких, у которых, благодаря постоянной и усидчивой работе, из поколения в поколение атрофировался религиозный инстинкт: так, что они даже и не знают, зачем собственно нужны религии, и с видом тупого удивления отмечают их существование среди людей. Они чувствуют себя — эти славные люди — достаточно занятыми своими делами и удовольствиями, не говоря уже об «отечестве», газетах, «обязанностях пред семьей»; по-видимому, у них совсем не остается времени для религии, тем более, что им не вполне ясно, о чем собственно здесь идет речь — о новом ли удовольствии или о деле. Ибо, говорят они себе, не может же быть, чтоб в церковь ходили единственно затем, чтобы портить себе настроение». И дальше: «Редко верующий или даже просто набожный человек имеет представление о том, сколько доброй воли — можно было бы сказать добровольной воли — нужно теперь немецкому ученому, чтобы серьезно отнестись к вопросу о религии; в силу своего ремесла он склонен относиться к религии с высокомерной, почти добродушной веселостью, к которой примешивается легкое презрение к «нечистплотности» ума, всегда предполагаемой в людях, не отложившихся от
1 N. W., VII, 89.
2 VIII, 223.
275
церкви». Это из собственного прошлого Ницше, ибо говорится о других, о немцах вообще, об ученых. А вот заключение уже из нового опыта: «Каждая эпоха имеет свой собственный, божественный вид наивности, изобретению которого ей могут завидовать другие эпохи; и сколько такой наивности, почтенной, ребяческой и безгранично глупой наивности кроется в сознании своего превосходства у ученого, в добросовестности его терпимости, в той беспечной, легкомысленной уверенности, в силу которой он считает религиозного человека низшим, сравнительно с собой, типом, от которого он давно ушел — он, маленький, притязательный карлик и плебей, прилежный, добросовестный работник, создающий «идеи», «современные идеи»1. Такими и подобными размышлениями переполнены книги Ницше. Очевидно, что мысль его, когда-то настолько поглощенная теоретическим пессимизмом, филологическими исследованиями и искусством, что ей некогда было и взглянуть в ту сторону, где говорилось о религиях, и в силу этого усвоившая себе обычное в среде ученых добродушно-презрительное отношение к вопросам о Боге, теперь всецело сосредоточена на том, что прежде почиталось нестоящим внимания. «Бога нет, Бог умер» — эта весть, которая когда-то была им так спокойно принята непроверенной с чужих слов, теперь возбуждает в нем мистический ужас. Вот в каких выражениях передает он теперь ее: «Слышали ли вы о том безумном человеке, который в светлый полдень зажег фонарь, выбежал на рынок и непрестанно кричал: «Я ищу Бога, я ищу Бога». — Все вокруг него смеялись и острили. Но «безумный» человек вбежал в толпу и, пронизывая всех своим взглядом, воскликнул: «Где Бог? Я вам скажу. Мы его убили — я и вы. Мы все убийцы. Но как мы это сделали? Как могли мы выпить море? Кто дал нам эту губку, чтобы стереть краску со всего горизонта? Что сделали мы, оторвавши землю от ее солнца? Куда идет теперь она? Куда идем мы? Прочь от солнца? Не падаем ли мы непрерывно? Идем назад, в сторону, вперед, во всех направлениях? Есть ли еще верх и низ? Не блуждаем ли мы в бесконечном ничто? Не дышит ли на нас пустое пространство? Не стало ли холоднее? Не наступает ли все более и более темная ночь? Не приходится ли средь бела дня зажигать фонарь? Разве мы не слышим шума могильщиков, погребающих Бога? Разве не доносится до нас запах тления? И боги истлевают! Бог умер! Бог не воскреснет! И мы его убили! Как утешимся мы, убийцы из убийц? Самое могущественное и святое Существо, какое только было в мире, истекло кровью под нашими ножами. Кто смоет с нас эту
1 N. W., т. VII, с. 81-83.
276
кровь? Какой водой можем мы очиститься? Какие искупительные празднества, какие священные игры нужно будет придумать? Разве грандиозность этого дела не слишком громадна для нас? Не должны ли мы сами обратиться в богов, чтобы оказаться достойными его? Никогда не было совершено дела более великого, и кто родится после нас, этим самым будет принадлежать к истории высшей, чем вся прежняя история». Здесь замолчал безумный человек и снова стал глядеть на своих слушателей: и они молчали и удивленно глядели на него. Наконец, он бросил свой фонарь на землю, так что он разбился вдребезги и погас. «Я пришел слишком рано,— сказал он,— мое время еще не наступило. Это страшное событие еще в пути, еще идет — еще не дошла весть о нем до человеческих ушей. Молнии и грому нужно время, свету звезд нужно время и деяниям нужно время,— после того как они уже совершены,— чтобы их увидели и услышали. Это деяние пока еще дальше, чем самые отдаленные светила, а все-таки вы его совершили»1. В таких и подобных выражениях говорит Ницше о значении своего атеизма. Видно, что все сравнения, которые приходили ему в голову, казались ему недостаточными для того, чтобы поделиться с людьми ужасным впечатлением опустошения, которое он испытал, когда «увидел и услышал», что Бог убит — он, который когда-то утверждал, что у людей недостаточно любви, чтобы отдавать ее фантастическим существам. Очевидно, что любви у него было достаточно, много, слишком много, и что он понимал хорошо, чем бы мог быть для него Бог, если бы ему дано было верить; очевидно, что не было надобности в постороннем влиянии, чтобы привести Ницше к вере. И тем не менее он не уверовал и принес в жертву все свои надежды на скрытую гармонию, на блаженство и справедливость в будущем. «Религиозное сознание нашего времени», которое гр. Толстой считает возможным сделать обязательным для всех, отказалось сослужить свою службу там, где его приняли бы, как благовест. Очевидно, что не от воли человека зависит — верить или не верить, и что, соответственно этому, основное положение гр. Толстого, в силу которого человеку стоит только пожелать, и он найдет для себя нравственную опору в жизни, превращается из аксиомы в теорему или даже — прямо говоря — в истину, которая не может быть ничем доказана. А вместе с тем выясняется, что и вся задача, поставленная себе гр. Толстым, им не исполнена, что он снял с себя обязанность приводить людей к религии и взамен этого взял на себя право громить их за их неверие. И скажу еще раз то, что говорил раньше: гр.
1 T. V, стр. 164.
277
Толстой сделал так не потому, что он не понимал, чего от него могут ждать, а потому, что он не мог ни для себя, ни для других выполнить эту великую задачу. Там, где не верит Ницше, не верит и гр. Толстой. Но Ницше этого не скрывает (он скрывает другое), граф же Толстой считает возможным не рассказывать своим ученикам о той пустоте в своем сердце, над которой он воздвиг столь блестящее в литературном отношении здание проповеди. Кто прав, Ницше — или гр. Толстой? Что лучше — прятать ли свои сомнения и обращаться к людям с «учением», в надежде, что для них этого достаточно, и что у них никогда не явятся те же вопросы, которые мучили учителя — или говорить открыто? А что, если эти вопросы придут, возникнут сами собой у учеников? Ученики, конечно, не посмеют говорить о том, о чем учитель молчал! Какое странное общество добросовестных лицемеров с ясными речами и затуманенными головами получится тогда! И разве эта, хотя и добрая, честная ложь не отмстится и в седьмом колене? Разве мученики притворной веры нужны кому-нибудь? Было время, когда людей приводили к религии — даже к христианству — огнем и мечом. Теперь — не то. Мы знаем, что и нравственный авторитет в этом деле — непозволительное средство. Мы хотим, чтобы верили так, как верили первые христиане, когда пытками принуждали к отречению от Христа, когда наука, искусство, авторитет общественной власти — все было против нового учения. Только такую веру мы ценим. И если Ницше, находившийся именно в таком положении, не мог уверовать, для нас это не должно служить поводом к громовым проповедям. Наоборот, здесь только нужно замолчать — и слушать для того, чтобы понять, почему прежде бывший сравнительно легким и доступным,— во всяком случае, возможным — путь к вере теперь оказывается закрытым для тех, кто в ней наиболее нуждается и так горячо ее ищет. В таких случаях греметь и громить может лишь тот человек, которому нужно в себе самом заглушить голос сомнений. Но нужно ли это? Не для графа Толстого — он сам знает, что для него лучше,— а для его читателей, для тех сотен и тысяч Ницше, которые, вынося его судьбу, не находят в себе смелости говорить собственным языком и покорно с внешней стороны, но с ужасом в душе повторяют недоступные им речи из чужой проповеди. Это называется резиньяцией и этого тоже требуют от людей, как их обязанности, во имя разных вещей, называемых хорошими словами. Но справедливо ли это? Ведь, в конце концов, это требование имеет одно основание: зажать рот несчастным, неудачливым, чтобы всем остальным до поры до времени спокойней жилось. Но помимо того, что это несправедливо — это и невозможно. Попытка гр. Толстого ограничить сферу дозволенного в искусстве путем
278
введений новых определений дурного и хорошего искусства, конечно, ни к чему не может привести. Люди всегда говорили и будут говорить о том, чем полна их душа, и никакие поэтики, ни аристотелевские, ни толстовские, не содержат накипевших мук. Но нас занимает здесь не этот практический чисто вопрос. Для нас представляется несравненно более серьезным и важным то обстоятельство, что гр. Толстой повернулся спиной к собственной задаче, закрыл глаза на свой вопрос. Он знает, что значит искать веры и не находить ее. Его Левин, молодой, здоровый человек, счастливый семьянин, был близок к самоубийству только потому, что не мог найти Бога. Вправе ли гр. Толстой требовать от нас, чтобы мы не подозревали теперь правдивости и искренности его слов, когда он утверждает, что «добро», «братская любовь» есть Бог? Вправе ли он рассчитывать, что негодование, которое он изливает на «неверующих» и рецепт физического труда, предлагаемый им как панацея против всех бед, не покажется нам только ловким, а может быть и неловким, обходом собственных сомнений?
X
Эти средства, между прочим, не могут похвалиться и новизной. Давно известно, что труд — всякий, не только физический — отвлекает от размышления. Еще более давно установилось убеждение, что негодованием можно на время подавить какие угодно запросы человеческой души. И не только по поводу Ницше в наше время, но вот уже много десятков лет люди разных положений негодуют против Гейне за его «безбожие». Добро бы таким способом боролись с его юношескими стихотворениями, в которых можно еще видеть легкомыслие человека, не знающего «зачем, собственно, и существуют религии». Но — особенно у немцев — Гейне не желают простить именно его последние произведения, произведения «Matrasengruft». Очевидно для всех, что у паралитика, прикованного к постели, не имеющего никакой надежды на выздоровление, не может уже быть «злой воли» в неверии. Такому человеку вера нужна более всего в жизни; обычных «соблазнов», которыми люди уводятся к атеизму, у него быть не может. Если до последних минут жизни у Гейне происходят непрерывные приливы и отливы веры, если каждый раз в нем резиньяция сменяется протестом, умиление — насмешкой, то для нас во всем этом тем меньше может быть повода к негодованию, чем сами мы прочнее и убежденнее верим в то, что знаем истину. Наоборот даже, с истинно-религиозной, возвышенной точки зрения —
279
настроения Гейне особенно ценны, и именно в те минуты, когда он произносит самые кощунственные свои сарказмы. Столь возмущающее немецких историков литературы послесловие к «Romanzero» для нас дорого правдивою откровенностью, которая, в сущности, является первым и обязательным долгом человека в отношении к Богу. Гейне говорит: «Wen nun man einen Gott begehrt, der zu helfen vermag — und das ist doch die Hauptsache — so muss man auch seine Persönlichkeit, seine Ausserweltlichkeit und seine heiligen Attribute, die Allgüte, die Allweisheit, die Allgerechtigkeit u. s. w. annehmen». С точки зрения, громко выражаемой гр. Толстым, такие слова — даже мысли — непозволительны. Это то, что нужно обязательно замалчивать. А Гейне это говорил накануне смерти, в стихах и прозе. Размышляя о будущей жизни, он писал:
Auf Wolken sitzend, Psalmen singen
Wär auch nicht just mein Zeitvertreib.
Или вот какие слова вырываются у него среди непрерывных мучений болезни, когда смерть была его последней надеждой:
О Gott, verkürze meine Qual,
Damit man mich bald begrabe;
Du weisst ja, dass ich kein Talent
Zum Martyrthume habe.
Ob deiner Inkonsequenz, о Gott,
Erlaube, dass ich staune,
Du schufest den fröhlichsten Dichter, und raubst
Ihm jetzt seine gute Laune.
Der Schmerz verdumpft den heitern Sinn,
Und macht mich melancholisch.
Nimmt nicht der traurige Spass ein End’,
So werd’ ich am Ende katholisch.
Ich heule dir dann die Ohren voll
Wie andre gute Christen —
О Miserere! Verloren geht
Der beste der Humoristen.
Я привел эти коротенькие отрывки из гейневской прозы и стихов последнего периода лишь затем, чтоб иллюстрировать характер религиозного сознания нашего времени. Гр. Толстой, как и следует проповеднику, изображает это сознание в абсолютных словах как нечто, могущее быть принятым и отверженным по желанию. Но, как видно из признаний Гейне и Ницше, желание тут ни при чем. Заратустра говорит ученикам своим: «Вы еще не искали меня и не нашли меня. Так делают все верующие; оттого всякая вера так мало значит. Теперь я велю вам потерять меня и найти себя. И когда вы отречетесь от
280
меня — я вернусь к вам»1. Для Ницше отречение — единственный, неизбежный способ вновь обрести учение и учителя. И в этом отречении — источник новой поэзии, нового искусства. Из этого вытекла «Божественная комедия», которую гр. Толстой не считает возможным включить в свой коротенький список дозволенных к чтению вещей. Данте на половине своего жизненного пути заблудился в мрачном лесу и искал, как выбраться оттуда. Он побывал за той ужасной дверью, одна надпись на которой приводит в трепет тех, кому приходилось читать ее на языке Данте. Конец все знают: lasciate ogni speranza voi ch’entrate. То же, что о Данте, можно сказать о Шекспире. И его лучшая поэзия (второго периода) вытекла из необходимости отречься от учения, чтоб своими силами вновь обрести его. В приведенных выше словах Заратустры формулирована ставшая неизбежной для современного человека стадия развития. Нам уже не дано найти, не искавши. От нас требуют большего. И мы должны отречься, как в свое время отрекся гр. Толстой, как отрекается он еще теперь. Мы должны понять весь ужас того положения, о котором говорит Ницше словами безумного человека, который скрыт под юмором Гейне, который испытал за своей дверью Данте, из которого родились трагедии Шекспира, романы и проповеди гр. Толстого. В былые отдаленные времена об этих роковых тайнах жизни знали очень немногие. Остальные получали веру даром. Теперь время другое. И религиозное сознание добывается иным путем. Там, где прежде достаточно было проповеди, угрозы, нравственного авторитета,— теперь спрашивают больше. Не все, конечно; большинство и теперь, даже среди «образованных» людей «с тупым удивлением отмечают существование религий».
Потому-то искусство, пытающееся удовлетворить высшим запросам человеческого духа, не может быть доступно всем. Одни наслаждаются «отравленной совестью» или «разбойником Чуркиным» и в таких пьесах находят удовлетворение, меж тем как другие идут к Данте, Гете, Шекспиру, к греческим трагикам, ища у них ответу на мучительные вопросы. Гр. Толстой говорит, что искусство «высших классов отделилось от искусства всего народа, и стало два искусства: искусство народное и искусство господское». Нет — это разделение по чисто внешним, неважным признакам. В пределах господского искусства есть многое, что было бы под стать любому мужику, если бы не чуждая обстановка и язык. А «Макбет», «Лир», «Прометей» кажутся скучными многим господам, которые по-
1 A. S. Z. Von der schenkenden Tugend.
281
сещают представления «классических» пьес только ввиду существующего представления, что они имеют воспитательное значение или что-то в этом роде. На самом деле тот, кому «отравленная совесть» нравится и скучен Шекспир, наиболее благоразумно поступил бы, если бы следовал внушениям своего вкуса. Его время еще не пришло. Пусть пока радуется на то, что ему нравится, что ему нужно. Сам гр. Толстой в «Смерти Ивана Ильича», произведении, так загадочно прорвавшемся сквозь законченную якобы гармонию его «религиозных настроений», рассказал нам, что в самое последнее время1, тогда, когда план спасения человечества посредством труда и «правил» был им вполне выработан, сомнения бушевали в его душе не меньше, чем у Гейне или Ницше, и что «наши» вопросы были тогда и его вопросами.
Вот как он рассказывает о последних минутах Ивана Ильича: «Он понял, что он пропал, что возврата нет, что пришел конец, совсем конец»... «Все три дня, в продолжении которых для него не было времени, он барахтался в том черном мешке, в который его просовывала невидимая, непреодолимая сила. Он бился, как бьется в руках палача приговоренный к смерти, зная, что он не может спастись: и с каждой минутой он чувствовал, что несмотря на все усилия борьбы, он ближе и ближе становится к тому, что ужасало его. Он чувствовал, что мученье его и в том, что он всовывается в эту черную дыру, и еще больше в том, что он не может пролезть через нее». В этих словах основная тема рассказа. Вслушайтесь только в них хорошо. Какие выражения подбирает гр. Толстой! «Пропал», «конец, совсем конец», «черный мешок» и т. д. Разве от них не веет настроением метерлинковской l’intruse? Правда, у гр. Толстого в конце рассказа есть как бы ответ на вопрос. Ивану Ильичу «пролезть мешает признание, что жизнь его была хороша. Это-то оправдание своей жизни цепляло и не пускало его вперед и больше всего мучило его». Все начало рассказа объясняет нам, чем была не хороша жизнь Ивана Ильича. Он слишком щадил себя, слишком оберегал приятность приличной жизни, слишком дорожил средними благами и только теперь, когда подошла трагедия, впервые почувствовал, что он пропустил лучшее в жизни. Но тем ужаснее это. Зачем теперь ему эта проницательность, когда все счеты с жизнью кончены? Что с того, что в конце дыры, в которую он провалился, «засветилось что-то», и что он «вдруг узнал настоящее направление»? Какой ответ может быть на этот вопрос? «Избавить их (окру-
1 «Мысли, вызванные переписью» относятся к 1884-1885 гг., а «Смерть Ивана Ильича» — к 1884-1886 гг.
282
жающих) и самому избавиться от этих страданий». Только то? Последние слова Ивана Ильича, когда он услышал, что кто-то над ним сказал «кончено», были: «Кончена смерть. Ее нет больше». Что это значит? Что значит, что «страха смерти не было, потому что смерти не было. Вместо смерти был свет»? Как в своей душе гр. Толстой объясняет эту ужасную трагедию ни в чем неповинного человека? Его ответ — проповедь: любите ближнего и трудитесь. Но об этом его не спрашивают, об этом он сам себя не спрашивает. Прочитав Ивана Ильича, мы вовсе не интересуемся узнать, как нам спастись от его ужасной участи. Наоборот, вместе с Белинским, мы требуем отчета о каждой жертве истории, условий и т. д. и не только не желаем лезть на верхнюю ступень развития, но наоборот, готовы броситься с нее вниз головой, если нам не ответят за Ивана Ильича.
«Смерть Ивана Ильича» как художественное произведение принадлежит к лучшим перлам толстовского творчества. Это вопросительный знак, начертанный такой резкой, черной краской, которая просвечивает через все слои новых, радужных красок проповеди, которыми гр. Толстой хотел принудить нас забыть свои прошлые сомнения. Никакая проповедь ему не поможет. Мы будем спрашивать, как спрашивал до сих пор гр. Толстой, как бы он ни открещивался от своего прошлого, как бы ни раздувал он слова «вина», как бы ни грозил он нам отлучением от нравственности, т. е., в его терминологии, от Бога. Мы знаем, что это не так, что «вина» может быть пред нравственностью, но не пред Богом, ибо нравственность — дело рук человеческих. Вот любопытный отрывок из беседы между Заратустрой и старым папой, который «после смерти Бога» остался без службы. Старый папа рассказывает о смерти Бога в таких словах: «Кто хвалил его как Бога любви, недостаточно ценил самую любовь. Разве этот Бог не хотел быть также и судьею? Любящий же не знает ни награды, ни отмщения. Когда он был молод, этот Бог из восточных стран, он был суров и мстителен и выстроил себе ад, чтобы забавлять своих любимцев. Потом он состарился, стал мягким и сострадательным,— больше как дед, чем отец или, скорее всего, как старая бабушка. И он сидел, поблекший, на своей печке, разглядывая свои старые ноги, уставши от жизни, бессильный, пока, наконец, не задохнулся от сострадания»... — Ты, папа,— прервал его Заратустра,— видел ли ты все то своими глазами? Могло быть и так, могло быть и иначе. Боги умирают разного рода смертями. Но что ж! Так или иначе — он умер. Он шокировал мои глаза и мой слух — худшего я не хочу говорить о нем. Я люблю тех, которые ясно глядят и прямо говорят. А он,— ты знаешь это, старый священник,— в нем было много твоих черт, священнических. Его можно было разно понимать, Его часто и совсем
283
нельзя было понять. Как сердился он на нас за то, что мы его плохо понимали. Но зачем не говорил он яснее? Если причина была в наших ушах, зачем дал он нам уши, которые плохо слышат? Была грязь в ушах наших? Но кто вложил ее туда? Слишком многое не удавалось ему. Но в том, что он мстил своим творениям — за то, что они не удались ему — в этом он грешил против хорошего вкуса. И в благочестии есть хороший вкус, который говорит, наконец: прочь с таким богом! Лучше совсем без бога, лучше на свой страх устраивать свою судьбу, лучше быть дураком, лучше самому быть богом»1.
Пусть читатель не оскорбляется этими словами. Я пишу нарочно «бог» с маленькой буквы, ибо здесь идет речь о том боге, который равняется добру, т. е. о боге, пишущемся не с прописной буквы и служащем для проповедников ширмой, которой они закрываются от учеников своих. Послушайте, что ответил папа Заратустре: «О, Заратустра, со всем твоим неверием — ты благочестивее, чем ты думаешь! Сам Бог обратил тебя к безбожию. Разве не благочестие не дозволяет тебе верить в Бога?» Чтоб читателю было еще яснее, как понимал, мог понимать Ницше того бога, которого пришлось убить, приведу один из его последних афоризмов, определяющий нравственный миропорядок: «Что такое нравственный миропорядок? Есть раз навсегда воля божья, в силу которой одно — должно делать, другое — не должно делать. Ценность народа и отдельной личности определяется тем, насколько, в какой мере они подчиняются Божьей воле». Это именно то понимание, которое предлагает своим ученикам гр. Толстой. Гр. Толстой хочет, чтобы его ученики приняли закон, не зная зачем он, чтоб Иваны Ильичи отреклись от искания средних благ, которые им дороже всего в мире, прежде чем жизнь их научит, что не степенью «приятности» измеряется достоинство человеческого существования. И он грозит им всем запасом выработанных традиционной нравственностью угроз, он хочет пристыдить, запугать, ужаснуть их, лишь бы они только исполняли правила, т. е. делали бы то, что им в данную минуту не нужно, чуждо, но что, быть может, они когда-нибудь сочтут лучшим. Сам гр. Толстой так не жил. Он всегда делал то, что ему нужно было. Теперь — нравственная жизнь и проповедь ему нужнее всего. Это спасает его от мучительных снов. Но у других — другие сны. И им режим гр. Толстого ничего дать не может. Какое же право имеет он называть свою нравственность — Богом и закрывать пути ищущим действительного Бога? Уже разговор папы с Заратустрой показывает нам, как мало «Бог-добро» мог
1 A. S. Ζ. Ausser Dienst.
284
удовлетворить Ницше, и как представление о «Боге-судье» заставило Ницше отшатнуться от привычных религиозных представлений. И неудивительно: гр. Толстой всегда имел возможность «исправиться». Он в 50 с лишним лет мог нарядиться в мужика, пахать, заниматься благотворительностью. Но чтобы сделал он, если бы оказался в положении Ницше, когда «исправиться» нельзя, когда возврат невозможен, когда будущего — нет, а есть только прошедшее? Что тогда бы сказала ему формула «добро — Бог»? Это положение знал гр. Толстой: он написал «Смерть Ивана Ильича». Этот вопрос, повторяем, просвечивает для всех, кто не закрывает глаз, сквозь красноречивые и патетические фразы его проповеди. Но открыто говорить о нем гр. Толстой уже не хочет. Послушаем же Ницше; он нам расскажет все то, что рассказал бы Иван Ильич, если бы ему суждено было 15 лет прожить в том положении, в каком он оказался, когда понял, что «пропал», что наступил «конец, совсем конец».
XI
О Боге, таком Боге, который нужен человеку, понявшему весь ужас своего бессилия, о Боге, «который может помочь», как говорит Гейне, Ницше, конечно, не мог помышлять. Единственно, что он узнал — это что потеряли люди, убивши Бога, какую жертву из жертв принесли они, отказавшись от веры. Слишком современный человек, весь проникнутый идеей эволюции, которая представляет нам наш теперешний мир «естественно» развившимся из туманных пятен, а человек лишь звеном в этом развитии — как мог дерзнуть он помышлять о том, что его случай, т. е. неудача его жизни, мог где-нибудь во вселенной найти себе оправдание?! Он знал, что такой взгляд называется антропоцентрическим и свидетельствует только о наивной притязательности бесконечно малой частицы на роль последней цели мироздания. Мы все слишком сжились с теорией естественного развития, и современному человеку нужно чрезвычайное напряжение всех духовных способностей, чтоб хоть отчасти вырваться из ее власти. И много лет проходит у Ницше, прежде чем он решается отказаться от научных предрассудков позитивизма, тем более что взамен «положительных» истин он не может представить ничего, что в достаточной степени удовлетворяло бы его новую любознательность. Он разбивает прежние рамки, он уже не хочет более «умозаключать там, где может догадаться», но он чувствует, что «все поэты лгут, ибо слишком мало знают», и откровенно признается, что «Заратустра — тоже поэт». Поэтому даже в самых
285
последних его произведениях мы наблюдаем смесь противоположнейших влияний. С одной стороны — «естественное развитие» и самые беспощадные нападки на все попытки представить человека чем-либо большим, нежели простым продуктом случайной игры бессознательных сил — как дань всосанной с молоком матери современной философии и убеждению, что больной не имеет права верить, как и не имеет права быть пессимистом. С другой стороны — насмешки над позитивизмом, утилитаризмом и всем, что им сродни, и утверждения, своей смелостью превосходящие самые смелые мечтания человечества. Первое время своей болезни он все еще надеялся найти удовлетворение в чистой науке. Он писал: «Думаешь ли ты, что такая жизнь, такая цель слишком тяжка, что она лишена всякой прелести? Значит, что ты еще не узнал, что нет меда более сладкого, чем мед познания, и что тяжелые облака грусти только полные вымена, из которых ты добудешь укрепляющее молоко. Пусть придет тогда старость, и ты поймешь, что ты следовал голосу природы, той природы, которая посредством наслаждения правит миром. Эта жизнь, которая имеет своей вершиной старость, также имеет своей вершиной и мудрость, этот мягкий свет постоянной духовной радости. И то и другое, и мудрость и старость — ты встретишь на вершине одной горы: так желала природа. И пробьет тогда час — не сердись на то — когда приблизится к тебе туман смерти. Пусть последним твоим усилием будет движение к свету, последним вздохом твоим — победная песнь мудрости»1. Нужно ли говорить о том, как далеки эти слова от выражения истинного настроения Ницше, что это только «маска», которую он надел на себя, чтоб не видно было, что он, вопреки принятой на себя обязанности, не мог не быть в душе пессимистом? Эти похвалы мудрости и старости у человека, который в 30 лет принужден быть и мудрым, и старым — ибо какой еще мед был ему доступен? — тем более подозрительны, чем обильнее они расточаются. Здесь Ницше не боялся человеческой проницательности. Все хвалят мудрость и науку, и его голос никому не мог показаться неискренним, кто ничего не знал о его личной судьбе. А может быть, он и надеялся в самом деле, что «познание» заглушит в нем тоску по утраченной жизни и будет если не живительным ключом, то ключом забвения, который все же по-своему утолит жар измученного сердца. Но, оказалось, что наука ничего не могла ему дать. Вот что рассказывает Заратустра об этом опыте: «Слишком далеко залетел я в будущее: меня охватил ужас. Когда я оглянулся вокруг себя, я увидел, что одно
1 N. W. II, 267.
286
время было моим современником. Тогда полетел я назад домой, и все торопливее и торопливее. Так пришел я к вам, вы, люди настоящего, в страну образования. В первый раз открыл я на вас свои глаза — и с добрыми намерениями: поистине, с тоской в сердце пришел я к вам. Но что случилось со мной? Как ни страшно мне было, я принужден был рассмеяться. Никогда глаз мой не видел ничего, столь пестро разрисованного. Я смеялся, смеялся, в то время как нога моя еще дрожала, а с ней и сердце мое. «Здесь родина всех раскрашенных горшков»,— сказал я себе. С лицами и членами, измазанными пятьюдесятью красками — так сидели вы, к моему удивлению — вы, люди настоящего! И с пятьюдесятью зеркалами вокруг себя, которые льстили вам, расхваливая игру ваших красок... Кто снимет с вас покрывала и мантии, краски и гримасы, тот увидит лишь пугало для птиц. Поистине, я сам испуганная птица: я видел вас однажды нагими, без ваших красок, и я улетел от вас, как улетел бы от скелета, предложившего мне свою любовь. Охотнее готов я быть поденщиком в аду и у теней прошлого. Обитатели подземного мира плотнее и полнее, чем вы... Вы смешны и чужды мне, люди настоящего, к которым еще недавно влекло меня мое сердце; я изгнан из страны отцов и матерей наших. Но я люблю еще страну детей наших (Kinderland),— еще не открытую, лежащую в далеком море: ее я велю искать парусам своим»1. Так оправдались надежды Ницше на науку, на тот сладкий мед познания, о котором он старался столь красноречиво говорить в «Menschliches, Allzumenschliches». А он шел к ней с лучшими намерениями и ничего так не боялся, как разочароваться в этих своих надеждах. Наука показалась ему скелетом! Он охотнее готов быть поденщиком в царстве теней, чем жить с людьми нашего времени. Скажут, что в этом его собственная вина: зачем ожидал он от науки того, чего она дать не может? Но куда идти современному человеку? Где искать спасения? И разве среди ученых вы не услышите, что их дело, их наука выше всего, что есть, может быть, в мире? И разве не естественно человеку, в положении Ницше, идти спасаться к науке после того, как дошла до него весть, когда он «увидел и услышал», что «Бог умер». Он искал везде, где μοιύτ искать люди, шел всюду, где мог надеяться найти приют себе. И к ученым он явился с лучшими намерениями, без всякого желания критиковать, проверять, насмехаться. Он убеждал себя, что нет более сладкого меда, чем мед познания, и под познанием разумел науку — ту науку, которая до него существовала и которая, он надеялся, может утолить его духовную
1 A. S. Ζ. Vom Lande der Bildung.
287
жажду. Несколько лет подряд живет он, припавши иссохшими губами к позитивизму, все ожидая, когда, наконец, польется из того, что он называл «тяжелыми выменами грусти», так нужное ему «укрепляющее молоко». Удивительно ли, что он принужден был смеяться, как ни было ему тяжело?! Удивительно ли, что впоследствии он называл Милля «оскорбительною ясностью», Спенсера, Дарвина — посредственными англичанами? Он не мог отказать им в дарованиях, талантах, проницательности — но всего этого он уже не ценил, как когда-то в былые времена, когда науку он считал мудростью, т. е. лучшим, что может быть в жизни. Теперь, наоборот, ясность и законченность ученых систем оскорбляет его. Он не может понять, как это люди интересуются логическими построениями, обозрением внешнего мира,— и не чувствуют того, над чем он сам исстрадался и измучился, и равнодушны к тому, от чего он приходит в ужас; ему кажутся младенцами те ученые, которые, проживя до глубокой старости, могли за своими занятиями проглядеть трагедию нашего земного существования, открывшуюся ему при столь исключительных условиях. И он «ушел из дома ученых и захлопнул за собой дверь»1.
Ницше оскорбил своим отношением к науке профессиональных ученых всех оттенков, ибо он равно отшатнулся и от позитивистов, и от материалистов, и от идеалистов. Отсюда и тот особенный тон, которым говорят о Ницше немецкие профессора. Им хочется сказать, что Ницше ушел от науки не потому, что ему нечего было у нее брать, а потому, что он не умел брать — был слишком пылок, нетерпелив, порывист и т. д. — и потому они, отдавая справедливость его публицистическим талантам и даже входя в трагичность его положения, придают своим суждениям о нем характер сознающей свое превосходство снисходительности, исключающей всякую мысль о том, что переживания Ницше могут служить испытанием правомерности притязаний науки. Ницше для них — блестящий писатель, но не философ. Он — «составитель афоризмов», ему недоставало синтетических способностей, он не умел обобщать в одно целое свои отрывочные наблюдения. У Ницше, конечно, как и у всякого человека есть свои недостатки. Но то именно, что ставится ему в упрек немцами, составляет, быть может, одно из редких его достоинств. Нам интереснее, нужнее всего, быть может, услышать слово философа, осмеливающегося говорить, не оглядываясь все время на то, что им было уже прежде сказано из боязни, что не получится той логической цельности, которая навязывается всякой фило-
1 A. S. Ζ. Von den Gelehrten.
288
софии, как conditio sine qua non. Законченность, систематичность — хорошая вещь, если она является сама собой, если противоречия в философской теории не сглаживаются опытной рукой, как это обыкновенно бывает, а оказываются по существу невозможными. Но, последний случай — почти немыслим. По крайней мере, до сих пор не было ни одного такого философа, который не связал бы себя ради синтеза какой-нибудь одной идеей. При таких условиях теория обязывает говорить не то, что видишь и чувствуешь, а то, что не противоречит раз высказанному убеждению. Более того, философ с раз сложившейся теорией перестает видеть и чувствовать все то, что не вмещается в устанавливаемые ею рамки. В этом отношении Ницше свободнее других, и этим он отчасти обязан афористической форме изложения, принятой им, быть может, и против воли. Он заносил на бумагу мысли и впечатления такими, какими он их испытывал, не сводя их в систему. И читателю, конечно, много полезнее самому исполнить работу синтеза. Придется потрудиться — но зато есть уверенность, что Ницше не урезывал своих мыслей и не придумывал неправды из боязни быть непоследовательным. Если бы логическая непогрешимость теоретиков свидетельствовала об истинности их учений, тогда, конечно, отсутствие системы у Ницше обличало бы в его философии важный недостаток. Но мы знаем, в чем секрет философской «цельности». Уже одно то обстоятельство, что можно назвать целый ряд теорий, совершенно противоположных одна другой и тем не менее одинаково последовательно построенных, научает нас не слишком дорожить этой стороной философской концепции, более того, даже тяготиться ею. Если философ становится очень последовательным и убедительным, мы почти что чувствуем в этом лишний соблазн и только еще внимательнее настораживаемся, так как знаем, что его логичность недаром им добыта и во всяком случае взята им не из природы разбираемых им явлений (особенно, когда дело касается сложных и трудных вопросов). Мы хотим, чтобы возможная степень последовательности явилась сама собой как следствие того, что думает, видит, чувствует — один человек, если уже нельзя мечтать о том, чтоб систематичность обусловливалась действительной возможностью охватить решительно все, что подлежит философскому исследованию. Работа же над сглаживанием противоречий нам кажется опасной и рискованной, ибо волей-неволей за чертой системы останется много, чего бы отбрасывать ни в каком случае не следовало. Поэтому упреки, посылаемые немецкими профессорами по адресу Ницше, могут быть справедливы только в слабой степени, поскольку он пытался пристегнуть к своим взглядам чисто внешние обоснования. Но, как уже было замечено, Ницше редко прибе-
289
гал к таким приемам, и лучше всего их просто игнорировать, как, например, так усердно опровергаемые критикой филологические соображения относительно слов «bonus» и «malus». Нам важны не те соображения, которые он придумывал, а те мысли и чувства, которые он переживал. Если ему приходилось испытывать различные, часто противоположные настроения — и он не побоялся отметить и те и другие, тем лучше для нас. Мы сами уже должны уметь, сообразуясь с общим характером переживаний человека, отделить постоянное и важное от случайного и неважного, даже не считаясь с тем, что он сам хотел поставить на вид, что он сам ценил в себе наиболее. Ибо, говоря словами Ницше, «лучшего, что есть в тебе, ты сам не знаешь» — другие легче это могут узнать. В конце концов у нас, конечно, получится цельность впечатления — но не логическая, а психологическая. У нас будет не законченная система, а законченный человек, что, само собою разумеется, не значит одно и то же.
Итак, наука, на которую Ницше возлагал столько надежд, которая должна была заменить ему все радости жизни, все утешения религии, не дала и не могла дать ему ничего. Того, что ему нужно было, в науке не было. Для того, чтобы читатель мог судить о душевном состоянии Ницше в тот период, когда он перебегал от одного святого места к другому в тщетном чаянии найти, наконец, себе успокоение, мы приведем один небольшой отрывок из «Also sprach Zarathustra». Среди разговора с карликом о «вечном возвращении» до Заратустры вдруг донесся страшный вой собаки... «Куда исчез карлик и перекресток, и паук? И наши перешептывания? Было ли то во сне? Или наяву? Я увидел вдруг, что стою среди диких скал один, облитый пустынным лунным светом. Но здесь же лежал человек. И собака с ощетинившейся шерстью прыгала и визжала; когда она увидела, что я подошел, она снова завыла, она закричала; никогда не приходилось слышать мне, чтоб собака так звала на помощь. И поистине, ничего подобного тому, что я увидел, не видел я никогда. Я увидел молодого пастуха, задыхающегося, скорчившегося, скрючившегося, с перекосившимся от ужаса лицом. Изо рта его висела черная, тяжелая змея. Видел ли я когда-нибудь столько отвращения и бледного ужаса на одном лице? Он, верно, спал, и змея вползла ему в рот и впилась в него. Моя рука схватила змею, чтоб оторвать ее: напрасно. Я не мог оторвать змею. Тогда что-то крикнуло из меня: откуси, откуси. Откуси ей голову, так крикнули из меня мой ужас, моя ненависть, мое отвращение, мое сострадание, все, что есть во мне дурного и хорошего. — Вы, смелые люди! Вы, искатели, вы, искусители, вы, которые выезжаете на хитрых парусах в неисследованные моря! Вы, радующиеся загадкам! Разгадайте
290
мне ту загадку, которую я тогда видел... Кто был этот пастух, которому вползла в рот змея? Кто был тот человек, которому все самое тяжелое, самое черное вошло в душу?»1.
Такие образы посещали Ницше в его странствованиях. Могут, могли его успокоить толстовские рассказы «Кавказский пленник» и т. д. или рассуждения о добре, или наука? Не прав ли он был, что отвернулся от всего этого и пошел по своему пути?
XII
Ницше был и у «добра», у толстовского добра, и быть может, это — наиболее мучительная страница его мучительной повести. Ницше хотел, как помнит читатель, «любовью к ближним» заполнить свое существование, закрыться от грозных призраков, посещавших его. И вот что из этого вышло. Добро сказало ему: «Вы убегаете к ближнему от самих себя и хотите из этого еще свою добродетель сделать, но я насквозь вижу ваше самоотречение»2.
Таким языком заговорило добро к человеку, пред которым были закрыты двери всех убежищ, где люди обыкновенно находят себе успокоение. Ницше, никого не убивший, никого не обидевший, ни в чем не провинившийся, мог, вслед за Макбетом, повторить его страшные слова: «Зачем не мог я произнесть аминь? я так нуждался в милосердьи Бога!» Он говорит про себя: «Но худшим врагом, какого можешь ты только встретить, всегда будешь ты сам; сам станешь ты выслеживать себя в пещерах и лесах... Ты будешь для себя и еретиком, и ведьмой, и предсказателем, и глупцом, и сомневающимся, и нечистым, и злодеем. Ты должен сгореть на своем собственном пламени: как хочешь обновиться ты, не обратившись прежде в пепел?»3. Узнает ли читатель в тоне и характере этих речей старого знакомого, судью, который преследовал, по нашим представлениям, только «дурных» и «виноватых» людей? Если не узнает, то приведем еще один отрывок, в котором все особенные черты «категорического императива», травившего до сих пор, по нашим и кантовским понятиям, только нарушителей правил, сказываются с особенной силой. Цитируем его в подлиннике, ибо перевод никогда не сохранит энергии и страстности оригинала, что в данном случае имеет решающее значение, ибо говорит о категоричности императива:
1 A. S. Ζ. Vom Gesicht und Räthsel.
2 Ib. Von der Nächstenliebe.
3 Ib.
291
Will Jemand ein wenig in das Geheimniss hinab — und hinuntersehn, wie man auf Erden Ideale fabrizierfi Wer hat den Muth dazu?... Wohlan! Hier ist der Blick offen in diese dunkle Werkstätte. Warten sie noch einen Augenblick, mein Herr Vorwitz und Wagehals: Ihr Auge muss sich erst an dieses falsche schillernde Licht gewöhnen... So! Genug! Reden sie jetzt! Was geht da unten vor? Sprechen Sie aus, was sie sehen, Mann der gefährlichsten Neugierde — jetzt bin ich der, welcher zuhört. — Ich sehe nichts, ich höre um so mehr. Es ist ein vorsichtiges tückisches leises Munkeln und Zusammenflüstern aus allen Ecken und Winkeln. Es scheint mir, dass man lügt; eine zuckrige Milde klebt an jedem Klange. Die Schwäche soll zum Verdienste umgelogen werden, es ist kein Zweifel — es steht damit so, wie sie es sagten» —
— Weiter!
— «und die Ohnmacht, die nicht vergilt, zur «Güte»; die ängstliche Niedrigkeit zur «Demuth»; die Unterwerfung vor Denen, die man hasst, zum «Gehorsam» (nämlich gegen Einen, von dem sie sagen, er befehle diese Unterwerfung,— sie heissen ihn Gott). Das Unoffensive des Schwachen, die Feigheit selbst an der er reich ist, sein An-der-Thür-stehn, sein unvermeidliches Warten-müssen, kommt hier zu guten Namen, als «Geduld», heisst auch wohl die Tugend; das Sich-nicht-rächenkönnen heisst sich-nicht-rächen-wollen, vielleicht selbst Verzeihung («denn sie wissen nicht, was sie thun — wir allein wissen es, was sie thun!»). Auch redet man von der «Liebe zu seinen Feinden» — und schwitzt dabei»
— Weiter!
«Sie sind elend, es ist kein Zweifel, alle diese Munkler und Winkel Falschmünzer, ob sie schon warm bei einander hocken — aber sie sagen mir, ihr Elend sei eine Auswahl und Auszeichnung Gottes, man prügele die Hunde, die man am liebsten habe; vielleicht sei dies Elend auch eine Vorbereitung, eine Prüfung, eine Schulung, vielleicht sei es noch mehr,— Etwas, das einst ausgeglichen und mit ungeheuren Zinsen in Gold, nein! in Glück ausgezahlt werde. Das heissen sie «die Seligkeit».
— Weiter!
«Jetzt geben sie mir zu verstehen, das sie nich nur besser seien als die Mächtigen, die Herrn der Erde, deren Speichel sie lecken müssen (nicht aus Furcht, ganz und gar nicht aus Furcht!), das sie nicht nur besser seien, sondern es auch «besser hätten», jedenfalls einmal besser haben wurden. Aber genug! genug! Ich halte es nicht mehr aus. Schlechte Luft! Diese Werkstätte, wo man Ideale fabriziert — mich dünkt, sie stinkt vor lauter Lügen»1.
1 N. W. T. VII, Zur Genealogie der Moral I. Abt § 14.
292
Может ли быть хоть на минуту сомнение, кто так говорит? Где еще, если не у шекспировского Макбета, чувствуется такое настроение ужаса пред самим собой? Кто не признает в этих словах голоса совести, угрызений совести? Только на этот раз — совесть принялась за совсем несвойственное ей дело. Вместо того, чтобы корить, проклинать, предавать анафеме, отлучать от Бога и людей человека за то, что он был «дурным», она преследует его за то, что он был «хорошим». Вместо того, чтоб ставить ему в вину, что он был злым, гордым, мстительным, непочтительным, праздным — она его упрекает за то, что он был смиренным, добрым, кротким, трудолюбивым, почтительным! Оказывается, что совесть бичует не только за то, что человек преступил «правила», но и за то, что он относился к ним со всем тем уважением, о котором говорит Кант. И сила ее упреков не только не ослабевает, но, пожалуй, даже растет. Мучения Ницше — ужаснее переживаний Макбета. А «грехов» за ним — нет. Это он только рассчитывается за свои добродетели, это он лишь подводит итоги, во что ему обошлось его «доброе имя». В такой роли до сих пор совесть открыто еще не выступала: разве только в первой части «Преступления и наказания», но зато во второй половине этого романа она вполне оправдывает свое прошлое, становясь вновь на защиту всегда бывшего ей любезным «правила». У Ницше же этого нет. До конца жизни совесть говорит в нем против всего «доброго», что было в нем и приводит его, наконец, к признанию, что все «хорошее» — «дурно», и наоборот. Их этих настроений вытекла его философия и, конечно, «опровергать» ее — как это делают немецкие профессора — указанием на то обстоятельство, что Ницше недостаточно «глубоко» понимал Канта, менее всего уместно. Не в Канте тут дело. Пред нами факт необычайного, огромного значения: совесть восстала в человеке против всего, что было в нем «доброго». Он требует от нас, чтоб мы вновь пересмотрели все обычные наши представления о добре и зле, закрывавшие доселе от наших глаз психологию людей, подобных Ницше. Повторяю, ошибочно думать, что ницшевские переживания являются единственными в своем роде, новыми, небывалыми. Наоборот, быть может, они гораздо чаще встречаются, чем принято думать. Но их обыкновенно замалчивают. Они смиряются пред ожидающим их всеобщим осуждением. Заслуга Ницше лишь в том, что он осмелился поднять за них свой голос, сказать громко то, что другие говорили лишь про себя, чего другие и про себя говорить не смели, ибо боялись даже называть собственными именами то, что происходило в их душе. Быть может, и сам Ницше был бы менее смел — если бы он не находился в положении человека, которому уже нечего терять, у которого нет выбора. «Нужно
293
эту опасность видеть вблизи, более — нужно на себе ее пережить, нужно быть из-за нее на краю гибели для того, чтобы понять, что это нешуточное дело»1, говорит он по поводу теологического инстинкта о том, что с ним делала нравственность.
В чем же была эта опасность, от которой чуть не погиб Ницше? Как всегда,— наиболее важное и значительное в жизни писателя событие остается для нас тайной. В пояснение приведенной выше цитаты мы можем лишь выписать другие отрывки из его произведений; но и в них мы найдем лишь признания общего характера. Конкретный, действительный факт, по всей вероятности, никогда не будет назван своим настоящим именем. Какое «innere Besudelung» кроется под всеми признаниями Ницше? Он много ужасного, как помнит читатель, рассказывает о психологии великих людей — но все тоже в относительно общих словах. Как ни трудны такие признания даже тогда, когда их делают в непрямой форме,— но их все же легче вырвать из себя, чем рассказать о действительных своих переживаниях.
Ницше спрашивает: «В чем твоя величайшая опасность» и отвечает: «В сострадании». Рядом с этим другой вопрос: «В чем проявляется высшая гуманность?» Ответ: «Jemandem Scham ersparen»2. Очевидно, сострадание и стыд погубили его. Впоследствии, когда он вспоминал, что делали с ним сострадание и стыд, эти исполнительные агенты нравственности, воплощающие собою внутреннее принуждение, его охватывал мистический ужас и то отвращение к морали, в pendant к которому может быть приведено только отчаяние самых страшных преступников при воспоминании о совершенных ими злодействах. Я говорю «самых страшных», т. е. таких, для которых нет и не может быть спасения, которые знают, что они навеки погубили свою душу, что они преданы навсегда во власть сатаны, говоря языком Макбета,— ибо обыкновенные укоры совести даже у глубоких и сильных людей не могут пойти в сравнение с переживаниями Ницше. Мы знаем исповедь гр. Толстого, мы понимаем, из какого настроения самопрезрения родилась «Крейцерова соната». Но это все еще не то. Гр. Толстой находил под мужицкой одеждой и за работой в поле не только успокоение, но и отраду — хотя бы лишь и на время. У Ницше же под каждой строчкой его сочинений бьется измученная и истерзанная душа, которая знает, что нет и не может быть для нее милосердия на земле. И ее «вина» лишь в том, что сострадание и стыд имели слишком большую власть над ней, что она
1 T. VIII, с. 223.
2 N. W. T. V, с. 205.
294
видела в нравственности — Бога и поверила в этого Бога, наперекор всем основным инстинктам своим...
Гр. Толстой теперь говорит, что «добро — есть Бог!» Его прошлая жизнь, его личный опыт были таковы, что проверить возвещаемый принцип он не мог. Хотя он и искал добра всю свою жизнь, но, как помнит читатель, он всегда умел укладывать это добро на прокрустово ложе собственных нужд. Смотря по обстоятельствам, он то его вытягивал, то обрезывал, т. ч. оно не смело отказать в своем благословении Левину даже тогда, когда он, забыв и сострадание, и стыд, которые когда-то мучили его, принял настолько скромный и благообразный вид, что мог свободно фигурировать на страницах «Русского Вестника». У Ницше этого не было. Со всей наивной беспечностью и горячей верой немецкого идеалиста он и душу, и тело свое отдал своей святыне. И тем не менее, укоры совести преследовали его со всей той силой, о которой повествует Шекспир в «Макбете». И не за то, что он не послушался добра, а за то, что он честно и верно — пред другими и пред самим собой — исполнял свой «долг». Если «внутренний голос» является решительным судьей прошлой жизни человека, если «душевные муки раскаяния» служат показателем в вопросах добра и зла, как утверждали до сих пор философы и психологи, если приговор «категорического императива» не имеет над собой высшей инстанции,— то история Ницше проливает совершенно новый свет на наши представления о морали. Все те настроения, которыми до сих пор поддерживались суверенные права нравственности, которыми можно было грозить беспокойным ослушникам категорического императива, оказались безличными, двуличными слугами, одинаково ревностно исполняющими свои инквизиторские обязанности независимо от того, исходит ли приказ от оскорбленного добра или пренебреженного зла. Более того, повторим это, у гр. Толстого нет такого ужаса пред своей греховностью в прошлом, как у Ницше при воспоминании о его праведной жизни. Пренебреженное «добро» простило гр. Толстого, когда он раскаялся и стал свидетельствовать против своего прошлого; но зло не помиловало Ницше, хотя он отрекся от своей праведности и прославлял грех в таких страстных гимнах, какие и на долю добра, так избалованного в этом отношении, не часто выпадали. До самых последних минут жизни Ницше во всем, что он писал, чувствуется такое глубокое, такое безысходное отчаяние от сознания, что нельзя смыть с себя позор прошлой добродетельности, от которого бросает в дрожь всякого человека, догадавшегося, какие переживания таятся под блестящими речами несчастного писателя.
Правда, Ницше нигде почти прямо и открыто не рассказывает о своем прошлом: такое прошлое не рассказывается. Нао-
295
борот, он всеми силами старается скрыть свои переживания, и ничего не льстит больше его измученной душе, чем надежда остаться неразгаданным. Когда Брандес назвал его учение «аристократическим радикализмом», т. е. применил к Ницше два пошлых или опошленных слова (у датского критика непочатый угол таких слов), даже с внешней стороны не характеризующих философии Ницше, этот последний был в восторге и утверждал, что это самое умное, что он слышал о себе. Вернее, в словах Брандеса Ницше видел лишь доказательство, что его цель достигнута, что люди настолько ослеплены его литературой, что не думают о нем самом. А это именно ему и нужно было. Он всего более боялся быть разгаданным и потому придавал своим признаниям такую форму, будто они никакого отношения к нему не имели. Брандес, сам всегда пишущий о том, что к нему никакого отношения не имеет, спокойно поверил, что «аристократический радикализм» — это все, что можно найти у Ницше. Как мало такие слова объясняют Ницше или вернее, как далеко они уводят от Ницше, может пояснить следующий отрывок из одного его афоризма: «Бывают «веселые люди», которые пользуются веселостью, как средством, ибо, благодаря ей, они надеются остаться непонятыми: они хотят быть непонятыми. Бывают ученые люди, которые прикрываются наукой — ибо наука придает веселый вид, и затем, ученость наводит на мысль, что человек поверхностен: они хотят привести к ошибочному заключению. Бывают смелые libres esprits, которым бы хотелось скрыть от людей свои разбитые, гордые, неизлечимые сердца (цинизм Гамлета, случай Галлиани),— иногда даже глупость служит маской для несчастного, слишком несомненного знания (unseliges allzugewisses Wissen)... Из всего этого следует, что гуманность требует, чтоб люди относились с уважением к маске и не проявляли неуместную психологическую проницательность и любопытство»1. В другом месте Ницше замечает: «Разве книги не затем пишутся, чтоб скрыть то, что таишь в себе»2. Но если «маска» многое скрывает, то часто она еще более выдает. Общая история Ницше все-таки сказывается в его сочинениях, и его «обоснования морали» так или иначе выясняются пред внимательным читателем. Само собою разумеется, что здесь не может быть и речи о логическом или историческом обосновании. И в этом-то вся оригинальность и весь интерес философии Ницше, в этом — его право на наше исключительное внимание. Если бы он коснулся своей «проблемы морали» лишь щупальцами холодного
1 N. W. VII, 259.
2 Ib. с. 268.
296
разума — как бы они чувствительны ни были — иными словами, если бы он лишь отыскивал для нравственности место в той или иной философской системе — он, наверное, не пришел бы ни к каким новым результатам. Он сохранил бы неизбежный категорический императив, которым явления нравственной жизни отделяются от других явлений нашей психики и, смотря по тому, какая школа пришлась бы ему по вкусу, говорил бы либо о непосредственной интуиции, либо о «естественном» происхождении моральных представлений. Из этого заколдованного круга логических построений нет возможности выбраться посредством логических же рассуждений. До тех пор, пока совесть предполагается стоящей исключительно на страже «добра» — а все доселе существовавшие системы нравственности обязательно основывались на этом предположении, и Канту только принадлежит термин «категорический императив» — до тех пор точка зрения Ницше была решительно невозможна. Если только «добро» охраняется угрызениями совести, то, очевидно, оно должно быть выделено в особую категорию, хотя бы тысячу раз было доказано «естественное» происхождение нравственных представлений. Исследования английских философов и психологов служат наилучшей иллюстрацией этого. Если нравственность — только переряженная польза, если она — только выражение общественных отношений, то, очевидно, у нее должны быть отняты все ее святые атрибуты, и ее нужно поставить в уровень с чисто полицейскими распоряжениями (тоже очень полезными, даже необходимыми), охраняющими порядок и безопасность людей. Но вера в святость нравственности была так глубока, убеждение в том, что «чистая совесть» — самое драгоценное сокровище в мире, последняя и самая прочная опора человека,— настолько срослось с обычными представлениями людей, что английским мыслителям не могло даже и на минуту прийти в голову подозрение, что объясненная нравственность может лишиться того престижа, который имела нравственность необъясненная. Они были вполне убеждены, что никакие теории не могут разрушить обаяния святости морали — и именно потому так безбоязненно называли пользу прародителем нравственности. Их исследования вовсе не имели своей задачей проверить закономерность притязаний нравственных людей на исключительные привилегии душевного спокойствия, всеобщего уважения и т. д. Это значило бы восстать на самих себя — чего добровольно никто не делает. Если и писались книжки, то исключительно с научной, т. е. невинной целью, из беспечной любознательности, заранее уверенной, что серьезных жертв от нее не потребуется. Вопрос шел только о торжестве постороннего, чисто внешнего философского принципа, непосредственной связи с личной судьбой
297
философа не имевшего. Есть ли нравственность потомок пользы или дитя интуиции — все равно она оставалась в одинаковом почете, и результат исследования никоим образом не мог передвинуть самого философа из разряда добрых в разряд злых, уготовить ему макбетовские терзания. Милль или Спенсер даже для формы не ставили такого вопроса: точно ли им полагается быть спокойными, а преступникам — угрызаться? Такой вопрос они сочли бы «безнравственным»: это значило бы сомневаться в том, что выше — добро или зло. А в этом они не только не сомневались, но даже не знали, что в этом можно сомневаться, что кто-нибудь когда-нибудь усомнится в этом. Они говорили лишь о том, почему добро выше зла, и то не затем, чтобы уверить себя в своей правоте, а лишь в силу привычки всюду приставлять это «почему», где только его можно как-нибудь приладить. Но за всем тем они были глубоко уверены, что святые прерогативы нравственности останутся сохраненными, к таким бы результатам ни привели их исследования, и что макбетовские истории останутся навсегда для Макбетов и их, философов, никоим образом коснуться не могут. Поэтому Ницше был совершенно прав, утверждая, что он первый возбудил вопрос о нравственности. Он говорит: «Во всей доныне существовавшей науке о морали недоставало — как странно ни звучит это — самой проблемы нравственности, не существовало даже и подозрения, что здесь есть что-либо проблематическое. То, что философы называли обоснованием морали и чего они требовали от себя, было только, в сущности, ученой формой доброй веры в господствующую мораль, т. е. одним из фактов в пределах этой же морали, иначе говоря, в конце концов, просто отрицанием того, что мораль может быть представлена в виде проблемы»1. И,— что самое важное,— своеобразное отношение Ницше к нравственности не явилось результатом отвлеченных рассуждений. Вопрос о значении нравственности разрешился не в голове Ницше и не путем умозаключений — а в глубоких тайниках его души и через мучительнейшие переживания. И на этот раз, как всегда почти,— чтоб явилась новая истина, потребовалась новая Голгофа. Понять и оценить значение нравственности мог лишь тот, кто всего себя принес ей в жертву. Ницше исполнил все ее требования, во всем подчинился ей, заглушил в себе все протесты против нее, сделал ее своим Богом. И, как истинно верующий человек, он не только в поступках своих, но даже в мыслях не изменял своей святыне, не разрешал себе никаких сомнений в ее божественном происхожде-
1 N. W. T. VII, 114.
298
нии. Он во всей полноте проверил на себе выдвигаемую теперь гр. Толстым формулу — «добро есть Бог», т. е. ничего, кроме добра, не нужно искать в жизни. Страшным откликом на эту веру его юных дней являются слова Заратустры: «Замолчанные истины становятся ядовитыми». Только тот, кто, как Ницше, всего себя отдал одной истине и замолчал все другие — может говорить о ядовитых истинах. Для других людей истина — только более или менее удачная и остроумная гипотеза. Вера в суверенные, божественные права морали отравила душу Ницше, и этот яд жег его до последней минуты сознательной жизни. Философия его — не дерзновенная игра испытанного ума, ищущего смутить спокойствие ближних насмешливым сомнением в святости их идеалов. Уже самый тон его сочинений, столь глубоко серьезный и страстный, исключает такое предположение. Правда, он иногда пытается изобразить из себя человека, играющего святынями. Но это все — напускное. Это — zur Schau getragene Tapferkeit des Geschmaks, которую люди, как он говорит, напускают на себя, чтобы казаться поверхностными и скрыть свои настроения. Под этим кроется «страшная уверенность человека, который много страдал,— что в силу его страданий ему дано больше знать, чем знают самые ученые и самые мудрые»*. И что он знал? В чем его тайна? Она, действительно, ужасна, и ее можно передать в немногих словах: «Мучения Макбета уготовлены не только для тех, кто служил злу, но и для тех, кто служил добру». Ницше первый сказал это. А «первенцы приносятся в жертву» — die Erstlinge werden geopfert. Заратустра испытал это на себе.
XIII
И здесь, по поводу нравственности, можно сказать то же, что Ницше говорил по поводу религии. Огромное большинство людей и не подозревает, что с нравственностью можно соединить так много надежд и упований. Те, которые условиями и событиями своей жизни не придвигались слишком близко к этим «последним» вопросам нашего существования, быть может, и не поймут вовсе, о чем хлопочет Ницше. Им покажется, что здесь идет речь о простой любознательности, да к тому же еще такой, которая вполне удовлетворена быть не может, так
1 т. VII, с. 258.
299
как, сколько ни бейся, ничего определенного все равно здесь не узнаешь и дальше более или менее остроумных и вероятных догадок не пойдешь. Та страстность, с которой Ницше набрасывается на эти и смежные им вопросы, удивляет многих, решительно не могущих догадаться, из-за чего весь этот шум. «Мы не знаем ничего верного о Боге и нравственности — и никогда не узнаем. Стоит ли из-за этого волноваться и отравлять себе и другим жизнь?» — рассуждают они.
Несомненно — не стоит тому, кто так думает, и лучшее, что он может сделать, это остаться в стороне от чуждых ему споров, ненужной ему философии и непонятной поэзии. В этом ответ на основное положение гр. Толстого о популяризации науки и искусства. Заинтересовать всех тем, о чем размышляют Толстые и Ницше, не только невозможно, но и не нужно. Более того, не нужно даже, чтобы существовало убеждение, что способность исключительно отдаваться высшим вопросам науки и искусства выгодно отличает человека. Этим предрассудком, к сожалению, столь же распространенным, сколько и ложным, создается множество людей, против своего желания предающихся ненужным им занятиям, читающих скучных для них философов и поэтов и рассуждающих о предметах, до которых им нет дела. Они этим отдают дань общественному мнению, столь возносящему чисто «духовные» интересы. Но ценность этой дани далеко не одинакова для платящих и собирающих ее. Невольники философии тратят даром время и труд, а общество ничего не приобретает, кроме пустословящих людей. И, главное,— эти люди могли бы делать другое дело, очень полезное и хорошее, лучшее, быть может, чем настоящие философские занятия, и только в силу предрассудка убивают время на разговоры, ни им, ни кому другому не нужные. Поэтому, менее всего следует заботиться о том, чтоб сделать науку и искусство доступными «всем». «Всем» нужно одно, «некоторым» другое. И не поэтому, повторяю, что «некоторые» лучше, выше «всех»; быть может — «все» лучше «некоторых». Этот вопрос и ставить не следует, а тем менее,— разрешать его. Но несомненно, что до настоящего времени о такой философии и такой поэзии, которая была бы равно нужна всем, и речи быть не может. Заставить, например, Ницше, как того требует гр. Толстой, писать сказки для детей или для народа на тему «черный хлебушка — калачу дедушка», в то время, когда в течение многих лет макбетовские видения смущают его ночной покой, точно он сам «зарезал сон» — еще менее законно и справедливо, чем заставлять детей читать «Also sprach Zarathustra». Если Ницше говорит о Боге, нравственности, науке — и говорит то, что он знал и чувствовал и чего знать и чувствовать другим нельзя и не нужно, если его поэзия недоступна, кажется даже бессмыс-
300
ленной многим людям, не пытавшимся «подавать руку привидениям», которые к ним никогда и не приходили — то это ли основания к тому, чтобы заставлять Ницше молчать посредством введения в новую поэтику правила об обязательной доступности поэтических произведений всем людям? Очевидно, наоборот. Для этого большинства, остающегося до старости юным, нужна особая поэзия, особая философия — и у него есть свои философы и свои поэты. Но его нуждами измерять ценность всех произведений человеческого духа, как хочет сделать гр. Толстой, несправедливо, глубоко несправедливо по отношению к тем людям, которые более всего нуждаются в утешении философии и поэзии, и — затем — повторяю, бесполезно: замолчать Ницше толстовская поэтика, конечно, не заставит.
Ницше это, конечно, знает: «Ибо люди не равны: так говорит справедливость. И чего хочу я, того не должны хотеть они». Правда, из этого впоследствии выросла проповедь Ницше, его Übermensch, аристократическое учение и все прочее в этом роде, так же мало связанное с действительными нуждами его души, как и толстовское «добро» с переживаниями философа Ясной Поляны. Оба они — и гр. Толстой, и Ницше, как проповедники, предлагают нам учение, которое только закрывает от нас их миросозерцание. Тот, кто вздумал бы служить «добру» по программе гр. Толстого, был бы так же чужд своему учителю, как мало был бы похож на Ницше человек, приносящий себя в жертву Übermensch’y — хотя этим он осуществил бы выраженное Заратустрой требование.
Мы уже видели, как далек гр. Толстой от ляпинцев, оскорбляемых хористов и эксплуатируемого народа, именем которого он требует от нас покорности своему добру. Мы увидим дальше, насколько чужд Ницше его идеал сверхчеловека, который у него играет роль толстовского добра, ибо он им так же импонирует и его именем так же давит и уничтожает людей, как гр. Толстой своим «добром». У Ницше встречаются буквально такие слова: «Эта природа, которая дала быку рога, льву Χασμ’ οδονων, зачем она мне дала ноги? Чтоб давить, клянусь св. Анакреоном, а не затем, чтоб бежать»1. Проповедник без этого обойтись не может, даже если он имморалист, стоящий по ту сторону добра и зла. Но это все — видимость, внешность — для других. Тем больший интерес, однако, представляют для нас действительные переживания Ницше, его истинные «почему», которые, несмотря на всю его осторожность, вполне ясно сквозят в его сочинениях.
1 T. VII, с. 478.
301
«Люди неравны — и того, что я желаю, не должны желать они». Это вне всякого сомнения. Более того — эти «они» не смеют желать себе того, что пережил Ницше. Может быть — кто ответит на этот вопрос? — сам Ницше, несмотря на то, что он вполне сознавал связь своей философии со своим несчастием, отказался бы от всего «познавания», лишь бы не видеть тех снов и загадок, которые и для нас, лишь с его слов знающих о них, кажутся столь ужасными. Ницше был тысячу раз прав, когда утверждал, что часто те книги, которые ободряющим и укрепляющим образом действуют на одних людей, опасны и вредны для других1. Его собственные сочинения являются лучшим тому доказательством — в особенности так распространенные предрассудки об его учении. Воображают, будто бы он учил, что «наслаждение» — высшая цель нашей жизни, и что на этом основании он отрицал добро. Мнение, что О. Уайльд оправдывается и чуть ли не возводится в идеал философией Ницше, вы услышите повсюду. Более того, разного рода люди, которых соблазняют уайльдовские забавы, теперь считают возможным предаваться своим занятиям с убеждением, что они — предтечи Übermensch’a и, следовательно, лучшие работники на поле человеческого прогресса. Ницше предчувствовал возможность такого искажения его учения и говорил: «Мне нужно обвести оградой свои слова и свое учение, чтобы в них не ворвались свиньи»2. Но «свиньи» проникают повсюду, ибо им и через ограду перебираться не нужно. Они прослышали, что кто-то, очень знаменитый, почему-то восстал против нравственности и вообразили себе, что это он поднялся на защиту их дела. Правда — для них, в сущности, ссылки на Ницше и его теории самая последняя забота: с ним ли, без него ли, все равно — они жили бы по-своему. Но, тем не менее, очевидно, что для огромного большинства людей книги Ницше не нужны, даже вредны, так, что приходится только жалеть, что журналы и газеты так хлопочут ознакомить большую публику, «в общих чертах», т. е. в доступном, иначе говоря, в совершенно искаженном виде, с физиономией нового философа. Все почти, о чем писал Ницше, слищком далеко от обычных предметов человеческих размышлений и от переживаний большинства людей, и поверхностное знакомство с его сочинениями ничего, кроме ложных и неправильных суждений о нем, дать не может. В особенности та часть учения его, которая касается Бога и добра. Для большинства людей она представляется обычным фрондированием против посещения церкви и исполнения не-
1 ib. с. 50.
2 A. S. Z. Von den drei Bösen.
302
которых тягостных обязанностей долга. По-видимому, уже одна страстность тона Ницше должна была исключить возможность такого толкования его теории. Ибо современность давно уже, до Ницше, научила даже такого слабого мыслителя, как толстовский Стива, не очень-то блюсти религиозные обряды и правила нравственности. «Vous professez d’être un libre penseur», — сказал ему недаром Каренин. И, быть может, лучшим доказательством того, как напрасно винит гр. Толстой Ницше за грехи нашего общества, служит всеми разделяемое мнение, что Ницше тоже только libre penseur, отвоевывающий себе «свободу наслаждений». Обыкновенные libres penseurs не выдержали бы и дня ницшевских испытаний, того, что он называл своим «счастьем». В его положении они какого хотите идола приняли бы за Бога, самое нелепое правило приняли бы как долг, лишь бы хоть чем-нибудь оправдать свое существование. И, конечно, менее всего бы нападали на добро, которое, как известно, так часто наполняет жизнь неудачников судьбы. И наверное, не отвергли бы сострадания, столь необходимого страждущим людям.
У Ницше же получилось совершенно иное. Слишком проницательный и честный по натуре своей, чтоб обманывать себя и других,—он, в конце концов, принужден был остаться лицом к лицу со всеми ужасами своего существования. Ни наука, ни религия, ни добро — ничего ему не могли дать. И, скажем опять то же, что мы говорили о гр. Толстом: Ницше восстал против добра не потому, что он был суровый, черствый, холодный, недоступный жалости человек. Это — неправда. Он не уступил бы в гуманности Тургеневу, Диккенсу или Виктору Гюго. Его сердце знало сострадание — и как знало! Он говорит: «Кто может достигнуть чего-нибудь великого, если он не чувствует в себе силу и готовность причинять великие страдания? Уметь терпеть — самое последнее дело; в этом слабые женщины и даже рабы часто достигают виртуозности. Но не погибнуть от тоски и сомнений, когда приходится причинять другим великое страдание и слышать вопль его — это велико, в этом проявляется величие»1. Как видит читатель, Ницше, обратно существующему мнению, в своем учении повиновался не непосредственному чувству мстительности, злобы или мелкого эгоизма. Все эти стимулы были ему в такой же мере чужды, как и гр. Толстому. И он преследовал великодушные задачи спасения и обновления человека посредством слова убеждения. Если же он ушел от этого, если он отказался учить людей любви и состраданию, то лишь потому, что понял своим тяже-
1 T. V, с. 246.
303
лым опытом, что любовь и сострадание ничего принести не могут, и что задача философа в ином: не пропагандировать любовь к ближнему и сострадание, а справиться с этими чувствами, ответить на вопросы, которые они задают. «Горе тем любящим, у которых нет ничего выше сострадания»1,— восклицает Заратустра — ив этом разгадка того, что называют «жестокостью» Ницше. Ницше обращается к людям, подобным самому себе, для которых сострадание — уже не добродетель, не идеал, которые, говоря его словами, уже «перешли за этот идеал, потому что достигли его». Он обращается к людям, которые уже не могут удовлетвориться тем, что они добродетельны, ибо умеют сострадать ближнему. Наоборот, такие люди, еще настолько наивные в вопросах добра и зла, противны ему: «Поистине я не выношу этих сострадательных людей, блаженных в своем сострадании: слишком недостает им стыда; если я должен жалеть людей — то я не хочу называться сострадательным; если я должен жалеть их — то издалека»2. «Я даже не говорю,— поясняет он,— что добродетель — награда самой себе». Наоборот, он «задыхается от сострадания» и для него блаженства от сознания этой своей добродетели быть не может. «Сострадание называется добродетелью у всех маленьких людей: они не умеют уважать великое несчастье, великое безобразие, великую неудачу»3. Ницше слишком хорошо знал, как мало можно сделать в этих случаях теми средствами, которыми обыкновенно располагает сострадание, даже не ограничивающееся платоническими вздохами и красивыми фразами над несчастием ближнего. Поэтому он говорит: «Ты первый предостерегал против сострадания — не ко всем и не к каждому, а к тебе и тебе подобным»4. Нужны ли после этого еще новые цитаты, чтоб оградить философию Ницше от обычных приемов ее истолкования? Очевидно, он искал того же, чего искал гр. Толстой. Ему нужно было найти нечто, что выше сострадания, и, если гр. Толстой во имя этого «нечто» принуждал себя, к ужасу всех «нравственных» людей, спокойно глядеть на несчастье Анны Карениной, на агонию Ивана Ильича и т. д., и все время внимательным, испытующим взглядом искать в их муках того, что разрешило бы подсказываемые чувством сострадания вопросы, то и Ницше в своей философии добивался того же. И его Заратустра ищет прежде всего понять мир, найти осмысленность земных ужасов — «великого несча-
1 A. S. Ζ. Von den Mitleidigen.
2 Ib. Von den Mitleidigen.
3 Ib. Der hässlichste Mensch.
4 Ib. Der hässlichste Mensch.
304
стья, великого безобразия, великой неудачи». «Будьте тверды»,— говорит он своим ученикам, чтоб уметь вынести страшный вид жизни, уничтожающий всякого сострадательного человека. Любовь,— даже та беззаветная и глубокая любовь, на которую способны женщины, когда дело идет о судьбе близкого их сердцу человека, бессильна пред «великим несчастием». Ницше знал это: «Какое мучение эти великие художники, вообще великие люди для того, кто однажды разгадал их! Это так понятно, что они встречают именно у женщин — женщины ясновидящи в мире страданий и, к сожалению, сверх сил своих любят спасать и помогать,— те порывы беспредельного и преданного сочувствия, которого толпа, особенно поклоняющаяся толпа, не понимает и подвергает любопытствующему и самодовольному истолкованию. Это сострадание обыкновенно ошибается в своих силах: женщине хочется думать, что любовь все может — это ее специфический предрассудок. Увы! Знаток человеческого сердца угадывает, как бедна, беспомощна, притязательна, неуместна даже лучшая, самая глубокая любовь: она скорее добивает, чем спасает»1. Это проливает свет на «имморализм» Ницше. Если любовь, самая лучшая, самая глубокая — не спасает, а добивает; если сострадание беспомощно, бессильно — то что делать человеку, который не может не любить, не сострадать? Где найти то, что выше сострадания, выше любви к ближнему? Гр. Толстой на это отвечает, что такое «выше» никому будто бы, в том числе и ему самому, не нужно. Кто хочет, может, разумеется, верить, что гр. Толстой говорит так не для учеников своих, а для себя, что он не знал сомнений Ницше, что формула — «добро — братская любовь — Бог» удовлетворила его вполне. Но Ницше, очевидно, этого думать не мог, ибо это значило бы отнять у Бога его святые атрибуты — всемогущества, всеведения и т. д. и возвести в божество бедное и слабое человеческое чувство, умеющее там помогать, где и без его помощи можно обойтись, и пасующее в тех случаях, когда помощь особенно настоятельно нужна. Ницше в своем несчастии принужден был отвергнуть участие и заботы людей и уйти в уединение, чтобы там ожидать своего Заратустру, который объяснил ему, что в мире есть, должно быть нечто высшее, чем сострадание, и что «добро» хорошо и нужно для «всех», но для некоторых ненужно, что сострадание утешает «многих», но «немногих» только оскорбляет, особенно в тех случаях, когда оно является как дань нравственности и как отыскание «блаженства». — Очевидно, что он уже вправе был считать себя стоящим «по ту сторону добра и зла», незави-
1 N. W. T. VII, с. 257.
305
симо от того, насколько вообще представления о добре и зле нужны и полезны людям для целей общежития. Утилитарные соображения его не занимали, да и, вообще говоря, они в вопросах нравственности не могут не занимать подчиненное положение, пока она претендует на высшее, исключительное значение среди поставляемых себе человеком целей. Полезно или вредно нравственное правило, сохраняет ли оно прочность общественного организма или разрушает его — все это в нравственную философию Ницше почти не входит и не должно входить. Он, как и гр. Толстой, подошел к нравственности в надежде, что она — всемогуща, что она заменит ему Бога, что от такой замены человечество только выиграет — разве мог он удовольствоваться тем, что нравственность приносит некоторую пользу, обеспечивая обществу без затрат, сопряженных с устройством суда и полиции, порядок и безопасность, что нравственность — полиция и суд, ловким образом внедренные в человеческие души, что нравственность принуждает нас даже там, где юридические нормы не смеют возвысить свой голос? До этого Ницше так же мало было дела, как и до всех общественных учреждений, существующих в мире. Он искал в нравственности божественных следов и не нашел. Она там оказалась бессильной, где все люди вправе были ожидать от нее наибольшего проявления силы.
XIV
И вот тогда-то пришла к Ницше та безумная на первый взгляд мысль, которую когда-то с таким ужасом отверг в своем знаменитом стихотворении Гейне, что Бог не за добро и за добрых, а за зло и за злых, что жизнь, сила жизни не в тех идеалах, которые он всосал с молоком матери и из-за которых он погубил себя,— а в противоположных, что «правда» не у него, не за него, как он думал прежде, а в лагере его врагов, которых он, как теперь гр. Толстой, уничтожал когда-то словами «безнравственный», «порочный», «дурной». Как описать трагическое положение человека, дошедшего до того ужасного сознания, что дело, которому он отдал всю свою жизнь, не есть дело правды, дело — Бога, дело «добра» в толстовском смысле, а есть дело зла, разрушения, неправды, и что его последнее утешение — вера в свою нравственную правоту — отнято! Гр. Толстой и толстовцы не заговорят, конечно, теперь о злой воле. Им очевидно будет, что не человек выбирает себе идеи, а идея овладевает человеком фатально, против его воли, с непреодолимой, чисто стихийной силой. Так было до сих пор, так будет
306
всегда у людей, собственным опытом вырабатывающих свое миросозерцание. Они говорят то, чего не говорить не могут. «Кто борется с чудовищами, тому следует беречься, чтоб и самому не обратиться в чудовище. И если ты долго вглядываешься в пропасть, то пропасть также вглядывается и в тебя»1,— говорит Ницше. Можно ли от такого писателя ожидать всем доступных привычно-утешительных слов, которых требует поэтика гр. Толстого? Или «идеалов», как выражается проф. Риль? Ницше ищет другого, ибо знает, что «слова» и «идеалы» не защищают человека от действительности. Он говорит: «Amor fati: пусть это будет отныне моей любовью. Я не хочу воевать с безобразием. Я не хочу обвинять, не хочу даже обвинять обвинителей. Не видеть — в этом пусть будет все мое отрицание»2. В дневнике 1888 года эта мысль выражена еще резче. «Моя формула человеческого величия заключается в словах amor fati: не желать изменять ни одного факта в прошедшем, в будущем, вечно; не только выносить необходимость — еще менее скрывать ее: всякий идеализм есть ложь перед лицом необходимости — но любить ее». Эти слова объясняют читателю отношение Ницше к злу. Он не хочет, не может жаловаться на действительность,— «разве всякая жалоба не есть обвинение?» — говорит Заратустра. Отсюда вытекает то «преклонение» его пред злом, которым так пугают публику, но которое, в сущности, в гораздо большей мере разделяется всеми людьми, чем это обыкновенно думают.
Ницше дал только полное выражение тем настроениям, в силу которых гр. Толстой отвернулся от ляпинцев, чтоб не «воевать с безобразием», которое он не мог уничтожить. Но Ницше нужно было большее — он хотел, должен был любить всю эту отвратительную действительность, ибо она была в нем самом и спрятаться от нее не было куда. Amor fati — не выдуман им, как и вся его философия, к которой он был приведен железной силой этого fatum’a. И потому тот, кто вздумал бы опровергать Ницше, прежде должен был бы опровергнуть жизнь, из которой он почерпал свою философию.
Ницше говорит: «Ты не должен убивать! Ты не должен грабить!., такие слова назывались когда-то святыми; пред ними преклоняли колена и головы, к ним подходили разувшись... Но разве в самой жизни нет грабежа и убийства? И считать эти слова святыми разве не значит убить истину?»3. Это тот же amor fati. В жизни есть зло — стало быть нельзя его отрицать,
1 т. VII, с. 105.
2 T. V, с. 209.
3 A. S. Z. Von alten und neuen Tafeln.
307
проклинать; отрицание и проклятия бессильны. Самое страстное негодующее слово не может и мухи убить. Нужно выбирать между ролью «нравственного» обличителя, имеющего против себя весь мир, всю жизнь, и любовью к судьбе, к необходимости, т. е. к жизни, какой она является на самом деле, какой она была от века, какой она будет всегда. И Ницше не может колебаться. Он оставляет бессильные мечтания, чтобы перейти на сторону своего прежнего врага — жизни, права которой он чувствует законными. Немощная добродетель, добродетель, гордящаяся своими лохмотьями, становится ему противна, ибо он слишком хорошо видит, с какой завистливой жадностью глядит она на силу, которую победить она не может — и потому постоянно бранит. «Нам смешны претензии человека, — говорит он,— отыскать ценности, которые превосходили бы ценность реального мира»1. Самое противоставление человека миру кажется ему бессмысленным. Эти два слова «человек и мир», отделенные безмерной дерзостью маленького словечка «и», представляются ему стоящими вне сравнения. Мир — сам по себе, человек — сам по себе, как случайно выброшенная на поверхность океана щепка. Мечтать о том, что океан или кто-нибудь еще более могучий, чем океан, станет думать о судьбе этой щепки нелепо. Нет такой высшей силы, нет связи между движением вод океана и нуждами этой щепки. И если сама природа так мало заботится о том, чтоб охранить от гибели и крушения свои творения, если смерть, разрушение, уничтожение оказываются безразличными явлениями в массе других безразличных явлений, если,— более того — сама природа пользуется для своих целей убийством и разрушением, то что нам дает право возводить в закон «добро», т. е. отрицание насилия? Гром убивает человека, болезни измучивают его, другие животные отнимают у него пищу — все это естественно, все это — в порядке вещей, все это — закон природы. И как неумолима, как беспощадна эта природа, Ницше, к сожалению, слишком хорошо знал из своего опыта. В то время, когда он, обессиленный, опозоренный, разбитый, с безумным ужасом глядел в свое неизвестное будущее, ни один добрый гений, ни один голос во всей вселенной не отозвался на его несчастье. И вдруг мы решаемся называть так систематически практикуемую природой жестокость противоестественной, незаконной, коль скоро она получает свое проявление в действиях человека. Грому — можно убивать, а человеку — нельзя. Засухе можно обрекать на голод огромный край, а человека мы называем безбожным, если он не подаст хлеба голодному! Должно
1 T. V, с. 279.
308
ли быть такое противоречие? Не является ли оно доказательством, что мы, поклоняясь противному природе закону, идем по ложному пути, и что в этом — тайна бессилия «добра», что добродетелям так и полагается ходить в лохмотьях, ибо они служат жалкому и бесполезному делу.
Для того, чтобы понять значение этих идей для Ницше, нужно, прежде всего, не забывать, какую роль они играли в его собственной судьбе. Хотя он и клянется св. Анакреоном, что ноги ему даны судьбой затем, чтоб топтать, но он был не топчущим, а растоптанным, не попирающим, а попранным. От «зла» он не мог ожидать себе никакой награды, и, проповедуя грех, он остался тем же «бескорыстным» теоретиком-идеалистом, каким был в молодые годы, когда он преклонялся пред добродетелью. Только впоследствии, под конец своей литературной деятельности, ему удалось сделать из своих взглядов «аристократическое» учение и говорить с таким видом, который внушил проф. Лихтенбергу зависть к его судьбе. Но, до конца, учение Ницше сильнее всего поражало его самого. Недаром он говорит о неуместности в известных случаях психологической проницательности, о боге — жертвенном животном и т. п. Чем больше страстности, кощунства, безбожия в его нападках на «добро», тем яснее для нас те внутренние основания, которые заставили его порвать со своим идеализмом. Настроения Ницше на старости лет были знакомы и Тургеневу. Кто не помнит его стихотворения в прозе «Насекомое»? Идеач лист всю жизнь свою боится открыть глаза на кружащееся над ним чудовище — и оно убивает его. Тургенева ницшевские переживания посетили только под старость. Главная его литературная деятельность была лишь выражением идеализма, который долгие годы успешно охранял его от ужаса и отвращения пред «насекомым». У Ницше же все произведения, кроме тех, которые помещены в первом томе, посвящены этой мрачной загадке жизни: идеализм или действительность? Это Ницше называет «заглянуть вглубь пессимизма». Очевидно, он должен был отказаться от идеализма и оправдать насекомое, т. е. действительную жизнь с ее ужасами, несчастьем, преступлениями, пороками. Он принужден был пожертвовать редкими островками «добра», которые выплывают на поверхности безбрежного моря зла: иначе пред ним раскрывались перспективы пессимизма, отрицания, нигилизма. Закон для человека должен исходить от природы и не может противоречить общим мировым законам. «Зло», то, что люди называют «злом» и что до сих пор представлялось нам самой страшной и мучительной загадкой ввиду его нелепого и бессмысленного противоречия с наиболее дорогими нашему сердцу упованиями, перестает быть для Ницше «злом». Более того, он в «зле» находит добро,
309
в «злых людях» — великую творческую силу. «Все то, что добрые зовут злом, должно собраться вместе для того, чтобы родилась истина: о братья мои, достаточно ли вы злы для такой истины? Отчаянное дерзновение, долгое недоверие, жестокое «нет», пресыщение,— как редко все это бывает вместе! Но из таких семян вырастает истина. Рядом со злой совестью всегда росло знание»1.
Таких речей вы найдете у Ницше множество. Его собственной натуре слишком чужд был элемент зла, и он почувствовал, как ужасен этот недостаток, как мало он искупается добродетельным послушанием категорическому императиву. На первый взгляд это — ужасное открытие. На самом же деле оно оправдывает сказанные Заратустрой своим ученикам глубоко знаменательные слова, которые мы уже приводили раз: «Вы еще не искали меня — и нашли меня; так делают все верующие: оттого всякая вера так мало значит. Теперь я велю вам потерять меня и найти себя. Когда вы отречетесь от меня — я вернусь к вам». Ницше, отрекшийся от наиболее дорогих нам идеалов, теперь только обрел их. Для того, кто не побоялся пройти вслед за ним весь его скептицизм отчаяния и сомнения, проливается свет на самые загадочные слова евангельской благовести: солнце одинаково всходит над грешниками и праведниками. Кого не смущали эти слова своей таинственной противоположностью со всеми чаяниями нашей человеческой души? По нашему разумению — так не должно быть. По-нашему, солнце не должно светить грешникам, злым. Им — тьма, свет же принадлежит праведникам. Если многие из нас и соглашались еще принимать буквальное толкование этих слов, если многие из нас и готовы были не отнимать материальных благ у «злых», то все без исключения признавали необходимым предавать злых нравственному осуждению, которое, в сущности, для людей, обязанных держаться христианской морали, есть самое большое наказание, самое ужасное несчастие, какое только может ожидать человека в жизни. Можно быть неудачником, больным, уродом и т. п., все это, конечно, несчастия и большие. Но оказаться «безнравственным» — это самое ужасное, что может приключиться с человеком. И, тем не менее, все считают возможным и необходимым относить к категории безнравственных людей огромное количество своих близких и не только не смущаются этим, но еще ставят себе в заслугу свою способность негодовать. Гр. Толстой не может и шагу ступить, чтобы не назвать безнравственными огромное количество своих ближних. Читатель помнит разговор Зарату-
1 A. S. Ζ. Von alten und neuen Tafeln.
310
стры с папой. Приведем еще слова Заратустры, из которых видно будет, до какой поразительной нравственной высоты — именно в евангельском смысле — доходит отрекшийся Ницше, и как мало можно доверять обычным легендам, связанным с именем этого писателя. «Найдите же мне любовь, которая не только все наказания, но и вину несет на себе; найдите мне справедливость, оправдывающую всех, кроме судей»1. Традиционная, приспособившаяся к среднему человеку нравственность оскорбляла Ницше своим высокомерным отношением к людям, своей готовностью клеймить всех, кто хоть притворно не отдает ей дани уважения. Ей приходилось чуть ли не весь мир, всех людей объявлять дурными, и она соглашалась на это, лишь бы не поступиться своими правами на первенство. Ницше ищет такой справедливости, которая бы не наказание, т. е. не материальные невзгоды несла на себе, а вину. Что, собственно, кроется под этими словами, если не комментарий к евангельской притче о фарисее и мытаре? Ибо всякий нравственно осуждающий, всякий слагающий вину на ближнего обязательно говорит про себя: «Благодарю тебя, Господи, что я не таков, как этот мытарь». А вот еще слова Заратустры по этому поводу: «Наслаждение и невинность — стыдливейшие вещи. Они не хотят, чтоб их искали. Их должно иметь,— но искать должно скорее вины и страдания»^. Это ли речи Антихриста? Имморалиста? Для того, кто внимательно изучал Ницше, не может быть сомнения, что его нападки направлены не на хри-у стианство, не на Евангелие, а на так распространенные повсю^/ ду общие места о христианском учении, которые от всех — и от самого Ницше — застилают смысл и свет правды. «Добро есть Бог»,— говорит гр. Толстой ученикам своим — лишь то, что все говорят, что говорит это самая культурная толпа (у Ницше «ученая чернь» — ив выражениях обоим писателям случается сходиться!), на которую он нападает. При этом вся жизнь обращается в «зло», и гр. Толстому нет до этого дела. Он и не спрашивает себя (вернее, не хочет, чтоб ученики его спрашивали), как же Бог не царит на земле, как миллионы людей живут вне Бога. Его утешает, что он взошел на верхнюю ступень нравственного развития! — У Ницше был другой опыт, другая жизнь, и потому пред ним вопрос об оценке добра восстал в иной форме. Он понял, что зло нужно так же, как и добро, больше, чем добро, что и то, и другое является необходимым условием человеческого существования и развития, и что солнце может равно всходить и над добрыми, и над злыми.
1 A. S. Ζ. Vom Biss der Natter.
2 A. S. Z. Von alten und neuen Tafeln.
311
Таковы смысл и значение ницшевской формулы «по ту сторону добра и зла». Сомнения не может быть: Ницше открылась великая истина, таившаяся под евангельскими словами, которые мы хоть и признавали, но никогда не осмеливались вносить в свое «философское» мировоззрение. И на этот раз, чтоб родилась новая истина, потребовалась новая Голгофа. Иначе, по-видимому, жизнь никогда не открывает своих тайн. Вот как рассказывает об этом Заратустра: «Я стою пред самой высокой горой, мне предстоит самое продолжительное странствование — оттого мне нужно глубже спуститься, нежели я когда-нибудь спускался, глубже в страдание, в его чернейшую бездну. Того хочет моя судьба. Ну что ж? Я готов». Такую школу прошел Ницше. И он оказался не только покорным, но и благодарным учеником: «Школа страдания, великого страдания,— говорит он,— знаете ли вы, что только в этой школе до сих пор совершенствовался человек? То напряжение души в беде, которое дает ей силы; ее ужас при мысли о неизбежной гибели; ее смелость и находчивость в искусстве выносить, претерпевать, истолковывать, утилизировать несчастье — все, что когда-либо было ей дано глубокого, таинственного, хитрого, великого: разве все это она получила не от страдания, великого страдания? В человеке соединены творение — и творец; в человеке есть материя, обломки, лишнее, глина, грязь, бессмыслица, хаос; но в человеке же есть также творец, художник, твердость молота, божественный созерцатель, счастье седьмого дня: понимаете ли вы эту противоположность? И понимаете ли вы, что ваше сострадание направлено на «творение в человеке», на то, что должно быть сформировано, разбито, выковано, разорвано, выяснено, переплавлено, очищено, на то, чему по необходимости следует — должно страдать? А наше сострадание — вы понимаете, к чему относится наше обратное сострадание, когда оно восстает против вашего, как против худшего из всех видов изнеженности, слабости?»1. Какая сила, сколько страсти, пафоса в этих словах! Ведь это в самом Ницше судьба такими способами формировала человека. Ведь это в его душе разбивали, разрывали, выжигали, выковывали, переплавляли все, что было в ней лишнего, бессмысленного, хаотического для того, чтобы в ней родился творец и художник, которого ждет божественное созерцание в седьмой день. Конечно, люди не поверят, не посмеют поверить тому, что рассказывает Ницше. Люди хотят презирать зло, люди больше всего боятся страдания. Иначе они не могут жить. Но, повторяю, быть может, и Ницше не принял бы своей философии
1 T. VII, с. 180.
312
прежде, чем выпил до дна горькую чашу, поднесенную ему судьбой. Его «имморализм» — есть итог глубоко трагической, безмерно несчастной жизни. Для того, чтобы свет этой звезды дошел до человека, нужно спуститься в «темную бездну страданий»: из этой глубины она будет видна. При обыкновенном же дневном освещении отдаленные светила — даже самые яркие — недоступны человеческому глазу.
XV
На этом кончается у Ницше философия, и начинается «проповедь». Начинается ограждение и возвеличение своей личности, разделение людей на высших и низших, достойных и недостойных — словом, то же, что было и до Ницше. Правда — слова иные. О добре не говорится. Его место занял Übermensch. Но роль Übermensch’a — не новая. Его именем Ницше говорит и делает то же, что Достоевский и гр. Толстой говорили и делали от имени добра. Нужно оправдать как-нибудь себя, нужно забыть прошлое, нужно спастись, избавиться от страшных вопросов, на которые нет настоящих ответов. И Ницше обращается к старому испытанному средству, которое уже столько раз исцеляло больные и измученные человеческие сердца — к проповеди. Ницше говорит: «В какую философию ниJ забрасывал я свои сети, всегда выносили они мне голову старого идола». Эти слова в известной степени применимы и к нему самому. И его Übermensch — лишь голова старого идола, только иначе раскрашенная. Вслед за Достоевским и гр. Толстым, так родственным ему по своим натурам, и Ницше не мог вынести страшного вида жизни, не мог примириться со своей судьбой. Что такое его аристократизм? В переводе на простой, хотя бы толстовский язык, имеющий такое большое преимущество ясности — это значит: «Я и еще немногие — очень великие люди; остальные — ничтожные пешки. Быть великим — самое главное, самое лучшее, что бывает в жизни. И это лучшее — у меня есть, а у других — нет. Главное — у других нет». Почему такое сознание утешает человека, почему ему легче, когда он думает, что может похвалиться пред другими своими преимуществами — кто разгадает эту тайну человеческой психики? Но факт остается фактом. Из-за этого Достоевский душил своего Раскольникова, из-за этого гр. Толстой был так беспощаден ко всей интеллигенции. Так мучительна, так глубока у людей потребность найти себе точку опоры, что они всем жертвуют, все забывают, лишь бы спастись от сомнений. А в проповеди, в возможности негодовать и возмущаться — лучший
313
исход, какой только можно придумать для бушующей в душе бури. Гр. Толстой даже марксистов назвал «безнравственными». Марксистов, которые из-за идеи, из-за того, что они считают «добром», бросают все и лучшие годы проводят за чтением «Капитала», сведением статистических таблиц и другими подобными занятиями, не обещающими им, как известно, ничего хорошего! Можно опровергать их, жалеть — все, что хотите; но очевидно, что только из-за «нравственности» у них весь сыр-бор загорелся, хотя они и противоставляют себя «субъективистам». Маркс и статистика — только новая форма. А сущность — старая: положить душу за идею, отречься, принести себя в жертву чему-нибудь, отказаться от своей воли ради торжества «высшего» принципа. Какой еще нужно нравственности? Но гр. Толстой никому не хочет, не может простить. Все они «безнравственны»! Иначе как забыть Ивана Ильича, распутных девок, ляпинцев, свое бессилие? Если не на кого излиться, не на кого напасть, то, в конце концов, останешься один, с глазу на глаз с проклятыми вопросами, на которые «Бог — добро» ничего ответить не может. Вся соблазнительность такой формулы лишь в том, что она дает возможность отделить себя от всех, найти врагов и бороться — хотя бы с бледными юношами, читающими Маркса, хотя бы с голодными Раскольниковыми, мечтающими об убийстве. Übermensch Ницше — имеет то же значение. Где остановилась философия, вследствие ограниченности человеческих сил — там начинается проповедь. Свое страдание, свой позор, свое несчастье, все, что пришлось ему вынести в жизни, Ницше, в конце концов, истолковывает в том смысле, что это дает ему право давить и уничтожать кого-то. «Страдание делает человека аристократом: оно отделяет его от других»,— говорит он с той бессознательной откровенностью, которая так часто поражает в нем наряду с систематическим стремлением укрыться под какой-нибудь «маской». И ведь сам знает он, как близки меж собой люди: «Я видел,— говорит Заратустра,— нагими самого великого и самого маленького человека. Слишком незначительна между ними разница!» И тем не менее «аристократизм» сохраняется. Этот «отделяющий от других аристократизм» внушает «пафос расстояния»,— тот пафос, который всегда служил единственным источником морального негодования. Я «высок» — все низки: есть почва для протеста, для борьбы, есть куда девать накопившееся чувство горечи и обиды. Если бы «аристократизм», «нравственное совершенство» (оба термина значат одно и то же, тождественны), были детьми самоудовлетворения, ясности и спокойствия духа, то та форма проповеди, которую приняли Достоевский, гр. Толстой и Ницше, была бы невозможна, не нужна. Только бессилие против роковой загад-
314
ки жизни порождает ту скрытую, глубоко затаенную ненависть, которой запечатлены произведения этих замечательных писателей. С судьбой ничего не поделаешь! Она равнодушна ко всем нашим проклятиям. Ее не проймешь! Так направим наше негодование на человека: он услышит. Нужно только уметь бить его и знать его больные места. Оттого проповедь, говоря языком Ницше, «так мало значит».
Я не хочу ставить это в упрек Достоевскому, Ницше и гр. Толстому. Если попытки справиться с «великим безобразием, великой неудачей, великим несчастием» настолько измучили их своей безуспешностью, что они принуждены были перестать допрашивать жизнь и искать забвения в проповеди, то в этом лишь доказательство высокой требовательности их натур. Они уже не могли больше жить без ответа на свои вопросы — и всякий ответ был лучше, чем ничего. Это — «поверхность, родившаяся из глубины», как говорит Ницше. Невозможно существовать, всегда неизменно глядя в глаза страшным призракам. Достоевский и гр. Толстой этого не скажут. Но Ницше, в конце концов, и в этом, как и во всем, признается. В афоризме — «чему нам следует учиться у художников», он, описывая приемы, посредством которых художники «украшают» в своих произведениях действительность — на самом деле далеко не прекрасную,— заключает: «Все это нам нужно перенять у художников, но быть умнее их. Ибо у них творческая способность кончается там, где кончается область их искусства и начинается жизнь; мы же хотим быть поэтами нашей жизни, в самых малых и повседневных проявлениях ее»1. Это постоянное и упорное сознание, что жизнь бедна прекрасным, эта мучительная способность видеть везде дурное, как бы оно ни скрывалось, и заставляет большинство людей искать такой точки зрения, которая бы открывала пред ними более утешительные перспективы. «Аристократизм» и «добро» — лишь средства украсить жизнь. При этом, правда, приходится обратить всех людей в «плебеев» или «грешников», в ничтожные или безнравственные, в мелкие или преступные существа. Но иного выхода нет. Мы помним, что сделал гр. Толстой в «Войне и мире», чтобы всех оправдать, чтоб найти такую философию, которая «не только наказание, но и вину берет на себя», которая, иначе говоря, никого не обвиняет и ищет объяснения жизни выше людей, над людьми. Но на этой высоте гр. Толстой не мог долго удержаться. Уже в «Анне Карениной» он изменяет себе. И чем дальше, тем больше он замыкается в тот нравственный аристократизм, который он называет «добром», но ко-
1 T. V, с. 228.
315
торый только по форме отличается от ницшевского Übermensch’а. У гр. Толстого проповедь довлеет самой себе. Не ради бедняков, голодных и униженных, призывает он к добру. Наоборот, все эти несчастные вспоминаются только ради добра. Это значит: «быть поэтом действительной жизни до самых незначительных и мелких проявлений ее».
Там, где было безобразие, ужасы, гадость, где была умирающая с голоду, два дня не евшая проститутка, которую никто не берет — гр. Толстой воздвигает знамя «добра», которое есть «любовь к ближнему», Бог. Там, где шла речь о скорейшей помощи и где эта помощь оказалась невозможной, т. е. там, где разыгралась ужаснейшая и возмутительнейшая жизненная трагедия,— у гр. Толстого возникла поэзия проповеди. У Ницше было то же. Он знал, что он — «бедное жертвенное животное», и украсил себя высокими добродетелями Übermensch’a, он чувствовал, что «пропал», что наступил «конец, совсем конец» — и говорил: «Если есть Бог, то как же вынесу я мысль, что этот Бог — не я». Так прятались от действительности гр. Толстой и Ницше. Но, может ли их проповедь закрыть навсегда от людей вопросы жизни? Может ли «добро» или Übermensch примирить человека с несчастием, с бессмыслицей нашего существования? Очевидно, что поэзия проповеди гр. Толстого и Ницше может удовлетворить лишь того, кто, кроме поэзии, ничего не вынес из их сочинений и собственного жизненного опыта. Для человека же, серьезно столкнувшегося с жизнью, весь парад великолепных и торжественных слов, которыми сопровождают гр. Толстой и Ницше шествие своих «богов» — значит не более, чем другие торжества, которыми люди разнообразят свое существование. Его внимание не может оторваться от князя Андрея, от Ивана Ильича, от пастуха, которому вползла в рот змея, и он, пропуская мимо ушей красивые рассуждения, тем напряженнее прислушивается к действительным переживаниям гр. Толстого и Ницше. Как ни безуспешны были до сих пор попытки дать законченный и полный ответ на мучительный вопрос жизни,— их люди никогда не перестанут делать. Может быть, человеку не дано найти то, чего он ищет. Но по пути к вечной истине он освобождается от многих тяготевших над ним предрассудков и открывает новые — если не вечные, то во всяком случае более широкие горизонты. И в этом смысле формула Ницше «по ту сторону добра и зла» является важным, огромным шагом вперед. Ницше был первым из философов, который осмелился прямо и открыто протестовать против исключительной требовательности добра, желавшего, чтоб вопреки всему бесконечному разнообразию действительной жизни люди признавали его «началом и концом всего», как говорит гр. Толстой. Правда, Ницше видел
316
одно дурное в «добре» и просмотрел в нем все хорошее, отступив тем самым от своей формулы — amor fati. Он иначе не мог чувствовать, как не может раскаявшийся грешник видеть в грехе что-либо иное, кроме ужасного. В этом вся сила и убедительность философии Ницше. Если б он остался справедливым, мы не поняли бы, о чем он говорит. Нам нужно было быть свидетелями той вражды, той ненависти, того отвращения, того ужаса пред «добром», который был у Ницше, чтоб понять самую возможность его учения, чтоб признать законными известные настроения и разрешить им перейти в сознание, как принцип. Добро — братская любовь, — мы знаем теперь из опыта Ницше,— не есть Бог. «Горе тем любящим, у которых нет ничего выше сострадания». Ницше открыл путь. Нужно искать того, что выше сострадания, выше добра. Нужно искать Бога.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
