13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Зеньковский Василий, протопресвитер
Зеньковский В., прот. Проблемы культуры в русском богословии. Бухарев

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
прот. Василий Зеньковский
ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ В РУССКОМ БОГОСЛОВИИ
1. Бухарев.
Настоящий этюд имеет в виду выяснение того, как ставится проблема культуры, проблема исторического творчества в православном богословии. Я имею в виду именно богословие, т. е. те построения, которые сознательно остаются в пределах догматических основ Православия, — поэтому я оставляю в стороне многочисленные и часто ценные построения русской религиозно-философской мысли, которые, начиная с Чаадаева и вплоть до наших> дней, составляют одну из главных тем размышлений и творчества у русских мыслителей. Чаадаев, славянофилы, Гоголь, Толстой, Достоевский, Влад. Соловьев, Леонтьев, Бердяев, Гессен, Франк — я беру наиболее крупные имена, — с разных сторон подходили к вопросу о религиозном смысле и религиозном обосновании культурного творчества. Но в русском богословии, которое ответственно и принципиально ставило бы эту тему в связи с догматическими основами Православия, мы находим очень мало в данном направлении.
Я избираю в настоящем этюде двух наиболее ярких и сильных выразителей православной мысли в области «богословия культуры» — Бухарева и Тареева, в творчестве которых с наибольшей ясностью проявились противоположные тенденции в русском богословии. Если принять во внимание, что богословские проблемы культуры теснейшим образом связаны с вопросами христологии, анализ которой в истории Церкви во многом был только намечен, тогда становится понятным, отчего в вопросе о смысле культурного творчества богословская мысль может до сих пор давать столь противоположные решения. Тем более важно отдать себе отчет в том, что в этих противоположных построениях должно быть признано существенным и ценным.
Обратимся сначала к Бухареву и ознакомимся прежде всего с его биографией.
Александр Матвеевич Бухарев (в монашестве о. Феодор) родился в 1822 году в семье священника. По окончании духовной семинарии он поступил в Московскую Духовную Академию, где еще до окончания курса принял монашество (в 1846 г.). По окончании Академии он остался в ней преподавателем, но очень скоро его лекции стали вызывать у церковного начальства некоторые опасения: в своих лекциях по Священному Писанию он нередко связывал свои строго православные разъяснения с вопросами современной жизни, — это увлекало студентов, но беспокоило начальство. О. Федора вскоре перевели в Казанскую Ду-
3
ховную Академию, где ему поручили читать лекции по догматическому богословию, несколько позже — по нравственному богословию. Из Казанской Академии о. Федор, однако, через некоторое время сам ушел — из-за расхождений с Ректором; он переехал в Петербург, где стал работать в Комитете Духовной цензуры, — что дало ему много свободного времени и позволило отдаться литературной и научной работе. Писал о. Федор очень много — и на богословские и на общественные темы; уже в 1860 году он выпустил первый сборник своих статей под заглавием «О Православии в отношении к современности». Несколько· позже (1865 г.) он издал сборник «О современных духовных потребностях». Но еще до этого в его жизни произошел трагический перелом, связанный с травлей его со стороны бойкого и грубого публициста (на церковные и патриотические темы) того времени Аскоченского, издателя журнала «Домашняя Беседа». Нападки Аскоченского были столь резки и грубы, что о. Федор, сначала, как духовный цензор, сам смягчавший эти грубости, скоро отказался от этого — в виду того, что именно его Аскоченский «обличал» особенно резко. Высшее духовное начальство, само боявшееся Аскоченского, не сумело оградить о. Федора; когда же о. Федор, приготовивший к печати большую работу об Апокалипсисе (над чем он трудился много лет), сдал ее в печать, то, по доносу Аскоченского, Святейший Синод запретил издание этой книги. Для совести о. Федора наступил мучительный конфликт: как монах, он, по обету послушания, должен был безропотно подчиниться решению церковной власти, а как богослов он по совести не мог этого принять: отказ от исповедания богословских взглядов был бы для него отречением от правды, которой он жил. О. Федор принял решение снять с себя монашеский сан: «я решился, писал он в одном письме, на позор растрижения, чтобы не оставаться в противных совести отношениях беспрекословного повиновения духовному начальству». Нужно было иметь исключительное мужество и непоколебимую решимость, чтобы поставить служение правде выше церковных правил, чтобы пойти на то трагическое решение, которое принял о. Федор. До конца своей жизни (он умер в 1871 г.), Бухарев не жалел о принятом решении, — он дорожил чистотой своей совести более, чем соблюдением церковных правил, — и неверно думать о нем, что его отречение было, как пишет один авторитетный автор, «подлинным мистическим самоубийством». Это поспешное и необоснованное суждение проходит мимо того, в чем была истинная трагедия: гораздо страшнее состояние церковного отупения и малодушия даже у высших иерархов того времени, чем трагический крест церковной самоизоляции, который поднял на себя Бухарев. Близкие к Бухареву
4
люди, знавшие его, никогда не позволяли себе упомянутого суждения.
Обращаемся к анализу богословских построений Бухарева.
В сочинениях Бухарева мы не найдем систематического· изложения его взглядов, но все его работы, можно сказать^, насыщены, богословскими высказываниями. Так, основное в христианстве откровение о Св. Троице исповедуется Бухаревым: всюду; впрочем, церковная доктрина в этом пункте не требовала и· не вызывала у него никаких комментарий. Бухарев впитал в себя троичное богословие, и оно осталось для него незыблемой основой всех его размышлений и построений. Иное надо сказать о христологической теме: если Халкидонское определение (гласящее, что в едином Лице Господа Иисуса Христа соединены «нераздельно и неслиянно» две природы — божественная и человеческая) определяет грани, в которых следует мыслить и богословствовать, то все же это только грани. Они не только достаточно широки, но само содержание Халкидонских определений заключает в себе ряд тем, требующих богословского исследования. В частности, это особенно относится к учению о том, что Христос, будучи «истинным Богом», был вместе с тем «истинным человеком»... Жак горячий последователь Митр. Филарета, богословие которого тоже центрировано на христологической теме, Бухарев с особенным вниманием относился к проблеме сочетания двух «природ» в едином Лице Господа Иисуса Христа. Именно отсюда, как мы увидим, для него и открылись перспективы для понимания «в свете Христовом» нашей человеческой деятельности, т. е. для истолкования, в соответствии с православным богословием, проблем культуры и творчества.
Один критик Бухарева 1) нашел, что главный недостаток Бухарева заключался именно в том, что он строит свое понимание жизни и творчества «на догматическом основании», что будто бы мешает ему усвоить «евангельскую точку зрения» (!). Наоборот, другой критик Бухарева упрекает его в отсутствии у него богословской трезвости и находит у него «утопическую мечтательность» и «насилие мечты над действительностью», хотя и признает, что «основным в его мировоззрении было очень яркое переживание совершившегося спасения» 2). Но если принять во внимание, что идея спасения («сотериологическая тема») есть стержневая идея в догматических исследованиях, что она одна в эпоху богословских споров выводила богословскую мысль на верный путь, то указанное утверждение о том, что у Бухарева было «очень
1) Тареев. «Основы христианства». T. IV. Стр. 325, 327.
2) Флоровский. «Пути русского богословия». Стр. 346, 348.
5
яркое переживание совершившегося спасения», означает, ведь, что он стоял на верной и безупречной догматической основе. Если были догматические «нетрезвости» у него, то лишь в выводах и применениях его идей к действительности, — но тогда где же, «насилие мечты над действительностью»?
Бее это не серьезно. У Бухарева было много наивности в понимании и оценке современной ему русской действительности, — но в этом отношении не он один повинен, среди его современников, в слишком «благодушном.»-, оптимистическом понимании русской жизни того времени. В его годы противоставление России (с ее, казалось, моральным здоровьем — это были первые годы царствования Александра II !), «гнилому» Западу были у многих на устах. Правда, если начать читать интереснейшие его «Три письма к Гоголю», то мы. найдем здесь неожиданно апологию Чичикова (!), но это, конечно, является уже таким крайним «благодушием», которое под стать Гоголевскому воспеванию русской администрации во 2-м томе «Мертвых Душ». Но все эти обращения к русской действительности (их особенно много в первой статье сборника «Православие в отношении к современности», — статье, посвященной «Церковным праздникам») со всем их неоправданным оптимизмом прямо тонут в тончайших и глубоких богословских высказываниях Бухарева. Упрекнуть же его в богословской наивности еще никто не решался... Больше правды в характеристике Бухарева у Розанова, который говорит о Бухареве, что это был «каким-то чудом занесенный в наш век аскет созерцатель VI или IX века», что в лице его предстает «одно из светозарнейших явлений нашей богословской мысли за XIX век» 3).
При оценке такого богослова, как Бухарев, который не оставил систематического богословского трактата, совершенно необходимо различать у него основное и частности, главное и второстепенное. Думаю, что критика Бухарева, образцы которой мы выше приводили, относится преимущественно не к общим его богословским взглядам, а именно к «богословию культуры» у него, — а это, конечно, есть область, где мотивы богословия и оценка культурного творчества по его существу, входят в ближайшее соприкосновение, что и дает место для спорных утверждений.
_________
Боговоплощение, т. е. сочетание в единой Богочеловеческой Личности божественной и человеческой природы (в полноте каждой) богословски истолковывается, как тому учил уже Ап. Павел, через понятие «кенозиса», т. е. «истошания» Божества. Второе Лицо Св. Троицы, Сын Божий, «Им же вся быша», становится че-
3) Розанов. «Около церковных стен». T. И. Стр. 28, 24.
6
ловеком, Абсолютный Бог воплощается в тварную, Им же созданную человеческую плоть, т. е. умаляет, смиряет Себя. Бухареву эта идея кенозиса не просто близка, — она является основой всех его богословских изысканий и построений. «Не надо забывать, постоянно настаивает при этом Бухарев, что во Христе Божеством не было поглощено человечество — как с душой разумной, так и с телесностью». Это есть Leitmotiv всех рассуждений Бухарева; полнота истинной человечности во Христе освещает ведь нам тайну нашей природы и, что важнее, раскрывает связь всего «истинно человеческого» в нас со Христом. «Господь смирил себя, пишет Бухарев, снизойдя ради нас с пренебесной Своей высоты в наш земной порядок», — ибо Сын Божий был «предназначен еще прежде создания мира» (I Петра 1, 20) стать Агнцем Божиим, имеющим принять на Себя грехи мира». У Бухарева было постоянное и благоговейное устремление к этой тайне нашего искупления, — он действительно глубоко чувствовал «совершившееся наше спасение». «Свое значение Агнца Божия, вземлющего грехи всего мира, Господь удерживает за Собой на всю вечность», пишет он, — и эта всеобъемлющая сила искупительного подвига Спасителя его поражала до глубины души. Бухарев не устает в разных формах изъяснять эту ничем и никогда не исчерпываемую силу Христова дела. Если в Боговоплощении уже совершилось непостижимое сочетание Бога и человеческой природы, так что «в рожденном Богомладенце открыта нам вся |Божественная полнота... и нашей вере уже доступно досягать духом до Единородного Сына Божия... и усвоять творческие и миродержавные мысли Его», то в том же Богомладенце Бухарев созерцал Агнца Божия, который «имел ответить Своей смертью за все наши грехи и заблуждения, за все виды человеческого извращения». Взяв на себя наши грехи, Господь «понес их до смерти·, до сознания... оставленное™ Его Отцом, до того, что на кресте Он был, как олицетворенный грех и проклятие... и до такого духовного «ничего», даже глубже и ниже «ничего» истощался Господь... В Его самоистощании за грехи нашей мысли и за все наши грехи неисследимо сходились духовно бытие и небытие, входя одно в другое — в тождестве Его Я». В этом Бухарев видел тайну сошествия Христа в ад: «Господь... дал истощиться на самом Себе всей ярости греховней лжи и злобы... и таким образом, будучи светом и жизнью, Он входил из нас во мрак страданий и самой смерти»; так должна «раскрываться для нас животворная, светоносная сила Христова в самой бездне омертвения... Это и есть сошествие Христово в ад».
Вдумываясь в это и даже больше, — живя этими созерцаниями, Бухарев подчеркивал, что созерцание «тайн, относящихся к вопло-
7
щению Христову, должно воздействовать на нас своей спасительной силой», ибо в этих тайнах дается нам и понимание нас самих. «Нам должно стоять за все стороны человечества, как за собственность Христову». Эта формула, что «человек со своей свободной ’разумностью есть собственность, полная и безусловная собственность Бога Слова Христа», что мы таким образом в своей человечности, уже искупленной Спасителем, принадлежим Христу и должны усвоять спасительную силу Его подвига, — эта формула одна из наиболее важных и характерных при вхождении в богословские размышления Бухарева.
В понимании человека Бухарев настаивает на toîm, что «все творческие силы и идеи у человека составляют не что иное, как отсвет Бога Слова». Эти слова не следует толковать так, что и до пришествия Христа на землю все истинное уже было действием Логоса в мире '(как думали христианские богословы II и III в.). Для Бухарева все истинно человеческое и ценное в человеке связано лишь с Христом, с Боговоплощением: «все светлое, все, что сколько-нибудь теплится в духовной природе человека, писал Бухарев, принадлежит именно этому (Христову), а не иному источнику света».
Тут, конечно, очень близка опасность впасть в «христианский натурализм», который признает, что раз спасение «совершилось» в подвиге Христовом, то оно уже вошло в душу каждого человека, уже преобразило его природу. Такое истолкование дела Христова, эту своеобразную «натурализацию» его мы находим: у нескольких русских мыслителей, — но с особенной ясностью оно было выражено у нас Достоевским. Близок был к этому и Розанов с его противоставлением «религии Вифлеема», «религии Голгофы». Во всем этом ударение ставится на том, что с Боговоплощением и Воскресением Спасителя (и то и другое есть, конечно, события метафизического порядка) в самой природе человека уже «совершилось спасение» и нам нужно только осознать это, чтобы мы вступили в Царство Божие. На это скажем: если спасение наше действительно «совершилось», если в нашей «природе» уже произошло метафизическое изменение, — то это нужно не только «осознать»; каждому из нас надлежит через духовное «делание» еще усвоить себе спасительную: силу подвига Христова. Этого никогда не забывал Бухарев, и в «христианском натурализме» поэтому он совершенно неповинен, — его книги насыщены призывом к тому, чтобы «восприять в себя самого Христа, Сына Божия» и через подвиг и усвоение в таинствах благодати восходить к «прояснению и проявлению запечатленного в душу крещением образа Христова».
Но если через искупительный подвиг Спасителя совершилось
8
обновление человеческой природы, то именно потому «в ставшем плотью Боге Слове все человеческое естество, все природные силы и свободное действие этими силами... являются принадлежащими собственно Его лицу». Бухарев ставит здесь ударение на том, что все в человеке может и должно быть во Христе. Бухарев хочет не возвеличить этим человека, но он созерцает Христово присутствие во всем «истинно человеческом». «Нам должно, пишет он тут же, стоять за все стороны человечества, как за собственность уже Христову... Поэтому подавление, стеснение, тем паче осуждение и отвержение чего бы то ни было истинно человеческого есть посягательство на самую благодать». Вывод очень смелый и в то же время исполненный во истину света Христова! «Подумайте, пишет Бухарев, — Господь вознесся ведь на небо именно своим человечеством, не для того, чтобы от нас удалиться, но напротив —для того, чтобы мы, живя и во плоти на земле, имели живот свой сокровенным на небесах», «Господь стал человеком за каждого человека» и своим искупительным подвигом Он освятил «не только все, что прямо относится к благочестию и правде; но и к удовлетворению земных потребностей и интересов». Иными словами, вся творческая деятельность человека, все его «хозяйствование» на земле, словом вся культура освящается, если творим ее во Христе. «Все плоды цивилизации, изобретения и успехи человеческого разума — все это отныне составляет для нас дары Бога Слова... Все сокровища Египта и Вавилона вере возможно перенести в землю обетованную, в наследие Сына Божия... Отныне началом и целью всех наук и искусств’, альфой и омегой всего для нас будет Един Бог Слово, Христос». Это было не просто заветное убеждение Бухарева и уж, конечно, меньше всего «утопическая мечтательность», но живое восприятие мира во Христе—восприятие скрытой связи всего со Христом и возможного для веры нашей преображения всего. «Все в мире христианском может обновиться», исповедывал эту веру свою Бухарев... «Если ревнуете по Православию, призывал он, то поревнуйте именно о том, чтобы ни одна у нас область жизни общественой и частной... как бы иная из них ни была окутана нехристианскими началами, не осталась возглавленной этими погибельными началами — вне Христа». Бухарев верил и в то, что придет время, «когда мысленные и нравственные борения нашего времени будут распутываться совершенно на тех же основаниях, на каких Св. Отцы низлагали древних еретиков·», — т. е. будут разрешаться, опираясь на основные догматы христианства. Бухарев скорбел, что «у нас не видно прямого и сознательного стремления привести и житейские дела к началам, христианским, что иногда высказывается даже стремление устраивать житейские и гражданские дела в совершенной отдельности
9
от христианских начал». В этих словах Бухарев высказывается против всякой «автономии» культуры во всех ее сферах, против ее «отделения» от христианства. «Губительнейшее в христианском мире зло, говорит Бухарев, есть направление умов и сердец, ненезависимое от Христа Бога» — это, добавляет тут же он, есть «несчастная независимость», ведущая «к совершенной разнузданности в мыслях и действиях». Поэтому Бухарев отвергает модную ныне «автономию» культуры и настаивает на том, что «надобно самое житейское и мирское, которым! так глубоко занята наша современность, взвешивать мыслью и устраивать в жизни именно по Христу».
Прот. В. Зеньковский.
(Окончание следует).
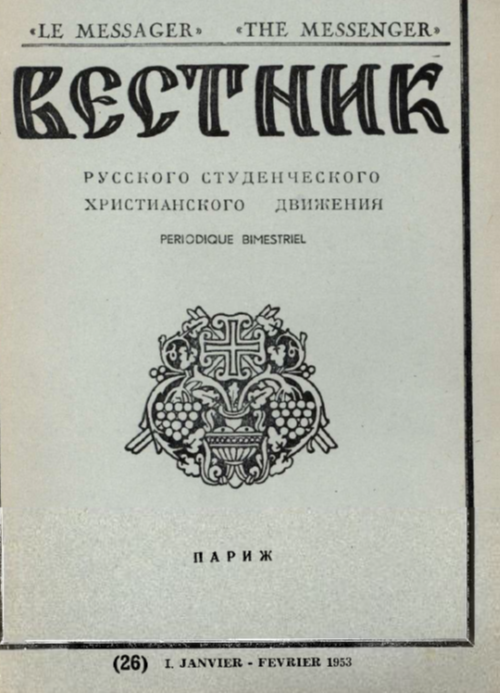
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
ПРОБЛЕМЫ КУЛЬТУРЫ В РУССКОМ БОГОСЛОВИИ
А. М. Бухарев
(окончание).
Своеобразие в развитии этой темы у Бухарева достигает особенной силы, когда он обращается к философии. «Входя в темные глубины мысли, извратившей в новейшей философии истину Христову», он «был поражен обилием Христова света, открывшегося здесь верующей мысли» Бухарев приписывает эти мысли не себе, а какому-то близкому ему лицу, — я считаю не исключенным, что дело идет об учителе Бухарева, прот. Ф. А. Голубинском — многое здесь (на стр. 42-45) очень близко к нему. Во всяком случае всей этой концепции отвечает мысль о том, что Агнец Божий «взял на себя и философские грехи», искупив «вину грехов нашей мысли». Эту замечательную идею, в которой заключается, по существу, самый замысел христианской философии, Бухарев развивает с большой настойчивостью в рассуждениях, которые нам кажется целесообразным провести здесь.
Бухарев исходит опять из того же Халкидонского догмата. Христос «воспринял в единство своего «Я» наше человеческое естество — с человеческим сознанием, сердцем и мыслью... Он в своем Богочеловечестве мыслил и познавал также предметы человеческим, разумом, воспринятым от Него в единстве своего «Я». Заметим тут же, что Бухарев здесь дерзновенно и в то же время с глубоким догматическим тактом приближается к труднейшей для нас теме о «че-
5
ловеческом разуме» в единстве Богочеловеческой Личности. «Христос продолжает Бухарев, продвигаясь по этой тропинке ввысь, — как возраставший по человечеству в -премудрости (Лука 2,52), своим мышлением и познанием раскрывал в своем человеческом сознании — из своего же Богочеловеческого «Я» — весь мир мысленный и познаваемый».
Остановимся здесь на минутку, чтобы обратить (внимание на то, что здесь, воистину во Христе, выпрямляется та таинственная сочетанность бытия и мышления, перед загадкой чего еще в античности (Парменид) останавливалась философская мысль и которая доныне составляет предел тончайших философских: анализов в трансцендентализме. Частичные преодоления роковых сетей трансцендентализма (у нас в России лучше всего у С. Л. Франка) все же недостаточны, чтобы, учитывая относительную бесспорность неразрывности мышления и бытия, освободить всю эту тему от неправды гносеологического идеализма (в тождестве мышления и бытия через трансцендентальную среду как раз и состоящего).
С исключительной глубиной и до конца Бухарев как раз и рассеивает все элементы гносеологического идеализма через вхождение в тайну Богочеловеческого единства Личности Господа. В своем утверждении, что Господь «раскрывал в своем человеческом сознании из собственного же Богочеловеческого «Я» весь мир мысленный и познаваемый», Бухарев отвергает идею·, будто «мысль Его отнимала у внешнего мира истинную действительность (объективность)». В этих последних словах Бухарев категорически отвергает всякий гносеологический идеализм: «напротив, тут же утверждает он, Он сам своим человечеством подчинялся условиям этой действительности мира и природы и следовательно Собою утверждал оную». «Но дело в том, читаем дальше, что существенность (реальность, объективность В. 3.) всего мыслимого и познаваемого обоснована в Кем же самом. Потому и выходит, что как внутренняя область его Богочеловеческого самосознания (субъективное его всеобъемлющее бытие), так и внешняя действительность всего мыслимого и познаваемого, взятая в своем основании и сущности (объективное бытие), — сходились у него, в Богочеловеской мысли, в некоторое чудное единство или тожество. Ибо каждая вещь, как Его же тварь, составляет раскрытие и осуществление Божественной мысли Его же вседержащего Я, — к которому одному относилось вместе с Его Божеством и человечество Его со своей мыслью, разумевающей каждую вещь — именно в значении выражения и осуществления Божественной мысли».
Вся сила этого замечательного отрывка заключается не только в уяснении, где надо искать подлинное тождество мышления и бытия (отдельные лучи чего постоянно пронизывают человеческую
6
мысль), но и в раскрытии того, почему нам, в нашем чисто человеческом мышлении, невозможно найти в человеческом сознании основания указанного тождества. «Философская мысль, продолжает Бухарев, смутно слышимую тайну Богочеловека отнесла прямо к человеку — и таким -образом произвела системы Фихте, Шеллинга и Гегеля о раскрытии всего из «Я», о единстве субъективного и объективного». Нужно прочитать глубокий трактат о. С. Булгакова «Die Tragödie der Philosophie», где в основу положена та же мысль, чтобы оценить по достоинству замечательное, хоть и мимоходом высказанное Бухаревым учение.
Бухарев идет дальше. «Не вникай я в системы указанных философов с мыслью о вземлюшем и философские грехи Агнце Божием, мне и на мысль не пришло бы с благоговением приникнуть к тому, каково было для спасения человеческой мысли мышление и познавание нашего Спасителя»: «ведь Господь и по отношению к мысли человеческой есть Агнец Божий, вземляй грехи мира; Он вполне понес на Себе и вину всех заблуждений наших, и нам должно, вникая в тайну Христовой благодати относительно человеческой мысли, усвоять своему разумению· и мысли эту благодать Христову».
Замечательные слова, охватывающие и тайну «спасения мысли человеческой» и через это спасение всей культуры через очищение ее во Христе! В» соответствии с этим мы находим у Бухарева стремление связать научное творчество с укоренением его во Христе, стремление связать и художественное творчество с служением Господу. «Идеи истины и добра, бесконечного и прекрасного суть отблески света Христова, а, следовательно, здание знаний и искусств и прав имеет глубочайшим основанием Бога — Слово, Христа». И если с одной стороны «все, что не есть от Отца во Христе, относится по своему духу уже к области князя мира сего, к области лжи и греха», то с другой стороны во всем том, «во что погрузился наш век и мыслью и практикой можно открыть источник к движению несметных талантов веры и благодати». Эго интуитивное переживание «талантов веры и благодати» в человеческом творчестве есть именно то самое изумление перед «обилием света Христова» в современной жизни, о котором шла речь выше. Поэтому, заключает Бухарев, «бесчеловечно низвергать чтобы то ни было человеческое, особенно мысль, творческую фантазию, свободу, — а это неизбежно при уклонении от Христа». Конечно, надо помнить, что «и сердце и воля наши, на пути к успокоению своему во Христе, должны неизбежно встречать много нравственных чудовищ, терпеть от них много нападений и поражений, что тот же закон или порядок подлежит и умственной стороне жизни духовно». Тем, кто уже «утвердился в свете Христовой истины»,
7
надо поэтому «с глубоким участием, любви следить за тружениками мысли, хотя бы во многом пресмыкающимся и падающим»; посему надо глядеть «на раскрытие человеческой мысли, сердца, фантазии в науках и искусстве в духе любви, а не осуждения».
Эта широкая программа богочеловеческого осмысления культуры относится и ко всей общественной жизни у Бухарева. «Не уступим говорит он, будто во имя Православия надобно бросить, как негодное, все то человеческое, что порабощено, в чем-либо грехом, будто теперь истина Христова уже только осуждает и отвергает — вместо благонаправления и спасения нашего грешного мира». Что именно сфера общественной и политической жизни особенно «порабощена греху», в этом у Бухарева не было сомнения. -Если даже «все законы и учреждения церковные доведены нами, нашим формализмом, писал он, до мертвой ветхозаветности», то что сказать об мирской жизни, об мирской исторической действительности? Бухарев отмечает, как характерное явление общественной жизни, «страстное искание земных благ и заглушение духовно христианских потребностей». «Самые серьезные умы нашего времени заняты и озабочены особенно материальным благоустройством — общественным и частным»... Все это есть «сатанинское искушение нашего времени». «По Христу ли направляется и Христом ли управляется у нас движение общественной мысли?», спрашивает Бухарев. Он, обращает внимание на то, что «обмирщение» жизни приводит ныне к «обоготворению нашего разума, человечности, природы», что ныне «выдвигают храмы человеческому разуму».
Наиболее пагубную сторону этого отхода от Христовой правды видит Бухарев в том «отделении» общественной жизни от силы Христовой, о котором уже шла речь выше. Надобно, чтобы «мы и в гражданской части не разлучались с Господом», ибо «Господь взял под свою искупительную благодать и земное гражданство». Эти мотивы «социального христианства» очень сильны у Бухарева, который постоянно к ним возвращается. «Надобно, настаивал он, самое житейское и мирское взвешивать мыслью и устраивать в жизни по Христу». Бухарев всей душой верил в возможность этого — и из этого коренного для него убеждения, которое есть самое зерно «тайны благочестия», и вытекало для него «отношение Православия к современности». «Если иные области «окутаны антихристианскими началами», то нам нужно, со Христом, предпринять некое «сошествиие во ад», чтобы спасти то, что «окутано антихристианскими началами». В этом бесстрашии мысли Бухарева нет никакой богословской наивности, а есть лишь целостность христианского отношения к миру: не слепой идеализм, не «утопическую мечтательность», не смешное донкихотство надо видеть в его утвер-
8
ждениях, а проповедь Христа «в аде» современности. Вся тема христианизации жизни была для него вопросом о возвращении блудного сына в Отчий дом «через оживление христианства в нашем сердце». И уж, конечно, никакого «упрямства визионера» не было у Бухарева: «все в мире христианском может обновиться — и откроется в нас сила Христова», исповедывал он.
Всеобъемлющая сила искупительного подвига Спасителя и есть основа для «богословия» культуры— не для простого «оправдания» ее, а для ее выпрямления во Христе. «Воцерковление» научной и философской мысли, художественного творчества, переустройство всей жизни в свете Христовом, живое и деятельное вхождение Церкви во все формы личной, общественной и политической жизни — такова эта «тоталитарная» программа, относимая Бухаревым именно к Православию. Мы не будем здесь приводить отзывов Бухарева о Западе, его критики западного христианства, что и лежит в основе его глубокой ’веры в зиждительную силу именно Православия. Скажем только мимоходом, что Бухареву было чуждо отталкивание от Запада, что наоборот он настаивал на том, что «всего опаснее и бедственнее для нас самих было бы до того отказаться от братства с западными народами, чтобы не хотеть ничем попользоваться от этих народов». «Само Православие, добавляет он, назначено для всего мира... и это делает нас должниками перед народами». Он боится, пишет он тут же, что «мы с всемирным сокровищем Православия слишком равнодушны к духовной участи других; мы крайне мало заботимся об открытии не только для них, но и для самих себя всемирного значения и назначения Православия». Поэтому, заключает он, мы несем «страшную ответственность нашу — равно перед Западом и Востоком».
В этой замечательной и вдохновенной программе, которую невозможно не принять, есть только одна сторона, которая трудно приемлема у Бухарева—его истолкование и восприятие русской действительности, где все оказывается у него благостно, разумно, все будто бы проникнуто христианским началом. Напомним только, что не один Бухарев в годы, когда он писал, видел в русской истории, в политическом строе России торжество правды и добра. Конечно, в эти именно годы произошло освобождение крестьян от крепостной зависимости, что было пережито огромным большинством русских людей, как торжество не только исторического, но и морального порядка. Но, разумеется, у Бухарева было здесь и много политической и исторической наивности.
Чтобы до конца обрисовать «богословие культуры» у Бухарева, коснемся вопроса о том, как надо по нему мыслить преображение жизни, о котором ой постоянно писал. Прежде всего здесь он выдвигает все то, что касается личного обновления и что для него есть
9
первое условие христианизации жизни. Он все время призывает к личному подвигу, к преображению личности, к личному усвоению искупительного подвига Спасителя. При этом он глубоко· убежден, что каждому должно при этом «оставаться «а своем месте», ибо «этого требует Христова истина». Это значит, что мы не имеем права «освобождать свою совесть», предоставляя государству свободу от Христова закона: «нечего обороняться, пишет он, от Христовой истины тем, что (будто бы) все государственное должно отходить к государству». Можно как раз в этой мысли видеть как бы нечувствие расхождения «кесарева» и «Божьего» и усматривать здесь «утопическую мечтательность», но само убеждение в том, что правде Христовой есть место всюду, было у Бухарева исключительно глубоко и всецело. «Проходите все обстоятельства вашей жизни, убеждал он, все ваши отношения к людям устраивайте гак, чтобы при всем этом вы очами веры видели Его самого, Христа Бога, и принимали Его к себе»: «в этом духе совершаемое, пишет он тут же, и простое и малое дело более любезно Отцу Небесному, чем большая правда иного порядка». Бухарев часто говорил о том неправильном подходе к Христову учению, которое выражается в двух его· искажениях: одно 0-н называл «духовно иудейским» (защита «законничества» следование формальной стороне, букве, а не духу учения), а другое «духовно языческим» (в котором вся область жизни и деятельности устраивается не по Христу, а по законам «естества»).
Защищая подвиг в личной жизни, груд над преображением души и ее движений, Бухарев защищал идею простоты, как свободы от всего искусственного и ложного, но тут же предупреждал, что идеал духовной простоты «не должен быть· употребляем, для прикрытия невежества или беспечности о ближних». Основное в личной жизни, в преображении внутреннего мира заключается в том, «чтобы в важном и мелочном неуклонно держаться воззрений и правил — по Христу, Богу и Агнцу Божию».
Но Бухарев решительно против того, чтобы видеть в христианстве только начало преображения личности, — мы уже видели, что он защищает внесение света Христова во все формы общественной жизни, даже в сферу политики, — тем более во все формы творчества; Бухареву чужда идея «только личного» спасения — ибо Господь пришел спасти все человечество: «истине Господней свойственно входить со своим светом и жизнью во (все) многообразные виды самой земной действительности».
7. Программа Бухарева определяется, как теперь ясно, вовсе не какой-то христианской «маниловщиной» или «утопической мечтательностью», а есть проповедь «всецелого христианства». Все, чем
10
живет человек, что он творит, о чем мыслит, как он «хозяйствует» на земле, — должно делаться «во Христе». Этот универсализм христианства всецело связан· у Бухарева с его пониманием спасения: искупительный подвиг Спасителя потому и освобождает все движения, все ’виды делания и творчества человека от греховных приражений, что Господь, провидевший все грехи людей, все их взял на Себя. Наука, философия, художественное творчество, общественная и политическая жизнь, экономические и социальные отношения, семья — все в этих формах жизни может быть «спасено». т. е. освобождено от неправды через усвоение людьми искупительного подвига Спасителя. Бухарев всей душой верил в возможность этого преображения нашего «естества» и «естественных» порядков, — творчество культуры было для него делом Божиим, а не угождением своей плоти, Не исканием комфорта и развлечений. Религиозный смысл культуры, культурного творчества, конечно, на каждом шагу может заслоняться и засоряться, — и всю силу этого «обмеления» и искажения подлинного смысла культуры Бухарев чувствовал очень глубоко, считая движение к преображению и очищению ее «сошествием в ад». Все земное, однако, какой бы неправды ни было оно полно, было дорого ему — но дорого не в его «современности», а в том вечном, что может быть спасено и благодатствовано. Все земное и светилось для него во Христе ибо все может быть преображено и спасено, — и потому Боговоплощение было для него знаменем того метафизического изменения бытия, в силу которого открыло возможность совмещения небесного и земного. Думал ли Бухарев о возможности всемирной катастрофы, которой может кончиться история? Конечно, — и оттого так серьезно и горячо обдумывал темы Апокалипсиса, а еще раньше написал превосходный комментарий к учению Ап. Павла об антихристе (в сборнике «Православие в отношении к современности»). «Тайна беззакония уже деется» по слову Ап. Павла, — и это означает, что сатана «устрояет в самом христианском мире отступление от Христа». Поэтому Бухарев не только не забывает о «погибельном состоянии мира в последние времена», о том, что «пшеницы» (= не плевел, т. е. насаждений зла) «найдется не много», но подчеркивает даже, что в возрастающем в христианском мире беззаконии есть своя «тайна»—своего рода «антитайна» Христова, ибо на место Христова благовестия «не верующие в истину уверуют в ложь». Ибо те, кто бегут от любви Божией, по необходимости вертятся около бесконечного же», и «это стремление к бесконечному есть состояние религиозное». Поэтому, если душа человека не обратится к Богу, ему остается одно — «извратить это стремление в самом его основании — и тогда человек открыто обоготворит самого себя».
11
Провидя этот поворот к. «антрополатрии», о чем позже с такой силой говорил К. Леонтьев, Бухарев с тем большей настойчивостью звал к «христианскому прогрессу», к христианскому деланию. Его теория «христианского прогресса», конечно, условна (как впоследствии у Федорова), ибо она вся покоится на призыве стать на путь христианского делания. Поэтому здесь нет и тени детерминизма или благодушно оптимистической уверенности, что «все спасется», — здесь только вера в возможность всеобщего и всеобъемлющего спасения. Прот. В. Зеньковский.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
