13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Шредингер Эрвин
Шредингер Э. Природа и греки
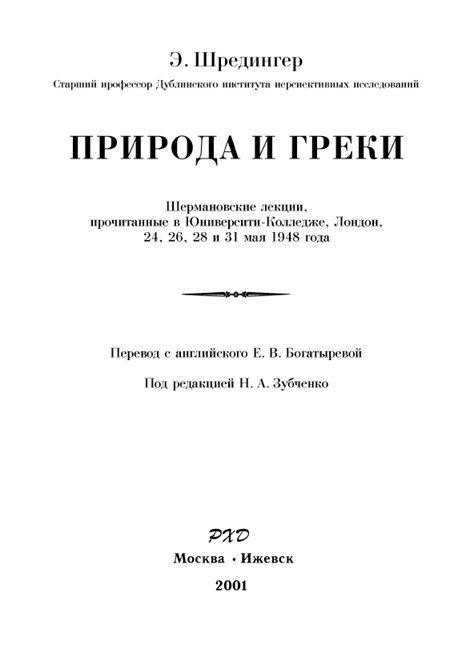
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
Э. Шредингер
Старший профессор Дублинского института перспективных исследований
ПРИРОДА И ГРЕКИ
Шермановские лекции,
прочитанные в Юниверсити-Колледже, Лондон,
24, 26, 28 и 31 мая 1948 года
Перевод с английского Е. В. Богатыревой
Под редакцией Н. А. Зубченко
Москва · Ижевск
2001
Моему другу
А. Б. Клери
в благодарность за его
бесценную помощь
Оглавление
Глава 1. Причины возвращения к античной мысли 7
Глава 2. Соперничество: разум против чувств 21
Глава 4. Ионийское просвещение 44
Глава 5. Религия Ксенофана. Гераклит Эфесский 56
Глава 7. Каковы же основные особенности? 72
Литература 79
7
Глава 1
Причины возвращения к античной мысли
Когда в начале 1948 года я намеревался прочитать курс публичных лекций по рассматриваемой здесь теме, я все же ощущал настоятельную необходимость предварить их достаточно обширным количеством объяснений и примеров. Тот материал, что я излагал тогда и там (а именно, в Юниверсити-Колледж, Дублин), вылился в часть этой небольшой книги, находящейся сейчас перед вами. Я также добавил некоторый комментарий, сделанный с точки зрения современной науки, а также краткое описание того, что с моей точки зрения является отличительными основными особенностями современной научной картины мира. Доказать, что эти особенности возникли исторически (по сравнению с логически обусловленными), установив их происхождение на ранних этапах западной философской мысли, — вот в чем состояла моя истинная цель при подробном анализе последней. Все же, как я сказал, я чувствовал себя немного неловко, особенно с тех пор как результатом моих официальных обязанностей профессора теоретической физики явились эти лекции. Существовала потребность объяснить (хотя я сам не был вполне убежден в этом), что, коротая время за трудами древних греческих мыслителей и комментариями их взглядов, я не просто занимался благоприобретенным недавно хобби; что с профессиональной точки зрения это не означало пустую трату времени, которую следует отнести к часам досуга; что она была оправданна надеждой достичь некоторого понимания современной науки и, таким образом, inter alia1, также и современной физики.
Несколько месяцев спустя, в мае, обсуждая эту тему в Юниверсити-Колледже, в Лондоне (Шермановские лекции, 1948), я уже чувствовал себя намного увереннее. Хотя сначала меня поддержали в основном такие выдающиеся исследователи античности, как Теодор Гомперц, Джон Бернет, Сирил Бейли, Бенджамин Фаррингтон, — позже я приведу некоторые их весьма содержательные наблюдения, — я очень скоро
1 Между прочим (лат.). — Прим. перев.
8
осознал, что, вероятно, не случайное или личное пристрастие заставило меня углубиться в историю мысли примерно на двадцать веков дальше, чем были склонны исследовать другие ученые, ответившие на пример и призыв Эрнста Маха. Отнюдь не следуя своему странному побуждению, я невольно оказался увлечен, как часто случается, направлением мышления, так или иначе пустившим корни в интеллектуальной ситуации нашего времени. Конечно, в течение короткого периода прошедших одного-двух лет было опубликовано несколько книг, авторы которых не были специалистами по античности, а в основном интересовались современной научной и философской мыслью; и все же они посвятили очень значительную долю научного труда, воплощенного в своих книгах, разъяснению и тщательному исследованию истоков современной мысли в античных произведениях. Существует посмертный труд Происхождение физической науки (Growth of Physical Science)покойного сэра Джеймса Джинса, выдающегося астронома и физика, широко известного общественности своими блестящими и успешными популяризациями науки. Существует изумительная История западной философии (History of Western Philosophy)Бертрана Рассела, многочисленные достоинства которой нет необходимости и возможности подробно здесь описывать; мне только хотелось бы напомнить, что Бертран Рассел начал свою замечательную карьеру в качестве философа современной математики и математической логики. Почти треть каждой из этих книг рассказывает об античности. Прекрасный труд подобного масштаба, озаглавленный Рождение науки (Die Geburt derWissenschaft), прислал мне примерно в то же время из Инсбрука его автор Антон фон Мёрль, который не является ни специалистом по античности, ни ученым, ни философом; он имел несчастье в то время, когда Гитлер вторгнулся в Австрию, возглавлять полицию (Sicherheitsdirector) в Тироле — преступление, за которое он много лет страдал в концентрационном лагере; он чудом выжил.
Теперь, если я правильно назвал эту общую тенденцию нашего времени, естественно возникают вопросы: как она возникла, по каким причинам, и что она в действительности означает? На такие вопросы вряд ли можно дать исчерпывающие ответы, даже если рассматриваемое нами направление мысли лежит достаточно далеко от нас в истории и у нас сложилось неплохое представление об общем положении человечества того времени. Занимаясь совсем недавней его историей, можно в лучшем случае выделить один или два складывающихся
9
из разных источников факта или особенности. В настоящем случае, я полагаю, таковыми являются два обстоятельства, которые могут служить частичным объяснением ярко выраженных обращенных в прошлое стремлений среди тех, кто занимается историей идей: одно относится к интеллектуальному и эмоциональному периоду, в который в наши дни вступило человечество вообще, другое — это необычайно критическая ситуация, в которой оказались почти все фундаментальные науки, больше, чем когда-либо охваченные замешательством (по сравнению со своими весьма процветающими детищами типа инженерного дела, практической, включая ядерную, химией, медицинским и хирургическим искусством и техникой). Разрешите мне кратко объяснить эти два момента, начнем с первого.
Как недавно с особой ясностью указал Бертран Рассел2, растущий антагонизм между религией и наукой возник не вследствие случайных обстоятельств, не вызван он, вообще говоря, и злонамеренностью обеих сторон. Значительная доля взаимного недоверия является, увы, естественной и понятной. Одна из целей, если, возможно, не главная задача, религиозных движений состояла в том, чтобы завершить всегда неполное понимание неудовлетворительного и загадочного положения, в котором оказывается человек в мире; закрыть приводящую в недоумение «открытость» мировоззрения, полученного исключительно на основе опыта, для того чтобы воскресить его веру в жизнь и укрепить его естественную благожелательность по отношению к своим собратьям, являющиеся природными качествами человека, как мне видится, но эти качества оказались подавлены личными неудачами и страданиями от нищеты. Теперь, чтобы удовлетворить обычного необразованного человека, это завершение фрагментарной и несвязной картины мира должно предоставить inter alia объяснение всех тех черт материального мира, которые в то время либо на самом деле еще не были поняты, либо их до известной степени не может осознать обычный необразованный человек. Эту необходимость редко упускают из виду по той простой причине, что, как правило, ее разделяет человек или люди, у которых в силу их выдающегося характера, их социальной склонности и их глубокого проникновения в человеческие дела, есть власть для господства над массами и исступленного внушения им своих просвещенных моральных идей. Случается так, что эти люди в том, что касается их
2Hist. West. Phil., р. 559.
10
воспитания и образования, не говоря уже об их выдающихся качествах, как правило, сами оказывались вполне обычными людьми. Их взгляды на материальную вселенную были, таким образом, необоснованными, фактически такими же, как взгляды их слушателей. Во всяком случае, они обычно считали распространение новейших взглядов на мир несоответствующим своей цели, даже если они о них и знали.
Сначала это значило очень мало или ничего. Но шли века и, особенно после возрождения науки в семнадцатом веке, это приобрело большое значение. Соответственно, с одной стороны, религиозные учения остались таинственными и окаменевшими, а с другой стороны, наука начала преобразовывать, чтобы не сказать обезображивать, повседневную жизнь до неузнаваемости и в связи с этим вторгаться в разум каждого человека, а потому рост взаимного недоверия между религией и наукой был предопределен. Это недоверие возникло не вследствие хорошо известных, не относящихся к делу частностей, на основании которых его, по видимости, объясняют, таких как: движется ли земля или покоится, или произошел ли человек из царства животных; эти спорные вопросы могут быть разрешены и в большей степени уже это решение уже достигнуто. Недоверие имеет более глубокие корни. Объясняя все в большей степени материальную структуру мира, то как окружающая среда и наши телесные оболочки по естественным причинам достигли того состояния, в котором мы находим их сейчас, более того, предоставляя это знание каждому, кому оно интересно, научная точка зрения, так ее опасались, украдкой все больше и больше вырывалась из рук Божества, направляясь таким образом в самостоятельный мир, в котором для Бога есть опасность превратиться в бесполезное украшение. Она вряд ли будет оценена должным образом теми, кто искренне дает убежище от этого страха, если мы объявим его полностью необоснованным. Могут появиться социально и морально опасные предчувствия, и иногда они уже появлялись, конечно не у людей, знающих слишком много, но у людей, полагающих, что они знают значительно больше, чем они знают на самом деле.
Однако в равной степени оправданно мрачное опасение, которое является, так сказать, дополнительным и которое преследовало науку с того самого, времени как она появилась. Наука должна опасаться некомпетентного вмешательства с другой стороны, особенно в научной личине, воскрешающей Мефистофеля, который в позаимствованном одеянии доктора Фауста навязывает свои неуместные шутки про-
11
стодушному ученому. Я имею ввиду следующее. При честном поиске знания вы часто вынуждены терпеть в течение неопределенного времени незнание. Вместо того чтобы заполнить пробел предположениями, настоящая наука предпочитает мириться с ним; а это происходит не столько от сознательных угрызений совести сообщать ложь, сколько вследствие убеждения, что каким бы досадным ни был этот пробел, его стирание с помощью подлога исключает стимул искать логичный ответ. Внимание можно отвлечь так эффективно, что ответ не будет найден, даже если, при большом везении, он окажется совсем рядом. Непоколебимость в отстаивании non liquet3, более того в высокой оценке этого в качестве стимула и указателя к дальнейшему поиску, является естественной и обязательной склонностью ума ученого. Это само по себе, вероятно, настроит его против стремления религии замкнуть картину мира, пока к каждой из двух антагонистических позиций (обе они вполне оправданы ради своих относительных целей) не будут относиться осмотрительно.
Такие пробелы легко создают впечатление того, что они являются незащищенными слабыми местами. Временами ими пользуются люди, которым они нравятся, но не в качестве стимула дальнейшего поиска, а в качестве противоядия против своего страха, что наука может, «объясняя все», лишить мир его метафизического значения. Тогда выдвигается новая гипотеза; конечно, в таком случае каждый имеет право это сделать. На первый взгляд кажется, что она твердо скреплена очевидными фактами; только удивляешься, почему эти факты или легкость, с которой предложенное объяснение вытекает из них, ускользнуло от кого-либо еще. Но это само по себе не возражение, поскольку именно с этой ситуацией мы очень часто сталкиваемся в случае подлинных открытий. Однако при более близком исследовании эта инициатива выдает свой характер (в случаях, которые я имею ввиду) тем фактом, что хотя, по-видимому, предоставляя приемлемое объяснение в пределах довольно широкой области исследования, она идет вразрез с общепринятыми принципами здравой науки, которые она или делает вид, что не замечает, или легкомысленно упрощает в том, что касается их всеобщности; поэтому нам говорят, что вера в последнее есть просто предрассудок, который оказался на пути правильной интерпретации рассматриваемого явления. Но созидательная сила общего принципа
3Вопрос еще не ясен (лат.). — Прим. перев.
12
зависит именно от его всеобщности. Отступая, он теряет всю свою силу и больше не может служить в качестве надежного проводника, потому что в каждом конкретном случае применения его правомочность можно подвергнуть сомнению. Чтобы закрепить подозрение, что это развенчание явилось не случайным побочным продуктом всей инициативы, а ее зловещей целью, территория, с которой предшествующее научное достижение попросили удалиться, с восхищающей ловкостью провозглашается площадкой для игр какой-нибудь религиозной идеологии, которая действительно не может ее с пользой освоить, потому что ее истинная область находится далеко за пределами чего-либо достижимого с помощью научного объяснения.
Хорошо известный пример такого вторжения — это периодические попытки ввести в науку законченность якобы потому, что повторяющиеся кризисы причинности доказывают некомпетентность науки как самостоятельной сущности; на самом же деле потому, что все считают infra dig4Всемогущего Бога создание мира, в который он с тех пор отказал себе в праве вмешиваться. В этом случае слабые места, которыми пользуются, очевидны. Ни в теории эволюции, ни в проблеме разум-материя наука не смогла дать общее представление о причинной связи, удовлетворительное даже для большинства ее ревностных сторонников. И поэтому вмешались vis viva5, élan vital6, энтелехия, целостность, направляемые мутации, квантовая механика свободной воли и т. д. В качестве курьеза разрешите мне назвать аккуратное издание7, напечатанное на бумаге намного лучшего качества и намного более привлекательное по внешнему виду, чем те книги, к каким привыкли английские авторы в то время. После здравого и ученого сообщения о современной физике автор удачно прибегает к телеологии, целесообразности внутреннего строения атома и объясняет таким образом все виды его энергии, движение электронов, выделение и поглощение радиации, и т. д.
И надеется угодить этой особой прихотью Богу, который создал ее и предоставил ему8.
4Сокр. от infra dignitatem(лат.) — ниже достоинства. — Прим. перев.
5 Живая сила, т. е. кинетическая энергия (лат.). — Прим. перев.
6Жизненный порыв, жизненная энергия (франц.). — Прим. перев.
7Zeno Bucher, Die Innenwelt der Atome, Lucerne, Josef Stocker, 1946.
8Kenneth Hare, ThePuritan
13
Но разрешите вернуться к нашей основной теме. Я пытался изложить подлинные причины естественной вражды между наукой и религией. Примеры борьбы, возникавшие из-за этого в прошлом, слишком хорошо известны, чтобы требовать дальнейшего комментария. Более того, здесь нас интересуют не они. Какими бы плачевными они ни были, они все же демонстрировали взаимный интерес. Ученые, с одной стороны, и метафизики как официальные, так и из научного мира, с другой, тем не менее осознавали, что их попытки добиться понимания относились в конце концов к одному и тому же предмету — человеку и его миру. По-прежнему ощущалась необходимость устранения лишнего в широко расходящихся мнениях. Этого так и не добились. Сравнительное перемирие, которое мы наблюдаем сегодня, по крайней мере, среди культурных людей, было достигнуто не установлением гармонии двух типов мировоззрения между собой, строго научного и метафизического, а скорее решением игнорировать друг друга, немного не доходя до презрения. В трактате по физике или биологии, хотя и общедоступном, отступить от метафизического аспекта темы считается дерзостью, и если ученый осмеливается, ему, возможно, дадут по рукам и оставят гадать: за оскорбление ли науки или за особый сорт метафизики, которому предан критик. Трогательно забавно наблюдать, как с одной стороны воспринимается серьезно исключительно научная информация, в то время как другая сторона помещает науку среди мирской деятельности человека, открытия которой менее важны и должны фактически отступить, когда оказываются в противоречии с высшим пониманием, полученным другим образом, с помощью чистого мышления или откровения. С сожалением видишь, как человечество стремится к одной и той же цели двумя разными и трудными извилистыми путями, с шорами и разделяющими стенами, и прилагает лишь малую толику усилий, чтобы объединить все силы и достичь, если не полного понимания природы и положения человека в ней, то, по крайней мере, успокаивающего признания подлинного единства нашего поиска. Все это, по-моему, прискорбно и во всяком случае, вероятно, являет собой печальное зрелище, потому что оно очевидно сокращает область того, чего можно было бы достичь, если бы вся мыслительная способность, имеющаяся в нашем распоряжении, была объединена без всякой предвзятости. Однако с этой потерей можно было бы смириться, если бы метафора, которую я использовал, соответствовала действительности, то есть если бы на самом деле существовали две различные массы
14
людей, придерживающихся двух путей. Но это не так. Многие из нас не решили, каким путем следовать. С сожалением, даже с отчаянием, многие считают, что им следует оградить себя поочередно то от одной точки зрения, то от другой. Несомненно, это не тот случай вообще, когда, получая хорошее всестороннее научное образование, вы так полно утоляете врожденное страстное желание к религиозной или философской непоколебимости, что чувствуете себя совершенно счастливым без чего-либо еще перед лицом превратностей повседневной жизни. Но часто случается так, что науке достаточно поставить под угрозу широко известные религиозные убеждения, а не заменить их чем-то другим. Это порождает нелепое явление научно обученных, крайне компетентных умов с невероятно непосредственным, как у ребенка, неразвитым или атрофированным, философским мировоззрением.
Если вы живете в довольно комфортных и безопасных условиях и принимаете их за повсеместный образ жизни человека, который, благодаря неизбежному прогрессу, в чем вы уверены, скоро распространится и станет всеобщим, то, по-видимому, вы очень хорошо обходитесь без какого-либо философского мировоззрения; если точнее, то, по крайней мере, до тех пор пока не постареете и не одряхлеете и не начнете воспринимать смерть как реальность. Но несмотря на то, что начальные этапы быстрого материального прогресса, которые пришли вслед за современной наукой, представляются ознаменованием эры мира, безопасности и прогресса, подобное положение дел уже больше не преобладает. Времена изменились в худшую сторону. Многие люди, несомненно целые народности, оказались выброшенными из комфортной и безопасной жизни, перенесли непомерные тяжелые утраты и вглядываются в неясное будущее для себя и тех своих детей, что остались в живых. Само выживание человека, не говоря уже о непрерывном прогрессе, больше не считается определенным. Личная нищета, потерянные надежды, приближающиеся бедствия и неверие в благоразумие и честность земных правил, вероятно, заставляют человека страстно желать даже смутной надежды, строго доказуемой или нет, что «мир» или «жизнь» опыта будут запечатлены в обстановке высшего, даже если до сих пор еще загадочного, смысла. Но существует стена, разделяющая «два пути»: путь сердца и путь чистого разума. Мы оглядываемся на прошлое стены: могли ли мы ее снести, всегда ли она была здесь? Так как мы внимательно изучаем ее изгибы вдоль холмов и долин во времени истории, то замечаем землю далеко-далеко в пространстве свыше двух
15
тысяч лет назад, где стена выравнивается и исчезает, а путь еще не раздвоился, и существует только один. Некоторые из нас полагают, что стоит потратить время, чтобы вернуться назад и узнать, чему нас может научить очаровательное первобытное единство.
Опуская метафору, мое мнение таково, что философия древних греков привлекает нас именно этим моментом, потому что никогда раньше или позже, нигде в мире, не было ничего напоминающего их весьма передовую и четко сформулированную систему знания, и не создавалась система мышления без рокового разделения, которое препятствовало нам в течение веков и стало нетерпимым в наши дни. Конечно, тогда существовали широко расходящиеся мнения, борющиеся друг против друга с не меньшим рвением, и подчас не более честными средствами — такими как непризнанный плагиат и уничтожение литературных произведений — чем где-либо еще и в другие периоды времени. Но тогда не существовало ограничений на темы, по которым образованному человеку разрешалось высказать свое мнение другому образованному человеку. Все еще существовало согласие, что истинный предмет был по существу одним, и что важные выводы, полученные без учета какой-либо его части, могли и, как правило, имели отношение к другим его областям. Мысль о размежевании в водонепроницаемых отсеках еще не возникла. Наоборот, человека могли легко обвинить за то, что он закрывал глаза на подобную взаимосвязь — как обвинили первых атомистов за то, что они умалчивали о последствиях для этики всеобщей необходимости, которую они допускали, и за неспособность объяснить первопричину возникновения движения атомов и движения, наблюдаемого на небесах. Поясним это наглядно: можно представить ученого из недавно возникшей афинской школы, отправившегося во время отпуска в Абдеру (с должной предусмотрительностью храня это в тайне от своего Учителя), при этом его принимает мудрый, посетивший дальние страны и всемирно известный престарелый господин Демокрит, и он задает ему вопросы об атомах, о форме Земли, о моральном поведении, Боге, бессмертии души, — при этом ему не отказывают в ответе на любой из них. Легко ли Вы можете представить подобную беседу между студентом и его преподавателем в наши дни? Все же, по всей вероятности, у довольно многих молодых людей имеется в душе подобное — нам следует сказать причудливое — собрание вопросов, и они захотели бы обсудить их все с одним человеком, к которому питают доверие.
16
Довольно о первом из тех двух моментов, о которых я заявил, намереваясь предложить их в качестве причин возрождающегося интереса к античной мысли. Разрешите мне теперь предложить второй момент, а именно, сегодняшний кризис фундаментальных наук.
Большинство из нас полагают, что идеально совершенная наука происходящего в пространстве и времени могла бы, в принципе, свести все, что происходит, к событиям, которые полностью доступны и понятны (идеально совершенной) физике. Но именно с физики в начале века стали повергать в трепет основы науки первые потрясения — квантовая теория и теория относительности. Во время великого классического периода девятнадцатого века, каким бы далеким не могло представляться осуществление задачи фактического описания с точки зрения физики роста растения или физиологических процессов в мозгу мыслящего человека или ласточки, строящей свое гнездо, язык, на котором в конечном счете это описание должно было быть составлено, считали разгаданным, а именно: атомы, конечные составляющие материи, движутся под влиянием взаимного воздействия друг на друга, которое не является мгновенным, а распространяется вездесущей средой, которую можно предпочитать называть эфиром, а можно и нет; сами термины «движение» и «распространение» означают, что мера и место действия всего этого — время и пространство; у них нет иного свойства или задачи, кроме как быть, так сказать, сценой, на которой мы представляем движение атомов и распространение их взаимодействия. Теперь, с одной стороны, релятивистская теория гравитации служит доказательством того, что различие между «актером» и «сценой» нецелесообразно. Материю и распространение чего-либо (типа поля или волны), передающего взаимодействие, следует скорее считать формой самого пространства и времени, на которое не следует смотреть как на нечто умозрительно предшествующее тому, что до настоящего времени называли его содержанием; не больше, чем, скажем, углы треугольника предшествуют самому треугольнику. С другой стороны, квантовая теория говорит нам, что то, что прежде считали самым очевидным и фундаментальным свойством атомов, до такой степени, что о нем почти никогда не упоминали, а именно, их существование в качестве поддающихся распознаванию отдельных частиц, имеет только ограниченное значение. Только когда атом двигается с достаточной скоростью в области, не слишком заполненной атомами того же вида, его отличительная особенность остается (почти) точно выраженной. В противном
17
случае она стирается. С помощью этого утверждения мы не думаем обозначить только нашу практическую неспособность следить за движением рассматриваемой частицы; само понятие абсолютной идентичности считается неприемлемым. В то же время нам говорят, что взаимодействие всякий раз, когда оно имеет, так как оно часто имеет, форму волн короткой длины и малой интенсивности, само допускает форму довольно хорошо поддающихся распознаванию частиц, несмотря на вышеизложенное описание как волн. Частицы, которые представляют взаимодействие в ходе своего распространения, отличаются в каждом частном случае по виду от частиц, с которыми они взаимодействуют; все же они также претендуют на то, чтобы называться частицами. Для завершения картины, частицы любого вида проявляют характер волн, которые становятся тем более выраженными, чем медленнее они двигаются и чем плотнее они собираются, с соответствующей потерей своих особенностей.
Доказательство, ради которого я вставил это краткое описание, было бы подкреплено упоминанием «стирания границы между наблюдателем и наблюдаемым», которое многие считают даже более важным переломом в мышлении, тогда как, по моему мнению, оно представляется очень переоцененной временной стороной без глубокого значения. Во всяком случае, моя точка зрения следующая. Современное развитие — а те, кто выдвинул его вперед, все еще далеки от действительного понимания — вторглось в относительно простую схему физики, которая к концу девятнадцатого века выглядела довольно стабильной. Это вторжение, в известном смысле, отбросило то, что было построено на основах, заложенных в семнадцатом веке, главным образом, Галилеем, Гюйгенсом и Ньютоном. Пошатнулись сами основы. И дело не в том, что мы не везде все еще находимся под очарованием этого великого периода. Мы все время пользуемся его основными концепциями, хотя и в виде, который их авторы вряд ли бы узнали. В то же самое время мы осознаем, что находимся на пределе своих возможностей. Тогда естественно напомнить, что мыслители, начавшие создавать современную науку, не начинали все с самого начала. Хотя они были вынуждены немногое заимствовать из первых веков нашей эры, они поистине возродили и продолжили античную науку и философию. Из этого источника, внушающего благоговение как своей удаленностью во времени, так и своим подлинным величием, отцы современной науки могли брать ранее сложившиеся идеи и недозволенные предположения, и с по-
18
мощью их авторитета все это вскоре сохранится навсегда. Если бы был сохранен чрезвычайно гибкий и непредубежденный дух, что пропитывал античность, то продолжилось бы обсуждение подобных вопросов, и в них могли бы быть внесены изменения. Предубеждение намного легче определить в первозданном бесхитростном виде, в котором оно впервые возникает, а не в уточненной окостеневшей догме, которой оно, возможно, станет позже. Наука отнюдь не представляется поставленной в тупик прочно укоренившимися привычками мышления, некоторые из которых, по-видимому, очень трудно обнаружить, в то время как другие уже установлены. Теория относительности уничтожила понятия Ньютона об абсолютном пространстве и времени, другими словами, абсолютной неподвижности и абсолютной одновременности, и она вытеснила освященную веками пару «сила и материя», по крайней мере с ее доминирующей позиции. Квантовая теория, хотя и распространила атомизм почти безгранично, в то же время ввергла его в кризис, который намного серьезнее, чем готово признать большинство людей. В целом, сегодняшний кризис в современных главных научных вопросах указывает на необходимость пересмотра ее основ вплоть до самых начальных уровней.
В таком случае, для нас это еще один стимул снова обратиться к усердному изучению греческой мысли. Существует не только, как указывалось ранее в этой главе, надежда раскрыть уничтоженную мудрость, а также обнаружить глубоко укоренившуюся ошибку у ее истока, где ее легче опознать. С помощью серьезной попытки возвратиться в интеллектуальную среду античных мыслителей, гораздо меньше знавших то, что касается действительного поведения природы, но также зачастую значительно менее предвзятых, мы можем вновь обрести у них свободу мысли, хотя бы, возможно, для того, чтобы использовать ее, с нашим лучшим знанием фактов, для исправления их ранних ошибок, которые все еще могут ставить нас в тупик.
Разрешите мне завершить эту главу несколькими цитатами. Первая имеет близкое отношение к тому, что только что было сказано. Это перевод из книги Теодора Гомперца Griechische Denker (Греческие мыслители)9 . Для того чтобы предупредить возможное возражение, что из изучения древних, которое долгое время было вытеснено лучшей проницательностью, основанной на информации в значительной степе-
9Vol.I, р. 419 (3rd ed. 1911).
19
ни более высокого качества, не может возникнуть никакого практического преимущества, приведен ряд аргументов, который заканчивается следующим замечательным параграфом:
Даже намного большее значение представляет напоминание о непрямом образе применения или использования, который должен рассматриваться как крайне важный. Почти все наше интеллектуальное образование берет начало у греков. Совершенное знание этих истоков является необходимым предварительным условием для освобождения себя от их непреодолимого влияния. Игнорировать здесь прошлое не только нежелательно, но просто невозможно. Вам не нужно знать учения и труды великих мастеров античности, Платона и Аристотеля, у вас никогда не возникало необходимости услышать эти имена, тем не менее вы зачарованы их авторитетом. Их влияние передалось не только тем, кто учился у них в древности и современности; все наше мышление, логические категории, в которых оно осуществляется, используемые им лингвистические образцы (поэтому они властвуют над ним) — все это ни в малейшей степени не является артефактом, а в основном плодами великих мыслителей античности. Конечно, мы должны исследовать этот процесс становления со всей основательностью, чтобы не принять за примитивное то, что является результатом развития и расширения, а за естественное то, в действительности оказывается искусственным.
Следующие строки взяты из предисловия книги Джона Бернета Ранняя греческая философия (Early Greek Philosophy): «...для описания науки достаточно сказать, что это «размышление о мире подобно грекам». Поэтому наука существовала исключительно среди тех людей, кто оказался под влиянием Греции». Это самое сжатое объяснение, которое мог бы пожелать ученый для того, чтобы оправдать свою склонность «тратить время» на исследования подобного рода.
А оправдание, по-видимому, необходимо. Эрнст Мах, физик и коллега Гомперца по Венскому университету, и выдающийся историк (!) физики, несколько десятилетий назад говорил о «скудных и жалких остатках античной науки»10. Он продолжает следующим образом:
10Popular Lectures,3rd ed., essay no. XVII (J. A. Barth, 1903).
20
Наша культура постепенно приобрела полную независимость, намного возвысившись над античной. Она следует совершенно новому направлению. Она сосредоточена вокруг математического и научного просвещения. Следы античных идей, все еще влачащие жалкое существование в философии, юриспруденции, искусстве и науке, составляют скорее препятствия, чем ценный вклад в них, и в конечном счете перед лицом развития наших собственных взглядов станут несостоятельными.
Несмотря на свою высокомерную грубость, у точки зрения Маха есть важный общий момент с приведенными мною выше словами Гомперца, а именно, призыв для нас превзойти греков. Но в то время как Гомперц обосновывает нетривиальный поворот явно верными аргументами, Мах решает тривиальную сторону с помощью грубого преувеличения. В других отрывках той же статьи он рекомендует причудливый метод постичь больше античности, а именно, не обращать внимание и игнорировать ее. В этом, насколько мне известно, он почти не добился успеха, — к счастью, поскольку ошибки великих, обнародованные вместе с открытиями их гения, способны вызвать серьезное опустошение.
21
Глава 2
Соперничество: разум против чувств
Короткий отрывок из Бернета и более длинная цитата из Гомперца в конце предыдущей главы составляют выбранную, так сказать, «тему», этой небольшой книги. Мы вернемся к ним позже, когда попытаемся ответить на вопрос: в чем же в таком случае заключается греческий способ размышления о мире? Каковы те особые черты в нашем сегодняшнем научном взгляде на мир, что берут начало у греков, особыми открытиями которых они явились, те, что до такой степени оказались искусственными, только исторически созданными, а не неизбежными, и поэтому допускающими перемены или изменения, и которые мы по укоренившейся привычке можем считать естественными и неотъемлемыми, как единственный возможный способ взгляда на мир?
Однако в настоящий момент мы пока не будем касаться этого основного вопроса. Скорее, некоторым образом подготовив ответ, мне хотелось бы ввести читателя в мир античной греческой мысли, что, я считаю, является весьма актуальным в нашей ситуации. При этом я не буду следовать хронологическому порядку. Ибо у меня нет ни желания, ни квалификации писать краткую историю греческой философии, в этой области в распоряжении читателя существует столько много хороших, современных и привлекательных книг (особенно Бертрана Рассела и Бенджамина Фаррингтона). Вместо того чтобы следовать порядку во времени, пусть нами руководит подлинное родство тем. Оно скорее сведет вместе различные суждения мыслителей по одной и той же проблеме, чем позиция одного философа или группы мудрецов по самым разным вопросам. Здесь мы хотим воссоздать именно идеи, а не отдельные личности или умы. Поэтому мы выберем две-три ведущих идеи из лейтмотива мысли, которые возникли на раннем этапе, не давали покоя умам в течение столетий эпохи античности, и близко родственны, или даже идентичны, задачам, вызывающим бьющую через край энергию оживленных споров вплоть до настоящего момента. Сгруппировав принципы античных мыслителей вокруг этих ведущих
22
идей, мы почувствуем, что их интеллектуальные радости и печали находятся ближе к нашим собственным, чем это иногда предполагают.
Широко обсуждаемый вопрос, снискавший большую известность в натурфилософии древних с самого возникновения в глубине веков и пронесенный через столетия, касается надежности чувств. Во всяком случае именно под этим названием данная проблема часто рассматривается в современных ученых трактатах. Она возникла из наблюдения, что чувства время от времени «обманывают» нас, как когда прямая балка, наполовину погруженная под углом в воду, кажется сломанной, а также из замечания, что один и тот же предмет влияет на разных людей по-разному: распространенным примером в античности был мед, имевший горький вкус для больных желтухой. Вплоть до недавнего времени некоторые ученые обычно довольствовались разграничением между тем, что они предпочитали называть «вторичными» качествами вещества — цветом, вкусом, запахом и т. д. и его «основными» свойствами — протяженностью и движением. Это разграничение, без сомнения, является последним отголоском старого спора, попыткой решения: ранее полагали, что основные свойства являются сущностью, истинной и непоколебимой, извлеченной разумом из непосредственных данных нашего чувственного восприятия. Конечно, эта точка зрения больше неприемлема, так как мы узнали из теории относительности (если мы не знали этого раньше), что пространство и время, а также форма и движение материи в пространстве и времени являются тщательно разработанным гипотетическим построением ума, поддающимся изменению, поэтому имеющим гораздо меньшее значение, чем непосредственные ощущения, которые, пожалуй, заслуживают эпитета «основные».
Но надежность чувств является только преамбулой к намного более глубоким вопросам, которые очень остро встают сегодня и которые античные мыслители полностью осознавали. Основывается ли наша попытка создания картины мира исключительно на основе чувственных восприятий? Какую роль в этом создании играет разум? Возможно, что в конечном счете она основана и поистине держится исключительно на чистом разуме?
Среди триумфального шествия экспериментальных открытий в девятнадцатом веке любая философская точка зрения с сильной симпатией к «чистому разуму» получала «плохие отметки», особенно среди ведущих ученых. Теперь это не так. Покойный сэр Артур Эддингтон проявлял все большую и возрастающую привязанность к теории чисто-
23
го разума. Хотя немногие поддержали бы его до конца, его толкованием восхищались как весьма остроумным и плодотворным. В конце концов Макс Борн счел необходимым написать памфлет с опровержением. На Сэра Эдмунда Уиттекера, мягко выражаясь, оказало очень большое воздействие заявление Эддингтона о том, что некоторые якобы чисто эмпирические константы могут быть выведены на основе чистого разума, например, общее число элементарных частиц во вселенной. Не углубляясь в подробности и приняв более широкий взгляд на усилия Эддингтона, которые явились результатом сильной веры в разумность и простоту природы, мы убеждаемся, что его идеи ни в коем случае не одиноки. Даже замечательная теория гравитации Эйнштейна, основанная на разумных экспериментальных доказательствах и твердо подкрепленная новыми фактами наблюдений, которые он предсказал, могла быть открыта только гением с сильным чувством простоты и красоты идей. Попытки обобщить его великий удачный замысел, с тем чтобы охватить электромагнетизм и взаимодействие ядерных частиц, полны надежды в значительной мере «догадаться», каким образом в самом деле действует природа, получить ключ на основе принципа простоты и красоты. Действительно, следами этой позиции испещрены исследования современной теоретической физики — может быть их даже слишком много, но здесь не место для критики.
Крайние точки зрения относительно попытки построения a priori на основе разума действительного поведения природы могут быть в последнее время представлены именами Эддингтона, с одной стороны, и, например, Эрнста Маха, с другой. Весь спектр возможных позиций среди этих крайностей и высшая степень приверженности одной точке зрения, защита ее и атака, даже высмеивание отвергаемой альтернативы, представлены выдающимися личностями среди великих мыслителей античности. Мы право не знаем, следует ли нам удивляться, что они, со своим безгранично внутренним знанием действительных законов природы, могли разработать все многообразие мнений об их основе и выразить горячее рвение в защиту лично ими поддерживаемого, или скорее следует удивляться, что полемика все еще не умолкла, подавленная далеко идущей способностью проникновения в суть явлений, которую мы приобрели с тех пор.
Парменид, живший в Элее, Италия, приблизительно в 480 до и. э. (примерно десятилетие спустя в Афинах родился Сократ, а еще чуть больше, чем через десятилетие Демокрит в Абдере), стал одним из пер-
24
вых, кто развивал крайне антисенсуалистический, априористично понимаемый взгляд на мир. Его мир включал очень мало и это малое находилось в явном противоречии с наблюдаемыми фактами, что он был вынужден дать наряду со своей «истинной» концепцией этого малого заманчивое описание (как нам следует выразиться) «мира каким в действительности он является», где есть небо, Солнце, Луна и звезды и, несомненно, многие другие вещи. Но, говорил он, это есть только наша вера, которая возникает благодаря обману чувств. Поистине в мире существует не слишком много вещей, а есть только Единое Сущее. И это Единое Сущее есть (я прошу прощения) сущее, которое есть, в отличие от сущего, которого нет. Это последнее, исходя из чистой логики, не есть, — и, таким образом, есть только Единое Сущее, названное первым. Более того, ни в пространстве, ни в любой момент времени не может быть места, где или когда этого Единого нет — ибо будучи сущим, которое есть, оно не может нигде и никогда допустить противоречащего утверждения, что его нет. Следовательно, оно вездесущее и вечное. Здесь не может быть изменения или движения, так как нет пустого пространства, в которое это Единое могло бы переместиться и где его еще не было бы. Все, что, как мы полагаем, свидетельствует о противоположном, есть обман.
Читатель заметит, что мы встретились скорее с некой религией — изложенной, между прочим, прекрасными греческими стихами — а не с научным взглядом на мир. Но в то время подобное различие не было очевидным. Религия или почитание богов для Парменида, несомненно, принадлежали явному миру «веры». Его «истина» была самым чистым монизмом, который когда-либо появлялся. Он основал школу (элейскую) и оказал огромное влияние на следующие поколения. Платон очень серьезно воспринял критику элейской школой своей «теории форм». В диалоге, который он назвал в честь нашего мудреца и отнес ко времени до своего собственного рождения (времени, когда Сократ был молодым человеком), Платон излагает эти возражения, но едва ли пытается их опровергнуть.
Разрешите мне вставить одну деталь, которая возможно являет собой нечто большее, чем деталь. Из приведенной выше краткой характеристики, в которой я следовал обычному толкованию, могло показаться, что догматизм Парменида относился к материальному миру, который он заменил чем-то еще в соответствии со своим вкусом и явном противоречии с наблюдением. Но его монизм был значительно глубже.
25
В одном из текстов, приведенных Дильсом1, фрагмент 5 Парменида
«ибо мышление и бытие есть одно и то же»
непосредственно логически вытекает из приведенного высказывания Аристофана «мышление имеет ту же силу, что и действие». И опять в первой строке фр. 6 читаем:
и высказывание, и мышление есть сущее, которое есть;
и во фр. 8, строки 34 f.,
Единое и то же самое есть мышление, и то, ради чего там есть мысль.
Я привел трактовку Дильса и отказался от возражения Бернета, что потребовался бы определенный артикль, чтобы сделать греческие инфинитивы, которые я передал как существительные «мышление» («the thinking») и «бытие» («the being»), подлежащими предложения. В переводе Бернета фр. 5 теряет родство с утверждением Аристофана, тогда как строка из фр. 8 в передаче Бернета становится явно тавтологической: «Сущее, о котором может быть мысль, и сущее, ради которого существует мысль, есть одно и то же».
Разрешите добавить замечание Плотина (приведенное Дильсом для фр.5), в котором он говорит, что Парменид «объединил в единое целое сущее, которое есть, и разум и не вложил сущее, которое есть, в ощущения. Говоря «ибо мышление и бытие есть одно и то же», он также говорит, что последнее неподвижно, даже если возвращаясь к мышлению, он лишает его любого движения, подобно телу». [... εἰς ταῦτο συνῆγεν ὂν καὶ τὸὂνοὐκἐντοῖς αἰσθητοῖς ἐτίθετο. τὸ γὰραὐτὸ νοεῖν ἐστίν τε καὶ εἶναι λέγωνκαὶ ἀκίνητον λέγει τοῦτο, καίτοι προστυθεῖς τὸ νοεῦ σωματικὴν πᾶσαν κίνησιν ἐξαιρῶν ἀπ’ αὐτὸῦ.]
На основе этого повторяющегося подчеркивания тождественности ὂν (сущего, которое есть) и νοεῖν (мышления) или νόημα(мысли) и того смысла, который приписывали его утверждениям мыслители античности, мы должны сделать вывод, что неподвижное, вечное Единое Парменида не означало причудливый, искаженный и неадекватный
1 Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin, 1903, 1st ed.
26
мысленный образ реального мира вокруг нас, как будто его истинная природа составляла однородную, спокойную жидкость, всегда заполняющую все пространство без границ — упрощенная гиперсферическая вселенная Эйнштейна, как был бы склонен назвать ее современный физик. Его позиция состоит в том, что он не склонен воспринимать материальный мир вокруг нас как данную реальность. Истинную реальность он вкладывает в мысль, в предмет познания, как следует сказать. Мир вокруг нас — это результат ощущений, образ, созданный чувственным восприятием в субъекте мышления «особенностью веры». То, что он полагает будто этот мир заслуживает внимания и описания, поэт-философ показывает во второй части своей поэмы, которая всецело посвящена этому миру. Но то, что дают нам чувства — это не тот мир, какой он есть в действительности, не «вещь в себе» как определил его Кант. Последний пребывает в субъекте, в том, что это субъект способный мыслить, способный, по крайней мере, к некоторой умственной деятельности — вечно волевой, как это обозначил Шопенгауэр. У меня нет сомнений, что это именно и есть вечное, неподвижное Единое нашего философа. Оно остается действительно не затронутым, неизменяемым тем преходящим зрелищем, что демонстрируют ему чувства — то же, что Шопенгауэр утверждал о воле, которая, как он пытался объяснить, была кантовской «вещью в себе». Мы встретились с поэтической попыткой — поэтической не только потому, что она изложена в метрической форме — объединения Разума (или если вы предпочитаете Души), Мира и Божества. Столкнувшийся с глубоко осознанным единством и неизменяемостью Разума, явный калейдоскопический характер Мира вынужден уступить и считаться не более чем иллюзией. Несомненно, это кончается невероятным искажением, которое восстанавливается, так сказать, второй частью поэмы Парменида.
Верно, что эта вторая часть косвенно выражает печальную несовместимость, которую однако нельзя устранить ни одной трактовкой. Если реальность упразднена из материального мира чувств, то является ли в таком случае последний μὴὸῦсущим, которого действительно не существует? И не является ли в таком случае вся вторая часть волшебной повестью о вещах, которых нет? Но, по крайней мере, говорится, что она имеет отношение к убеждениям (δόξαι) человека; они находятся в уме (νοεῖν), который отождествляется с существованием (εἶναι); не присуще ли им тогда некоторое существование как явлениям
27
ума? Это вопросы, на которые мы не можем ответить, противоречия, которые мы не можем снять. Мы должны удовольствоваться этим и помнить, что тот, кто впервые прикасается к глубокой скрытой истине, которая противоречит общепринятому мнению, обычно до известной степени ее преувеличивает, вследствие чего, вероятно, запутывается в логических противоречиях.
Теперь обратимся к краткому рассмотрению взглядов кого-нибудь, кто представляет другую крайность на шкале возможных позиций по отношению к вопросу, является ли главным источником истины непосредственная чувственная информация или мыслящий человеческий ум, и, таким образом, имеет более полное, или даже, правильнее сказать, единственное право на реальное существование. В качестве выдающегося примера чистого сенсуализма мы приведем великого софиста Протагора, родившегося примерно в 492 году до и. э. в Абдере (которая через поколение около 460 года до и. э. дала жизнь великому Демокриту). Протагор считал чувственные ощущения единственными вещами, которые действительно существуют, единственным материалом, из которого составлена наша картина мира. В принципе, все они должны считаться в равной степени истинными, даже когда они изменены или искажены лихорадкой, болезнью, отравлением или безумием. Обычным примером в античности был вкус меда, горький для больных желтухой, тогда как другим людям он казался сладким. Протагор не имел ничего против «кажущегося» или иллюзии в обоих случаях, хотя, говорил он, наш долг попытаться вылечить людей, страдающих подобными аномалиями. Он не был ученым (ничуть не больше, чем Парменид), хотя питал глубокий интерес к ионийскому просвещению (о котором мы поговорим позже). По мнению Б. Фаррингтона усилия Протагора были сосредоточены на отстаивании прав человека вообще, на поддержке более справедливой социальной системы, равных гражданских прав для всех людей, — короче, истинной демократии. В этом, конечно, он не добился успеха, так как античная культура вплоть до своей гибели продолжала основываться на экономической и социальной системе, которая жизненно зависела от неравенства людей. Самое известное его изречение «человек есть мера всех вещей» обычно воспринимают как относящееся к его сенсуалистической теории познания, но оно может также заключать в себе откровенно социальную позицию по отношению к политическому и общественному вопросу: дела человеческие должны регулироваться законами и обы-
28
чаями, соответствующими природе человека и независящими от традиции или суеверия любого рода. Его отношение к традиционной религии сохранилось в следующих словах, которые также осторожны, как и мудры: «О богах я не могу знать, существуют ли они или же их нет, или же каков их облик, ибо существует много препятствий для верного знания — неясность дела и краткость человеческой жизни».
Самая передовая эпистемологическая позиция, которую я встречал у любого мыслителя античности, ясно и содержательно выражена, по крайней мере, в одном из фрагментов Демокрита. Мы вновь обратимся к нему как великому атомисту. В данный момент достаточно сказать, что он несомненно верил в целесообразность материального взгляда на мир, к которому он пришел, доверяя ему так же твердо, как любой физик нашего времени: твердые, неизменные маленькие атомы, которые двигаются в пустом пространстве вдоль прямых линий, сталкиваются, отскакивают и т. д. и таким образом создают все огромное разнообразие того, что мы наблюдаем в материальном мире. Он верил в это сведение невыразимо богатого многообразия поведения к чисто геометрическим образам, и он был прав в своем убеждении. Теоретическая физика в то время находилась так далеко впереди эксперимента (который едва ли был известен), как никогда прежде или позднее — не говоря уже о нашем времени, которое видит ее ползущей в хвосте. Все же в то же время Демокрит осознавал, что голая интеллектуальная конструкция, которая в его картине мира вытеснила действительный мир света и цвета, звука и аромата, сладости, горечи и красоты, фактически основывалась исключительно на самих чувственных восприятиях, которые, по видимости, исчезли из нее. Во фрагменте D125, взятом у Галена и найденном только около пятидесяти лет назад, он представляет интеллект (διάνοια), спорящий с чувствами (αἰσθήσεις). Первый говорит: «Очевидно существует цвет, очевидно сладость, очевидно горечь, на самом же деле только атомы и пустота»; на что чувства возражают: «Бедный интеллект, и ты надеешься победить нас, несмотря на то, что от нас черпаешь свои доказательства? Твоя победа — это твое поражение.» Просто невозможно выразить это короче и яснее.
Многочисленные другие фрагменты этого великого мыслителя могут быть типичными отрывками трудов Канта: что мы не познаем ничего, что реально существует; что мы поистине ничего не знаем; что истина спрятана глубоко в темноте и т. и.
29
Один скептицизм — это низкое и бесплодное дело. Скептицизм в человеке, который подошел ближе к истине, чем кто-либо еще, и все же ясно осознает ограниченные пределы своей мысленной конструкции, велик и плодотворен и не принижает, а удваивает значение открытий.
30
Глава 3
Пифагорейцы
Судя по людям типа Парменида или Протагора, мы сможем сделать либо немного выводов, либо вообще никаких относительно научной эффективности тех крайних точек зрения, которых они придерживались, поскольку они не были учеными. Прототипом школы мыслителей со строго научной ориентацией и в то же время с заметной предвзятостью, граничащей с религиозным предрассудком, относительно сведения стройной системы взглядов на природу к чистому разуму были пифагорейцы. Основное местонахождение их школы — южная Италия, города Кротон, Сибарис, Тарент вокруг бухты между «каблуком» и «носком» полуострова. Их сторонники организовали нечто очень похожее на религиозный орден с причудливыми обрядами относительно того, что касается пищи и других вещей, окруженный секретностью для посторонних, по крайней мере, в отношении учения1. Основатель, Пифагор, живший во второй половине шестого века до н.э., должно быть, был одним из самых замечательных людей античности, вокруг которых ходили легенды о сверхъестественной силе: что он мог помнить все предыдущие жизни в своих метемпсихозах (переселении души); что кто-то, случайно приподняв его одежду, заметил, что его бедро было из чистого золота. По-видимому, он не оставил ни одной написанной строки. Его слово было как евангелие для его учеников,
о чем свидетельствует известное αὐτὸς ἔφα («так сказал Учитель»), которое прекращало любой спор среди них и окончательно провозглашало непогрешимую истину. Говорят также, что одно произнесение его
1 Многие античные авторы комментируют крупный скандал, который вызвал Гиппас, обнародовав существование пятиугольника-двенадцатигранника или, как говорят другие, некой «несоизмеримости» (ἀλογία) и «асиметрии». Его исключили из Ордена. Упоминают также о других наказаниях: ему подготовили могилу как будто для умершего; он был утоплен в открытом море (мстительным божеством).
Еще один крупный скандал в античности связан со слухом, будто Платон по очень высокой цене купил у одного пифагорейца, который нуждался в деньгах, три рукописных свитка, чтобы пользоваться ими самому без разглашения источников.
31
имени внушало им благоговейный страх, и они говорили о нем «вон тот муж» (ἐκεῦος ἀνήρ). Но нам иногда нелегко решить, ему ли принадлежит то или иное учение, или кому-то из его окружения, вследствие описанного выше характера и позиции общины.
Априористичную точку зрения пифагорейцев, очевидно, восприняли Платон и Академия, на которых произвела глубокое впечатление и оказала сильное влияние школа Южной Италии. Несомненно, с точки зрения истории идей, мы вполне могли бы назвать афинскую школу ветвью пифагорейцев. То, что они формально не присоединились к «Ордену», имеет небольшое отношение к делу, и еще меньшее к нему отношение имеет их страстное желание скорее скрывать, чем подчеркивать свою зависимость с целью усилить свою самобытность. Но своей лучшей информацией о пифагорейцах, как и многой другой информацией, мы обязаны искренним и честным свидетельствам Аристотеля, даже если он, в основном, не согласен с их взглядами и обвиняет их в необоснованной априористичной предвзятости, к которой он сам был так склонен.
Основное учение пифагорейцев, как нам известно, заключалось в том, что вещи — это числа, хотя в некоторых представлениях существует попытка ослабить этот парадокс, говоря «подобны числам», аналогичны числам. Мы далеки от знания того, что действительно означало это утверждение. Очень вероятно, что оно возникло как широкое обобщение действительно производящих сильное впечатление смелости и грандиозности, из известного открытия Пифагором интегрального или рационального последовательных делений (например, ½, 2/3, ¾, струны, создающих музыкальные интервалы, которые, будучи составленными в гармонию песни, могут довести нас до слез, разговаривая, так сказать, непосредственно с душой. (Блестящая аналогия зависимости души и тела, возникшая в Школе, возможно, принадлежит Филолаю: душа названа гармонией тела, она связана с ним, как с музыкальным инструментом связаны звуки, им издаваемые.)
По утверждению Аристотеля «вещи» (которые были числами) в первую очередь являются чувственными, материальными объектами; например, после того как Эмпидокл развил свою теорию четырех элементов, они тоже «стали» числами; свои числа имелись также у таких «вещей», как Душа, Справедливость, Возможность, или они «были» этими числами. При распределении имели значение несколь-
32
ко простых свойств теории чисел. Например, квадраты целых чисел (4, 9, 16, 25, ...) должны были относиться к справедливости, которая особенно ассоциировалась с первым из них, а именно с 4. Здесь, должно быть, в основе всего лежала идея о возможности разложения числа на два равных множителя (сравните слова типа «беспристрастность», «беспристрастный»). Квадрат целого числа точек можно расположить в каре, как, например, в кеглях. Таким же образом пифагорейцы говорили о треугольных числах, таких как 3, 6, 10, ....
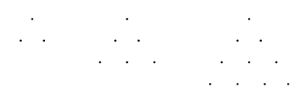
![]() Число получается умножением количества точек вдоль одной стороны (п) на количество точек следующей стороны (n + 1) и делением произведения (которое всегда четное) на два, таким образом, (Самый легкий способ увидеть — это поместить рядом второй треугольник, перевернув его, и сдвинуть фигуру, чтобы получить прямоугольник.
Число получается умножением количества точек вдоль одной стороны (п) на количество точек следующей стороны (n + 1) и делением произведения (которое всегда четное) на два, таким образом, (Самый легкий способ увидеть — это поместить рядом второй треугольник, перевернув его, и сдвинуть фигуру, чтобы получить прямоугольник.

В современной теории «квадрат орбитального момента количества движения» — n(n + 1)h2, а не n2h2, при этом п — целое число. Это замечание приведено только ради иллюстрации того факта, что различение треугольных чисел являлось не просто иллюзией; они действительно достаточно часто появляются в математике.)
Треугольное число 10 пользовалось особым уважением возможно потому, что оно было четвертым и таким образом, указывало на справедливость.
Степень сущего вздора, которая обязательно должна возникнуть при подобных действиях, мы проиллюстрируем из правдивого, но не ехидного свидетельства Аристотеля. Основное свойство числа — нечетность или четность. (Пока все хорошо. Математик знаком с основным различием между нечетными и четными простыми числами, даже если последний класс включает только одно число 2.) Но затем предполагается, что нечетное определяет предельный или конечный характер
33
вещи, а четное становится ответственным за беспредельный или бесконечный характер некоторых вещей. Оно символизирует бесконечную (!) делимость, потому что четное число можно разделить на две равные части. Еще один толкователь находит несовершенство или неполноту (указывающую на бесконечность) четного числа в том, что когда вы делите его на два
![]()
в середине остается пустое поле, у которого нет хозяина и нет числа (ἀδέσηοτος καὶἀνάρυθμος).
Четыре элемента (огонь, вода, земля, воздух), по-видимому, мыслились как состоящие из четырех из существующих пяти геометрически правильных тел, тогда как пятое, двенадцатигранник, приберегали в качестве вместилища всей вселенной, вероятно, потому, что оно было так близко к сфере и ограничивалось пятиугольниками; сама эта фигура играла мистическую роль, как и фигура, продолженная своими пятью диагоналями (5 + 5 = 10), которая образует хорошо известную пентаграмму. Один из первых пифагорейцев, Петрой, утверждал, что существовало также 183 мира, расположенных в треугольнике, — хотя, между прочим, это не треугольное число. Очень ли непочтительно напоминать в этой связи, что совсем недавно один видный ученый сообщил нам, что общее число элементарных частиц в мире 16 х 17 х 2256, где 256 является квадратом квадрата квадрата 2?
Последние пифагорейцы верили в переселение души в самом буквальном смысле слова. Обычно говорят, что и сам Пифагор в это верил. Ксенофан в паре двустиший рассказывает нам про этот эпизод из жизни учителя: когда он проходил мимо маленькой собачки, которую очень жестоко били, им овладело сострадание, и он обратился к мучителю со следующими словами: «Прекрати ее бить; ведь это душа друга, которого я узнал, услышав его голос». Вероятно, со стороны Ксенофана существовало намерение высмеять великого человека за его глупую веру. Сегодня мы не можем не отнестись к этому иначе. Допустим, что эта история действительно имела место, тогда можно предположить намного более простое значение его слов, например, следующее: «Прекрати, ведь я слышу голос испытывающего мучения друга, зовущего меня на помощь». (Выражение «Наш друг — собака» стало ходячим у Чарльза Шеррингтона.)
Теперь вернемся к общей идее, приведенной в начале, идее о том, что числа являются тайной причиной всего. Я сказал, что, очевидно,
34
она возникла из акустических открытий, связанных с длинами колеблющихся струн. Но чтобы отдать ей должное (несмотря на ее безумные ответвления), нельзя забывать, что это было время и место первых великих открытий в математике и геометрии, которые обычно были связаны с некоторым действительным или воображаемым применением к материальным объектам. Сейчас математическая мысль, по существу, состоит в том, что из материального окружения она абстрагирует числа (длины, углы и другие величины) и рассматривает их и их отношения, как таковые. Именно в силу особенностей подобного метода отношения, модели, формулы, геометрические фигуры ..., полученные таким способом, очень часто совершенно неожиданно оказываются применимы к материальному окружению, совершенно отличному от того, из которого их первоначально абстрагировали. Математическая модель или формула абсолютно неожиданно вносит порядок в область, для которой она не была предназначена и о которой при выводе этой математической модели никогда не помышляли. Подобные опыты оставляют весьма сильное впечатление и создают веру в мистическую силу математики. Представляется, что «математика» является причиной всего, так как мы неожиданно находим ее там, куда мы ее никогда не вводили. Этот факт, должно быть, снова и снова поражал молодых знатоков науки; он предстает как важное событие в прогрессе физической науки, как когда — приведем, по крайней мере, один известный пример, — Гамильтон открыл, что движение общей механической системы подчиняется точно таким же законам, что и распространение луча света в неоднородной среде. Сейчас наука стала изощренной, она научилась быть осторожной в таких случаях и не принимать на веру внутреннее сходство там, где может оказаться только формальная аналогия, проистекающая из самой природы математической мысли. Но на ранних стадиях развития наук нас не должны удивлять поспешные заключения о мистической природе чисел, описанные выше.
Пусть неуместным, но забавным современным примером модели, применяемой к совершенно другому окружению, является так называемая переходная кривая в планировании дорог. Изгиб, который связывает два прямых участка дороги, не должен быть просто окружностью, поскольку это означало бы, что автомобилист, сворачивая с прямой, вынужден двигать рулевое колесо резкими толчками. Условие для идеальной переходной кривой является следующим: обязательно необходима равномерная скорость поворота рулевого колеса в первой половине
35
и такая же равномерная скорость его поворота в обратную сторону во второй половине этого перехода. Математическая формулировка этого условия приводит вас к требованию, что кривизна должна быть пропорциональна длине кривой. Оказывается, что у этой кривой весьма специфический характер, который стал известен задолго до появления автомобилей, а именно, спираль Корню. Ее единственным применением, насколько мне известно, была простая, частная задача в оптике, а именно, картина интерференции, возникающая за щелью, освещенной точечным источником; эта задача привела к теоретическому открытию спирали Корню.
Очень простая задача, известная каждому школьнику, — это задача включения между двумя заданными длинами (или числами) р и q третьей #, так чтобы р относилось к х так же, как х к q.
р : x = x : q. (3.1)
Величина х в таком случае называется «геометрическим средним» р и q. Например, если бы q равнялась произведению 9 и р, то х была бы произведением 3 и р и, таким образом, составила бы одну треть q. Отсюда с помощью простого обобщения ясно, что квадрат х равняется произведению pq,
x2 = pq. (3.2)
(Это уравнение также можно получить как следствие общего правила пропорций, а именно: произведение «внутренних» членов равняется произведению «внешних» членов.) Греки объяснили бы эту формулу геометрически как «квадратуру прямоугольника», при этом х является стороной квадрата, площадь которого равна площади прямоугольника со сторонами р и q.Они знали алгебраические формулы и уравнения только в геометрической интерпретации, поскольку, как правило, не существовало числа, соответствующего этой формуле. Например, если принять q равным 2р, Зр, 5р, ... (а р, для простоты просто 1), тогда х является тем, что мы называем ![]() но для них это были не числа; они еще не придумали их. Таким образом, любое геометрическое построение, реализующее приведенную выше формулу, является геометрическим извлечением квадратного корня.
но для них это были не числа; они еще не придумали их. Таким образом, любое геометрическое построение, реализующее приведенную выше формулу, является геометрическим извлечением квадратного корня.
Самый простой способ — это отложить р и qвдоль прямой линии, затем построить перпендикуляр в точке, где они соединяются (N) и пересечь его (в С) окружностью с центром в точке О (средняя точка р + q), проходящей через конечные точки А и В отрезка р + q.
36
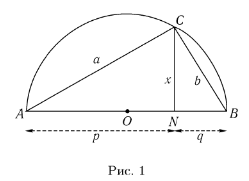
Тогда пропорция (3.1) следует из факта, что АВС — прямоугольный треугольник, при этом С является «углом полуокружности»; который делает три треугольника ABC, ACN, CNB геометрически подобными. В наших треугольниках показаны еще два «геометрических средних», а именно, обозначая р + q= с, гипотенуза
q: b= b: с, поэтому b2= qc,
р : а = а : с, поэтому а2 = рс.
Отсюда следует
a2 + b2 = (р + q)c= с2,
что является простейшим доказательством теоремы Пифагора.
Пропорция (3.1) могла также встречаться у пифагорейцев в совершенно ином окружении. Если р, q, х являются длинами, которые вы откладываете на одной и той же струне с помощью опорных стоек, или просто давлением пальца, как это делает скрипач, тогда х вызывает тон «в середине» тонов, создаваемых р и q; музыкальные интервалы от р до x и от x до qодинаковы. Это может легко привести к задаче разделения заданного музыкального интервала более, чем на две равных ступени. На первый взгляд, она, по-видимому, уводит от гармонии, так как даже если исходное соотношение р : qбыло рациональным, то вставляемые ступени таковыми не будут. И все же именно этот способ включения используется при равнотемпированной настройке пианино с двенадцатью ступенями. Это компромисс, осуждаемый с точки зрения чистой гармонии, но его едва ли можно избежать в инструменте со стандартными тонами.
Архит (известен также своей дружбой с Платоном в Таренте примерно в середине четвертого века) геометрически решил следующий
37
случай нахождения двух геометрических средних (δύο μέσας ἀνὰλογον εὐρεῖν) или разделения музыкального интервала на три равных ступени. С другой стороны, эта задача означает нахождение геометрически кубического корня заданного соотношения q/p. В последней форме — извлечение кубического корня — она была известна как делосская задача2; жрецы Апполона на острове Делос однажды обязали одного оракула удвоить величину их священного камня. Этот камень был кубом, а куб удвоенного объема должен был бы иметь грань в д/2 раза больше заданной.
В современных обозначениях задачу можно записать как
р : х = х : у = у : q, (3.3)
из чего указанным выше способом выводим
х2 = ру, ху = pq. (3.4)
Умножая член на член и сокращая множитель у, имеем:
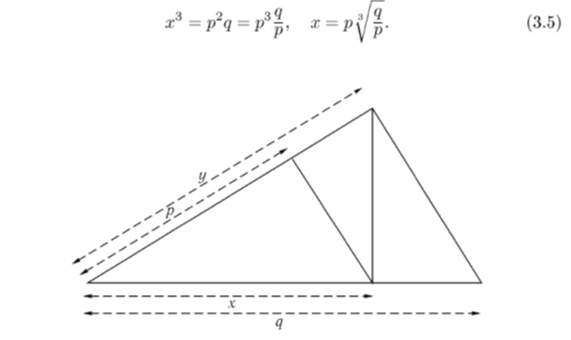
2В значении «трудная задача». — Прим. перев.
38
Решение Архита равносильно повторению построения, приведенного выше, но с использованием второго типа пропорции, упомянутого ранее, который здесь эквивалентен
р : x = x : у и х : у = у : q.
Однако это только конечный результат построения Архита, которое тщательно разработано в пространстве с использованием пересечений сферы, конуса и цилиндра; это действительно столь сложное построение, что в моем (первом) издании книги Дильса Досократики (Presоcraties) рисунок, который предназначался для иллюстрации текста, оказался полностью ошибочным. Конечно, приведенный выше, на первый взгляд, простой рисунок нельзя построить сразу с помощью циркуля и линейки на основе имеющихся данных р и q. Причина заключается в том, что с помощью линейки вы только сможете начертить прямые линии (кривые первого порядка), с помощью циркуля только окружность, которая является частной кривой второго порядка; но чтобы извлечь кубический корень, должна присутствовать заданная кривая, по крайней мере, третьего порядка. Архит весьма изобретательно замещает ее этими кривыми пересечения. Его метод решения не является сверхсложным, как это может показаться, он лишь указывает на тот уровень мастерства, которого он достиг примерно за полвека до Евклида.
Последним моментом в учении пифагорейцев, который мы здесь рассмотрим, является их космология. Она представляет для нас особый интерес, поскольку обнаруживает неожиданную рациональность мировоззрения, изобилующего необоснованными, предвзятыми идеалами совершенства, красоты и простоты.
знали, что Земля является сферой, и, вероятно, именно они первыми узнали об этом. Скорее всего этот вывод они сделали исходя из круговой тени Земли на Луне при лунных затмениях, которые они объясняли более или менее верно (см. далее). Их модель планетарной системы и звезд схематично и кратко показана на следующем рисунке.
Сферическая земля за двадцать четыре часа совершает оборот вокруг неподвижного центра Ц. о. (Центрального огня, но не Солнца!); к этому центру она всегда обращена одним и тем же полушарием (как Луна к нам), которое является необитаемым, потому что там слишком
39
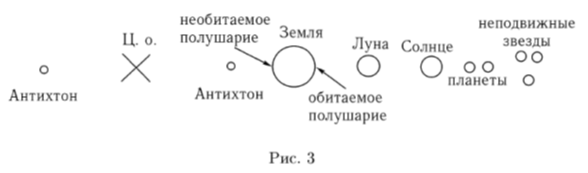
жарко. Предполагается, что девять сфер, расположенных относительно одного центр — Ц. о., несут: (1) Землю, (2) Луну, (3) Солнце, (4-8) планеты, (9) неподвижные звезды, при этом каждая вращается со своей особой скоростью. (Таким образом, выстраивание вдоль прямой линии, как на нашем рисунке, чисто схематическое; оно никогда не могло иметь место.) Существует еще десятая сфера, или, по крайней мере, десятое тело, антихтон3 или контр-Земля, в отношении которой не совсем ясно, находилась ли она по ту же сторону от Центрального огня, что и Земля, или по другую. (На нашем рисунке представлены обе возможности.) Во всяком случае, естественно предполагалось, что все три тела — Земля, Центральный огонь, контр-Земля — находятся всегда на прямой линии, поскольку антихтон никогда не был виден; он был необоснованным измышлением. Его могли выдумать ради священного числа десять, но он также был ответственен за такие лунные затмения, которые возникали, когда и Солнце, и Луна были видны в противоположных точках очень близко к горизонту. Это возможно, потому что вследствие отражения лучей в атмосфере мы видим заходящую звезду, хотя в действительности она уже в течение нескольких минут находится ниже линии горизонта. Так как это явление не было известно, то такие затмения могли представлять трудность, которая привела как к необходимости придумать антихтон, так и к предположению, что Центральный огонь освящает не только Луну, но и Солнце, планеты и неподвижные звезды, и что лунные затмения создаются тенью Земли или антихтона в свете Центрального огня.
На первый взгляд, эта модель представляется такой неправильной, что она, по-видимому, едва ли заслуживает, чтобы ей уделяли какое-либо внимание. Но давайте рассмотрим ее внимательно и будем помнить, что о размерах (а) Земли и (б) орбит ничего не было
3От antiи греч. chthon — земля. — Прим. перев.
40
известно. Известная тогда часть Земли, бассейн Средиземного моря, действительно проходит полный круг за двадцать четыре часа вокруг невидимого центра, к которому она всегда обращена одной и той же стороной. Именно это вызывает быстрое суточное движение, в котором участвуют все небесные тела. Признание этого в качестве единственного истинного движения само по себе явилось великим достижением. Неверным в представлении о движении Земли оказался следующий момент: кроме вращения, выделяли еще полный оборот по орбите с тем же периодом; ошибка заключалась только в отношении периода и центра полного оборота. Эти ошибки, грубые, как они представляются нам, имеют небольшое значение по сравнению с впечатляющим признанием того факта, что Земле отводилась роль одной из планет, так же как Солнцу, Луне и остальным пяти небесным телам, что мы называем планетами. Это замечательный подвиг самоосвобождения от предрассудка, что человек и его обиталище обязательно должны находиться в центре Вселенной; это первый шаг к современной точке зрения, которая рассматривает наш земной шар как одну из планет одной из звезд в одной из галактик Вселенной. Известно, что от этого шага после того, как примерно в 280 году до н. э. его завершил Аристарх Самосский, очень скоро был сделан шаг в обратном направлении, когда был восстановлен предрассудок, имевший место официально, по крайней мере, в некоторых странах света, вплоть до начала девятнадцатого века.
Можно задать вопрос, с какой целью вообще придумали этот центральный огонь. Затруднения при объяснении этих необыкновенных затмений, когда были видны как Солнце, так и Луна, едва ли оказались достаточной причиной4. То, что Луна не имеет собственного света, а освящается другим источником, узнали очень рано. Итак, оба наиболее впечатляющие явления на небесах, Солнце и Луна, очень похожи в своем суточном движении, а также по форме и по размеру; последнее происходит благодаря случайному совпадению, что Луна находится к нам примерно во столько же раз ближе, во сколько раз она меньше. Это обстоятельство непременно заставляет поставить оба явления на одну и ту же основу, перенести все, что известно о Луне на Солнце, и, таким образом, считать, что они оба освещаются одним и тем же источником, которым как раз является гипотетический Центральный огонь. Но поскольку его не видно, то не оставалось иного места, кро-
4Между прочим, нет уверенности, что подобное затмение когда-либо наблюдали.
41
ме как поместить его «под нашими ногами» скрытым от наших глаз нашей собственной планетой.
Эту модель, хотя, возможно, ошибочно, приписывают Филолаю (вторая половина пятого века). Беглый взгляд на ее дальнейшее развитие показывает, что даже грубые ошибки, совершенные под влиянием предвзятых идей о совершенстве и простоте, могут быть относительно безобидными; более того, чем более произвольным и необоснованным является подобное предположение, тем меньший умственный ущерб оно нанесет, так как его быстрее исключат на основании опыта. Как однажды было сказано, лучше ошибочная теория, чем вообще никакой.
В данном случае сначала путешествия карфагенских купцов за пределы «Геркулесовых столбов» и немного позднее поход Александра Македонского в Индию не обнаружили ни Центрального огня или антихтона, ни того, что Земля становится менее населенной за пределами средиземноморской культуры. Поэтому от всего этого следовало отказаться. Когда не стало вымышленного центра (Центрального огня), то, естественно, была оставлена идея о суточном обороте Земли по орбите, которую заменили ее чистым вращением вокруг собственной оси. Среди историков, изучающих античную философию, существует разногласие относительно того, благодаря кому появилось «новое учение о вращении Земли»; некоторые утверждают, что этим учением мы обязаны Екфанту, одному из самых молодых пифагорейцев, другие склонны считать его только участником диалога Гераклита Понтийского (уроженца Гераклии на Черном море, который посещал школы Платона и Аристотеля) и приписывать это «новое учение» (о котором, между прочим, Аристотель упоминает, но отвергает его) Гераклиту. Но, возможно, более важно подчеркнуть, что здесь не возникало вопроса о новом учении; система Филолая уже включала вращение Земли: о теле, которое совершает полный оборот вокруг центра и постоянно обращено к нему одной и той же стороной — как Луна по отношению к Земле — нельзя сказать, что оно не вращается, но оно вращается с периодом как раз равным периоду его полного оборота. Это не изощренное научное описание; да и равенство периодов Луны (и других небесных тел, ей подобных) не является случайным совпадением, а возникает вследствие трения, создаваемого приливами и отливами в ранее существовавшей океанической или атмосферной поверхности Луны или внутри ее тела5.
5Трение, создаваемое приливом и отливом, приводит к (очень слабому) замедле-
42
Итак, как мы установили ранее, система Филолая приписывала Земле, по отношению к Центральному огню, точно такой же вид движения, вращение и полный оборот по орбите с тем же периодом. Исключение этого последнего не означает открытие первого, так как оно уже было открыто. Мы скорее склонны назвать его шагом в неправильном направлении, поскольку движение по орбите существует, хотя и вокруг другого центра.
Но упомянутому выше Гераклиту, который близко общался с последними пифагорейцами, по-видимому, следует приписать честь открытия самого важного шага в направлении признания действительного положения вещей: были замечены поразительные изменения яркости внутренних планет, Меркурия и Венеры. Гераклит правильно объяснил их изменением расстояния от Земли. Следовательно, они не могли двигаться по кругу вокруг последней. Следующий факт, что в своем основном или среднем движении они следовали направлению Солнца, вероятно, помог подсказать правильную точку зрения, что эти две планеты так или иначе двигаются по кругу вокруг Солнца. Аналогичные соображения скоро применили к Марсу, который также проявляет значительные изменения в яркости. В конечном счете, как известно, Аристарх Самосский открыл (примерно в 280 году до н. э.) гелиоцентрическую систему примерно спустя полтора века после Филолая. Ее разумность не признали многие, и еще примерно через 150 лет ее отверг авторитет великого Гиппарха, «Ректора Александрийского Университета», как бы его назвали в наши дни.
Любопытен тот факт (который не смущает здравомыслящего ученого современности), что пифагорейцы со всеми своими предрассудками и предвзятыми идеями о красоте и простоте добились больших успехов, во всяком случае в этом одном важном направлении — понимания строения Вселенной, — нежели здравомыслящая школа ионийских «физиологов», о которых мы вскоре поговорим, и нежели атомисты, ставшие их духовными преемниками. По причинам, которые мы очень скоро укажем, ученые весьма склонны считать ионийцев (Фалеса, Анаксимандра и других) и, прежде всего, великого атомиста Де-
нию вращения Земли. Влияние на Луну обязательно заключается в (очень медленном) удалении от Земли вместе с соответствующим увеличением периода полного оборота Луны. Из этого хочется сделать вывод, что для сохранения точного равенства двух периодов Луны даже сейчас должен действовать некоторый слабый фактор.
43
мокрита своими духовными предшественниками. Но даже последний придерживался представления о плоской земле в форме бубна, которое увековечил среди атомистов Эпикур и которое сохранилось даже у поэта Лукреция в первом веке и. э. Отвращение к необоснованным, причудливым фантазиям и высокомерному мистицизму пифагорейцев могло способствовать тому, что мыслитель с ясным умом типа Демокрита отвергал все их учение, которое производило впечатление произвольной, искусственной конструкции. Все же их способность наблюдать, развитая в тех ранних, простых акустических экспериментах, связанных с колеблющимися струнами, должно быть, дала им возможность признать, сквозь туман своих предрассудков, нечто столь близкое к истине, что оно послужило хорошим основанием, на котором быстро возник гелиоцентрический взгляд на мир. Печально говорить, что ее равным образом быстро отвергли под влиянием ученых Александрийской школы, которые считали себя здравомыслящими учеными, свободными от предрассудков и считающимися только с фактами.
Я не упомянул в этом кратком обзоре об анатомических и физиологических открытиях Алкмеона Кротонского, который был младшим современником Пифагора. Он открыл основные чувственные нервы и считал, что они связаны с мозгом, который он признал центральным органом, ответственным за функционирование ума. Вплоть до того времени и, несмотря на его открытие, долгое время спустя полагали, что с разумом или душой связаны сердце (ἠτορ, καρδιά), диафрагма (φρύευες) и дыхание (πνεύμα, лат. animа>animus),о чем свидетельствуют выражения, использовавшиеся для их метафорического обозначения. Остатки этих метафор можно найти во всех современных языках. Но если мы намерены преследовать нашу настоящую цель, то здесь следует поставить точку. Читатель может легко найти более авторитетную информацию о медицинских достижениях античности в другом месте.
44
Глава 4
Ионийское просвещение
Обратившись теперь к философам, обычно объединяемых под названием милетская школа (Фалес, Анаксимандр, Анаксимен) и, в следующей главе, к некоторым более или менее связанным с ней (Гераклиту, Ксенофану), а затем к атомистам (Левкиппу, Демокриту), разрешите мне указать на два момента. Во-первых, порядок рассмотрения относительно предыдущей главы не является хронологическим; расцвет деятельности трех ионийских «физиологов» (Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена) относится примерно к 585, 565, 545 годам до н. э. соответственно, Пифагора же к 532 году до н. э. Во-вторых, мне хотелось бы обратить внимание на двойственную роль, которую играет вся эта школа в нашем исследовании. Они представляют школу с несомненно научным мировоззрением и целями, так же как и пифагорейцы, но противоположную им в вопросе соперничества: «Разум против чувств», рассмотренного нами во второй главе. Они воспринимают мир как данный нам через наши чувства и пытаются объяснить его, заботясь о наставлениях разума не больше, чем человек с улицы, прямым потомком образа мышления которого является их образ мысли. Действительно, он часто начинается с задач или аналогий с искусством ремесленника и полезен при практическом применении в навигации, картографии, триангуляции. С другой стороны, разрешите мне напомнить читателю нашу основную цель, которая состоит в том, чтобы найти определенные и отчасти искусственные особенности современной науки, которые, по предположению (Гомперц, Бернет), берут начало в греческой философии. Мы предложим и обсудим две такие особенности, а именно, предположение, что мир можно понять, и упрощающий условный прием исключения личности «того, кто понимает» (субъекта познания) из рациональной картины мира, которую следует построить. «Первая» особенность несомненно берет начало от трех ионийских «физиологов» или, если хотите, от Фалеса. Вторая, исключение субъекта, стала прочно укоренившейся привычкой прошлого. Она превратилась в неотъем-
45
лемую особенность любой попытки сформировать картину объективного мира, подобно тому как это делали ионийцы. Тот факт, что это исключение было специальным приемом, настолько мало осознавали, что предпринимались попытки обнаружить субъект в пределах материальной картины мира в форме души, как материальной, созданной из особенно прекрасной, изменчивой и подвижной материи, так и духовной субстанции, которая взаимодействует с материей. Эти наивные толкования уходят вглубь столетий и даже сегодня не вышли из употребления. Хотя мы не можем выделить «исключение» в качестве определенного шага, на который решились сознательно (каковым он, вероятно, никогда не был), но мы находим во фрагментах Гераклита (расцвет деятельности приблизительно в 500 году до н. э.) замечательное свидетельство того, что он о нем знал. И фрагмент Демокрита, который мы уже однажды цитировали в конце главы II, доказывает, что он был обеспокоен тем, что его атомистическая модель мира лишена всех субъективных качеств, чувственных данных, на основе которых была построена.
Движение, названное ионийским просвещением, зародилось в том, воистину замечательном шестом веке до н.э.; причем случилось так, что в этом же веке на Дальнем Востоке зародились духовные направления, имевшие грандиозные последствия; они связаны с именами Гаутамы Будды (родился примерно в 560 году до н. э.), Лао-цзы и его младшего современника Конфуция (родился в 551 году до н.э.). Ионийская школа возникла, очевидно, из ничего в небольшом крае под названием Иония на западном побережье Малой Азии и на островах рядом с ним. Особенно благоприятные географические и исторические условия, возникшие там, впоследствии часто описывали намного более замечательными словами, чем есть в моем распоряжении; ситуация благоприятствовала развитию свободного, здравого, разумного мышления. С вашего позволения я отмечу здесь три момента.
Во-первых, эта область (как южная Италия во времена Пифагора) не принадлежала к большому могущественному государству или империи, которые обычно враждебно относятся к свободному мышлению. В политическом отношении она состояла из многих малых, самоуправляющихся и состоятельных городов или островов-государств, как республик, так и тираний. В обоих случаях ими, по-видимому, очень часто управляли лучшие умы, что во все времена было довольно исключительным событием.
46
Во-вторых, ионийцы, населяющие острова и весьма изрезанное побережье материка, были мореплавателями, оказавшимися между Востоком и Западом. Их процветающая торговля была связующим звеном при обмене товарами между побережьями Малой Азии, Финикии и Египта, с одной стороны, и Греции, южной Италии и южной Франции с другой. Торговый обмен всегда и везде был, и сейчас остается, основным средством обмена идеями. Так как люди, между которыми сначала происходит этот обмен, не кабинетные ученые, поэты или учителя философии, а моряки и купцы, то он обязательно начинается с практических задач. Изготовление механизмов, новые технические приемы в ремеслах, средства передвижения, помощь в навигации, системы расположения гаваней, сооружение причалов и складов, использование водных запасов и т. и. — вот те вещи, которые в первую очередь один народ узнает от другого. Быстрое развитие технического мастерства, которое приводит к появлению знающих людей на основе жизненного процесса подобного рода, возбуждает умы мыслителей-теоретиков, которых часто призывают на помощь при овладении каким-либо недавно изученным мастерством. Если они сами обращаются к абстрактным задачам о физическом устройстве мира, то во всем их образе мышления будут видны следы практического происхождения, ставшего отправной точкой. Именно это характерно для ионийских философов.
Что касается третьего благоприятного обстоятельства, мы уже обращали внимание, что эти сообщества, кратко выражаясь, не находились под властью духовенства. Там, в отличие от Вавилона или Египта, не было наследственной привилегированной касты жрецов такого рода, что если даже сами они и не были правителями, то обычно были на их стороне, препятствуя развитию новых идей, так как обладали инстинктивным чувством, что любая перемена мировоззрения, в конечном итоге, обернется против них и их привилегий. Но довольно об условиях, которые благоприятствовали возникновению новой эры независимой мысли в Ионии.
Многие школьники или студенты, возможно, встречали в учебнике или еще где-то краткий обзор учений Фалеса, Анаксимандра и других. Прочитав о том, как один учил, будто основой всего была вода, другой утверждал, что воздух, а третий видел в основе всего огонь, и узнав о таких странных идеях, как огненные каналы с окнами в них (небесными телами), направленных вверх и вниз атмосферных потоках и т. д., можно основательно заскучать или удивиться, почему необходимо про-
47
явить интерес к подобной наивной устаревшей чепухе, которая, как мы знаем, не имеет никакого отношения к существу вопроса. В чем же тогда заключается то великое, что произошло в то время в истории идей, что заставляет нас называть это событие Рождением Науки и говорить о Фалесе Милетском как о первом ученом в мире (Бернет)?
Великая идея, которая воодушевила этих людей, заключалась в том, что мир вокруг них есть нечто, что можно понять, если только взять на себя труд наблюдать его должным образом. Этот мир не площадка для игр богов, приведений и духов, которые действуют под влиянием минуты и более или менее произвольно, которыми движут страсти, гнев, и любовь, и желание отомстить, которые выражают свою ненависть и могут успокоиться при религиозных жертвоприношениях. Эти люди освободились от суеверий и позабыли обо всем этом. Они видели мир как довольно сложный механизм, действующий в соответствии с вечными законами природы, и им было любопытно их открыть. Безусловно, это остается фундаментальной позицией науки вплоть до наших дней. Для нас она стала плотью от плоти настолько, что мы забыли, что кто-то должен был ее открыть, сделать ее программой и начать ее осуществлять. Любознательность — это стимул. Первое требование к ученому — быть любознательным. У него должна быть способность удивляться и стремиться узнавать. Платон, Аристотель и Эпикур подчеркивают значение способности удивляться (θαυμάζειν). И это не мелочь, если она имеет отношение к общим вопросам о мире как о целом; ибо, несомненно, она дается нам лишь однажды, и у нас нет ничего иного, с чем ее можно сравнить.
Мы называем это первым шагом, шагом первостепенной важности, полностью независимым от адекватности реально предлагаемых объяснений. Я полагаю, что было бы правильно сказать, что он оказался абсолютным новшеством. Конечно, вавилоняне и египтяне кое-что знали о закономерностях орбит небесных тел и особенно о затмениях. Но они относились к ним как к религиозным тайнам и были далеки от того, чтобы искать естественные объяснения. И уж конечно, они даже не пытались размышлять об исчерпывающем описании мира с точки зрения подобных закономерностей. В поэмах Гомера непрерывное вмешательство богов в естественные события, вызывающие отвращение человеческие жертвоприношения, описанные в Илиаде, в общих чертах иллюстрируют все вышесказанное. Но для того чтобы признать выдающееся открытие ионийцев в создании впервые истинно научного
48
мировоззрения, нам нет необходимости противопоставлять их тем, кто был их предшественниками. В искоренении суеверий ионийцы добились столь немного, что во все последующие времена, вплоть до наших дней, не было эпохи, которая не была бы пропитана суевериями. Здесь я имею ввиду не распространенные верования, а неустойчивую позицию даже действительно великих людей, таких как Артур Шопенгауэр, сэр Оливер Лодж, Рейнер Мария Рильке, и это далеко не полный список. Позиция ионийцев продолжала жить в учении атомистов (Левкиппа, Демокрита, Эпикура, Лукреция) и научных школах Александрии, хотя и по-разному; но, к сожалению, исследование природы и научный поиск разошлись в последние три века до н.э., так же как они разошлись в современности. После этого научное мировоззрение медленно умирало, когда в первых веках новой эры мир стал постепенно интересоваться этикой и различными сортами метафизики и не питал интерес к науке. И только в семнадцатом веке научное мировоззрение вновь получило импульс для развития.
Второй шаг, почти равного значения, также можно найти у Фалеса. Это признание того, что вся материя, из которой состоит мир, несмотря на все свое бесконечное разнообразие, все же имеет столь много общего, что она должна быть по сути одним и тем же веществом. Мы можем назвать это гипотезой Пруста в эмбриональном состоянии. Это был первый шаг к пониманию мира и тем самым к реализации того, что мы назвали первым шагом — убеждения, что его можно понять. С современной точки зрения мы должны сказать, что этот шаг коснулся самого существенного момента и оказался удивительно адекватным.
Фалес отважился рассматривать воду (ὔδωρ) как вещество, лежащее в основе всего. Но нам лучше наивно связывать его не с нашей Н2О, а скорее с жидкостью (τὰ ὐγρά) вообще. Возможно, он заметил, что вся жизнь, по-видимому, возникла в жидкости или из влаги. Полагая наиболее знакомую жидкость (воду) единственным материалом, из которого все состоит, он неявно утверждал, что физическое состояние вещества (твердое, жидкое, газообразное) носит вторичный не столь существенный характер. Мы не можем считать, что он был удовлетворен — как приличествует современному уму — простым утверждением: мы только дадим этому имя, назовем это материей (ὔλη)и исследуем ее свойства. Новое открытие обычно преувеличивают и очень часто формулируют в гипотезу, где слишком много частностей, которые позднее
49
стираются. Это происходит из-за нашего сильного желания «узнать», из побуждения научной любознательности, которая столь важна для узнавания всего, как мы уже говорили. Довольно интересное мнение, которое доксографы приписывают Фалесу, состоит в том, что земля плавает по поверхности воды «как кусок дерева»; это должно означать, что значительная ее часть погружена в воду. С одной стороны, оно напоминает старый миф об острове Делосе, носившемся по морю, пока Латона не родила близнецов Апполона и Артемиду; но при этом оно также удивительно сродни современной теории изостазии, в соответствии с которой континенты дрейфуют по жидкости, хотя и не совсем по воде океанов, а по более тяжелому расплавленному веществу под ними.
По сути, «преувеличение» или «поспешность» Фалеса в создании общей гипотезы вскоре были исправлены его учеником и последователем (ἐταῖρος) Анаксимандром, который был моложе его примерно на двадцать лет. Он отрицал, что всеобщий материал, лежащий в основе мира, похож на какое-либо известное вещество и придумал для него название, дав ему имя Безграничное (ἀπειρον). Этот интересный термин наделал в античности много шума, как будто он был ничем иным, как вновь придуманным названием. Я не буду на нем останавливаться, а перейду к направлению весьма ценных физических идей, обозначив то, что я бы назвал третьим важным шагом в их развитии. Он возник благодаря Анаксимену, последователю и ученику Анаксимандра, моложе его еще примерно на двадцать лет (умер примерно в 526 году до н.э.). Он осознал, что наиболее очевидными превращениями материи были «разрежение и сгущение». Он явно отстаивал положение, что любой тип вещества можно преобразовать при соответствующих обстоятельствах в твердое, жидкое или газообразное состояние. Веществом, лежащим в основе всего, он предпочитал считать воздух, таким образом снова ступая на более твердую почву по сравнению со своим учителем. Несомненно, если бы он сказал «диссоциированный водородный газ» (подобного высказывания от него вряд ли можно было ожидать), то он оказался бы очень близок к современной точке зрения. Во всяком случае, говорил он, из воздуха с помощью дальнейшего разрежения образовывались более легкие тела (а именно, огонь и более легкий чистый элемент в верхних слоях атмосферы), тогда как туман, облака, вода и твердая земля появились в результате последовательных этапов сгуще-
50
ния. Эти утверждения настолько достаточны и верны, насколько они вообще могли быть сформулированы на основе знаний и понятий того времени. Обратим внимание, что это вопрос не только небольших изменений объема. При переходе от обычного газообразного состояния к твердому или жидкому состоянию плотность возрастает в одну-две тысячи раз. Например, кубический дюйм водяного пара при атмосферном давлении при сгущении уменьшается до капли воды, диаметр которой немного более одной десятой дюйма. Точка зрения Анаксимена, что жидкая вода и даже крепкий твердый камень образованы сгущением основного газообразного вещества (хотя она, по-видимому, означает то же самое, что и противоположный взгляд Фалеса) все же и смелее, и намного ближе к нашим современным взглядам. Ведь мы действительно считаем газ простейшим, первичным, «неагрегированным» состоянием, из которого проистекает относительно более сложное образование жидкостей и твердых тел при вмешательстве факторов, которые в газе играют второстепенную роль. То, что Анаксимен не предавался абстрактным фантазиям, но стремился применить свою теорию к конкретным фактам, можно увидеть в поразительно точной проницательности, которую он проявил в отдельных случаях. Так он говорит нам о разнице между градом и снегом (оба состоят из воды в твердом состоянии, т. е. льда), что град образуется, когда вода, падая вниз с облаков (т. е. дождевые капли), замерзает, тогда как снег образуется из самих влажных облаков, принимающих твердое состояние. Современный учебник по метеорологии скажет вам почти то же самое. Звезды (разрешите мне упомянуть их здесь мимоходом и вне темы), говорил он, не дают нам тепла, потому что они находятся слишком далеко.
Но намного более важный момент в теории разрежения-сгущения заключается в том, что она явилась ступенькой на пути к атомизму, который действительно очень скоро возник вслед за ней. Этот момент заслуживает внимания, так как для нас, людей современных, он не очевиден, мы слишком умудрены опытом. Нам знакомо понятие континуума или мы считаем, что оно нам знакомо. Но мы не знаем тех огромных трудностей, которые это понятие представляет для ума, если мы не изучали современной математики (Дирихле, Дедекинд, Кантор). Греки столкнулись с этими трудностями, полностью их осознали и были глубоко ими потрясены. Это можно увидеть из их замешательства, потому что «ни одно число» не соответствует диагонали квадрата со стороной 1 (мы говорим, что это ![]() ); это можно увидеть в известных
); это можно увидеть в известных
51
парадоксах Зенона (элейская школа) об Ахиллесе и черепахе, летящей стреле, а также о некоторых других парадоксах о песке и повторяющихся вопросах о линии, состоящей из точек, и если это так, то сколько их? Тем, что мы (те из нас, кто не является математиками) научились избегать этих трудностей и разучились понимать ход мышления греков в отношении этого вопроса, мы, в значительной степени, обязаны десятичной системе счисления. Когда-то, когда мы учились в школе, нас заставляли проглотить тот факт, что можно поразмышлять о десятичных дробях, цифры которых убегают в бесконечность, и что такая дробь представляет число, даже если его нельзя показать с помощью простого повторения цифр. Этот факт был смазан тем, что мы выучили немного ранее, а именно: что достаточно простые числа, например, 1/7 (одна седьмая) не имеют соответствующих им конечных десятичных дробей, а только бесконечные, с повторением'.
1/7=0,142857 | 142857 | 142857 | ....
Огромная разница между этим случаем и, скажем,
![]() = 1,4142135642...
= 1,4142135642...
появляется, когда мы задумываемся о том, что л/2 сохранит свой характер, какое бы «основание» мы ни выбрали1 вместо нашего общепринятого основания 10, в то время как с основанием 7 мы, конечно, для ± получим «семеричную дробь»
1/7 = 0,1
Во всяком случае, проглотив этот факт, мы чувствуем себя в состоянии приписать определенное число любой точке на прямой линии между нулем и единицей, или, фактически, между нулем и бесконечностью, или между минус бесконечностью и плюс бесконечностью, если на ней отмечена точка ноль. Мы чувствуем, что владеем и управляем континуумом.
Кроме того, нам известен каучук. Мы знаем, что можем растянуть волокно каучука до больших размеров, то же самое мы делаем
1 Квадратный корень 2 в семеричных дробях записывается как 1, 26220346 ...
52
с поверхностью резины, когда надуваем детский шарик. Нам не трудно представить, что подобную же вещь можно проделать с твердым резиновым телом. Поэтому для нас не представляет трудности примириться с непрерывной моделью вещества даже с очень значительными изменениями формы и объема, хотя, несомненно, довольно многие физики в девятнадцатом веке испытывали в этом отношении некоторые затруднения.
По только что указанным причинам у греков такой возможности не было. Рано или поздно они обязательно должны были объяснить изменения объема тем, что тела состоят из отдельных частиц, которые сами по себе не изменяются, но удаляются друг от друга или сближаются, оставляя между собой больше или меньше пустого пространства. Такой была их, и такой является наша атомическая теория. Может показаться, что недостаток — отсутствие знаний о континууме — как раз повел их по правильному пути. Пятьдесят лет назад все еще можно было принять этот вывод, несмотря на присущую ему невероятность. Последний этап развития современной физики, начавшийся в 1900 году с открытия Планком кванта действия, указывает в противоположном направлении. Несмотря на то, что мы переняли от греков атомизм обычной материи, мы, видимо, все же не надлежащим образом использовали наше знание континуума. Мы использовали это понятие для энергии: но работа Планка бросила тень сомнения на его адекватность. Мы все еще используем его для пространства и времени; вряд ли от него откажутся в абстрактной геометрии; но оно вполне может оказаться неуместным для физического пространства и физического времени. Но достаточно о развитии физических идей милетской школой, которое, я считаю, является самым важным ее вкладом в западную научную мысль.
Хорошо известно, что философы милетской школы полагали будто вся материя является живой. Аристотель, занимаясь исследованием души, сообщает нам, что некоторые люди считают ее единой с «целым», и потому Фалес верил, что все заполнено богами; он приписывал душе некую движущую силу и полагал, что душа есть даже у камня, так как он притягивает железо. (Конечно, это относится к магнитному железняку.) Это и аналогичное свойство, приобретаемое янтарем (elektron), когда он электризуется при натирании, описаны где-то в другом месте в качестве причин того, почему Фалес приписывал душу даже нежи-
53
вым (= неодушевленным) предметам. Кроме того, сообщается, что он считал Бога интеллектом (или разумом) вселенной и полагал, что целое является живым (наделенным душой) и полным божественности. Название «гилозоиты» (hyle, материя, вещество; zo — os,живой) для милетской школы изобрели в поздней античности, чтобы обозначить их точку зрения на данный вопрос, которая тогда, должно быть, казалась довольно странной и ребяческой. Так Платон и Аристотель четко оговаривали разграничение между живым и неживым: живое — это то, что двигается само, например: человек, кошка или птица, Солнце, Луна и планеты. Некоторые современные взгляды сильно напоминают то, что имели в виду и чувствовали гилозоиты. Шопенгауэр распространил свое фундаментально понятие «Воли» на все: он приписывал волю падающему камню и растущему растению, также как спонтанным движениям человека и животных. (Он считал сознательное познание и интеллект вторичным, вспомогательным явлением; это точка зрения, которую здесь неуместно оспаривать.) Великий психо-физиолог Г. Т. Фехнер увлекался, хотя и в часы досуга, идеями о «душах» растений, планет, планетарной системы, которые интересны для прочтения и предназначены для выражения немного большего, чем просто занимательных грез. Наконец, позвольте мне процитировать Гиффордские лекции сэра Чарльза Шеррингтона 1937-38 годов, опубликованные в 1940 году под названием Человек о своей природе (Man on his Nature). Многостраничное обсуждение физического (энергетического) аспекта материальных событий и поведения организмов, в частности, заканчивается выводом, что историческое положение нашего современного миросозерцания таково: «... в Средние века и после них . .., как и ранее у Аристотеля, существовала проблема живого и неживого и проведения границы между ними. Современная схема выявляет причину возникновения этой проблемы и разрешает ее. Границы не существует»2. Если бы Фалес мог это прочитать, то он бы сказал: «Это как раз то, о чем я говорил за двести лет до Аристотеля».
Мысль о том, что органическая и неорганическая природа образуют неразрывный союз, не осталась бесплодным философским утверждением милетской школы, как, например, она осталась у Шопенгауэра, основная ошибка которого состояла в том, что он выступал против (или лучше сказать, он игнорировал) эволюции, хотя в его время
21st ed., р. 302.
54
уже утвердилась биологическая эволюция в теории Ламарка, и она оказала значительное влияние на современных философов. В милетской школе выводы делались немедленно, так как само собой разумеющимся считалось, что жизнь должна возникнуть из отчасти безжизненной материи, и очевидно постепенным образом. Выше мы говорили, что Фалес остановился на воде как на изначальной субстанции, поскольку он, вероятно, думал, что оказался очевидцем того, как жизнь спонтанно возникает в сырости или влаге. В этом он, конечно, ошибался. Но его ученик Анаксимандр, обдумывая происхождение и развитие живых организмов, пришел к замечательно верным выводам, и, более того, он сделал это с помощью замечательно разумных наблюдений и предположений. Наблюдая за беспомощностью новорожденных у животных, обитающих на суше, включая человека, он пришел к выводу, что они не могут быть самой ранней формой жизни. Рыбы, однако, обычно не уделяют в дальнейшем внимания потомству, которое появляется из икры. Их молодняк должен жить самостоятельно, и, можно добавить, что ему это легче удается, потому что сила тяжести в воде уравновешивается. Поэтому жизнь, должно быть, зародилась в воде. Нашими предками были рыбы. Все это самым замечательным образом совпадает с современными открытиями и действительно так разумно, что сожалеешь о добавленных к этому романтических подробностях. В то время полагали, что некоторые рыбы, возможно, один из видов акулы (γαλεός), в противоположность тому, что мы только что сказали, нянчат своих детенышей с особой нежностью, действительно берегут их (или даже забирают их обратно) в своем лоне, пока они не достигнут возраста, когда сами смогут полностью позаботиться о себе. Говорят, что Анаксимандр утверждал, что такие рыбы, любящие своих детей, были нашими предками, в лоне которых мы развивались, до тех пор пока не смогли выбраться на сушу и продолжать жить там в течение некоторого времени. Читая эту романтическую и нелогичную историю, нельзя забывать, что большинство наших источников, если не все, написаны авторами, искренне не согласными с теорией Анаксимандра, которую довольно несправедливо высмеял великий Платон. Поэтому едва ли они склонялись к ее пониманию. Возможно ли, что Анаксимандр указал, весьма последовательно, на промежуточную стадию между рыбами и животными, обитающими на суше, а именно, на амфибии (класс, к которому принадлежат лягушки), которые размножаются в воде, начинают свою жизнь в воде, а затем после значительной метаморфозы выходят на
55
сушу, чтобы жить там в течение некоторого времени? Кто-то, кто посчитал очень смешным то, что рыба должна постепенно превратиться в человека, мог легко исказить все, превратив это в ту «пояснительную» историю, которая вынуждает человека расти внутри рыбы. Она несет в себе вполне фамильное сходство с другими романтическими рассказами из области естественной истории, которыми забавляло себя окружение Сократа-Платона.
56
Глава 5
Религия Ксенофана. Гераклит Эфесский
Эти два великих человека, о которых мне хотелось бы рассказать в этой главе, имеют одну общую черту: они оба производят впечатление одиноких путников — глубоких самобытных мыслителей, на которых оказали влияние другие мыслители, но которые не были связаны принадлежностью к какой-либо «школе». Наиболее вероятный период жизни Ксенофана — это столетие после приблизительно 565 года до и. э. В возрасте 92 лет он описывает, как он бродил по греческим государствам (включая, конечно, Великую Грецию) в течение последних шестидесяти семи лет. Он был поэтом, и те фрагменты его прекрасных стихов, что дошли до нас, заставляют глубоко сожалеть, что его, а также гекзаметры и элегические стихи Эмпедокла и Парменида в основном утеряны, хотя сохранились военные песни Илиады. Даже то, что сохранилось от всех этих философских поэм, составило бы, по моему мнению, более интересный, стоящий и подходящий предмет для нашего школьного чтения, чем гнев Ахиллеса (если подумать о его содержании)1. По мнению Виламовица, Ксенофан «утверждал единственный реальный монотеизм, который когда-либо существовал на земле».
Именно он также открыл и правильно объяснил окаменелости в горах на юге Италии — в шестом веке до и. э.! Мне хотелось бы привести здесь несколько его известных фрагментов, которые дают нам представление о позиции передовых мыслителей того периода относительно религии и суеверий. Для предоставления места научному взгляду на мир необходимо было, конечно, сначала освободиться от представлений о Зевсе, извергающем гром и бросающем молнии, об Апполоне, вызывающем бубонную чуму, чтобы излить свой гнев и т. д.
Ксенофан отмечает (фр. II)2, что Гомер и Гесиод приписывают богам все, что считается стыдным и позорным среди смертных, мошенни-
1 Мне не хотелось бы, чтобы из этого сделали вывод, будто я считаю Илиаду исключительно военной песнью, потеря которой не вызвала бы глубокого сожаления.
2 Нумерация фрагментов приведена по первому изданию книги Дильса.
57
чество, воровство и адюльтер, а также обман друг друга с неподдельной искренностью. И (фр. 14): «Смертные полагают, что боги рождены как и они сами, носят похожие одежды, их голос и облик напоминают человеческий».
Разрешите мне прерваться на минуту и спросить: как могла широкая общественность Греции принять такое низменное представление о богах? Ответ, я думаю, заключается в том, что им оно не представлялось низменным. Напротив, оно выступало доказательством могущества и свободы богов, их независимости, ведь им разрешено безнаказанно совершать вещи, за которые нас осуждают, потому что мы только бедные простые смертные. Они создавали своих богов в образе великих, богатых, могущественных, сильных и влиятельных людей в своей среде, которые, вероятнее всего, тогда, как и сейчас, могли позволить себе не соблюдать закон и совершать преступления и другие неблаговидные поступки, благодаря силе своей власти и богатства.
В нескольких фрагментах Ксенофан развенчивает богов парой строк, высмеивая их как существа, которые явно представляют собой лишь плод человеческого воображения.
(Фр. 15) Но, если бы быки, или лошади, или львы имели руки и могли бы рисовать этими руками и создавать произведения искусства подобно людям, то лошади изобразили бы богов похожими на лошадей, а быки похожими на быков, и создали бы их тела такими, каков у каждого собственный облик.
(Фр. 16) Эфиопы создают своих богов черными и курносыми; фракийцы говорят, что у их богов голубые глаза и рыжие волосы.
Затем несколько коротких фрагментов, дающих нам его собственные представления о божестве — несомненно единственном:
(фр. 23) Один только бог, величайший меж богов и людей, и не похож на смертных ни обликом, ни сознаньем.
(Фр. 24) Он видит повсюду, мыслит повсюду и слышит повсюду.
(Фр. 25) Но без тяжелого труда он царствует над всем с помощью мысли своего разума.
58
(фр.26) И он всегда пребывает в одном и том же месте, не двигаясь вовсе; и не подобает ему также переходить то туда, то сюда.
И затем, его агностицизм, который на меня произвел особое впечатление:
(Фр. 24) Никогда не существовало и никогда не будет существовать человека, который обладает определенным знанием о богах и обо всех вещах, о которых я говорю. Даже если ему случится открыть всю истину, он все равно не узнает, что это так. Все это есть ничто иное, как случайное мнение.
Обратимся теперь к мыслителю, жившему немного позднее, Гераклиту Эфесскому. Он был немного моложе (жил примерно в 500 году до н. э.); вероятно, он не был учеником Ксенофана, но был знаком с его трудами и находился как под его влиянием, так и под влиянием поздних ионийцев. Уже в античности он слыл «темным», и, на мой взгляд, именно по этой причине его учением воспользовался Зенон, основатель школы стоиков, а позднее и другие стоики, включая Сенеку. Об этом свидетельствуют несколько сохранившихся фрагментов. Детали его физической картины мира представляют небольшой интерес. Общее направление мысли находилось в русле ионийского просвещения, с сильным оттенком агностицизма в духе Ксенофана. Вот несколько ясных и характерных утверждений:
(Фр. 30) Этот мир, одинаковый для нас всех, не создал никто из богов и никто из людей; он всегда был, и есть, и будет вечно живым огнем, который мерами вспыхивает, и мерами потухает.
(Фр. 27) Людей, когда они умирают, ожидает такое, что они никогда не искали или о чем не мечтали.
Как пример одного из темных фрагментов (перевод Бернета):
(фр. 26) Человек зажигает свет для себя в ночное время, когда он умер, но еще жив. Спящий, зрение которого погасло, оживает от мертвого; тот, кто бодрствует, оживает от спящего.
59
Мне представляется, что ряд фрагментов указывает на очень глубокую эпистемологическую проницательность, а именно: так как все знание основано на чувственных восприятиях, то они должны иметь равное значение a priori,приходят ли они на ум во время бодрствования, сновидений или галлюцинаций как у человека в здравом уме, так и нет. Что составляет разницу и дает нам возможность постепенно создавать на их основе надежную картину мира — так это то, что этот мир можно создать так, чтобы он был общим для нас всех, или скорее для всех бодрствующих, здравомыслящих людей. (Вы не должны забывать, что в то время привычнее было думать о видениях во сне как о чем-то реальном; греческая мифология изобилует такого рода примерами.) Читаем эти фрагменты:
(Фр. 2) Поэтому необходимо следовать общему. Но хотя разум (λόγος) есть общее, большинство живет, словно у них есть личное, свое собственное понимание.
(Фр. 73) Мы не должны действовать и говорить как спящие. (Объяснение: ибо тогда (во сне) мы тоже верим, что действуем и говорим.)
И главным образом:
(Фр. 114) Те, кто говорит в здравом уме (ξὺν νὸω), должны прочно держаться того, что есть общее для всех, так же как город держится за свои законы, даже еще сильнее; ибо все законы людей питаются одним божественным законом. Он господствует над всем и достаточен для всех вещей с полезным избытком.
(Фр. 89) У бодрствующих есть один общий мир, но каждый спящий обращается к своему собственному миру.
Что особенно меня впечатляет, так это постоянное подчеркивание — прочно держаться того, что является общим — а именно, избегать безумия, избегать оказаться «идиотом» (от ἴδιος, личный, свой собственный). Он не был социалистом, а был, пожалуй, аристократом, возможно, «фашистом»3.
Я считаю, что такая трактовка является верной. Нигде я не смог найти разумного объяснения этого «общего» в человеке, похожего на
3 От итал. fascio — пучок, связка, объединение. — Прим. перев.
60
него. Однажды он говорит что-то вроде: один гениальный человек имеет большее значение, чем десять тысяч человек толпы. Иногда он очень сильно напоминает Ницше — великого «фашиста»! Все хорошее рождается в борьбе и напряжении.
Итак, я полагаю, смысл состоит в том, что мы формируем представления о реальном мире вокруг нас исходя из факта, что часть наших ощущений и опыта частично совпадает; эта совпадающая часть и есть реальный мир.
Вообще говоря, не следует слишком удивляться, обнаружив иногда глубокую философскую мысль в первых свидетельствах размышлений человека о мире; увидев идеи, сформировать и понять которые стоит нам сейчас некоторых усилий и труда абстрагирования. Можно подумать, что это детство человеческой мысли, фигурально выражаясь, находится «все еще ближе к Природе». Рациональная картина мира еще не была получена, «построение реального мира вокруг нас» еще не достигнуто. В любом случае у нас есть много примеров такой глубокой мысли в древних религиозных писаниях многих народов: индийцев, евреев, персов.
При сравнении этих ранних периодов глубокого философского знания я не могу не вспомнить замечание И. Деуссена, великого исследователя санскрита и интересного философа, который сказал: «Очень жаль, что дети в первые два года своей жизни не могут говорить, ибо тогда они бы, вероятно, могли говорить о философии Канта».
61
Глава 6
Атомисты
Действительно ли античная атомистическая теория, которая связана с именами Левкиппа и Демокрита (родился примерно в 460 году до н.э.), является предтечей современной? Этот вопрос задают очень часто, и по нему существует очень много разных мнений. Гомперц, Курно, Бертран Рассел, Дж. Бернет говорят: «Да». Бенджамин Фаррингтон говорит, что «в известной степени» да, и обе эти теории имеют много общего. Чарльз Шеррингтон говорит, что нет, указывая на чисто качественный характер античного атомизма и на тот факт, что его основная идея, олицетворенная в слове «атом» (единый или неделимый), привела к неправильному употреблению самого названия. Я не уверен, что такой отрицательный вердикт когда-либо высказывался классическим схоластом. И когда оно исходит от ученого, тот каким-либо замечанием всегда показывает, что считает именно химию, а не физику, подходящей областью для применения понятий атомов и молекул. Он отметит имя Дальтона (родился в 1766 году) и опустит в этой ситуации имя Гассенди (родился в 1592 году). Именно последний окончательно вновь ввел атомизм в современную науку, придя к нему после изучения довольно значительных сохранившихся трудов Эпикура (родился примерно в 341 году до и. э.), перенявшего теорию Демокрита, от которого до нас дошли только редкие оригинальные фрагменты. Заслуживает внимания тот факт, что в химии после важных изменений, что последовали за открытиями Лавуазье и Дальтона, в конце девятнадцатого века возникло сильное движение («энергетики»), возглавляемое Вильгельмом Оствальдом и поддержанное взглядами Эрнста Маха в пользу отказа от атомизма. Они говорили, что он не нужен химии и от него следует отказаться как от недоказанной и недоказуемой гипотезы. Вопрос происхождения древнего атомизма и его связи с современной теорией представляет не только исторический, но и более значительный интерес. К нему мы еще вернемся. Сначала я кратко опишу основные особенности взглядов Демокрита. Они состоят в следующем:
62
а) Атомы невидимо малы. Все они состоят из одинакового вещества или природы (φνσίς), но у них огромное множество различных форм и размеров, и именно это является их единственной отличительной особенностью. Ибо они непроницаемы и влияют друг на друга только при непосредственном соприкосновении, толкая и поворачивая друг друга; и, таким образом, большинство различных форм соединения и сплетения атомов одного и того же и различных видов создают бесконечное разнообразие материальных тел, как мы их наблюдаем в многообразном взаимодействии друг с другом. Пространство за пределами атомов пусто — точка зрения, которая представляется нам естественной, но бесконечно оспаривалась в античности, потому что многие философы пришли к выводу, что μὴ ὄν, сущего, которое не есть, не может быть, то есть не может быть пустого пространства!
б) Атомы находятся в вечном движении, и мы можем согласиться с тем, что это движение считали неправильным или беспорядочно распределяемым во всех направлениях, так как иное невозможно, если атомы должны находиться в вечном движении, даже в телах, которые пребывают в состоянии покоя или двигаются с медленной скоростью. Демокрит явно утверждал, что в пустом пространстве нет предпочтительного направления: вверх или вниз, вперед или назад, — пустое пространство, так сказать, изотропно.
в) Непрерывное движение атомов продолжает существовать само, оно не прекращается; это считали само собой разумеющимся. Это случайное открытие закона инерции должно считаться великим подвигом, так как оно явно противоречило опыту. Его восстановил в правах Галилей 2000 лет спустя, который пришел к нему с помощью изобретательного обобщения тщательно проводимых опытов с маятниками и шарами, катящимися вниз по наклонному желобу. Во времена Демокрита оно совсем не казалось приемлемым; оно представляло большие трудности для Аристотеля, считавшего естественным только круговое движение небесных тел, которое может сохраняться без изменений вечно. На современном языке нам следует сказать, что атомы наделены инерциальной массой, которая заставляет их продолжать движение в пустом пространстве и сообщать его другим атомам, с которыми они сталкиваются.
г) Вес или тяжесть не считалась основным свойством атомов. Его объясняли способом, который сам по себе вполне изобретателен, а именно, общим вихревым движением, заставляющим атомы большего раз-
63
мера, более массивные, стремиться по направлению к центру, где скорость вращения меньше, вследствие чего более легкие атомы отталкиваются или отбрасываются от центра, на небеса. Читая это описание, вспоминаешь о том, что происходит в центрифуге, хотя там, безусловно, имеет место прямо противоположное: особенно тяжелые тела выталкиваются наружу, более легкие стремятся к центру. С другой стороны, если бы Демокрит когда-либо заваривал себе чашку чая и размешивал его ложечкой, то он заметил бы чаинки, собирающиеся в центре чашки, отличный пример для иллюстрации своей вихревой теории. (Истинная ее причина опять-таки прямо противоположна: вихрь сильнее в середине, чем на внешних сторонах, где он замедляется стенками.) Что меня больше всего удивляет, так это следующее: можно подумать, что эта идея тяжести, возникшая благодаря непрерывному вихрю, автоматически должна была подсказать модель мира со сферической симметрией, и, таким образом, сферическую землю. Но в данном случае это не так: Демокрит довольно непоследовательно отстаивал форму бубна; он продолжал считать дневные вращения небесных тел реальными, при этом земля в форме бубна пребывала на воздушной подушке. Возможно глупые разговоры пифагорейцев и элейцев внушали ему такое отвращение, что он ничего не желал от них принимать.
д) Но, на мой взгляд, тяжелейшее поражение, испытанное теорией, из-за которого она превратилась в «спящую красавицу» на столько веков, было вызвано ее распространением на душу: считалось, что душа состоит из материальных атомов, особенно прекрасных, с особенно высокой подвижностью, вероятно распространяемых по всему телу и следящих за его функциями. Это печально, потому что вызвало неприязнь прекрасных и глубоких мыслителей последующих веков. Мы должны быть осторожны, чтобы не подвергать Демокрита слишком суровой критике. Это было неосмотрительно со стороны человека, глубокое понимание теории познания которым я сейчас докажу. Он воспринял и воплотил в отношении атомистической теории старое неправильное представление, твердо укоренившееся в языке вплоть до настоящего времени, что душа — это дыхание. Все старые слова, обозначающие душу, первоначально означали воздух или дыхание: ψνχή, πνεῦμα, spiritus, anima, (санскрит) athman(современные: выдыхать, одушевленный, неодушевленный, психология1 и т. д.). Итак, этим дыханием был воздух,
1 От греч. psyche — душа. — Прим. перев.
64
а воздух состоял из атомов. Это заслуживающий прощения кратчайший путь к основной метафизической проблеме, которая практически не решена до настоящего времени, — см. ее блестящее обсуждение в книге Человек о своей природе Чарльза Шеррингтона.
Все это привело к ужасному результату, который преследовал мыслителей многих веков и в слегка измененной форме даже сегодня все еще озадачивает нас. Модель мира, состоящая из атомов и пустого пространства, воплощает основной постулат, что природу можно понять при условии, что в любой момент времени последующее движение атомов определяется исключительно их настоящей конфигурацией и состоянием движения. Тогда положение, достигнутое в любой момент времени, вызывает неизбежность следующего, и это следующее следующего положения и так далее всегда. Все происходящее строго определено в начале, поэтому мы не можем видеть, как ему следует также охватить поведение живых существ, включая нас самих, которые осознают, что в значительной степени способны выбирать движения своего тела свободным решением своего разума. Если, в таком случае, этот разум, или душа, сам состоит из атомов, двигающихся таким же вынужденным образом, то, по-видимому, для этики или морального поведения не остается места. Законы физики вынуждают нас совершать в каждый момент времени именно то, что мы делаем; какова польза от размышлений, правильно это или нет? Где же место для морального закона, если естественный закон подавляет и полностью побеждает его?
Эта антиномия не решена и сегодня, так же как и двадцать три века назад. Все же мы можем разложить предположение Демокрита на две составляющие: одну очень похвальную, а другую весьма абсурдную. Он допускал
а) что поведение всех атомов внутри живого тела определяется физическими законами природы и
б) что некоторые из них двигаются, чтобы создать то, что мы называем разумом или душой.
Я считаю, что ему делает большую честь то, что он непоколебимо придерживался а), хотя это, конечно, означает антиномию, с или без б). Несомненно, если вы допускаете а), то движение вашего тела предопределено, и вам не удастся объяснить свои ощущения, что вы перемещаете его по желанию, чтобы вы ни думали о разуме.
Воистину абсурдным является б).
65
К сожалению, последователи Демокрита, Эпикур и его ученики, обнаружив, что их умы не настолько сильны, чтобы считаться с антиномией, отказались от похвального предположения а) и остались верными грубой ошибке б).
Разница между двумя исследователями, Демокритом и Эпикуром, заключалась в том, что Демокрит все же скромно осознавал, что он не знает ничего, тогда как Эпикур был твердо уверен, что до знания всего ему не хватает совсем чуть-чуть.
Эпикур добавил в систему еще одну глупость, которой сознательно вторили все его последователи, включая, конечно, Лукреция Кара. Эпикур был чистейшей воды сенсуалистом. Где чувства дают нам убедительные доказательства, мы должны их придерживаться. Где они этого не дают, нам дозволено строить любые разумные гипотезы для объяснения того, что мы видим. К сожалению, в категорию вещей, о которых чувства предоставляют нам убедительные бесспорные доказательства, он включил величину Солнца, Луны и звезд. Говоря, в частности, о Солнце, он доказывал: а) что его контур резкий, не расплывшийся, и б) что мы ощущаем его тепло. Далее он доказывал, что если большой земной огонь все же достаточно близок к нам, что мы ясно различаем его контуры и ощущаем в какой-то мере его тепло, то мы также можем разглядеть его действительную величину: «мы видим его точно таким же большим, какое оно есть»! Вывод: Солнце (а также Луна и звезды) такие же большие, как мы их видим, ни больше, ни меньше.
Основная глупость здесь, конечно, выражение «такие же большие, как мы их видим». Удивительно, что даже современные филологи, когда они сообщают об этой фразе, шокированы не этим бессмысленным выражением, а только утвердительным ответом на него Эпикура. Он не делает различий между угловым и линейным размерами — живя в Афинах примерно через три века после Фалеса, который измерял отклонение кораблей с помощью триангулации, как это делаем мы.
Но давайте отнесемся к его словам в буквальном смысле. Что он имел ввиду? Насколько большим, в таком случае, мы видим Солнце? И насколько далеко оно, таким образом, находится, если оно такое же большое, каким мы его видим?
Угловой размер составляет 1/2 градуса. Из этого можно легко понять, что если бы Солнце находилось на расстоянии 10 миль, то ему следовало бы иметь диаметр приблизительно 1/10 мили или 500 футов.
66
Я не думаю, что кто-либо может считать, что Солнце производит непосредственное впечатление будто его величина равна величине собора. Но давайте допустим, что его величина в десять или пятнадцать раз больше, при этом диаметр составит полторы мили, а расстояние 150 миль. Это означало бы, что когда вы видите солнце утром в Афинах на восточном горизонте, то оно фактически восходит с берега Малой Азии. Подумайте об этом:
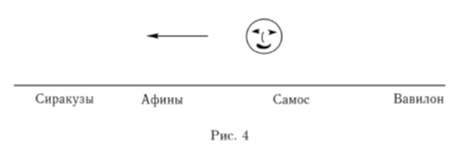
Считал ли он, что Солнце проходит горизонтально над Средиземноморьем? При его незнании углового размера, это вполне возможно.
В любом случае, я думаю, это доказывает, что после Демокрита физика была забыта философами, которые не питали действительного интереса к науке и которые с помощью большого влияния, что они имели как философы, уничтожили ее, несмотря на отдельные блестящие исследования, проводившиеся в Александрии и других местах. Эти исследования оказали незначительное влияние на отношение населения в целом, включая даже таких людей, как Цицерон, Сенека или Плутарх.
Давайте теперь вернемся к историческим вопросам, поднятым в начале этой главы, о которых я сказал, что они представляют далеко не только исторический интерес. Мы встречаемся здесь с одним из наиболее очаровательных случаев в истории идей. Удивление вызывает следующий момент. Из жизнеописаний и трудов Гассенди и Декарта, которые ввели атомизм в современную науку, мы знаем как действительный исторический факт, что, действуя подобным образом, они отдавали себе полный отчет в принятии теории античных философов, рукописи которых они кропотливо изучали. Но еще более важно то, что все основные особенности античной теории вплоть до сегодняшнего дня сохранились в теории современной, значительно усилившись и широко распространившись. И при этом они не изменились, если их рассматривать с точки зрения философа, а не специалиста, который
67
не видит ничего дальше собственного носа. С другой стороны, мы знаем, что ни единого доказательства из широкой экспериментальной базы, которую современный физик приводит в поддержку этих основных особенностей, не было известно ни Демокриту, ни Гассенди.
Когда случаются подобного рода вещи, то следует предусмотреть две возможности. Первая, что древние мыслители высказали удачную догадку, которая позже оказалась верной. Вторая, что рассматриваемый образец мышления был основан не исключительно на недавно открытых доказательствах, как полагают современные мыслители, а на взаимосвязи намного более простых фактов, известных ранее, и на априорной структуре, или, по крайней мере, естественной склонности, человеческого интеллекта. Если вероятность второй альтернативы можно доказать, то она имеет первостепенное значение. Конечно, даже в случае ее определенности она не может вынудить нас отказаться от идеи, в нашем случае атомизма, — как от простого вымысла нашего разума. Но вторая альтернатива даст нам более глубокое понимание происхождения и природы картины нашего мышления. Эти соображения побуждают нас узнать, если это возможно, как античные философы пришли к понятию неизменности атомов и пустоты?
Насколько мне известно, сохранившихся свидетельств, которые могли бы служить нам ориентиром, не существует. Сегодня, если мы заявляем о своих собственных научных убеждениях или убеждениях другого человека, мы чувствуем моральную обязанность добавить, почему мы или они придерживаются или придерживались их. Простой факт, что N. Ν. считал так или этак, без изложения мотивов, представляется нам неинтересным. Но в античности эта практика была не совсем общепринятой. В частности, так называемые доксографы обычно вполне удовлетворены, сообщив нам, например: «Демокрит придерживался ... ». Но в настоящей ситуации стоит отметить, что сам Демокрит считал свое понимание мира созданием интеллекта. Это можно увидеть из фр. 125, процитированного ниже in extenso2, а также (фр. 11) из разграничения им двух видов средств получения знания, истинного и темного. Последним являются чувства. Они нас подводят, когда мы пытаемся проникнуть в малые области пространства. Тогда нам на помощь приходит истинный метод получения знания, основанный на утонченном органе мышления. То, что это inter alia относится к ато-
2 Полностью, целиком, в несокращенном виде (лат.). — Прим. перев.
68
мистической теории, очевидно, хотя в сохранившемся фрагменте она явно не упоминается.
Чем же тогда руководствовался его утонченный орган мышления, чтобы создать понятие атомов?
Демокрит весьма интересовался геометрией, не просто как восторженный человек типа Платона; он был выдающимся геометром. Теорема, что объем пирамиды или конуса есть одна треть произведения его основания и высоты, делает ему честь. Для того, кто знает исчисление, это просто, но я встречал хороших математиков, которые испытывали затруднения, вспоминая элементарное доказательство, изученное ими в школе. Демокрит едва ли вывел бы теорему без использования, по крайней мере, на одном этапе замены исчисления (так поступает школьник, по крайней мере, в Австрии, а именно, использует принцип Кавальери). Демокрит глубоко понимал значение и трудности бесконечно малых величин. Это доказано интересным парадоксом, с которым он, очевидно, столкнулся, продумывая свое доказательство. Пусть конус рассечен на две части плоскостью, параллельной его основанию; будут ли равными или неравными два круга, созданные сечением на двух частях (меньший конус вверху и обрезанный конус внизу)? Если они неравны, тогда, поскольку это будет выполняться для любого подобного сечения, восходящая часть поверхности конуса была бы не гладкой, а покрытой выбоинами; если же они равны, тогда по той же причине, будет ли это означать, что все параллельные сечения равны и, таким образом, конус окажется цилиндром?
На основании этого и сохранившихся названий двух других рукописей («О разнице во мнениях или о касании круга и шара»; «О несоизмеримых линиях и твердых телах») можно составить мнение, что в конечном счете он пришел к четкому различию между, с одной стороны, геометрическими понятиями тела, поверхности или линии с вполне определенными свойствами (как, например, пирамида, квадратная поверхность или круговая линия) и, с другой стороны, более или менее несовершенными воплощениями этих понятий физическим телом или в нем. (Платон, век спустя, рассматривал первую категорию среди своих «идей»; более того, эти понятия, на мой взгляд, были прототипами его «идей»; таким образом, эта концепция смешалась с метафизикой.)
Теперь сопоставьте это вместе с тем фактом, что Демокрит не только знал точку зрения ионийских философов, но, можно сказать, продолжил их традицию; более того, последний из них, Анаксимен, как мы
69
уже говорили в главе IV, успешно и в полном соответствии с нашими современными взглядами утверждал, что все важные изменения, наблюдаемые в материи, были исключительно кажущимися и в действительности происходили благодаря разрежению и сгущению. Но имеет ли смысл высказывание, что сам материал остается без изменений, если фактически каждый его кусочек, каким бы он ни был малым, становится тоньше или сжимается? Геометр Демокрит вполне мог понять это каким бы малым. Очевидный выход из положения — считать, что любое физическое тело фактически состоит из бесчисленных малых тел, которые остаются всегда без изменения, в то время как разрежение создается, когда они отталкиваются друг от друга, а сгущение, когда они скапливаются теснее в небольшом объеме. Для того чтобы дать этим малым телам возможность это сделать, в определенных пределах необходимым требованием является пустое пространство между ними, т. е. пространство, не содержащее совсем ничего. В то же самое время неприкосновенность чистых геометрических формулировок можно было сохранить, переадресовав парадоксы и сомнения от геометрических понятий к их несовершенным физическим воплощениям. Поверхность реального конуса или, коли на то пошло, любого реального тела действительно не является гладкой, так как она образована из верхнего слоя атомов и, таким образом, изрешечена небольшими дырочками с выступами между ними. Протагор (который выдвигал сомнения подобного рода) также мог допускать, что вещественная сфера, покоящаяся на вещественной плоскости, имела не одну точку соприкосновения с ней, а целую малую область «близкого» касания. Все это не препятствовало точности чистой геометрии. Вывод о том, что именно в этом заключалась точка зрения Демокрита, можно сделать из замечания Симпликия, который говорит, что, по мнению Демокрита, его физические неделимые атомы в математическом смысле были делимыми ad infinitum3.
В течение последних пятидесяти лет мы получили экспериментальное доказательство «реального существования дискретных частиц». Существует довольно широкая область наиболее интересных наблюдений, которую здесь нет возможности описать и которую атомисты в конце девятнадцатого века не могли предвидеть даже в самых своих смелых мечтах. Мы можем видеть своими собственными глазами
3 До бесконечности. — Прим. перев.
70
зарегистрированные линейные следы траекторий одиночных элементарных частиц в диффузионной камере Вильсона и в фотографических эмульсиях. У нас есть инструменты (счетчик Гейгера), которые отвечают слышимым щелчком на единственную частицу космического луча, которая соприкасается с прибором; более того, последний может быть разработан так, что при каждом щелчке обычный промышленный счетчик электроэнергии повышает значение на единицу, так что он считает количество частиц, которые приблизились к нему в заданное время. Такие подсчеты, выполненные различными методами и в различных условиях, полностью соответствуют друг другу, а также атомистическим теориям, разработанным задолго до того, как появилось их прямое доказательство. Великие атомисты от Демокрита до Дальтона, Максвелла и Больцмана пришли бы в восторг от этих осязаемых доказательств своих убеждений.
Но в то же самое время современная атомистическая теория ввергнута в состояние кризиса. Нет сомнений, что простая теория частиц слишком наивна. И это, в общем, не вызывает удивления, учитывая приведенные выше соображения относительно ее происхождения. Если они верны, то атомизм выдумали как средство преодоления трудностей математического континуума, о котором, как мы видели, Демокрит вполне был осведомлен. Для него атомизм был средством преодоления разрыва между реальными физическими телами и идеализированными геометрическими формами чистой математики. И так было не только для Демокрита. В известном смысле атомизм выполнял эту задачу на протяжении всей своей длинной истории: задачу облегчения нашего размышления над осязаемыми телами. Кусочек материи в нашем сознании распадается на неисчислимо большое и все же конечное число составляющих. Можно представить, как мы подсчитываем их, тогда как мы не можем назвать количество точек на прямой линии длиной в 1 см. Мы мысленно можем сосчитать количество взаимных столкновений в заданное время. Когда водород и хлор объединяются для образования соляной кислоты, то мы можем в уме разделить атомы на пары двух видов и представить, что каждая пара объединяется для образования нового маленького тела — составной молекулы. Этот подсчет, это разделение, весь этот способ мышления сыграл выдающуюся роль в открытии наиболее важных физических теорем. С этой точки зрения представляется невозможным, что материя является непрерывным желе без всякой структуры. Таким образом, атомизм оказался бесконечно
71
плодотворным. И все же, чем больше о нем думаешь, тем меньше не можешь не задавать вопрос, до какой степени эта теория истинна. На самом ли деле она основана исключительно на действительном объективном устройстве «реального мира вокруг нас»? Не обусловлена ли она в некотором важном отношении природой человеческого понимания, тем что Кант назвал бы «apriori»? По-моему, нам следует сохранить в высшей степени открытый взгляд для осязаемых доказательств существования отдельных единичных частиц без ущерба для нашего глубокого восхищения гением тех экспериментаторов, которые предоставили нам это богатство знания. Они увеличивают его день ото дня и таким образом помогают нам решить исход дела относительно того печального факта, что наше теоретическое понимание всего этого, осмелюсь сказать, уменьшается почти с той же скоростью.
Разрешите мне завершить эту главу, приведя несколько агностических и скептических фрагментов Демокрита, которые произвели на меня наибольшее впечатление. Перевод выполнен Сирилом Бейли.
(Д. фр. 6) Человек должен учиться на том принципе, что он далек от истины.
(Д. фр. 7) Мы ничего ни о чем точно не знаем, но для каждого из нас свое мнение есть приток (т. е. передается ему притоком «идолов»4 извне).
(Д. фр. 8) Действительно узнать, что есть каждая вещь, есть предмет неопределенности.
(Д. фр. 9) Поистине мы ничего не знаем безошибочно, но только как все изменяется в соответствии с расположением нашего тела, и вещей, что входят в него и ударяются о него.
(Д. фр. 117) Мы действительно ничего не знаем, ибо истина сокрыта в глубине.
И, наконец, известный диалог между разумом и чувствами:
(Д. фр. 125) (Разум:) Условно сладкий, условно горький, условно горячий, условно холодный, условно цветной; на самом деле есть только атомы и пустота.
(Чувства:) Жалкий ум, не от нас ли ты берешь доказательства, с помощью которых ты отверг бы нас? Твоя победа — это твое поражение.
4 Греч. εἴδωλον, картина.
72
Глава 7
Каковы же основные особенности?
Позвольте мне, наконец, приблизиться к ответу на вопрос, который был задан в начале.
Помните строки предисловия Бернета, что наука — это греческое изобретение; что наука существовала исключительно среди людей, которые находились под влиянием греков. Позже в той же книге он пишет: «Основателем милетской школы и поэтому (!) первым человеком науки был Фалес»1. Гомперц говорит (я уже много его цитировал), что весь наш современный образ мышления основан на мышлении греков; поэтому это нечто особенное, нечто, выросшее исторически на протяжении многих веков; ne общий, а единственный возможный способ размышлений о Природе. Он придает большое значение тому, чтобы мы это осознали, чтобы мы признали эти особенности по существу, чем возможно освобождает нас от их почти непреодолимого обаяния.
В чем же они тогда состоят? Каковы своеобразные особые черты нашей научной картины мира?
Относительно одной из этих основных особенностей не может возникнуть сомнений. Это гипотеза о том, что проявление Природы может быть понято. Я уже несколько раз касался этого вопроса. Это не спиритическое, не суеверное и не магическое мировоззрение. О нем можно говорить еще очень много. В этой связи следовало бы обсудить вопросы: что на самом деле означает постижимость и в каком смысле, если он есть, наука дает объяснения. Великое открытие Дэвидом Юмом (1711-76) того, что зависимость между причиной и следствием не поддается непосредственному наблюдению и не образует ничего, кроме постоянной последовательности, является фундаментальным эпистемологическим открытием, которое привело великих физиков Густава Кирхгофа (1824-87), Эрнста Маха (1838-1916) и других к утверждению, что естественная наука не удостаивает никакими объяснениями, что она нацелена только на полное и (Мах) экономичное описание наблюдаемых
1 Early Greek Philosophy, р. 40.
73
фактов и не способна достичь ничего, кроме этого. Эта точка зрения, в более сложной форме философского позитивизма, была с энтузиазмом принята современными физиками. Она весьма логична; очень трудно, если не невозможно, ее опровергнуть, чем она очень напоминает солипсизм, но при этом она намного разумнее последнего. Хотя позитивистский взгляд, очевидно, противоречит «понимаемости Природы», он, несомненно, не является возвратом к суеверному и магическому мировоззрению во время оно; совсем напротив, из физики он изгоняет понятие силы, наиболее опасный реликт анимизма в этой науке. Это целительное противоядие против стремительности, с которой ученые склонны поверить, что они поняли явление, хотя на самом деле они усвоили только факты, описав их. Все же даже с позитивистской точки зрения не следует, я полагаю, заявлять, что наука не выражает понимания. Ибо даже если бы оказалось верным (как они утверждают) то, что, в принципе, мы только наблюдаем и записываем факты, а также приводим их к удобной мнемотехнической систематизации, все же существуют реальные зависимости между нашими открытиями в различных, далеко отстоящих друг от друга областях знания и, с другой стороны, между ними и большинством фундаментальных общих понятий (как натуральные целые числа 1,2, 3, 4, ...); зависимости такие поразительные и интересные, что для нашего окончательного осознания и запоминания их термин «понимание» представляется очень подходящим. Самые выдающиеся примеры, по моему мнению, — это механическая теория теплоты, которая сводится к превращению к чистым числам; и аналогичным образом я назвал бы теорию эволюции Дарвина в качестве примера приобретения нами истинного понимания. То же можно сказать о генетике, основанной на открытиях Менделя и де Ври, тогда как в физике квантовая теория достигла обнадеживающей точки зрения, но еще не вполне добилась полной постижимости, хотя она вполне успешна и полезна во многих отношениях, даже в генетике и биологии вообще.
Однако, я полагаю, существует вторая особенность, которая проявляется намного менее ясно и открыто, но имеет такое же фундаментальное значение. Она заключается в том, что наука в своей попытке описать и понять Природу упрощает эту очень трудную задачу. Ученый подсознательно, почти неумышленно, упрощает свою задачу понимания Природы, исключая из рассмотрения или вырезая из картины, которую следует построить, себя, свою собственную личность, субъект познания.
74
Неумышленно мыслитель отступает к роли внешнего наблюдателя. Это намного облегчает задачу, но и оставляет бреши, огромные пробелы, ведет к парадоксам и антиномиям всякий раз, когда, не осознавая этой исходной сдачи позиций, пытаешься найти себя в картине мира или поместить себя, свое собственное мышление и воспринимающий ум обратно в эту картину.
Этот важный шаг — исключение себя, отступление на позиции наблюдателя, который не имеет отношения ко всему представлению — получил другие названия, благодаря которым он кажется вполне безобидным, естественным, неизбежным. Его можно было бы назвать просто объективизацией, взглядом на мир как на объект. В тот момент, когда вы его делаете, вы фактически исключили себя. Часто используемое выражение — «гипотеза реального мира вокруг нас» (Hypothese der realen Aussenwelt). Да ведь только глупец откажется от него! Совершенно верно, только глупец. Тем не менее, это определенная черта, определенная особенность нашего понимания Природы — и она имеет некоторые последствия.
Самые ясные признаки этой идеи, которые я смог найти в трудах греческих авторов, это те фрагменты Гераклита, которые мы уже обсуждали и анализировали ранее. Ибо это именно тот «общий мир», тот ξννόν или κοινόν Гераклита, который мы строим; мы гипостазируем мир как объект, делая предположения о реальном мире вокруг нас, — как гласит самое популярное выражение, — созданные из частично совпадающих областей наших нескольких сознаний. И поступая так, каждый волей-неволей воспринимает себя, субъект познания, сущее, которое говорит «cogito, ergo sum»2, вне мира, удаляет себя из него на позицию внешнего наблюдателя, который сам не принадлежит к его участникам. «Sum» (существую) превращается в «est» (существует).
Так ли это, должно ли так быть и почему так? Мы этого не осознаем. Вскоре я скажу, почему мы этого не осознаем. Сначала разрешите мне сказать, почему это так.
Итак, «реальный мир вокруг нас» и «мы сами», т. е. наши умы, созданы из одного и того же строительного материала, оба состоят из одних и тех же кирпичиков, так сказать, только расположенных в другом порядке, — чувственных ощущений, образов памяти, воображения, мышления. Необходимо, конечно, немного подумать, но легко
2 Мыслю, следовательно, существую (лат.). — Прим. перев.
75
согласиться с тем фактом, что материя состоит из этих элементов, а не из чего-то еще. Более того, воображение и мышление играют постоянно растущую важную роль (по сравнению с грубым чувством-восприятием), по мере того как продвигаются вперед наука и познание природы.
Происходит следующее. Мы можем считать эти — разрешите мне назвать их элементами — элементы составляющими разума, собственного разума каждого, или же составляющими материального мира. Но мы не можем, или можем, но только со значительными трудностями, представить, что они являются таковыми одновременно. Чтобы перейти с точки зрения разума на точку зрения материи, или наоборот, нам следует, так сказать, взять элементы порознь и складывать их снова вместе в совершенно другом порядке. Например, — нелегко приводить примеры, но я попытаюсь, — мой разум в этот момент составлен из всего, что я чувствую вокруг себя: моего собственного тела, вас всех, сидящих передо мной и очень доброжелательно слушающих меня, aide-mémoire3, лежащей передо мной, и прежде всего мыслей, которые я желаю вам объяснить, их соответствующего обрамления в словах. Но теперь представьте себе любой из материальных объектов вокруг нас, например, мою руку. Как материальный объект, она состоит не только из моих собственных непосредственных ее ощущений, но также из воображаемых ощущений, которые у меня были бы, если бы я ее поворачивал, двигал ею, смотрел на нее под разным углом зрения; кроме того, она состоит из тех ощущений, которые, по моему представлению, есть у вас, к тому же, если вы думаете о ней в чисто научном стиле, то из всего, что вы могли бы проверить и действительно найти, если бы вы взяли ее и анатомировали, чтобы убедиться в ее действительной природе и структуре. И т. и. Можно без конца перечислять все возможные результаты перцепции и ощущения с моей и вашей стороны, которые включены в мой рассказ об этой руке как объективной черте «реального мира вокруг нас».
Следующая аналогия не очень хорошая, но ничего лучшего я вспомнить не смог: ребенку дают замысловатые детские кубики различной формы, размера и цвета. Он может построить из них дом, или башню, или церковь, или китайскую стену и т. д. Но нельзя одновременно построить два строения, потому что, по крайней мере частично, в каждом случае ему понадобятся одни и те же кубики.
3 Памятная записка (франц.). — Прим. перев.
76
Именно по этой причине я считаю верным то, что я действительно исключаю свой разум, когда строю реальный мир вокруг себя. И я не осознаю этого исключения. И тогда меня очень удивляет, что научная картина реального мира вокруг меня очень неполная. Она дает много фактической информации, приводит весь наш жизненный опыт в замечательно непротиворечивый порядок, но она хранит тягостное молчание в отношении всего и весьма различна в том, что действительно близко нашему сердцу, что действительно имеет для нас значение. Она не может нам сказать ни слова о красном или синем, горьком или сладком, физической боли и физической радости; она ничего не знает о красоте и уродстве, хорошем или плохом, Боге и вечности. Наука иногда претендует на то, что дала ответы на вопросы в этих областях, но эти ответы часто настолько глупы, что мы не склонны воспринимать их серьезно.
Поэтому, если сказать коротко, мы не принадлежим этому материальному миру, который наука создает для нас. Мы не находимся в нем, мы вне него. Мы только зрители. Причина, почему мы считаем, что находимся в нем, что принадлежим этой картине, заключается в том, что наши тела находятся в этой картине. Наши тела принадлежат ей. Не только мое собственное тело, но тела моих друзей, а также моей собаки, и кошки, и лошади, и тела всех других людей и животных. И это единственное мое средство общения с ними.
Более того, в моем теле заключено порядочное число более интересных изменений — движений и т. д. — которые происходят в этом материальном мире, и заключено таким образом, что я чувствую себя частично автором этих поступков. Но затем попадаешь в тупик, сталкиваешься с этим приводящим в смущение открытием науки: как автор я не нужен. В пределах научной картины мира все эти события отвечают сами за себя, их пространно объясняют непосредственным энергетическим взаимодействием. Даже движения человеческого тела являются «его собственными», как выразился Шеррингтон. Научная картина мира снисходит до весьма полного понимания всего, что происходит — она делает его просто немного слишком понимаемым. Она позволяет вам представить общее табло как табло механического часового механизма, который ради всего, что знает наука, мог бы продолжать идти дальше, как он это делает, без того чтобы здесь присутствовали сознание, воля, усилия, боль и радость, ответственность, связанные с ней — хотя на самом деле они есть. И причина этой приводящей в замешательство
77
ситуации заключается как раз в том, что в целях построения картины внешнего мира мы использовали весьма упрощающий прием исключения нашей собственной личности из нее, устранения ее; следовательно, она ушла, она испарилась, в ней, судя по всему, нет необходимости.
В частности, и это наиболее важно, именно по этой причине научная картина мира не содержит в себе ни этических ценностей, ни эстетических ценностей, ни слова о наших собственных бесконечных возможностях или предназначении, и в ней нет Бога, с вашего позволения! Откуда я пришел, куда я иду?
Наука ни слова не может сказать нам о том, почему нас радует музыка, почему и как старая песня может вызвать у нас слезы.
Мы полагаем, что наука, в принципе, может подробно описать все, что происходит в последнем случае в нашем сенсорном и «моторном» мире, с того момента как волны сжатия и расширения достигнут нашего уха до момента, когда некоторые железы выделят соленую жидкость, которая появляется у нас на глазах. Но о чувствах радости и сожаления, которые сопровождают процесс, науке ничего не известно, поэтому она о них умалчивает.
Наука хранит молчание также тогда, когда возникает проблема великого Единства — Единого Парменида — часть которого все мы так или иначе составляем и которому мы принадлежим. Самое распространенное его название в наше время Бог, с заглавной буквы. Очень часто науку клеймят за ее атеизм. После всего того что мы сказали, это не удивительно. Если картина мира не содержит даже синего, желтого, горького, сладкого — красоты, радости и печали — если личность выключена из него по соглашению, как она может включать самую возвышенную идею, что являет себя человеческому разуму?
Мир большой, великий и прекрасный. Мое научное знание событий в нем охватывает сотни миллионов лет. Все же иным образом оно охватывает несчастные семьдесят, или восемьдесят, или девяносто лет, данных мне, маленькую точку в неизмеримом времени, мало того даже в конечных миллионах и миллиардах лет, что я узнал, чтобы ее измерить и оценить. Откуда я пришел, куда я иду? Это великий непостижимый вопрос, одинаковый для каждого из нас. У науки нет на него ответа. Все же наука представляет лучший уровень, который мы смогли установить в области надежного и неопровержимого знания.
Однако наша жизнь, в образе того, что напоминает человеческие существа, продолжалась самое большее примерно полмиллиона лет. Из
78
всего того, что мы знаем, мы можем ожидать, даже на этой земле, что пройдет еще много миллионов лет. И из всего этого мы чувствуем, что любая мысль, которая у нас появится за это время, не окажется мыслимой напрасно.
79
Литература
[1] Cyril Bailey, The Geek Atomists and Epicurus, Oxford University Press, 1928.
[2] —, Epicurus, Oxford University Press, 1926 (extant texts with translation and commentary).
[3] —, Translation of Lucretius De rerum natura (with introduction and notes), Oxford University Press, 1936.
[4] John Burnet, Early Greek Philosophy, London: A. and C. Black, 1930 (4th ed.).
[5] —, Greek Philosophy, Thales to Plato, London: Macmillan and Co., 1932.
[6] Hermann Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin: Weidmann, 1903 (1st ed.).
[7] Benjamin Farrington, Science and Politics in the Ancient World, London: Allen and Unwin, 1939.
[8] —, Greek Science, I (Thales to Aristotle); II (Theophrastus to Galen). Pelican.
[9] Theodor Gomperz, Griechische Denker, Leipzig: Veit and Comp., 1911.
[10] Sir Thomas L. Heath, Greek Astronomy, London: J. M. Dent and Sons, 1932.
[11] -, A Manual of Greek Mathematics, Oxford University Press, 1931.
[12] J. L. Heiberg, Mathematics and Physical Science in Classical Antiquity, Oxford University Press, 1922.
[13] Ernest Mach, Populärwissenschaftliche Vorlesungen, Leipzig: J. A. Barth, 1903.
[14] H. A. Munro, Titus Lucretius Carus, De rerum natura, Cambridge, Deighton, Bell and Co., 1889.
[15] Bertrand Russell, History of Western Philosophy, London: Allen and Unwin, 1946.
[16] E. Schrödinger, Die Besonderheit des Weltbilds der Naturwissenschaft, Acta Physica Austriaca, 1, 201, 1948.
[17] Sir Charles Sherrington, Man on his Nature, Cambridge University Press, 1940 (1st ed.).
[18] Wilhelm Windelband, Geschichte der Philosophie, Tübingen und Leipzig: J.C.B. Mohr, 1903.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
