13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Новгородцев Павел Иванович
Новгородцев П.И. Политические идеалы древнего и нового мира
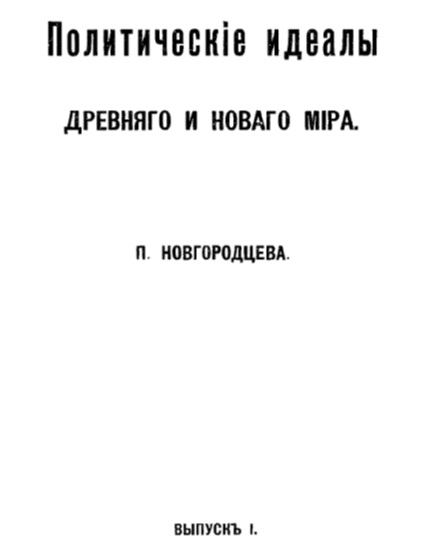

Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
ОЧЕРКИ ПО ИСТОРІИ ФИЛОСОФІИ ПРАВА.
Политические идеалы
ДРЕВНЯГО И НОВАГО МІРА.
П. НОВГОРОДЦЕВА.
ВЫПУСК I.
ОГЛАВЛЕНІЕ.
I. Предмет изучения. II. Историческое и философское изучение идей. — Их взаимоотношение. III. Основные идеалы, изучаемые в курсе. — Их различие и связь 1—14
Древнегреческие учения. Идеал совершенной автаркии
II. Первоначальное отношение греческой философии к политике 25—35
1. Общее историческое положение софистики. Основной характер софистического просвещения 35—43
2. Учения софистов о естественном праве 43—55
3. Общее заключение об условиях развития и значении софистики 55—60
1. Общая характеристика 60—65
2. Сократ.
1. Значение Сократа. Его философия 65—80
2. Отношение Сократа к естественному праву. Его политический идеал 80-95
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Я приступаю к изданию своего курса ранее, чем я предполагал, в виду необходимости дать слушателям пособие, соответствующее основным идеям моих чтений. План, которому я следую в своем изложении, представляет известные особенности по сравнению с планами других курсов, имеющихся в литературе. Моя задача заключается не в том, чтобы дать подробную историю учений, а в том, чтобы выдвинуть главные и основные идеалы, около которых сосредоточиваются построения отдельных мыслителей. При выполнении этой задачи я следую известной схеме, которая представляется мне наиболее целесообразной для сопоставления различных учений и которая в этом виде не была еще испытана другими.
Имея в виду дать лишь общую линию развития политической мысли, я не ввожу в это изложение тех специальных курсов, которые я читал в последние годы; я извлекаю из них для настоящих «Очерков» только самое главное и основное, в соответствии с общим планом задуманного мною издания.
Некоторые части моего курса уже появлялись ранее в различных студенческих изданиях. Так, были изданы отдельными выпусками: «Сократ и Платон», «Учения ΧΥΙ—XVIII вв.», «Немецкие учения XIX века» 1). В настоящее издание все эти выпуски войдут с необходимыми исправлениями и дополнениями.
Март 1910 г.
1) Изданный в 1908 г. конспект к моим лекциям под заглавием: „Конспект к лекциям по истории философии права П. И. Новгородцева“ представляет весьма краткий и очень свободный пересказ некоторых частей моего курса с небольшими вставками из других более ранних изданий и с некоторыми существенными недоразумениями и ошибками.
1
ВВЕДЕНИЕ.
1. Предмет изучения.
Предлагаемый курс истории философии права является изложением некоторых основных идеалов общественной жизни, в их последовательной смене и внутреннем развитии.
Сталкиваясь с действительностью в противоречивой сложности ее проявлений, мысль стремится ее усовершенствовать, внести в нее порядок и единство, присущие разуму. Так возникают те идеальные построения, которые не остаются лишь в области отвлеченной, но иногда могущественно входят в жизнь и влияют на ее устроение.
В наше время не думают более, чтобы ход истории молено было подчинить какому-либо заранее начертанному плану. Однако нельзя утверждать, чтобы усилия мысли преобразовать общественные отношения оставались бесплодными. Опыт прошлого обнаруживает не одну тщету этих усилий, но и их действительный успех, в зависимости от того, способна ли была данная эпоха воспринять предлагаемые ей начала или нет. Попытки до конца рационализировать жизнь, устроить всю ее на основе неизменной гармонии, не достигали цели; но свет разума все же проникал в судьбу людей и вносил в нее начала справедливости и добра. Этот свет исходил не из одних философских умозрений и не только в них получал свое выражение, но в деле устроения человеческих отношений и философская мысль принимала участие, на ряду с другими проявлениями духовной мощи человека.
Может показаться странным, что именно философия обнаруживала деятельный интерес к устроению жизни и что политические идеалы изучаются в истории философии права. Каким образом соединяются столь разнородные понятия, как философия и политика? Философия, как выражался Платон, есть стремление смерт-
2
ного возвыситься к бессмертному; это — возвышенная жизнь духа и спокойная ясность мысли. Политика, напротив, есть область ежедневных тревог и забот, иногда борьбы и интриг, столкновение интересов и страстей. Как возможно их примирение?
Когда мы изучаем различные системы политической философии, появлявшиеся в истории, мы должны сказать, что бывали случаи, обнаруживавшие трудность подобного примирения философии с политикой. Бывали примеры, когда философский идеализм меркнул и тускнел при столкновении с вопросами и нуждами дня, или же, напротив, когда эти нужды и вопросы, приобщаясь духу философской мысли, утрачивали свой жгучий интерес, чтобы приобрести интерес более отвлеченный, хотя, может быть, и более глубокий. Крайние проявления этих двух возможных направлений я обозначу историческими именами, которые превратились в нарицательные, — именами макиавеллизма и утопии. Макиавеллизм, это мысль, подчинившая себя данной политической действительности, — мысль, продавшая свое первородство в угоду временным сопряжениям политики; утопия — это построение, в котором мысль до такой степени возобладала и возвысилась над практической жизнью, что политика перешла в абстракцию и мечту. Быть может, это требует разъяснений; в таком случае я напомню, что макиавеллизм, каким мы его знаем в изображении его творца Макиавелли, был в сущности копией, фотографией итальянской политики своей эпохи, со всеми ее кознями и ухищрениями, со всей ее жестокостью и вероломством. Обобщающая мысль почти не оставила следа на этом фотографическом снимке. Она покорно подчинилась своему материалу, рабски воспроизвела то, что видела вокруг, и если бы в доктрине Макиавелли не было некоторых воспоминаний прошлого и надежд на будущее, она была бы самым печальным произведением, какое только известно политической литературе. Таков макиавеллизм; это — философская мысль на службе у политики. — Что касается другого упомянутого типа политических построений, который мы обозначили именем утопии, то его следует характеризовать прямо противоположными чертами. Замечу здесь, что это название, впервые употребленное в XVI веке английским писателем Томасом Мором, стало с тех пор обычным обозначением для мечтательных и несбыточных проектов всякого рода.
3
Оно и означает в переводе на русский язык: небывалое или несуществующее место. Томас Мор даже географически помещал его в неведомую даль, за тридевять земель, как образец неведомого совершенства и завидного счастья. С тех пор политики, склонные подчеркивать трезвость своей мысли, иронически говорят обо всем, что кажется им непрактичным: это — утопия! Конечно, утопии, мечты, иллюзии — все это не ко двору практической политике, которая руководится реальными интересами; но философия не может и не должна без них обходиться: в этих иллюзиях и мечтах она часто прозревает ту высшую и более ценную действительность, которой еще нет, но которая должна быть и которая будет. Если макиавеллизм мы характеризовали, как философию на службе у политики, то утопизм мы можем обозначить, как политику, совершенно подчиненную философии и восприявшую от нее дух бесконечных стремлений. Между этими двумя крайними типами лежит целый ряд промежуточных звеньев, и они-то составляют преимущественное содержание истории философии права.
Само собою разумеется, что подчинение действительности не всегда бывает таким рабским, как у Макиавелли, и что проявляется оно в самых различных формах. С другой стороны, философский дух не всегда приводит к утопиям и не всегда созидает свои построения за гранью несовершенных обществ действительности. Среднее положение между макиавеллизмом и утопией занимают те многочисленные системы, которые стремятся сочетать принципы с фактами, идеальные начала с потребностями практики. Если по существу между политикой и философией есть известное несоответствие, то вполне возможны, однако, и такие построения, где философия не забывает себя и не уничтожает политики. Как политика не исключает высших соображений, так и философия не отрицает жизненных стремлений. Но нет ничего удивительного, что в истории философии права нередки случаи уклонения от этого среднего пути. Политическая мысль работает часто в эпоху смуты и борьбы, когда сложные проблемы жизни тревожат и беспокоят ум. Созидая свои построения при таких условиях, философская мысль нередко и сама теряет спокойствие и равновесие, затемняясь под влиянием тревоги дня.
4
II. Историческое и философское изучение идей. — Их взаимоотношение.
Изучая политические идеалы, сменявшиеся в истории, мы замечаем в них великое разнообразие, в зависимости от конкретных условий среды и особенностей индивидуального творчества. Каждое отдельное построение имеет свой особый характер, свой местный колорит, свою временную окраску. Но при всем различии времен и мест, настроений и стремлений, среди которых появляются отдельные учения, в них молено усмотреть связующие нити и общие черты. Как в каждую отдельную эпоху легко указать основные идеи, составляющие общий фундамент для различных систем, так и в совокупном рассмотрении всего исторического развития возможно открыть известное единство, которое является отражением единства человеческого разума. История философии права, как частная ветвь истории философии, знакомит нас не только с отжившими свое время идеями прошлого, но и с вечно живыми началами общечеловеческого сознания.
Такое определение предмета изучения само собою намечает путь, которым следует идти при рассмотрении отдельных систем. В историческом обзоре идей было бы неправильно игнорировать конкретную обстановку, в которой эти идеи возникают. Для того, чтобы понять живую душу системы, указать вдохновляющие ее стремления, оценить проникающий ее пафос необходимо иметь в виду те исторические силы, которые вызвали ее к жизни. Без этого часто бывает трудно и даже невозможно понять, что было в данной системе самое важное с точки зрения ее автора, что сообщало ей конкретный жизненный смысл. Но это историческое освещение идей должно сочетаться с их философским исследованием, открывающим общие логические основания отдельных систем и вводящим их в общую связь развития мысли.
Путь чисто философского рассмотрения истории идей, с такой удивительной последовательностью намеченный Гегелем, нельзя не признать односторонним: история человеческой мысли не представляет собою развития отвеченных начал, сменяющихся по строгим законам логики. Но не менее односторонним следует признать и тот взгляд, который пытается свести историю идей к совокупности временных и преходящих воздействий изменчивой
5
исторической среды. По справедливому замечанию новейшего историка философии, кн. С. Н. Трубецкого, за историческим изучением «стоит вполне законный философский интерес, без которого самое историческое знание было бы существенно неполным и неосмысленным, не объясняя нам самых глубоких, разумных оснований отдельных учений и развертывая перед нами лишь пеструю вереницу разнообразных, противоречивых и причудливых построений. Понять смысл их различий, оправдать философию в самых этих различиях — такова задача научного и философского изучения истории философии» 1).
Если чисто отвлеченное рассмотрение идей совершенно выводит их из условий исторической обстановки, то одностороннее историческое изучение урезывает идеи в уровень с породившей их эпохой, оставляя в тени их более глубокое, абстрактное и обобщающее значение. Идеи и учения получают тут характер второстепенных и преходящих рефлексов среды, игры теней на ее поверхности. А между тем каждое учение, помимо того что оно есть отражение своего времени и составляет элемент известной исторической эпохи, есть также и некоторое утверждение, теоретическое или практическое, подлежащее обсуждению и усвоению, независимо от своих исторических связей. Подобно тому, как в своем происхождении каждая более глубокая доктрина не покрывается ближайшими и непосредственными впечатлениями, так и в своем влиянии она может простираться далеко за пределы своей эпохи, являясь источником поучений для последующих веков и поколений. Знакомясь с произведениями прошлого, мы с особенной ясностью чувствуем общие законы и общие основы духовного развития человечества. Мы убеждаемся в том, что общие логические формулы и построения отличаются поразительной живучестью и повторяемостью на протяжении самых отдаленных эпох. Неувядаемая прелесть старых учений не раз приводила к мысли о вечной стороне прошлого, о непреходящей правде общих основ человеческого сознания. Отсюда требование учиться «старой правде». «Истинное в истории не всегда то, что ново», говорит Б. Н. Чичерин: «нередко новое бывает выражением
1) Кн. С. Н. Трубецкой История древней философии. Часто первая, М. 1906. Стр. 13—14.
6
односторонних взглядов и еще чаще повторением старой односторонности, всплывающей вновь на поверхность при известном направлении умов. Истинно то, что прочно, что лежит в самой природе вещей, а потому проявляется всегда и везде. Вечная истина — старая истина. К истории вполне прилагается изречение великого германского поэта-философа: —«старайся постигнуть старую правду» 1).
Но если справедливо это учение о непреходящем значении старой правды, то ясно, что великие произведения прошлого могут подвергаться обсуждению и независимо от своих исторических предпосылок. Если бесспорно, что логический объём каждой доктрины в совокупности ее абстрактных определений шире тех непосредственных реальных поводов, которыми она вызывается к жизни, то очевидно, что каждая доктрина может стать предметом особого философского анализа. И этот анализ может иметь значение не только с философской точки зрения, но и с исторической, поскольку он способствует выяснению истинного смысла идей, подлежащих историческому изучению. Как указано было выше, для правильного истолкования известной доктрины важно не только ее историческое освещение, но и философский анализ. И подобно тому, как философское изучение не может обойтись без справок с историей, так и в историческом исследовании необходимо принимать во внимание результаты философского анализа. Эти результаты послужат коррективом против поспешного сближения идей с произвольно избранными явлениями жизни и помогут внести новый свет в историческую смену отдельных учений 2).
Цель нашего курса заключается в том, чтобы изучить вековую работу политической мысли в ее собственных задачах и проблемах, в ее надеждах и разочарованиях, в ее внутренних драматических переживаниях. Мы будем рассматривать политическую мысль не как рефлекс жизни или тень реальности, а как самостоятельное явление, в котором практические нужды жизни находят свое углубление и продолжение. Мы будем помнить, что у мысли есть свои неизменные, постоянно повторяющиеся обо-
1) В. Чичерин, История политических учений. Ч. I. М. 1869. Стр. 2.
2) О различии философского и исторического изучения идей см. в моей книге: „Кант и Гегель в их учениях о праве и государстве“. М. 1901.
7
роты, свои привычные комбинации и позиции, в которые она становится к жизни, что в глубине ее переживаний зарождается особая жизнь, со своими собственными началами и концами, со своими особенными законами и путями. Это жизнь своего рода организмов идей, которые, питаясь из окружающей среды, по-своему перерабатывают полученный извне материал. Тут совершается особый процесс, не совпадающий с реальным, то уходящий вперед от жизни, то возвращающийся назад, комбинирующий жизненные элементы по особым планам, повинующийся не только запросам реальности, но и творческим мотивам идеального сознания.
Пользуясь всеми необходимыми историческими данными, мы не будем однако сливать развития идей с общим историческим процессом. Напротив, мы будем выделять их из него для более отчетливого изучения. В том, что думали и как думали люди об исторических задачах своего времени, заключается самостоятельный интерес, который и будет для нас руководящим. Вполне признавая глубокую важность исследования социальной подпочвы идей и считая необходимым принимать во внимание результаты этого исследования, мы будем полагать центр тяжести напито курса не в изучении этого социального фундамента, а в анализе тех продуктов индивидуального сознания, которые на нем возникают.
III. Основные идеалы, изучаемые в курсе. — Их различие и связь.
В соответствии с основной мыслью настоящего курса, — в разнообразии сменявшихся в истории учений усматривать связующие нити и общие черты, — я делаю. в своем изложении опыт указать в каждую эпоху некоторые господствующие идеалы, около которых сосредоточивается в данный период времени развитие политической мысли. Для древнегреческой мысли таким идеалом является совершенная автаркия, для средневековой — абсолютная теократия, для новой правовое государство.
Каждый из этих идеалов служит для своего времени общим фоном, на котором развиваются различные и иногда противоположные направления мысли. Как в господствующую форму со-
8
зерцания, в него вкладываются воззрения, переходящие от одного поколения к другому. За него и против него совершается борьба, иногда заканчивающаяся полным его отрицанием. Но в центре этой борьбы, при всем разнообразии ее проявлений, остается некоторая основная идея, господствующая над различием частных точек зрения.
Всего легче такое объединяющее средоточие можно усмотреть в развитии древнегреческой философии права. Эволюция политической мысли охватывает здесь сравнительно краткий период времени, самое большее два века, причем и по месту своего развития греческая политическая философия сосредоточивается по преимуществу в центре просвещения древней Эллады, в Афинах. Подобно тому как основной формой древнегреческой государственности, которую жизнь тщетно пыталась преодолеть, является κολις, государство-город, так и основной формой политической мысли является идеал совершенной автаркии, самодовлеющей и независимой общины, все имеющей для жизни своих граждан и охраняющей свое совершенство в отчуждении от прочего мира. К этому идеалу приурочиваются здесь самые различные начала, занимавшие древнегреческую философию права: и коммунистические проекты, и патриархальные мечты, и теократические планы, и наконец либерально-эгалитарные принципы, составлявшие основу афинской демократии. Те воззрения, которые шли в разрез с этим партикуляристическим идеалом, как например идеи империалистического монархизма, слегка промелькнувшие в греческой публицистике к концу IV века, на почве древней Греции не получили развития. Но и эти идеи заявлялись в противовес началам замкнутости и обособления, на которых покоился идеал совершенной автаркии, и которые до конца сохраняли свое руководящее значение. Что же касается анархическо-космополитических принципов цинической и стоической школ, то они знаменуют собою полное крушение древнегреческих политических воззрений и переход к новым созерцаниям.
Господствующее значение в средние века идеала царства Божия едва ли может возбуждать сомнения. Но и до сих пор еще нельзя признать достаточно разъяснённым и усвоенным то положение, что в эпоху господства теократической идеи не только церковь, но и государство стояло на почве этой идеи и видело
9
высшую задачу человеческой жизни в господстве над нею религиозного начала. Развивая этот взгляд, можно даже утверждать, как это и было сделано в русской литературе (кн. Е. Н. Трубецким), что в сущности борьба государства с церковью в средние века была борьбой двух теократий, из которых одна имела своим главою папу, а другая — императора. Во всяком случае руководящая роль теократической идеи в средние века является настолько яркой и всеобъемлющей, что в свете ее возможна исчерпывающая характеристика средневековой жизни, в роде той, какую мы имеем в известном труде Генриха Эйкена.
Новое время представляет наибольшее количество политических теорий, развивающихся притом в самых разнообразных направлениях. Однако, и здесь не трудно указать общую основу, около которой сосредоточиваются отдельные учения. Эта основа намечается историческим развитием новых европейских государств, приводящих все их без исключения к одному и тому же идеалу правового государства. То, что в новое время противопоставляется этому идеалу, имеет характер или пережитков средневековой старины, или неясных предчувствий еще неведомого будущего. Простым недоразумением следует признать, когда эти предчувствия облекаются в форму радикального отрицания идеи правового государства. Эта идея является настолько широкой, что даже и такие с виду безусловно порывающие с прошлым теории, как теории социалистического и синдикалистского государства, вполне вмещаются в рамки правового государства и даже немыслимы вне форм правового строя. Отрицанием правового государства, как и самого права, являются некоторые течения анархизма, но об этих течениях следует сказать, что они оставляют нас в полном неведении относительно возможной организации общественных отношений.
Сделанными здесь разъяснениями я надеюсь предотвратить упрек в насильственном подведении множества разнообразных явлений к некоторым простым формам. Прослеживая в каждую эпоху лишь главные ходы мысли, я нисколько не отрицаю параллельных и противоборствующих течений. С другой стороны я беру эти основные ходы в таком широком и формальном смысле, что они легко покрывают связанное с ними разнообра-
10
зие исторических явлений. Они не являются отвлеченными понятиями вытекшими из какой-либо предвзятой диалектической схемы, а представляют конкретные формы мысли, данные самой жизнью в ее историческом развитии.
Сводя разнообразные учения, рассматриваемые в настоящем курсе, к трем основным идеалам, которые с особенной яркостью выделяются в развитии европейской политической мысли, я не думаю однако утверждать, чтобы и между ними не было объединяющих связей. Такие связи прежде всего устанавливаются их общей целью — наилучшей организации общественной жизни. Каждый по-своему, эти три идеала разрешают одну и, ту же проблему справедливого устроения общественных отношений, и не смотря на видимое разноречие, все они в наиболее глубоких и классических своих выражениях приходят к одному и тому же выводу, что для разрешения этой проблемы недостаточно одних внешних политических средств, что для достижения прочной и устойчивой гармонии общественных отношений —«pour que la société lut paisible et que l’harmonie se maintint» — по классическому выражению Руссо — необходима также и гармония душ, та όμονοια, в которой видели спасение общества в эпоху Платона, или солидарность, как выражают то же понятие во французской теории наших дней. Не одни отвлеченные начала равенства и свободы утвердят в обществе совершенную справедливость, а прежде всего дружеское общение и братство, отречение от частных интересов, подчинение их высшим целям. Такой вывод, сделанный на основании векового опыта философских размышлений, может внушить мысль что политическая проблема есть своего рода квадратура круга. Если для разрешения политической задачи необходимы начала, превышающие средства политики, не значит ли это, что политика не может осуществить своей конечной цели? Однако указанный вывод может иметь и другое истолкование. Возможно утверждать, что задача, которая была поставлена политике, в сущности имеет в виду не одну политику, а все средства общественного воздействия на человека, и что в общем ее формулировании следует различать абсолютный идеал от его относительного воплощения в жизни. Именно к такому пониманию политической проблемы и приводит последовательное развитие философии права.
11
Древнегреческая философия поставила осуществление общественного идеала на абсолютную основу: в величайшем своем выражении у Платона и Аристотеля она стремилась к установлению идеала неизменной совершенной справедливости, и для того, чтобы практически этого достигнуть, она считала необходимым в основу общения положить элементы особенно совершенные и отделить их непроходимой гранью от остального несовершенного мира. В строгом обособлении и полном самоудовлетворении немногих счастливых избранников судьбы видели Платон и Аристотель разрешение политической задачи. Но ясно, что именно эта исключительность осуждала их идеал на бесплодность. Это не было разрешение задачи в ее общем виде. Напротив, в самой основе предложенного идеала заключался отказ от справедливого устроения всех: это был идеал для немногих.
В противоположность древнегреческому партикуляризму, средневековый теократический идеал прежде всего подчеркивает начало универсализма, начало вселенской правды и вселенского единства. Согласно евангельскому завету: «и будет едино стадо и един пастырь», средневековая теократия только в общем объединении всех под сенью церкви видела достижение своей цели. Перспективы тут бесконечно расширялись и относились, по-видимому, в самое далекое будущее. Но такова судьба начинаний, осуществляемых в страстном убеждении их едино спасающей силы, что и этот возвышенный идеал сочетался с мыслью о его скорейшем осуществлении. Когда кажется, что желанный идеал всеобщего единства уже близок, уже готов осуществиться, и когда сопротивление иначе мыслящих представляется досадной помехой к осуществлению всеобщего грандиозного плана, созидателями такого единства овладевает страстное желание поскорее устранить ошибки и заблуждения немногих во имя спасительного единства всех. Так средневековая теократическая идея переходит в проповедь принудительного универсализма, и великий принцип всеобщего устроения увенчивается страшной практикой инквизиции.
В отличие от этого принудительного универсализма, новое время в результате сложного и длинного процесса, которым шло развитие теории правового государства, приходит к идее свободного универсализма. Оно сохраняет в определении идеала спра-
12
ведливости мысль о всеобщем объединении человечества, но относит осуществление этой цели в бесконечность. Таким образом, освобождая общественный идеал от исключительности и партикуляризма, новое время отбрасывает и мысль о его скорейшем достижении путем принуждения. Принцип принуждения ставится здесь в связь не с высшими задачами нравственной солидарности и совершенного общения, а исключительно с целями правовой охраны. Вследствие этого идеал правового государства с абсолютной точки зрения постепенно переходит к относительной: от той перспективы абсолютного совершенства, с которой он был задуман у Руссо, последовательным развитием мысли он переводится на степень относительного примирения общественных противоречий. Вследствие этого он получает существенно иной характер, чем идеал совершенной автаркии или абсолютной теократии: он не притязает на окончательное решение политической проблемы, а стремится указать лишь путь к ее постепенному разрешению в идее правовой организации. Вместе с тем и формы политического устройства, предлагаемые этим идеалом, утрачивают абсолютный смысл и приобретают характер временного и подчиненного средства нравственной культуры. Их настоящая сила усматривается в их связи со всеми другими средствами культурного развития. В этом отношении теория правового государства еще более решительно, чем древнегреческая или средневековая доктрина говорит: разрешение социального вопроса дается не одной политикой, а всеми средствами нравственного прогресса; ибо для нее не существует абсолютных политических формул и форм.
Такое понимание политического идеала, как уже было отмечено выше, и в новое время достигнуто не сразу, а лишь в результате последовательного развития. В первой своей стадии, которой самым блестящим выражением служит теория Руссо, концепция правового государства еще носит на себе черты старой традиции и в известной степени воспроизводит средневековый теократический идеал. Основанием для этой мечты является только вместо абсолютной теократии абсолютное народовластие. Представление о правде народной воли наделяется такими же чертами безусловного совершенства, как и старый теократический идеал. Но уже Руссо сознавал те многочисленные препятствия, которые ставятся дей-
13
ствительностью на пути к осуществлению народной воли, а политическое развитие XIX века окончательно свело абсолютные притязания теории народовластия к скромным началам относительного правового идеала. Не безусловное совершенство, а лишь возможное устроение жизни на основе права обещает новая теория. Конечный же идеал, по выражению немецкого юриста Адольфа Меркеля, блистает перед нею вдали, «как недосягаемое созвездие».
В связи с этой переменой основного взгляда на осуществление идеала в жизни стоит и другое важное изменение в понимании начал идеального устроения общества. Характерной особенностью древнегреческой, как и средневековой философии права являлось убеждение, что мудрость и справедливость, на основании которых могут быть устроены человеческие общества, приходят сверху, с вершин человеческого гения или божественного откровения. В противоположность этому, демократическая теория нового времени, достигающая своего кульминационного пункта в учении Руссо, исходит из убеждения, что справедливость может быть осуществлена только снизу, общей волей всех граждан. Не принесенный извне, хотя бы и самый мудрый идеал, а идеал органически выросший из мысли и воли народной, является нормальным основанием для устройства общественной жизни — вот что на разные лады повторяет политическая мысль XIX века, приводя в подтверждение этого взгляда и социологические, и политические, и философские, и исторические основания.
Но прийти к этому убеждению значило отказаться от прежних надежд устроить жизнь по разуму и переродить людей мгновенным действием поучающей мудрости. Медленный процесс стихийных сил, загадочное и сложное движение масс — вот где приходится искать последних опор для прогрессивных идей. А к этому сознанию, охлаждающему пылкие мечты, присоединяется и другой вывод многовековой работы мысли: лишь тогда идеальное устроение какого бы то ни было общества или народа станет прочным, когда и вокруг него все общества и народы проникнутся началами правды и мира, когда невидимая цепь свободного универсализма могущественно свяжет всех в один союз. Но какими путями придет человечество к осуществлению этой выс-
14
шей земной мечты? Где силы и средства победить вражду племен и рас? Какое чудо должно совершиться для того, чтобы спаять воедино старый свес с новым, восточные цивилизации с западными, утонченные формы передовых народов с отсталостью малокультурных стран?
Неясны и загадочны пути будущего, и не дело философии пророчествовать и гадать. Но среди самых очевидных и бесспорных требований нравственного сознания, которые подкрепляются и всем предшествующим опытом истории, незыблемо стоит этот вывод: только все человечество могло бы осуществить общественный идеал.
Так можно характеризовать общее соотношение политических идеалов старого и нового мира. Было бы неуместным притязанием и странным недоразумением полагать, что наше время уже стоит на твердом пути правды и добра и, счастливо разрешив старые недоразумения, неизменно движется к совершенству. В последней части настоящего курса будет показано, что именно в наши дни в политической области поднимаются самые острые и сложные проблемы. Вместо перспективы всеобщего умиротворения, снова, как и прежде, пред человечеством открывается неведомое и неопределенное будущее. Снова, как и прежде, человек должен следовать завету — искать и трудиться. Но в этом процессе исканий он может теперь идти не с утопическими иллюзиями и несбыточными мечтами, а с огромным запасом опыта и знания, который обещает впереди более лёгкие времена.
Древнегреческие учения.
ИДЕАЛ СОВЕРШЕННОЙ АВТАРКИИ.
1. Общая характеристика греческой философии права.
Ея значение. — Деление на периоды.— Идеал
совершенной автаркии.
Интерес греческой политической мысли тем более для нас возрастает, чем яснее представляем мы себе огромную важность тех задач, которые она ставила. Греческая философия права поставила политическую проблему,— проблему наилучшего устроения государства — во всей глубине ее значения для человека и человечества, для нравственности, для культуры; и поставив ее столь глубоко и знаменательно, она продумала ее до конца, до тех пределов, которые можно назвать пределами человеческих стремлений в области политики. В разрешении политической задачи она искала не временного компромисса враждующих общественных сил, а совершенного и вечного идеала, который служил бы и к устроению, и к оправданию жизни. В этих исканиях она подвергла анализу все средства, которые могли способствовать сохранению и совершенствованию государства, и пришла к убеждению, что есть в общественных явлениях какой-то роковой закон, который рано или поздно и лучшие формы устройства склоняет к упадку. Политическая мысль доходит тут до своего логического конца, и за этим естественным ее пределом как будто бы открывается пропасть, неведомая и страшная пустота. И если греческая философия не кончила безвыходным пессимизмом и сознанием полной беспомощности человека в деле устроения своей судьбы, она обязана этим глубине своих философских стремлений, обнаруживших для нее в человеческом духе бесконечную нравственную силу.
Гегель заметил однажды, что политическая философия с своими планами улучшения приходит обыкновенно слишком поздно:
17
18
«сова Минервы начинает свой полет только с наступлением сумерек». И если это в особенности приложимо к какому-либо миру, так именно к греческому. Новая политическая мысль развивается в совершенно иных условиях: она начинает свою работу в то время, когда восходит звезда правового государства, когда впереди открывается полная надежд перспектива роста и прогресса. В Греции, напротив, в эпоху Платона и Аристотеля уже закатывается звезда государства вообще. Самую идею государства здесь приходится спасать из груды развалин и обломков, среди утраченных надежд и горьких разочарований. Отношение между мыслью и жизнью тут было иное, можно сказать, прямо обратное сравнительно с тем, которое мы наблюдаем в новое время. Греческие философы рассуждают о политике в преддверии падения и смерти государства, при очевидном крушении старых форм, и мысль невольно уходит в самую глубину человеческих сомнений относительно цели и смысла политики.
Значение этой проникновенной и углубленной работы мысли еще более уяснится нам, если мы отдадим себе отчет относительно существа той общей задачи, которую ставили себе в политической области греческие философы. После первых опытов философского умозрения, которыми ознаменован начальный период греческой мысли, философия от чисто теоретических интересов переходит к практическим. Начиная с софистов и Сократа и затем в высшем выражении у Платона и Аристотеля греческая мысль ставит себе великую задачу — овладеть нитями жизни, руководить политикой, господствовать над миром силою знания. Сначала софисты, а за ними Сократ хотят не только мыслить для себя, не только погружаться в уединенные философские созерцания, но вместе с тем учить своих сограждан философии, а чрез нее и искусству господствовать над жизнью. Ибо философия — так думают они — раскрывает тайну всех жизненных отношений. Задача эта была задумана слишком широко, для того чтобы она могла быть разрешена успешно. Много новых и ценных знаний внесли философы этой эпохи в греческое общество; но жизни и политики они не переродили, напротив, жизнь сломила их; софисты подчинились ее нуждам, Сократ погиб осужденный, Платон ушел из окружавшей действительности
19
нравственно, а Аристотель, вместо того, чтобы дать программу для будущей греческой политики, как он того хотел, в сущности дал только ее некролог и подвел ее итоги. Все это, конечно, сломило не философию, а только практические задачи философов. Так или иначе им приходилось вновь уйти на свои горние высоты, с которых они спустились, для того чтобы руководить жизнью. Такова задача и таков исход этого второго периода. Понятна теперь судьба третьего, так называемого после-аристотелевского периода.
Он вышел из разочарования в практике, и если он не кончил отчаянием, то именно потому, что ему оставалась философия. В этот третий период философия есть прежде всего утешение от жизни, от ее невзгод. Античный мир доживал свои последние дни; политическая самостоятельность Греции кончились; приходилось довольствоваться личной жизнью, искать внутреннего самоудовлетворения. Здесь человека спасала философия, которая стала, наконец, влиятельной общественной силой, хотя и совсем не в том виде, как хотели Сократ, Платон и Аристотель,— не как устроительница, а только как утешительница жизни. Так часто в это время ищут прибежища в философии, и так высоко ценят философов,— мудрецов, как их зовут в этот период. Что такое мудрец в представлении этой эпохи? Это человек, нашедший успокоение в философии. У этих мудрецов хотят учиться, как жить в смутное и тяжкое время общего упадка. Стоики и эпикурейцы — таковы главнейшие представители философии этого периода. Те и другие одинаково ценят философию с той стороны, на которую мы указали, — со стороны ее нравственного значения для человека. Жизнерадостный и уравновешенный эпикуреец, недоступный для тревог и закаливший свой дух стоик — вот типические философы этого времени. Они проповедуют отрешение от внешних связей с миром в пользу личного совершенствования и счастья. Единственно, что они еще высоко ставят сверх того, это — дружбу, прочную, истинную и преданную дружбу, которую они ценят почти так же, как философию, и в том же самом смысле, т.-е. как надежное прибежище среди тревог смутного времени. О политике они не говорят более: философия забыла свои гордые замыслы руководить миром, устроят царства,
20
чтобы тем прочнее поселиться в сердцах людей и руководит личностью. Из жизненного испытания она вышла, потеряв эти замыслы, но твердая по-прежнему в своем собственном существе. Всю внутреннюю силу свою она сохранила, — ту силу нравственного подъёма, которая давала так много и древним грекам, и всем, кто после них углублялся в вечные источники философского познания.
Такова судьба греческой философии, поучительная и интересная судьба. Ей не удалось преобразовать жизнь, устроить мир, повернуть колесо истории и задержать упадок греческих государств. В исходе ее стремлений следует видеть однако не крушение самой философии, а скорее крушение тех жизненных форм, с которыми она пыталась сочетать свои возвышенные мечты. Мысль может явиться организующим началом только тогда, когда налицо есть жизнеспособные элементы и когда она своим творческим воздействием вдохновляет их на новую жизнь. Но как оживить, как организовать то, что уже обречено на смерть? Где взять живой воды, чтобы воскресить омертвелые члены распадающегося общественного организма? Для философии не оставалось иного исхода, как уйти в собственный внутренний мир и основать самобытное царство духа. В этом внутреннем мире она раскрывает такое богатство сил и стремлении, что все внешние превратности судьбы теряют перед этим свое значение. Она помогает личности не только самой выбраться из этой груды развалин, но еще и вынести из нее незыблемой идею государства, идею права и справедливости. В лице Платона и Аристотеля она производит удивительную и бессмертную критику политических форм, произносит суд над греческой историей и, спасая из нее то ценное, что в ней было, бросает вместе с тем свет в отдаленнейшие времена, в то будущее, которое может раскрыться пред новыми людьми и новым миром. В поучение всем грядущим временам она высказывает в классически ясной и привлекательной форме, что одна политика и одно право сами по себе недостаточны для того, чтобы основать справедливое общение, что нужен особый нравственный подъем, особый нравственный дух для того, чтобы осуществить более справедливое устроение жизни и в частности для того, чтобы разрешить проблему благоустроенного государства.
21
Я изобразил общий ход греческой философии в отношении к политике. Как мы видели, философия пережила здесь целую драму разочарований. Но для того, чтобы понять все значение этой драмы и ее высший поучительный смысл, следует выяснить ту основную политическую идею, с которой греческая философия связывала свои планы общественного переустройства. Это была идея совершенной автаркии, которая исторически была внушена традициями древнегреческого государства - города, но в философии получила более широкое и общее значение. Принципы политического совершенства и самодовления, из которых слагается эта идея, были выражены здесь в такой последовательной и законченной форме, что все последующие попытки подобного рода по существу ничего не могли к этому прибавить. С тех пор и до наших дней для всякого, кто хочет оценить практическую осуществимость идеала совершенной автаркии, построения Платона и Аристотеля могут представить наилучший источник для заключений.
Но не следует думать, чтобы мечты древних мудрецов, создавшиеся в узких рамках греческого государства, представляли чисто местный интерес. В их философском замысле были такие элементы, которые отвечали на некоторую общую потребность человеческого духа и потому делали его вечно ценным и бессмертным. Существеннейшая особенность этого замысла заключалась в том, чтобы разрешить политическую проблему в небольшом кругу лиц, поставленных в особо благоприятные условия и подчиненных неизменному порядку совершенного общения. Когда, в душе мыслителя возникает план счастливого устроения людей и когда представляется, что общего усовершенствования ждать долго или невозможно, является мысль осуществить этот план хотя бы в небольших размерах: взять немногих счастливых избранников судьбы и примером их образцовой жизни показать, чего люди могут достигнуть, если они захотят следовать определенному порядку отношений 1).
Нет ничего удивительного, что проекты этого рода с некоторой естественной необходимостью возникают у всех куль-
1) См. мою статью «Два правовых идеала» в журнале «Научное слово», дек. 1904.
22
турных народов и во все времена. Они отвечают некоторой глубокой потребности человеческой души: человеку хочется хотя бы в мысли и в мечте иметь конкретный образ достигнутого совершенства и спокойной гармонии душ. Хочется иметь где-нибудь хотя бы уголок счастья, хочется определенной картины будущего, тихой пристани жизненных исканий и странствий. Все эти желания и представления вытекают из глубоко коренящейся в человеческой природе потребности счастья. Жизнь человеческая по существу есть трагизм, вечная борьба духа с самим собою, как говорил Гегель; а душе нашей присуща склонность к идиллиям, к моментам спокойствия и остановки в жизненной борьбе. И невольно является желание задержать эти прекрасные моменты отдыха и счастья, сделать их длительным состоянием, общим правилом, постоянным законом жизни, личной и общественной.
В развитии древнегреческого мира были свои условия, которые особенно способствовали возникновению проектов этого рода и которые объясняют нам, почему именно в этом мире идеал совершенной автаркии получил наиболее яркое выражение. Той формой, с которой греческая мысль связывала представление о нормальном государственном устройстве, была небольшая община, государство-город. Даже Аристотелю с его богатым запасом политического опыта и многосторонними наблюдениями казалось, что только в небольшом и легко обозримом государстве может быть хорошее законодательство и надлежащий порядок. С тем большей настойчивостью отстаивал этот взгляд Платон, который под свежим впечатлением крушения великодержавных замыслов и морского могущества Афин с негодованием отвергал весь ход греческой политики со времени Фемистокла. Опыты греческой истории, казалось, укрепляли этот взгляд, что только в небольшом и замкнутом кругу общинной жизни, вдали от шума и суеты международных сношений и завоевательных замыслов, можно создать прекрасную гражданственность. В ответ на исполненную бурь и тревог историю афинского государства его лучшие философы рисовали гармонический образ самодовлеющей общины, которая все имеет в себе для совершенной жизни граждан и не стремится к расширению своих пределов.
Но не только об автаркии, о самодовлении государства мечтали
23
греческие мудрецы. В страстном порыве общественного обновления они стремились к такому усовершенствованию жизни, которое могло бы явиться образцом для всех государств, стремящихся к правде. Они думали, что совершенная справедливость может быть осуществлена среди людей одним горячим стремлением к ней, одним единодушием и постоянством граждан. Они ожидали, что, преодолев силою разума темные стихии жизни, можно дать пример такого устройства, которое явится отблеском небесной истины. Вот почему они требовали от людей теперь же, сейчас восприять в свою жизнь образ вечной правды, вместить в свои учреждения и нравы подлинное совершенство, осуществить идеал полной гармонизации общественного быта. Но это требование превышало меру возможного, и для того, чтобы мысленно представить его возможным, приходилось придумывать особые условия, нигде не существующие или вовсе неосуществимые.
Для того, чтобы устроиться хорошо и счастливо не в пример другим, надо отделиться от этих других и замкнуться в себе, надо создать свою особую и самобытную жизнь; иначе и в этот счастливый уголок земли вторгнутся несовершенства мира, людские недостатки; иначе чужие бедствия сольются с этим счастьем и затуманят ясные горизонты счастливой земли. Требование совершенства, которое должно быть осуществлено немедленно и вполне, с логической необходимостью требует замкнутости и уединения, разобщенности с прочим миром, обособления от других государств, говоря иначе, требует того, что никогда еще не удавалось вполне ни одному из человеческих обществ, если не говорить о заброшенности диких племен или отсталости патриархальных союзов.
Но этого мало. Для того, чтобы внутри этих замкнутых общин поддержать совершенство жизни и солидарность граждан, необходимо строго блюсти за сохранением установленной гармонии. Ставя своей целью осуществить некоторое прочное единство, все подобные планы требуют от человеческой природы более, чем она может дать: они требуют такой стройности, такой согласованности общественной жизни, при которой живая человеческая личность приносится в жертву абстрактному плану. В самом деле, как ни заманчиво звучит это обещание провести гармони-
24
зацию жизни, осуществить хотя бы в малом размере солидарность и дружескую близость людей, мы не должны забывать, что никогда это не может быть достигнуто без ущерба для самого дорогого из общественных благ, каким является свобода. Что иное может означать осуществленная гармония и неизменная солидарность душ, как не тягостное насилие над человеческой свободой. Одно из двух: или гармония, или свобода; или принудительный режим полного согласия, в котором противоречия и различия стерты и уничтожены, в котором неожиданные осложнения первоначального плана заранее преграждены; или свободный путь для широкого проявления всяких новых возможностей и творческих сил, свободная почва для всяких противоречий и конфликтов, на которых зреет и растет человеческая личность. Идея совершенной гармонии человеческого общества в своем осуществлении неизбежно превратится в принудительную задержку личного развития, в вынужденный режим внешнего согласия. Построения Платона и Аристотеля как нельзя лучше подтверждают эту мысль: мы увидим это далее из подробного их анализа.
Как уже было замечено выше, идеал совершенной автаркии не был разрешением политической проблемы в ее общем виде. К лучшему жребию призываются здесь лишь немногие; они выделяются, приподнимаются над остальным человечеством; им достается в удел счастливая доля и праведная жизнь; а остальные как хотят. Принцип, на котором созидается здесь общение, сам собою приводит к духу аристократического сектантства, внушает лицам, входящим в совершенный строй, мысль об особом избранничестве, отделяет их от других, образует особый сектантский режим сурового единомыслия, нетерпимость внутри и нетерпимость во вне. А между тем только тот идеальный тип общественного устройства может считаться окончательным и предельным, который хочет дать выход и надежду всем труждающимся и обремененным, и только на этой основе можно строить общественный идеал. Этой универсалистической основы мы не находим в греческих построениях. В них отразился партикуляризм древнегреческой политики, и в этом сказывается их историческая ограниченность. Дальнейший ход греческой истории не оправдал традиционных путей греческой политики и привел
25
к подчинению Греции чужестранному владычеству. Философам пришлось говорить тогда уже не о самодовлении государства, а о самодовлении личности; это было полное отречение от общественной деятельности.
Но как бы то ни было и в тех узких пределах, в которых греческие философы пытались разрешить политическую проблему, они оставили некоторые бессмертные поучения. Идеал совершенной автаркии был создан в напряженной атмосфере политической борьбы, но он явился вместе с тем и плодом глубокомысленных исканий философской мысли. В нем отразилась страстная преданность политике, которая была знакома древним грекам, как немногим народам мира. Но в нем видны также и следы глубочайших сомнений, проистекающих из философской рефлексии. Это своеобразное сочетание политического интереса с философским делает греческий идеал любопытнейшим порождением мысли и обеспечивает ему прочное значение.
ΙΙ. Первоначальное отношение греческой философии к политике.
Первоначальные шаги греческой философии отмечены преимущественным вниманием к вопросам отвлеченным; в умозрениях первых греческих философов вопросы практической жизни занимают самое незначительное место. Для последующих поколений, для философов конца V и IV столетий, проникнутых горячим интересом к общественной реформе, отношение более ранних мыслителей к политике представлялось не вполне ясным равнодушием к ней. Так в одном из диалогов Платона мы встречаем вопрос: «что за причина, что те древние, имена которых, ради их мудрости, слывут великими, — Питтак, Биант, Фалес Милетский с его последователями, да и более поздние вплоть до Анаксагора, или все, или по большей части, воздерживались по-видимому от общественных дел (ἀπεχόμενοι τῶν πολιτικῶν κράξεων) 1). Свидетельство Платона довольно точно отмечает эпоху, к которой
1) Plato Hipp. mai. 281 С. — Свидетельство это сохраняет силу, как идущее от древних греков, если бы даже диалог: „Больший Гиппий“ и не принадлежал Платону (из новейших писателей сомнение в подлинности этого диалога высказывают Gomperz, Griechische Denker. Leipzig. 1898. Bd. I. S. 469 и Ivo Bruns, Das literarische Porträt der Griechen. Berlin 1896. SS. 347 — 349). Сомнениям Гомперца и
26
оно относится: от Фалеса до Анаксагора тянется первый период греческой философии. Характерно, что к числу древних, воздерживавшихся от политики, отнесены также Питтак и Биант, которые вместе с Фалесом причисляются к семи мудрецам, прославившимся своей практической мудростью 1).
Чем объяснить это явление, причины которого доискивались сами древние? Если мы захотим выдвинут ту причину, которая, по-видимому, играла первенствующую роль, то она заключалась в самой философии, в том свойстве зарождающейся философской рефлексии, что она отдаляет человека от практических вопросов жизни. Взамен обычных житейских интересов вырастает новый духовный интерес, — познание мира, исследование бесконечного. Тот, кто вошел в эту область высших проблем, приводящих в соприкосновение с бесконечным, неохотно возвращается к обычным заботам повседневной жизни. Так в этот первый период мы нередко встречаем философов, которые, подобно Анаксагору, объявляют небо своим отечеством и проводят жизнь в созерцании звезд.
Быть может, самый важный результат начинающейся рефлексии можно выразить следующим образом: когда мысль стремится обнять все сущее в его целом, в его вечной изменяемости, в его бесконечном течении, человеку становится жутко перед этой бесконечностью. Вечное изменение до нас, вечный процесс перед нами, и наша жизнь, как краткий миг между двумя бесконечностями. Это созерцание предстало греческому философствующему уму уже в его ранних глубокомысленных опытах. И тогда все практические интересы, которыми живут люди, все моменты этой временной жизни должны были показаться суетными и ничтожными. Тогда-то философы начали объявлять небо своим отечеством и проводить жизнь в созерцании звезд. Самым ярким примером этого настроения является в эту эпоху эфесский философ конца
Брунса можно противопоставить уверенность в подлинности „Большего Гиппия“ Эд. Мейера (Geschichte des Alterthums. Stuttgart u. Berlin 1901. Bd. IV, SS. 244, 255) и Влад. Соловьева (Творения Платона. М. 1903. T. II. Стр. 138 — 143).
1) Мнение об удалении от политики семи мудрецов основательно оспаривалось Аристотелем и перипатетиками, особенно Дикеархом. См. Ed. Meyer, Gesch. des Alterthums. Stuttgart 1893. Bd. II. S. 717. Ed. Zeller, Die Philosophie der Griechen. Fünfte Aufl. I Th. 1 H. S. 112, Note 2.
27
VIи начала V века — Гераклит — один из крупнейших умов древности, который и в XIX столетии приводил в восторг Гегеля и составлял предмет особого изучения Лассаля. В чем основная мысль его философии? Это — мысль о вечном течении и процессе и вместе с тем о вечном крушении всего сущего; это — мысль о непрочности и изменчивости всех явлений, а вместе с тем и всех человеческих начинаний. Подобный взгляд должен был приводить Гераклита к презрению всего того, что ценят люди, он должен был уничтожить ту непосредственную радость жизни, которая не спрашивает о начале и конце, о цели и смысле существующего и наслаждается не рассуждая. Философия разрушает эту обычную жизнерадостность; и если в открывающейся пред философом картине мира взор его не находит ничего постоянного, кроме порядка вечных изменений, ему остаются лишь жалобы Гераклита о всеобщем крушении сущего.
Все течет, все меняется во всеобщем круговороте Вечности. «Этот мир, единый для всех существ, несозданный никем из богов и людей, всегда был, есть и будет вечно живущий огонь, воспламеняющийся и угасающий определенными мерами» (fr. 30).
«Огонь живет смертью воздуха, воздух — смертью огня, вода живет смертью земли, земля — смертью воды» (fr. 76).
«Жизнь и смерть, бодрствование и сон, молодость и старость все это существует совместно и переходит одно в другое» (fr. 88).
Бог есть день и ночь, зима и лето, война и мир, изобилие и голод. Он изменяется, как огонь, который смешивается с жертвенными курениями, и всякий называет его по своему» (fr. 67).
«Люди родятся, чтобы жить и затем умереть или скорее чтобы успокоиться и оставляют детей, чтобы и они затем испытали смерть» (fr. 20).
«Время, как дитя, которое играет, и мировой порядок, как царство ребенка» (fr. 52).
Настроение, которое вытекает из этих созерцаний, есть настроение глубоко пессимистическое. Не даром же предание называет Гераклита плачущим философом и говорит о его презрении к земле и людям. Гордый и недоступный, он удаляется в уединение, чтобы жить внутренней жизнью своего духа. Но под этой
28
неприступной гордостью скрывалась глубокая тоска пессимистического настроения. Читая темные и загадочные изречения Гераклита, мы чувствуем, как через них проглядывает одна и та же господствующая мысль о суетности земного существования. Мы как будто бы слышим знакомые слова русского писателя: «все дым и пар; все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит куда-то — и все исчезает бесследно, ничего не достигая»... Понятно, почему Гераклит не хочет участвовать в людских делах и земных почестях, и почему он совершенно не занимается политикой ни практически, ни теоретически. От него дошли до нас лишь очень скудные отрывки практического характера, в которых особенно подчеркивались преимущества закона над беззаконием. Закон, который он имел в виду, был старый закон аристократического режима; беззаконие, которое он порицает, это новый демократический строй, который казался Гераклиту извращением естественных отношений. «Один, если он лучший (εάν άρισιος ηι), то же, что десять тысяч» (fr. 49, cp. fr. 104) — так выражал философ свое предпочтение принципа избранных и лучших умов перед господством толпы. И когда он вспомнил о судьбе своего друга Гермодора, которого сограждане изгнали, говоря, что среди них никто не должен быть лучшим, он отзывался об этом с жестокой и горькой иронией, замечая, что «эфесянам следовало бы перевешать у себя всех взрослых и предоставить свой город несовершеннолетним» (fr. 121). На запросы и протесты личности против общего порядка он отвечал советом «тушить самопревознесение, как пожар» (fr. 43) и «стоять за закон, как за каменную стену» (fr. 44). В борьбе видел он закон и правду мира (fr. 80), и если эта борьба «одних делает богами, а других людьми, одних рабами, а других свободными» (fr. 53), он требовал от личности смирения пред этим мировым строем, на котором держится все.
Я взял учение Гераклита для разъяснения того положения, что философия в своем стремлении обнять все сущее, как единый
1) Цитирую фрагменты Гераклита в порядке их изложения у Дильса (Hermann Diels, Heraklitos von Ephesos. Berlin 1901). См. также другое издание Дильса; Die Fragmente der Vorsokratiker, Berlin 1903.
29
процесс, открывает для человека новый мир и отдаляет его от обычной житейской практики 1). Те немногие практические изречения, которые мы у него находим, свидетельствуют не об интересе к человеческим делам, а скорее о презрении к ним. В том строе воззрений, для которого человеческие мысли, по сравнению с божественным разумом, казались детской игрой, не знающей целей (fr. 70, fr. 79, fr. 78), не было места для положительного интереса к общественным вопросам.
Но столь же мало места для философской разработки политической проблемы было и в другой замечательной философской системе этой эпохи, принадлежавшей Пармениду. Этот крупнейший представитель элейской школы, выступивший с своим произведением лет двадцать спустя после появления философских рассуждений Гераклита и учивший в первой половине Vвека, по своему воззрению на сущность мира был прямым антиподом эфесского мудреца. Но в оценке человеческого «мнения» они совершенно сходились, при чем Парменид, для которого весь видимый мир был лишь призраком, порождением обманчивых чувств, еще более, чем Гераклит, должен был презирать события и дела этого призрачного мира. Философия Парменида знаменует собою тот пункт в развитии греческого мышления, когда оно становится в полное противоречие с внешними чувствами и опирается только на силы мыслящего духа. В самом деле, что может быть в большем противоречии с нашими чувствами, как не утверждение, что вся эта множественность наблюдаемых явлений, все это разнообразие вещей не более, как обман чувств и что существует только единое и нераздельное бытие. Люди не могут отличить истины от лжи, утверждает он: недоумевающее и бессмысленное племя, они смешивают бытие с небытием (fr. 6). Надо отвлечь свою мысль от ложного пути и не допускать себя идти по привычке проторенной дорогой (fr. 1, 35). Но что же открывает Пармениду свидетельство истины, которому он хочет следовать? Его основная мысль состоит в утверждении безусловного единства мира; множественное, различное, индивидуальное, т.-е. именно то, что человеку так близко и так дорого, объявляется здесь при-
1) См. объяснения Уд. Мейера, Bd. VI, S. 240 и Дильса, Einleitung', S. V.
30
зраком, миражем. Учение Парменида о призрачности множественного бытия, о невозможности происхождения и изменения напоминает восточную мудрость, индийскую мысль о том, что мир, как он нам кажется, есть лишь майя, ложный покров, скрывающий единое сущее.—Так, с другой стороны, Парменид в отношении к житейским интересам приходит к тому же результату, что и Гераклит: интересы эти призрачны и ничтожны. Эта замкнутая система мысли, столь отрицательно относившаяся к действительности, не давала никаких опор для политического миросозерцания. Если мир—призрак, и призрачны все его интересы, то нет никакого основания в нем действовать. Мы знаем, впрочем, из предания, что Парменид и его ученик Зенон играли видную политическую роль в своем родном городе Элее. Но это была только дань политическим преданиям и нравам, столь твердым в древней Греции. Миросозерцание элейской школы не давало для этой деятельности никаких философских оснований, и в умозрениях Парменида мы и вовсе не находим отзвуков интереса к политическим вопросам.
Следующее затем поколение философов V века объединяется общей задачей примирения крайних положений, которые были высказаны Гераклитом и Парменидом. Эмпедокл, Анаксагор, атомисты Левкипп и Демокрит пытаются согласовать представление об изменении вещей с понятием об их неизменной и единой основе. К этому же синтетическому направлению можно причислить и пифагорейцев V века, из которых особенно выделяется Филолай. Но для нас валено не столько проследить различные способы этого согласования, сколько подчеркнуть другую сторону предмета, а именно то обстоятельство, что это примирение предшествующих крайностей было до известной степени и примирением философии с жизнью. У Гераклита и Парменида мысль взяла слишком резкие и крайние тоны и повернула против человека всю силу и всю односторонность абстракции. Теперь философия берет тоны более мягкие и примирительные. Жизнь людская и мир изменений уже не считаются ничтожными призраками. Все эти философы защищают ту мысль, что изменчивость и множественность принадлежат к необходимым признакам мира. И еще в одном отношении эти системы сходны между собою и интересны
31
для нас: они подчеркивают разумный смысл и порядок мира. Так Эмпедокл предлагает целую поэму о действии в мире божественного начала Любви. По его учению, Любовь всюду разлита в природе и людях. Посредством ее люди познают все прекрасное и осуществляют его в жизни. Ея первоначальное господство нарушается вмешательством Вражды; но затем, пройдя весь мировой процесс, она снова торжествует победу над Враждою. Анаксагор говорит об устрояющем действии в мире Разума. Филолай начинает свое философское произведение с утверждения о гармонии и порядке мира. Только у атомистов, соответственно их общему миросозерцанию, эта мысль не получила развития. Во всяком случае и они столько же примирители, сколько и примиренные; Демокрита предание называет даже смеющимся философом.
Но если у всех этих философов можно отметить более примирительное отношение к жизни, то все же и у них мы не находим теоретической разработки вопросов политических и общественных. Даже и более поздний из них, Демокрит, проживший, если верить преданию, на несколько десятков лет долее Сократа, и по духу своих воззрений отчасти принадлежащий к последующий эпохе, при всем интересе своем к этическим проблемам и при свойственной ему высокой оценке политики и государственного искусства, не пытался более подробно анализировать условий государственной жизни. Да и все его нравственные изречения суть не более как отрывочные сентенции, не сведенные в систему 1). С другой стороны, если некоторые из названных философов, как например Эмпедокл, играли видную общественную роль, то нельзя не заметить, что именно философу этой эпохи Анаксагору принадлежит упомянутое указание на то, что отечеством мудрого является небо. По всей видимости, общественные вопросы не предстают еще этим мудрецам в качестве предметов философского размышления, и они не усматривают еще того решения этих вопросов, которое последующая греческая философия нашла в виде реформы жизни при посредстве знания 2).
Таким образом надо сказать, что типическим философом
1) См. общее заключение о морали Демокрита у кн. С. Н. Трубецкого, История древней философии, стр. 132, 134, 135 и 126.
2) Ср. замечания Эд. Мейера, Bd. IV, SS. 241, 244, 248.
32
всего этого периода является тот, который удаляется от мира, чтобы жить собственною мыслью. То привлекательность мысли, то горечь жизни являются причинами этого удаления. Но удаление это не может быть полным: философ уходит от мира, а мир приходит к нему. Страдания и горести, которыми полна жизнь человеческая, требуют к себе сочувствия и участия, и мы видим, что многие из этих небожителей, как Парменид, Зенон, Эмпедокл, принимали участие в заботах мира, если даже философия их этого не требовала. Позднее это участие отзовется и на самих построениях философов, даст повод к их политическим проектам, к общественным идеалам, к реформаторским опытам. Пока оно являлось не более, как невольным отступлением от философии в пользу жизни, и при том чисто практическим отступлением, для которого теория не придумала еще никаких основ и никакой программы.
В заключение этой общей характеристики первоначального отношения греческой философии к политике мы должны сказать несколько слов и об упомянутых выше семи мудрецах, которые хронологически относятся к самому началу рассматриваемого периода, а именно к концу VΙΙвека и началу VI. Как мы видели, некоторых из них Платон также относил к числу воздерживавшихся от общественных дел; но надо сказать, что у этих практических мудрецов более, чем у ближайших к ним по времени натур-философов, сказывается дух времени, переходившего к новым формам жизни.
Этих мудрецов было не семь, а гораздо более; если сопоставить все редакции и комбинации, то окажется, что их можно насчитать 22 1). Число 7 принято было самими греками, как священное и мистическое число, к которому они любили приурочивать разные замечательные явления. Таким образом выходит, что каждая редакция у различных писателей включает другие имена; однообразно повторяются в числе семи только четыре имени: Солон, Фалес, Питтак и Биант. Подробности об их общей дружбе и встречах, о знаменитом треножнике, который был присужден оракулом мудрейшему, и затем был любезно пере-
1) Ed. Zeller, Die Philosophie der Griechen, Fünfte Aull, Leipzig 1892. I Th., 1 II., S. 110.
33
даваем одним мудрецом другому, по очереди, все это и недостоверно, и мало интересно. Но нас интересует другая сторона вопроса, что оставили эти мудрецы, какое значение принадлежит им, чего хотят они вообще в своих поучениях.
Прежде всего, что касается формы этих поучений, то она имеет чисто афористический характер. Это не связные построения, а только отрывочные изречения, афоризмы, или, как называли их греки: гномы, откуда и самое название: гномическая мудрость. Иногда эти гномы состоят из двух — трех слов, как например: владей собою; забывай вражду; думай похвальное; не будь легкомысленно-неблагодарным и т. д… Это род пословиц или поговорок, быть может только приписанных известным мудрецам, для возвышения авторитета содержавшихся в них поучений: ценность изречения в глазах народа увеличивалась, когда говорили, что оно принадлежит, например, Солону или Питтаку, краткий афоризм, краткая формула много значат: подобно утвержденной временем нравственной аксиоме, они часто разрешают сомнения, выводят из колебаний и затруднений, дают руководящие указания для действий. За краткой формулой скрывается иногда целая система воззрений, целое миросозерцание. Нельзя сказать, однако, чтобы эти древнегреческие афоризмы или гномы представляли собою что-нибудь цельное; напротив, среди них встречаются самые разнообразные мысли; нередко эта мудрость сбивается на мораль прописи или переходит в наставление хорошего тона. Но исследователи этих гном давно уже и справедливо открывали в них одну преобладающую тенденцию: это совет умеренности. Еще Платон, у которого впервые встречается сказание о семи мудрецах, передает, что они, «сойдясь вместе, положили как начаток мудрости в храм Аполлону, что в Дельфах, написавши то, что все прославляют: познай самого себя и ничего через меру» 1). Таким образом древнее предание из всей гномической мудрости выделяло, как высшие ее поучения, заповеди самопознания и самоограничения. На разные лады и в разных сочетаниях повторяется в гномах эта мысль: ничего через меру, μηδέν ἄγαν.
Соответственно с этим, и в тех изречениях, которые имеют отношение к политике, также подчеркивается правило о необхо-
1) Plato, Protag. 343 В.
34
димости меры и сдержки в политических отношениях. Так, на вопрос, какое из государственных устройств лучшее, многие из гном отвечают: то, в котором дается преобладание закону, т.-е. общей и сдерживающей всех норме. Иногда указывается па необходимость умеренности средств, и тогда-то государство признается лучшим, в котором нет ни очень бедных, ни очень богатых 1). Это требование меры и сдержки, это μηδέν ά'γανочень характерно для этой эпохи. Под этим же лозунгом меры и середины или компромисса, как сказали бы мы теперь, была проведена в Афинах самая замечательная реформа этого времени, связанная с именем Солона, одного из семи мудрецов. В эпоху первого пробуждения масс, заявлявших свои притязания, так понятны были требования умеренности. Известно, что с этих пор входят в моду всякие нравоучения и наставления в морали. На пиршествах на ряду с застольными песнями начинают петь элегии нравоучительного содержания. По приказанию тирана Гиппарха (во второй половине VI века), нравственные изречения высекаются на камнях, отмечавших собою большие дороги в Аттике. Все это очень интересно в своей совокупности. Там, где слишком много начинают говорить о морали, очевидно мораль находится в опасности. Это может означать одно из двух: или общий упадок нравственности, или же переход от старых заветов к новым устоям. В VI веке греческое общество было еще слишком молодо, чтобы можно было предположить в нем общий нравственный упадок. Напротив, оно только вступало — в более прогрессивных общинах Греции — на путь свободной и сознательной жизни; старые политические и народно-хозяйственные формы начинали испытывать изменение. В жизнь греческого общества вторгалось веяние свободных начал; эта жизнь начинала выходить из старых рамок, иногда брать через край. И вот мудрецы произносят свои увещания: μηδέν αγαν, ничего через меру! Долго будем еще мы слышать этот совет в греческой философии; в иной форме, с иным обоснованием и в глубоком выражении он встретит нас и у Платона, и у Аристотеля. Но философия не ограничится только этим советом благоразумной умеренности, она сама поста-
1) См. сопоставление гном, относящихся к политике, у Hildenbrand, Geschichte und System der Rechts-und Staatsphilosophie. Leipzig ISOO. 15d. I. SS. 42--4Ч, Note.
35
рается войти в жизнь, чтобы руководить ею, поставить свободное творчество на место устарелых форм, восполнить пробелы действительности просветительной силой разума. Это задача второго периода греческой философии, самого интересного для нас и составляющего специальную задачу нашего изложения.
III. Софисты.
1. Общее историческое положение софистики. Основной характер софистического просвещения.
Овладеть жизнью при посредстве мысли, влиять на людей силою знания и поучения — такова была великая и привлекательная задача, которую поставила себе греческая философия, начиная с софистов. Эта новая задача характеризует собою второй период философского развития Греции в его отношении к жизни и к политике. Те резкие противоречия и крайности, на которых остановились высшие представители первого периода, Гераклит и Парменид, еще до софистов сгладились и смягчились. Мысль этих философов, столь удалявшая их от мира и жизни, была лишь первой крайностью абстракции, увлеченной смелостью своего полета. Но вслед затем явились и примирительные попытки. Философы заговорили о мироустрояющем разуме, о порядке вселенной, о неслышной, но действительной гармонии сфер, о всепокоряющем действии мировой любви. Так было подготовлено то бодрое и оживленное настроение, которое столь ярко сквозит во всех произведениях второго периода.
Это оживление философской мысли становится еще более заметным, когда философия с окраин греческого мира переходит в Афины. До сих пор главнейшие представители философии учили на Востоке или на Западе, в ионийских колониях, в Сицилии, в южной Италии. Анаксагор первый стал учить в Афинах приблизительно с 460 года, и с этих пор философия прочно утверждается в этом центре греческого просвещения. Блестящий расцвет культуры в эпоху Перикла привлекает в Афины выдающихся представителей мысли. Вслед за Анаксагором сюда явля-
36
ются и Протагор, и Горгий, и Продик и другие софисты; и здесь среди необычайного подъема духовных сил нации, в борьбе философских школ и в полной глубокого драматизма смене событий созревает школа Сократа. Все соединилось в Афинах для того, чтобы создать атмосферу напряженных и страстных исканий и превратить отвлеченную мудрость ионийских философов в конкретную науку жизни 1).
Начало этого периода, который завершается глубокими синтезами Платона и Аристотеля, называется новейшими исследователями эпохой просвещения. Это — очень верное обозначение. Греция также знала свой век просвещения, siècle des lumières, как знала его новая Европа. И как в новой Европе, так и здесь исходной задачей является распространение знаний, основанное на потребности просвещения и на вере в силу разума. Распространить свет разума среди людей, сделать философию и науку достоянием общества и властным элементом жизни — вот о чем идет здесь речь. Эта популяризаторская сторона просвещения есть необходимый момент в развитии каждого прогрессирующего народа. За периодом творчества и накопления в области мысли рано или поздно должен наступить период популяризации и демократизации знаний. То, что первоначально немногие вырабатывают про себя, в спокойном отдалении от жизни, становится затем общим достоянием при помощи популярных толкований и разъяснений. Эта важная задача популяризации нередко увлекает целые поколения и эпохи. Так было и в Греции в рассматриваемый период. Софистов, явившихся здесь главными популяризаторами знаний, сравнивали с энциклопедистами XVIIIвека, и это прекрасно поясняет их историческую роль. И нет сомнения, их слава была бы равна славе французских просветителей, если бы они выполнили свою задачу с такой же твердостью и с такой же нравственной силой. Но как увидим далее, именно этого им не доставало. Они увлеклись внешним успехом, и в конце концов вместо того, чтобы господствовать над жизнью, подчинились ей, ее вкусам и
1) О значении афинского духа для развития философии см. интересные замечания Эд. Мейера, Bd. IV. SS. 123, 149 и его же Forschungen zur alten Geschichte. Halle 1899. Bd. II. SS. 264—265 (Note 2). См. также Dummler, Prolegomena zu Platons Staat, Basel. 1891. SS. 26—27.
37
прихотям. В ином смысле понимал задачу просвещения Сократ. Не приспособляясь к общественному мнению, а господствуя над ним, хотел он учить своих сограждан. Он хотел прежде всего служить высшему голосу истины и вместо старой веры дать своим согражданам новое миросозерцание, прошедшее чрез испытание критики. Как и софисты, он принадлежит к эпохе просвещения; как и они, он проникнут ее критическим духом и просветительными стремлениями. Но по глубине своей мысли он перерастает ее задачи: он не остается на уровне популяризаторского энциклопедизма, а залагает фундамент для новых философских построений, бесконечно возвышающихся над всем предшествующим развитием философии. Для того, кто судил по внешности, кто не мог оценить глубины философской реформы Сократа, легко было смешать его с софистами. И быть может именно настойчивостью его критики, беспощадностью диалектики, захватывающей силой проповеди объясняется то, что ревнители старых взглядов видели в нем главного виновника того нового духа, который распространяется в Афинах со второй половины V века.
Этот новый дух проникает в Афины еще до Сократа и до софистов. Его приносят сюда впервые последователи философского рационализма, и из них в особенности Анаксагор. Идеи этого философа не остались тайной его школы, как это можно судить из постигшей его кары за свободомыслие 1). Но в самих задачах просветительной философии заключались причины, которые делали ее представителей главными поборниками рационализма и носителями нового духа. Новое просвещение, которое она несла с собою, обращалось прежде всего к разуму человека, к его диалектической и критической силе. Испытующий разум ставился во главу угла, и таким образом просветительная философия неизбежно превращалась в критику старых преданий и унаследованных верований. Как бы ни уклонялись от этого пути иные софисты, которые брались, например, подобно Антифону, за врачевание душ и толкование снов, но общий тон софистики был несомненно критический, как об этом свидетельствует большинство дошедших от нее отрывков.
1) О распространении его взглядов в Афинах см. Plato Apol. 26 D.
38
Таково общее историческое положение софистики. Переходя к более подробной характеристике ее учений, заметим прежде всего, что было бы совершенно неправильно объединять всех софистов общностью школы или миросозерцания. После исследований Гомперца и Дюммлера, с особенной тщательностью раскрывших целый ряд оттенков в учениях отдельных софистов, говорить о софистах, как о представителях одной и той же доктрины, значило бы повторять явное недоразумение. Та общность, которая между ними существует, устанавливается не единством доктрины, а общим духом эпохи и общностью практической задачи, которой они служили. Отсюда объясняются многочисленные точки соприкосновения между ними, которые, несмотря на все различие их взглядов- позволяют дать их общую характеристику. Но это будет характеристика не школы, а профессии, поставленной в особые исторические условия и среди этих условий приобретшей всемирно-историческое значение.
То, что объединяло всех софистов и что позволяет говорить о них, как о некоторой общей группе, заключается в их общем практическом призвании. Это были профессиональные учители молодежи, за плату сообщавшие желающим известную сумму познаний. Не кто иной, как один из новейших поклонников греческих софистов, Гомперц, нашел для них, как мне кажется, самое удачное обозначение, назвав их полупрофессорами и полужурналистами. И действительно, трудно придумать лучшее название для того особого сочетания их наставничества с популяризаторским энциклопедизмом и легким публицистическим жанром, которое всех их в большей или меньшей степени отличает. Прежние греческие философы, творцы оригинальных систем, были далеки от мысли делать из своей мудрости профессию. Мы знаем среди них учителей жизни, каким был Пифагор, странствующих проповедников, вроде Ксенофана, руководителей общества, подобных Эмпедоклу; но, как говорит Платон, «из тех древних ни один не подумал требовать себе денежного вознаграждения или показывать свою мудрость на всевозможных сборищах» 1). Профессиональное обучение высшим наукам и философским познаниям было новостью в греческом обществе, и
1) Hipp. mai. 282. С.
39
блестящее выступление софистов на этом поприще сразу обратило на них общее внимание. Их появление в различных городах Греции и особенно в Афинах встречалось, как событие, привлекало к ним цвет молодежи и надолго оставляло по себе славу их ораторских и учительских триумфов.
Однако, сколь ни было необычным подобное выступление софистов для древней Греции V века, само по себе оно не представляло еще ничего такого, что могло бы объяснить и их шумную славу, и ту горячую оппозицию, которую они встретили в древней Греции, особенно в школе Сократа. Для того, чтобы найти объяснение этой славе и этой оппозиции, необходимо предположить некоторые особые условия в их деятельности, которые столь резко выдвигали их из ряда обычных наставников молодежи. Почему бы, в самом деле, сохранилась иначе столь прочная память о них, как об особой группе, сыгравшей крупную роль в просвещении Греции, в развитии ее философских идей, в ходе ее политической жизни.
Эти условия заключаются в том, что именно в софистах,— и притом в классически ясном и простом выражении — воплотился тот «дух отрицанья и сомненья», который во второй половине V века проявляется в греческом обществе. Было бы глубочайшим недоразумением стараться снять с софистов эту печать разрушительного скептицизма, придать невинный вид их утверждениям, и, поставив их в одну линию с Сократом, уничтожить индивидуальные особенности их положения. В этом отношении Гомперц и те, кто за ним следует, повинны в прямой несправедливости к греческим просветителям V века. Если кто сохранил для нас сущность софистики в ее рельефном и ярком выражении, так именно Платон, свидетельства которого, полные жизненной конкретности и (философской глубины, всегда будут представлять не только философский, но и исторический интерес. Старое утверждение, будто бы Платон, изображая софистов, дает только карикатуры, нельзя не признать крайне преувеличенным и неверным. Тон легкой иронии, который мы замечаем, например, в диалогах: Протагор, Гиппий Меньший и Гиппий Больший, Горгий, нисколько не делает из его художественных образов карикатурных искажений действительности
40
Исключение представляет только диалог Эвтидем, но и здесь, по очень правдоподобному предположению кн. С. Н. Трубецкого, «под личиной злосчастных Эвтидема и Дионисиодора бичуются родоначальники кинической школы» 1), а не софисты.
Конечно, Платон изображает философскую сущность и глубину софистических учений, и естественно, что не все софисты доходили до этой глубины. Такие легковесные энциклопедисты, как Гиппий или Антифон, не могут быть поставлены на одном уровне с Горгием и в особенности с Протагором. С другой стороны, от этих старших софистов следует отличать их учеников и последователей, которые делали иногда крайние выводы из усвоенных положений. Таковы, например, проповедники сверхчеловеческой морали, среди которых Платон называет Калликла и Тразимаха. Характерно то обстоятельство, что великий критик софистов не связывает эти учения с именами старших софистов, хотя совершенно бесспорно, что они логически вытекали из их идей. Наконец, необходимо иметь в виду, что и среди последователей софистики не все непременно доходили до конца; иные останавливались на промежуточных и более мирных решениях. Дюммлер доказывает это с великим искусством и с бесспорной убедительностью 2).
Как бы то ни было, одно остается несомненным: так называемые разрушительные выводы софистики соответствовали ее внутреннему существу. Они вытекали из рационалистического характера того нового образования, которое предлагали софисты, из естественного противоположения новых идей старым верованиям, из всего того духа критицизма, которым была напоена умственная атмосфера конца Vвека. Как всякое критическое движение мысли, софистическое просвещение представляло необходимую ступень культурного развития. Только преодолев эти крайности, только пройдя чрез эту отрицательную инстанцию, школа Сократа могла возвыситься до того необычайного подъема положительных утверждений, который ее отличает. Не только в гносеологии и в ме-
1) Творения Платона. T. II. М. 1903. Стр. 376. Ср. замечания Владимира Соловьева, там же, стр. 94—95. Очень ценно объективное и беспристрастное мнение Эд. Мейера, Bd. IV, S. 268.
2) Я имею здесь в виду его статьи в сборнике: Akademika, Giessen 1889 и цитированное выше исследование: Prolegomena zu Platons Staat. Basel. 1891.
41
тафизике, но также и в философии права, что для нас особенно важно отметить, софистика была прямым подготовлением платонизма. Взвешивая эту созидательную силу софистического отрицания, мы всего более отдадим должное историческому значению софистов.
Однако, в общем положении софистов существенны не только их отрицательные идеи. Их призвание связывалось с одной очень важной положительной верой: это была вера в силу воспитания. Когда софисты, как Гиппий, претендуют на то, чтобы все знать и все уметь, они вместе с тем утверждают, что не только сами все знают, но еще и могут научить всему других. Нельзя не согласиться с замечанием Гольма в его «Греческой истории» 1), что в этой самоуверенности греческих просветителей заключалась мысль, подкупающая своим величием,— мысль, что для человека нет ничего недоступного, если только искусным обучением и воспитанием развить его внутренние силы. Это и была вера во всемогущество просвещения, которая характеризует эту эпоху. Краткая формула, при помощи которой софисты выражали эту мысль, состоит в следующем: «добродетели можно научиться» 2). В объяснение этой формулы замечу, что слово: добродетель, ορετη означало у греков всякое выдающееся качество или достоинство; оно не имело специального отношения к моральным свойствам. Дар слова, умственное превосходство, ловкость — все это может быть подведено под понятие добродетели 3). Таким образом, утверждение, что добродетели можно научиться, имело глубокое практическое значение: оно было равносильно утверждению всемогущества воспитания. Дошедшие до нас красивые изречения Протагора и Антифона о необходимости воспринимать воспитание глубоко в душу, о неувядаемости благородного воспитания, которого «ни дождь ни бездождие не уничтожают», представляют собою характерные образчики веры софистов в воспитание 4). Эта вера не была, однако, только педагогической идеей, по-
1) Holm, Griechische Geschichte. Berlin 1889. Bel. II. S. 485.
2) Plato, Protagoras 320 и сл.
3) L. Schmidt, Ethik der alten Griechen, Bd. I. S. 295.
4) Изречение Протагора и Антифона см. у Дильса, Die Fragmente der Vorsokratiker, S. 521, fr 11 и S. 559, fr. 60. — О новых фрагментах см. Gomperz, Griechische Denker. Bd. I. Anmerkungen S. 471.
42
рожденной естественным профессиональным увлечением. В условиях того времени она означала нечто гораздо большее: она являлась свидетельством целого переворота понятий. Древне-греческое воззрение стояло скорее за то, что добродетели не учатся, с ней рождаются; добродетель есть признак высокого, аристократического происхождения. Даже у Эврипида, характерного представителя эпохи просвещения, встречаются еще отзвуки старого взгляда: «все дело в природе, и напрасно пытается воспитание превращать дурное в хорошее». В последующей этике, у Сократа, у Демокрита, у Платона и наконец у Аристотеля мы постоянно встречаем затем этот вопрос: можно ли научиться добродетели. Но это не только задача для академических споров или тема для школьных упражнений. Нет, это исходная мысль греческой просветительной философии, являвшаяся лозунгом общественной реформы. Идея этой реформы могла развиваться в различных направлениях, но для всех направлений было общим это исходное убеждение, что путь к общественной реформе лежит чрез воспитание. Это убеждение впервые было утверждено в греческом обществе софистами.
Мы не имеем достаточных данных утверждать, чтобы педагогический идеал софистов был увенчан у кого-либо из них также и определенным общественным идеалом. Конечно, в утверждении софистов, что они всех могут научить добродетели, нельзя не видеть соответствия демократическому духу времени. Если добродетель есть дар природы, свойство, получаемое человеком от рождения, то этим установляется от природы перевес лиц благородного происхождения, если же она есть нечто приобретаемое собственными усилиями и трудом, то следовательно для каждого, кто только может учиться, открыт доступ в правящие круги общества. Демократический характер носят и многие другие идеи софистов, которых мы коснемся ниже. Однако, у нас нет оснований для утверждения, чтобы они слагали из этих идей законченный идеал. Сохранились сведения о политических произведениях Протагора и Антифона, но сведения настолько скудные, что представляется совершенно невозможным идти далее догадок о их общем характере 1). Неясно также, за отсутствием
1) Все эти сведения собраны у Дильса, Die Fragmente der Vorsokratiker, S.
43
более точных данных, в какой мере может быть поставлена в связь с софистикой коммунистическая теория Фалея Халкидонского 1). Но несомненно, что на почве начал, высказанных софистами, подготовлялись будущие идеальные построения.
2. Учения софистов о естественном праве.
Это подготовление совершалось однако не только чрез пропаганду идеи всемогущества воспитания. Самая эта идея получала свой общественный характер от связи с другим учением, которое также являлось руководящим для большинства софистов; это было учение естественного права. Едва ли можно признать достаточно оцененной заслугу софистов в этом отношении.
Правда, для того чтобы судить об этой заслуге их, мы имеем лишь очень отрывочные сведения. Но и эти сведения позволяют утверждать, что софисты наметили главнейшие линии естественно-правовой доктрины, имевшей в последующей философии права столь длинную и славную историю. Под знаменем противоположения закона и природы, νο'μοςи φΰσιςсофисты утвердили в греческой философии знаменательное противопоставление естественного права и положительного. Но утвердить это противопоставление значило принципиально порвать со старой традицией, говорившей о незыблемой силе положительного закона. Это значило подготовить почву для анализа и критики в вопросах общественных и заложить фундамент для идеальных построений, вытекающих из разума. Старое греческое созерцание нашло для себя наилучшее выражение в получившем широкое распространение среди греков стихе Пиндара:
«Закон — царь всех смертных и бессмертных,
превозмогающей рукою дает он победу справедливости».
512, 37—40; S. 519 fr. 5; S. 520, 26—29; S. 550,31—32; SS. 556-560. Cм. Ed. Zeller, Philosophie der Griechen I. Th. 2 Hälfte S. 1119, Note 1, S. 1120 и Note 4. См. также догадки Дюммлера в Prolegomena zu Platons Staat. S. 28. Note 1 и Akademika, S. 79.
1) Ed. Zeller., ibid. S. 1072. К софистам Фалей причисляется, хотя и с оговоркой, у Редкина. Из лекций по истории философии права СПБ. 1889. Т. 2. Стр. 351.
44
Другое знаменитое положение, продукт аристократического образа мыслей, принадлежало Гераклиту: полагая, что присущие положительному закону неравенства и противоречия, деления на свободных и рабов отражают мировой закон борьбы, он требовал смирения разума пред этим законом и признания его справедливости.
С этими воззрениями у софистов происходит полный разрыв; они объявляют, что закон не царь, а тиран, нарушающий естественные отношения, и этому тираническому господству положительного закона противопоставляют изначальную правду природы 1). Вместо старого Пиндаровского воззрения: νόμος ὁ πάντων βασιλεὺς входит в употребление новое определение Гиппия: νόμος τύραννος ὤν τῶν ἀνδρώπων.
Уже одно это противопоставление закона природе имело огромное значение; оно будило мысль об основаниях существующего порядка, утверждало критицизм в отношении к государственным законам и общественным требованиям. Но софисты не остановились на одном общем лозунге; они старались связать его с дальнейшими определениями, вследствие чего возможно говорить если не о системах, то во всяком случае о законченных схемах софистической философии права. И замечательно, что эти схемы предвосхищают основные направления позднейшего времени.
В новое время, в эпоху расцвета естественно-правовых учений по вопросу о характере естественного состояния, предшествовавшего утверждению положительного закона, существовало два резко расходящихся взгляда, с особенной яркостью выразившихся в учениях Гоббса и Локка. Согласно одному воззрению, естественное состояние есть всеобщая вражда, bellum omnium contra omnes; согласно другому — это напротив блаженное время мира, равенства и свободы. В первом случае, положительный закон получал
1) Противопоставление закона природе, если верить Диогену Лаэрцию, высказывается одновременно с более ранними софистами, и учеником Анаксагора Архелаем. Дюммлер предполагает в данном случае заимствование Архелая у софистов (Akademika, S. 257). Мысль об этом, как и самое сообщение Диогена подвергается основательным сомнениям у Целлера (Ed. Zeller, Philosophie der Griechen. 1 Th. 2 Hälfte S. 1037. Note 5). Всего скорее софистическая формула была приписана Архелаю в позднейшее время.
45
значение спасительного выхода из бедствий естественных отношений, во втором — он казался лишь несовершенным порождением испорченных нравов, получающим оправдание только от приближения к праву природы. Не столь резко, но все же вполне определенно эта антитеза была намечена и в древней философии права.
Согласно свидетельству Платона, первая точка зрения была высказана Протагором. Первоначально — учит Протагор — люди жили разрозненно и не имели городов. Попытки собираться вместе и спасаться, строя города, кончались неудачей: без политического искусства они обижали друг друга, так что им приходилось снова рассеиваться и погибать. Только тогда, когда у людей появились стыд и правда, ставшие «укладами городов и узами дружбы», они получили возможность совместной жизни 1).
Как видно отсюда, согласно Протагору, политическое искусство, опирающееся на стыд и правду, является сравнительно поздним достоянием людей: оно не было свойственно им с самого начала; первоначальное их состояние есть состояние разрозненности и взаимных обид. Протагор называет стыд и правду искусствами и разъясняет, что основанная на них гражданская добродетель «существует не по природе, и не сама собою, а приобретается изучением и дается людям в силу прилежания» (Protag. 322 D и 323 С). В соответствии с этим стоит и другое, по всей вероятности, более позднее положение Протагора, которое у Платона приводится, как согласное с его учением, что мерою
1) Plato, Protag. 322 В — С. Что миф о Прометее, из которого я беру приведенные в тексте слова, верно передает взгляды знаменитого софиста, это признается такими знатоками греческой философии, как Целлер (Philosophie der Griechen S. 1120, Note 4) и Дюммлер (Prolegomena zu Platons Staat. SS. 28 — 29 Note). Мнение это представляется тем более убедительным, что и позднейшее свидетельство Платова в „Теэтсте“ 167 С в общем не противоречит первоначальной версии учения Протагора в диалоге, носящем его имя. Теологическая окраска этого учения, может быть, связана была с формой мифа, который в диалоге Платона Протагор рассказывает присутствующим, „как старик молодежи“. Дюммлер допускает даже, что Протагор первоначально мог прямо воспроизводить теологическо-консервативную форму обычного воззрения на право, не находя нужным ей противоречить. Непонятно только, каким образом Дюммлер утверждает, что Платон сохранил сведения лишь о радикальной группе софистов (S. 45), если в то же время он признает, что в мифе о Прометее великий философ верно передает учение Протагора в его первоначальной консервативно-теологической окраске и что столь же верно передает он и учение Гиппия, чуждое крайних выводов Тразимаха и Калликла.
46
справедливого и прекрасного является государство: «то, что представляется каждому государству справедливым и прекрасным, то и является таковым для него, пока оно таковым считается» (οἶα γ’ ἄν ἑκάστῃ πόλει δίκαια καὶ καλὰ δοκῂ, ταῦτα ραὶ εἶναι αὐτῇ, ἔως ἄν αὐτὰ νομίζῃ... 167 С Theät.) 1). Это был только последовательный вывод из основного учения Протагора, что не природа, а политическое искусство утвердило среди людей начала справедливости и добра 2).
Подобный взгляд, при дальнейшем развитии, может привести к системе консерватизма и государственного абсолютизма. Так именно было у Гоббса. По всему духу своих воззрений Протагор был далек от веры в абсолютное значение государства; но элементы консерватизма несомненно были свойственны его философии права. Находясь в близких отношениях к Периклу и живя в Афинах в эпоху блеска и славы афинского государства, он легко мог разделять общие взгляды кружка Перикла на мудрость государственных законов. Это был консерватизм особого рода, получавший свое подкрепление в счастливом сознании успехов и преимуществ существующего строя. Но по свидетельству Платона, идея о правде государственных установлений получала у Протагора обобщенное выражение и относилась ко всем государствам вообще. Сам по себе этот взгляд очень близко подходил к традиционному воззрению греков. Бросается в глаза полное сходство его с теми мыслями, которые приписываются Периклу в известном разговоре его с Алкивиадом, переданном у Ксенофонта (Memorabilia, I, 2, 40 слл.) 3). Ничего ни разрушительного, ни нового в этом учении не было. Ново было лишь то скептическое основание,
1) Cp. Theät. 172 А. О степени достоверности свидетельств Платова в «Тоэтете» см. Zeller, о. с. SS. 1098 и 1121.
2) Мнение Целлера (о. с. S. 1121) о том, что Протагору было чуждо различение естественного права и положительного, есть результат очевидного недоразумения. Взгляд, изложенный в Protag. 323 С — D, но может быть истолкован иначе, как в том смысле, что хотя задатки к стыду и правде есть у всякого, но развитие этих задатков дается не природой, а прилежанием и обучением, и составляет предмет политического искусства. Несомненно, однако, что противопоставление природы закону не могло быть ясным у Протагора, в виду его положительного отношения к государственным установлениям.
3) Взгляд, приписываемый здесь Периклу, можно свести к утверждению, что законом является постановление господствующей в государстве власти.
47
которое подводил под эту старую мудрость Протагор. Государство представлялось ему в том же смысле мерою справедливости, в какой человек мерою всех вещей. Для каждого государства справедливы только свои законы, и притом лишь на то время, пока они кажутся ему таковыми; никакой естественной, общеобязательной, абсолютной справедливости нет. Это была присущая Протагору точка зрения релятивизма, учение об относительности и условности человеческих понятий и представлений. Но вследствие этого и старая мысль о верховенстве государственного закона неожиданно получала у него скептический оттенок. Если никакой абсолютной справедливости нет, то сразу падает священный авторитет положительного закона. Это уже не прежний закон — царь всех смертных и бессмертных, а только изменчивое и условное человеческое установление. Таков был естественный плод софистического рационализма, результат сравнения законов различных стран. Нет оснований предполагать, чтобы Платон что-либо прибавил к собственному учению Протагора: настолько его свидетельство соответствует всему, что мы знаем о знаменитом софисте, и настолько основное ядро переданного Платоном учения имеет умеренный и даже традиционно-консервативный вид.
Что Протагор не был одинок в этом умеренном направлении софистической философии права, это подтверждают имеющиеся у нас данные о софисте Антифоне и анализ произведений Эврипида, очевидно пользовавшегося софистической литературой 1).Но из некоторых выражений Антифона, горячо возражавшего против анархии и беззакония, можно заключить, что одновременно с этим умеренным направлением софистической философии права стали высказываться и взгляды иного-характера 2).
1) Анализ произведении Эврипида с этой точки зрения блестяще выполнен Дюммлером в его Prolegomena zu Platons Staat.
2) Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker, S. 559, fr. 61. Если бы справедлива была догадка Бласса, разделяемая Гомперцом (Griechische Denker, Bd. I, S. 351), что сохранившиеся у Ямвлиха фрагменты неизвестного софиста принадлежат Антифону (по существу дела эта догадка, при наличности имеющихся данных, не может притязать на достоверность), то мы получили бы новое подтверждение полемики Антифона с крайними софистическими теориями. Во всяком случае, принадлежат ли эти фрагменты Антифону или кому-либо другому, они свидетельствуют о том, что кроме Протагора умеренная точка зрения разделялась и другими софистами. Дильс с полным основанием полагает, что из софистов анонимный автор этих фрагмен-
48
Точка зрения Протагора и Антифона, как мы сейчас показали, воспроизводя старое воззрение, ставила его однако на очень шаткое основание. Если закон имеет силу не от природы, а от изменчивой воли государства, то возможно было спросить далее о санкции этой воли, о ее праве определять закон по своему усмотрению. И вполне понятно, что в эту критическую эпоху были сделаны выводы, повернувшие формулу Протагора против положительного права. Положительный закон существует действительно не по природе, а по изменчивому человеческому установлению, но отсюда и объясняются его противоречия и несовершенства. Настоящая правда, данная людям от природы, напротив, одна и общая для всех. Эти выводы существенно изменяли отношение между естественным состоянием и гражданским: идеальным признавалось то, что существует от природы, а в положительном порядке усматривалось искажение этой естественной правды.
Этот взгляд, напоминающий учения Локка и Руссо, невидимому был высказан впервые софистом Гиппием 1). Противопоставление природы закону, еще неясное у Протагора в виду его положительного отношения к государственным установлениям, выступает у Гиппия со всей своей критической силой. Как передает Платон, Гиппий утверждал, что все люди «сродники и свойственники, и сограждане по природе,— не по закону; ибо подобное подобному по естеству сродно, но закон, будучи тираном над людьми, принуждает ко многому против природы» 2). Естественное родство и равенство людей противополагается здесь, очевидно, далеким от равенства и единства отношениям действительности, и вина за это отступление от естественной справедливости возлагается на тиранически властвующий закон, установленный людьми. С этой же точки зрения софист Алкидам, ученик Горгия, отрицал рабство и провозглашал общую свободу: «Бог всех создал свободными,— говорил он, — природа никого
тов всего ближе подходит к Протагору (S. 577. 82. Anonymus Jamblichi. См. особенно S. 579 20 слл.). Ср. обстоятельные возражения Блассу в сочинении Joël, Der echte und der Xenophontische Socrates. Berlin. 1901. Bd. II. SS. 673. ff, Excurs. Die scheinbaren Antiphon - fragmente bei Jamblichos).
1) Dümmler, Akademika, S. 251 ff.
2) Plato, Protag. 337 С. См. также Xenoph. Memor. IV, 4, 14.
49
не сделала рабом» 1). Другой софист из школы Горгия, Ликофрон, в том же смысле отрицал привилегии рождения 2).
Очевидно, все принципы либерально-эгалитарного естественного права нашли у софистов свое выражение. Но быть может еще более интересно то обстоятельство, что у них была высказана и идея договорного установления государства. Хорошо известно, сколь важную роль играла эта идея в политической литературе нового времени; но что она являлась своего рода неотъемлемым членом доктрины естественного права, это лучше всего доказывается примером греческой философии. Мысль о договорном происхождении права не внушалась здесь ни традициями политической жизни, ни воспоминаниями прошлого, как это было в новое время. Она являлась чисто теоретическим объяснением перехода от естественного состояния к гражданскому.
Теорию договорного происхождения права Платон влагает в уста софиста Тразимаха. Убедившись на практике в невыгоде взаимных обид, люди нашли полезным «договориться между собою, чтобы не делать несправедливости и не терпеть от нее (ξυνθέσθαι ἀλλήλοις μετ ἀδικεῖν μετ ἀδίκεῖσθαι)»; вследствие этого они начали составлять законы и договоры и предписанное законом называть законным и справедливым (Rep. 358 Е—359 А).
Что эта теория действительно высказывалась софистами, это подтверждается и свидетельством Аристотеля, который связывает ее с именем Ликофрона. По словам Аристотеля, Ликофрон полагал, что закон только обеспечивает людям взаимную справедливость, не делая их самих хорошими и справедливыми. Это воззрение, как говорит Аристотель, в сущности превращает закон в договор (Pol. III, 5. 1280 в. 10).
Конечно, и Платон и Аристотель сохранили от договорной теории софистов лишь краткую схему. Может быть и сами софисты не шли далее этого, довольствуясь одним общим указанием на происхождение права из договора. Однако, и в этом общем и кратком виде их теория в высшей степени любопытна: она живо напоминает позднейшие формулы естественно-правовой доктрины. Очевидно, и для греческой мысли, искавшей
1) Shol. Aristot. Rhel. I, 13. 1373 h. Cp. Zoller, о. c. .S. 1129, Note 2.
2) Stob. Floril. 86, 24.
50
рационального объяснения права и пытавшейся связать его установление с волей отдельных лиц, наиболее понятной представлялась идея первобытного договора.
Таково было второе направление философии права софистов, шедшее от Гиппия. И в этом втором направлении, при всем его различии от учения Протагора, не было ничего такого, от чего следовало бы защищать софистов. Нападая на положительный закон, Гиппий признавал однако идеальные нормы естественного права, объединяющие людей узами общения и родства. Личность не освобождалась у него от всяких связей, а напротив, подчинялась высшему закону общечеловеческой солидарности. По своим принципам философия права Гиппия, Алкидама и Ликофрона заслуживает той же славы, что и учения Локка, Монтескье и Руссо, провозгласивших одно характерные начала свободы, равенства и братства в новое время. Это было смелое восстание против существующих установлений, против неравенства и несвободы, среди которых живут люди; это был протест в пользу права природы и разума, делавший эпоху в греческом общественном развитии. Совпадение в принципах греческого естественного права с новым показывает, что эти принципы вытекали из противопоставления идеального порядка действительному с неизбежной необходимостью.
Но столь же неизбежным следует признать, что в понимании идеала, соответствующего природе, иные софисты высказывали и взгляды более радикальные. В наше время, после блестящей и шумной славы Ницше, представляется странным, что находят нужным защищать софистов от предположения в проповеди имморализма. Следует скорее удивляться, что модные теперь лозунги крайнего индивидуализма нашли у софистов столь отчетливое выражение. В эпоху критического рационализма и на почве индивидуалистических исканий было логически неизбежно сделать и дальнейший шаг и прийти к полному отрицанию положительного права во имя естественного права личности. Как от взглядов Протагора и Антифона был прямой шаг к формулам Гиппия и Алкидама, так и эти последние формулы, развитые в односторонне индивидуалистическом направлении, легко могли перейти в идеи Калликла и Тразимаха. Гиппий и Алкидам защи-
51
щали права личности с точки зрения равенства; но возможно было провести принцип личности и в ином направлении. Став на точку зрения естественной свободы и независимости, последовательно было вообще отвергнуть власть общественных установлений и провозгласить высшее право личности на определение своей судьбы. Этот радикальный символ веры очень хорошо выражен в Платоновом диалоге: «Горгий» устами ученика софистов Калликла. Отправляясь также от противопоставления природы закону, он усматривает требование природы не в заветах равенства и братства, а в праве сильного на полную и безграничную свободу.
«Я думаю, что установляющие законы — слабые люди; это те, которые составляют большинство. Они установляют законы ради себя и своей выгоды и в этих видах они воздают хвалу и произносят порицания. Для устрашения тех, кто более силен и кто может иметь более, и чтобы не дать им преобладания, они говорят, что постыдно и несправедливо иметь более других, и что несправедливость и состоит именно в том, чтобы домогаться преобладания над другими. Сами же они, я думаю, довольствуются равенством, будучи ничтожнее. Поэтому-то по закону считается несправедливым и постыдным стремиться иметь более, чем имеет большинство, и это называют совершать несправедливость. Однако я думаю сама природа указывает на то, что справедливо лучшему перед худшим и сильнейшему перед слабейшим иметь преобладание»... Так полагается «по закону природы, но конечно не по тому закону, который мы сами постановляем, когда, взявши с молодых лет лучших и сильнейших из нас и как львов заговаривая и завораживая их, мы стараемся их поработить, говоря, что следует соблюдать равенство и что это и есть прекрасное и справедливое. Когда же, думаю я, найдется муж с достаточно сильным характером, то он все это стряхнет с себя и разорвет и убежит от всего этого, попрет все наши писания и чары и заклинания, и все противные природе законы, восстанет и явится господином наш бывший раб, и тогда-то воссияет естественная справедливость (τὸ τῆς φύσεως δίκαιον)... Справедливое по природе в том и состоит... чтобы все достояние слабейших и худших принадлежало сильнейшим и лучшим» (Gorg. 483 В—С—D—Е, 484 А-С).
52
Вот древнегреческая проповедь сверхчеловека — сильной личности, освобождающей себя от обычных человеческих законов и правил. С удивительной силой и простотой выражаются здесь основные догматы имморализма: презрение к господству большинства и принципу равенства, отрицание установленных в обществе норм, вера в естественное право сильной личности. В другом диалоге Платона, в «Государстве» эти же идеи выражаются устами софиста Тразимаха в несколько иной форме: здесь выдвигается та мысль, что во всех государствах справедливым называется то, что полезно установленной власти (339 Λ, 343 С). Но вывод Тразимаха тот же, что и Калликла: собственная польза говорит человеку иное, чем общественная справедливость, и то, что зовется в обществе несправедливостью, на самом деле является при известных условиях и более сильным, и более свободным, и более властным, чем справедливость (344 С).
Такова была третья ступень в развитии софистической философии права. В какой мере слова, вложенные Платоном в уста Калликла и Тразимаха, действительно принадлежали кому-либо из софистов, многим исследователям представлялось спорным 1). Но совершенно бесспорно как то, что идеи крайнего индивидуализма были распространены в эпоху софистов, так и то, что эти идеи связывались прямой логической связью с философией Протагора и Гиппия. О степени распространения этих идей можно судить по указанию Платона, что они повторяются тысячами 2). Об этом же свидетельствует и оживленная полемика с имморализмом, следы которой отчасти дошли и до нас: от Эврипида и до Аристотеля с этим учением считались и боролись 3). Платон возвращался к нему несколько раз; он нашел нужным упомянуть о нем и в последнем своем произведении «Законы», написанном много лет спустя после диалога «Горгий» 4). Идеи радикального индивидуализма находили осуждение и со стороны более умеренных представителей софистики, как об этом свидетель-
1) Cp. Zeller о. с., S. 1130. Note 2; S. 1131, Note 2.
2) Rep. II, 358 с.; cp. Gorg. 492 d.
3) См, об этом Dümmler, Prolegomena S. 30, Note 1 ιι Pohlmann, Geschiclhie des antik. Socialismus u. Kommunismus. Bd. I, S. 151.
4) De legg. IV, 714; X, 889e.
53
ствуют фрагменты Антифона 1). Но, не смотря на это осуждение, все же остается несомненным, что проповедники сверхчеловеческой морали являлись духовными преемниками старших софистов. Их идеи завершали круг естественно правовых учений, развитых Протагором и Гиппием, и в это время для них нельзя указать никакой иной идейной почвы, кроме философии естественного права, к которой они и сводятся у Платона. Нельзя упускать из вида, что в этой философии, в том виде, как она была развита софистами, не было никаких твердых устоев. Протагор мог высказываться умеренно и даже консервативно, но противопоставляя природу закону, он не указывал никакого безусловного принципа морали и права. Он учил, что «человек есть мера всех вещей» (Theät. 152 А.), и отсюда вытекало, что все наши суждения, теоретические как и практические, носят субъективный характер: как что кому кажется, так оно и есть с точки зрения его познания; иной же точки зрения, иной меры вещей нет для человека. Но и другой знаменитый софист, Горгий, подобно Протагору имевший особенное влияние на развитие софистики, также был скептиком. В сочинении своем «о природе или о несуществующем» он доказывал, что ничего нет, а если бы что и было, мы не могли бы ни познать его, ни передать нашего познания другим. При таком взгляде приходилось допустить, что человек живет в мире призрачных и субъективных мнений, в которых нет ничего прочного и постоянного.
Мы не имеем данных утверждать, чтобы скептические воззрения Горгия и Протагора были общими убеждениями всех софистов. Скорее можно утверждать противоположное. По-видимому, это были самые значительные философские учения, резко выделявшиеся своей оригинальностью и новизной, при чем со стороны других софистов им не было противопоставлено никаких иных положительных учений. Не все софисты могли возвыситься до определенной теории познания. Но несомненно, что во всем существе того риторического и энциклопедического преподавания, которое явилось общей основой софистики, не было никаких опор против релятивизма Протагора и Горгия. Неудивительно, если при этих условиях последовательное развитие мысли приводит и к
1) См. выше стр. 47,
54
релятивизму моральному, последним словом которого был имморализм. У старших софистов сохранялись еще и уважение к закону, и вера в идеальные начала равенства и единства людей; у их более решительных учеников всякие связующие человека нормы были отринуты. Человек оставался во всем произволе своих естественных влечений. Это было не только восстание личности против стеснений старой морали; это было возмущение страстей против обязанностей 1).
Так, обозревая всю совокупность идей, развитых софистами, мы не можем не видеть в этих идеях постепенных наслоений, объясняющих их различия. Не следует забывать, что от первого выступления Протагора на поприще наставника молодежи в половине V века прошло не менее трех десятилетий, пока софистическое обучение окончательно упрочилось, и сложились те основания софистического просвещения, которые вытекали из его задач и из условий времени. Крайние выводы из этих оснований могли оформиться и позднее 2). Само собою разумеется, что в столь значительный срок и в эпоху столь оживленной умственной жизни софистические идеи не могли остаться неизменными. Борьба страстей, кипучий водоворот событий отражались и на них, увлекая более смелых и решительных в сторону крайних заключений. Неудивительно, если великие и важные начала, провозглашенные первыми софистами, были развиты их преемниками в одностороннем направлении. Вера в силу просвещения, критика существующего, указание на возможность высших идеальных норм жизни — таковы были начала Протагора и Горгия, Продика и Гиппия. У
1) См. слова Платона о восстании против законов души, ищущей наслаждений и удовлетворения страстей: εἰ δ’ ἄνθρωπος εἶς ἢ ὀλιγαρχία τις ἤ καὶ δημοκρατία ψυχήν ἔχουσα ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ὀρεγομὲνην... De legg. 714A.
2) Протагор начал свою деятельность приблизительно с 450 г. имея около 30 лет от роду. Его первоначальные взгляды на право, переданные Платоном в мифе о Прометее и составлявшие более раннюю форму его учения могли относиться уже к сороковым годам пятого века, ко времени сближения его с Периклом и участия в организации афинской колонии Фурии в Италии (в 443 г.). Деятельность Протагора прервалась в 415 г., когда он, обвиненный в неуважении к религии, бежал из Афин в Сицилию и утонул, потерпев кораблекрушение. К 427 г. относится приезд в Афины Горгия, когда он „не только прославился, как превосходный оратор в народном собрании, но и выступая частным образом и наставляя юношей" (Plato Hipp, mia 282 В.). По-видимому, к первому десятилетию пелопонесской
55
позднейших софистов эти начала сменились требованием полной независимости личности, свободы от преданий и правил, от установлений и законов.
3. Общее заключение об условиях развития и значении софистики.
В объяснение позднейших выводов софистики, как и вообще ее постепенного упадка, нельзя не указать на те особые условия, в которых протекало ее развитие, в особенности в Афинах. Софисты выступили на поприще просвещения с запасом накопленных греческой мыслью знаний. Но в их энциклопедическом преподавании особенно соответствующим духу времени оказалось обучение политическому искусству, и нигде потребность в этом обучении не заявлялась так сильно, как в Афинах. В это время оживленной политической борьбы не было страсти более действительной, чем честолюбие. Политический успех в собраниях, влияние в государстве, доступное для столь многих при демократическом режиме, были так заманчивы и привлекательны. Но для
войны (с 431 г.) относится появление более значительных социально-политических учений софистов (см. Diimmler, Prolegomena, S. 20 Note 2). К этому же времени следует отнести и утверждение в Афинах софистического просвещения, судя по тому, что в 424 г. в „Облаках“ Аристофан подвергает его осмеянию, как нечто уже вполне сложившееся и определенное. Эдуард Мейер относит окончательное упрочение софистической профессии к средине пелопонесской войны (Bd. IV, S. 256). В концу V века софистические идеи получили и догматическое изложение, в форме компендиума, дошедшего до нас под именем Διαλέξείς (приблизительно от 400 г.); идеи Протагора, Горгия, Гиппия и других софистов в обработке провинциального компилятора, жившего на острове Кипре, передаются в качестве утвердившейся мудрости (см. Bergck, Über die Echtheit der Διαλέξεις в его сборнике: Fünf Abhandlungen zur Geschichte der griechischen Philosophie und Astronomie. Leipzig, 1883.—Ed. Meyer Bd. IV. S. 268). Интересно отметить, что только в „Горгии“ и „Государстве“, написанных много лет спустя после смерти Сократа, Платон подвергает критике учения имморализма, ничего не упоминая о них в более раннем диалоге „Протагор“. Широкое распространение они получили может быть только с начала четвертого века, и Платон имел тогда основание сказать, что их разделяют тысячи. У Эврипида и Антифона мы находим свидетельства тому, что они появились и ранее. См. Diimmler, S. 30, Note 1. Софистическое преподавание сохраняет свое значение в течение всего IV века, постепенно уступая свое место другим направлениям. В III веке происходить полное вырождение софистики. См, Hans von Arnim, Т.eben und Werke des Dio von Prusa. Berlin 1898, S, 68,
56
того чтобы господствовать над другими и побеждать противников, особенно важно было усвоить ораторское искусство; научиться умению выступать публично. Власть слова и речи в афинских собраниях была какой-то всемогущей силой. Как выражается Горгий у Платона, ораторское искусство есть «величайшее благо, которое является причиной и свободы людей, и власти каждого в своем государстве» (Gorgias 452). И вот ученики софистов хотели усвоить от них этот чудный дар. Следуя за ними, как «завороженные их голосом» (Protag. 315 В), они прежде всего искали постигнуть эту тайну красноречия и власти. Когда Протагор определял свою науку в качестве умения как можно лучше управлять и своим собственным домом, и делами общественными (Protag. 318 Е), он очень хорошо указывал на тот практический характер софистики, который делал из нее могущественную жизненную силу. Наука хотела быть здесь владычицей жизни, руководительницей людей. Но неудивительно, если при том упадке политических нравов и при том разгаре политических страстей, которыми отмечена история Афин после Перикла, наука софистов постепенно получила сомнительный характер. Если у позднейших софистов настоящее убеждение нередко заменялось диалектическим остроумием и риторическим фразерством, это в значительной мере объяснялось практическими условиями времени. Справедливо утверждают, что софисты имели большое влияние на афинское общество, в которое они внесли ряд отрицательных идей; но несомненно, что еще большее влияние афинское общество оказало на них. Увлекшись внешним успехом, они подчинились тем требованиям, которые к ним предъявлялись, а эти требования стояли в связи с общим ходом жизни. Никто иной, как Платон, которого так часто упрекают в несправедливости к софистам, дал мудрую оценку их положения в Афинах, когда он заметил, что не софисты развращают юношество, а вся афинская жизнь, весь этот шум неумеренных похвал и порицаний в народных собраниях, в судах, в театрах, в военном стане (Rep. 492 В).
В развитии своих учений софисты следовали за этим шумом народной молвы, приспособляя к нему свою науку. В этом сложном процессе взаимодействия мысли и жизни странно слагать всю
57
вину на одну сторону. Описывая политические нравы той эпохи, когда слагалась софистика, изображая картину одичания и распада, полной путаницы нравственных понятий и разгара партийной вражды, Фукидид винит в этом не какие-либо умственные влияния, а междоусобную войну: отсюда тяжкие беды обрушившиеся на государство,— «беды, какие обыкновенно бывают и всегда будут, пока человеческая природа остается тою же, но только проявляются они в большей или меньшей степени и различны по формам, сообразно обстоятельствам в каждом отдельном случае». Двойное свидетельство Платона и Фукидида должно было бы и новейших критиков софистики склонить к большей объективности суждений.
Софистам пришлось учить в тяжкую пору общей деморализации. Понятно, что их учения были проникнуты скептицизмом, что они искали новых основ жизни. Им не удалось возвыситься до положительного идеала и указать впереди новые перспективы: в этом отношении они дали лишь самые общие указания. И если эти указания иногда толковались превратно и в этом виде подхватывались толпою и усваивались беспринципными политиками, в роде Крития и Алквиада, это соответствовало духу времени. Возлагать на софистов ответственность за общую деморализацию или даже за безнравственную политику не более возможно, чем делать например Макиавелли ответственным за политическую практику его эпохи.
Но если софисты подчинялись запросам и вкусам времени, как объяснить вражду к ним широкой массы? В 424 г. Аристофан в своей комедии «Облака» дал образчик суждений толпы о софистах: в противоположность почтению к старшим и строгой дисциплине, на которой были воспитаны люди времен Мараоона, теперь обучают безбожию, неуважению к законам, вольным нравам. Платон около пятидесяти лет спустя подтвердил, что мнение афинской массы о софистах остается столь же враждебным (Rep. 492 А) 1). Для объяснения этого факта нет необходимости прибегать к указаниям на постепенный упадок софистики и на склонность некоторых ее представителей к радикальным парадоксам. Это были подробности, весьма существен-
1) Указанное место содержится в VI книге „Государства“, которое по общему признанию относится к числу позднейших частой этого диалога.
58
ные с философской точки зрения, но быть может не столь заметные для толпы. Причины вражды к новому просвещению лежали глубже, во всем его духе и существе, противоречившем старым верованиям и традициям. Увлекая за собою золотую афинскую молодежь и находя покровительство у свободомыслящих меценатов и друзей просвещения, софисты очень скоро столкнулись с недовольством и недоверием более широких кругов. То просвещение, которое они несли с собою, в своих подробностях могло быть недоступным для масс; но все хорошо понимали, что тут предлагается нечто новое и иное, и притом противоречащее старым устоям афинского государства. А общество крепко держалось за эти устои, которые для всех формулировались в простых и ясных требованиях — уважение к богам, уважение к законам и уважение к государству. Это были как бы три члена символа веры, неразрывно между собою связанные 1). Афинская демократия стояла за них, как за государственную религию, обязательную для каждого. В то самое время, как учили в Афинах софисты, вожди народа Клеон и Никий подавали пример благочестия и соблюдения обрядов. Они были верными представителями своего города, который считал себя благочестивейшим городом Эллады и все свои дела и начинания хотел сообразовать с волей богов. Это благочестие питалось постоянным страхом пред неисповедимой силой судьбы, сознанием зависимости от высшей воли, желанием умилостивить эту волю и боязнью ее оскорбить. При этом религиозное чувство смешивалось с суеверной мнительностью, с практикой отгадывания судьбы чрез прорицателей и богословов, при помощи таинственных явлений и небесных указаний. Весь город погружался в уныние, когда казалось, что знамения неба против него, или когда совершалось святотатственное оскорбление богов, как было пред сицилийской экспедицией после загадочной истории с повреждением статуй Гермеса. Распространение новых взглядов и успехи просветительной философии не только не ослабили общественного благочестия, а, казалось, придали ему новую силу: в момент расцвета софистики, в конце двадцатых годов пятого века в Афинах
1) См. Ed. Meyer, Bd. IV, S. 122,
59
вводятся новые культы и празднества, восстановляются старые святилища, оживляются внешние формы богопочитания 1).
Если в этой твердыне благочестия, столь чуткой к вопросам религии, и философия нашла для себя восприимчивую почву, это было вполне понятно. Но столь же понятно, и именно вследствие быстрых успехов философии в Афинах, что она встретила здесь и сильную оппозицию. Хранители старых святынь не могли помириться с новым рационалистическим духом. Еще при Перикле в тридцатых годах, по предложению одного из них — прорицателя Диопейфа, — народным собранием было принято постановление, в силу которого отрицание богов и исследование небесных явлений карались, как государственные преступления. На основании этого постановления должен был покинуть Афины Анаксагор, а в 415 году та же участь постигла Протагора, когда стало известно его сочинение, начинавшееся словами: о богах неизвестно, существуют ли они или нет.
Софистическое просвещение должно было вызывать тем большую реакцию, что внутри себя оно таило если не отрицание, то критическое отношение ко всем основным верованиям афинян. И вера в богов, и уважение к законам, и преданность государству, все это подвергалось здесь критическому испытанию и сомнению. Чувствовалось, что новое образование несет такие запросы и взгляды, которые далеко оставляют за собою привычный круг воззрений. И потому обе партии, боровшиеся в это время в Афинах, и демократическая, охранявшая существующий строй, и аристократическая, мечтавшая о возврате к прошлому, в отношении к новой философии были одинаково враждебны. Когда в 404 году утвердилась власть тридцати, одной из первых мер их было полное запрещение философского преподавания. А в 399 году восстановленная демократия засвидетельствовала свою вражду к новому просвещению казнью Сократа. Масса не разбирала между различием школ, между прямо противоположными философскими направлениями. Карали свободное исследование, хотели вырвать с корнем новый дух, предвещавший разрушение старых традиций.
1) Ed. Meyer, Bd. IV, SS. 420—421, 428.
60
Но в одном отношении общественное мнение не ошибалось: в философском отношении Сократ был, конечно, антиподом софистов, но в его учении содержались основания, не менее разрушительные для афинского государства. Простой игрой словами следует признать, когда Сократа относят к софистам. Такое соединение под общим названием столь различных направлений или неправильно, если за словом софист удерживается его традиционный смысл, идущий от Платона, или бесплодно, если этому слову придается более древнее значение, равносильное названию: философ или мудрец 1). Но простая историческая справедливость заставляет признать, что при всей своей принципиальной вражде к софистике школа Сократа стояла с ней на одной и той же почве критицизма и просвещения. Софистическая наука подготовила появление Сократа не только отрицательно, но и положительно. Ея вера в силу разума и воспитания, ее реформаторский оптимизм, ее искание естественной справедливости, все это создало атмосферу, в которой созрел политический идеал Сократовой школы. Для этого идеала она подготовила пути. У ней не было собственных сил, чтобы идти далее, но Сократ, Платон, Аристотель явились ее продолжателями.
IV. Школа Сократа.
1. Общая характеристика.
Учения естественного права, развитые софистами, явились первым шагом политической философии греков: они впервые сделали возможной постановку политической проблемы в качестве фило-
1) Спор о том, правильно или не правильно относить Сократа к софистам, может быть решен только конкретным сопоставлением их учении в их влиянии на греческое просвещение. Опыт такого сопоставления дан в превосходной монографии Hans von Arnim, Leben und Werke des Dio von Prusa. Berlin 1898. Cm. Einleitung: Sophistik, Rhetorik, Philosophie in ihrem Kampf um die Jugendbildung, особенно SS. 16—17, cp. SS. 63—68. Значение Сократа, как основателя новой школы, выступает у Арпима тем ярче, что он разъясняет, в каком именно смысле Сократа могли причислять к софистам (zur Zophistenzunft). Ср. также сохраняющие свою силу замечания Целлера против Грота, впервые отнесшего Сократа к софистам (Die Philosophie der Griechen II Th., S. 188) и Siebeck, Untersuchungen zur Philosophie der Griechen. Freiburg. 1888. SS. 1 ff.
61
софской, а не только практической задачи. Софисты приблизились к самой сущности политической философии, когда они поставили вопрос: что такое право по существу, от природы, независимо от человеческого установления. Этот вопрос уже включал в себе проблему наилучшего и справедливого устроения общества, которая должна была привести к созданию политического идеала. Но только в школе Сократа явились необходимые условия для положительных построений: вера в силу справедливости и способность к творческому синтезу. Таким образом, только в этой школе слагается тот идеал совершенной автаркии, который составляет славу греческой философии. Условия исторического развития Афин в своеобразном сочетании с особенностями философской школы Сократа способствовали тому, что этот идеал получил тут классическое выражение.
Со времени Фемистокла Афины выступили на путь широкой завоевательной и объединительной политики. Непобедимая сила внутреннего роста влекла их к расширению границ. Великодержавные замыслы и стремления создавали ту необычайную энергию и подвижность афинской политики, которые заставляли говорить об афинянах, что и сами они не знают покоя, и другим не дают оставаться спокойными 1). Параллельно с этим направлением внешней политики афинян и в связи с ним совершалась постепенная демократизация государства. В этом небольшом политическом союзе, только опираясь на массу народную можно было осуществить смелые завоевательные предприятия. Еще ранее, в эпоху Солона начавшийся процесс возвышения демократии в политике Фемистокла и Перикла получил для себя новое и сильнейшее подкрепление. Державный демос все более приобретал определяющее значение в судьбах государства, и принцип народоправства, как единственно справедливого и закономерного образа правления, становился традиционным основанием политики, своего рода священным догматом, в котором хотели видеть самую сущность правильно устроенного государства 2).
Когда в V веке, в эпоху начинавшегося расцвета филосо-
1) Слова, приводимые у Фукидида, I, 70.
2) Ср. Еd. Meyor Bd. IV, SS. 119—120.
62
фии, стали выдвигаться новые течения критического и просветительного характера, ревнители демократического строя создали целую теорию в защиту простоты и необразованности, как естественных опор законного порядка. Представителем такой теории у Фукидида выводится демагог Клеон, один из ближайших преемников Перикла в руководительстве народной массой. «Необразованность, соединенная со скромностью, —утверждает Клеон — полезнее, чем ум, соединенный с распущенностью, и люди простые обыкновенно лучше правят государством, чем умные; ибо последние хотят казаться мудрее законов... и таким образом губят государство. Люди же простые, не доверяя собственному знанию, считают себя менее сведущими, чем законы... и большей частью лучше правят» 1). Простота народная тут рассматривается, как залог хорошего правления и твердости законов. Это тот самый взгляд, который мы находим впоследствии у Руссо, утверждавшего, что «людей прямых и простых трудно обмануть именно по причине их простоты» и что у таких простых людей может быть наилучшим образом осуществлен законный порядок 2).
Но независимо от этой специальной теории, явившейся, по всей вероятности, ответом на пробудившееся критическое сознание, афинская демократия имела и более общее оправдание, в сознании граждан, как форма правления, единственно разумная и законная. В известной речи Перикла, приводимой у Фукидида, народоправство восхваляется, как правление, основанное на большинстве, а не на меньшинстве, как порядок, соединяющий свободу с уважением к законам. Но то же самое убеждение, которое казалось бесспорным в эпоху расцвета демократии, сохраняет свою силу у ее сторонников и много позднее, после целого ряда крупнейших неудач, выпавших на долю афинян. У Демосфена, выражавшего очевидно господствующие взгляды своей партии, мы встречаем то же убеждение, что «правовым государством χατ’έξοχήνявляется лишь демократическое народное государство, так как только в демократии господствует или по крайней мере должен
1) Thukid. III, 37.
2) Contrat social, IV, 1.
68
господствовать закон. Во всех других государствах личная воля одного или нескольких сильнее закона» 1).
Таково было демократическое воззрение, соответствовавшее утвердившейся в Афинах форме государственного устройства. Ни у кого из греческих мыслителей это воззрение не получило теоретического развития: оно осталось на степени простого догмата, разделявшегося одинаково и массой, и ее духовными вождями. Это была как бы утвержденная временем вера, которая не требовала уже никаких дальнейших подтверждений и доказательств. Когда затем в школе Сократа стал слагаться определенный политический идеал, среди философов эта старая вера не только не встретила сочувствия, но даже вызвала решительное противодействие. Таким образом случилось, что идеал государственного устройства, переданный позднейшему времени греческой философией, соответствовал не историческим задачам афинской демократии, а особым философским идеям, в которых прихотливо сочетались элементы действительности и мечты прошлого и будущего. Это был идеал не исторический, а утопический. Опираясь на воспоминания прошлого, на стародавние начала греческого государства-города, этот идеал был вместе с тем философским предвосхищением будущего. В нем не было только одного — сочувствия к настоящему, к великодержавным замыслам радикальной демократии, к политическим традициям Фемистокла и Перикла. В этом смысле идеал, созревший в школе Сократа, был резким противоречием афинскому демократическому строю. Даже те либерально-эгалитарные начала афинского строя, которые нашли сочувственную оценку в учении Аристотеля, были вставлены здесь в особую связь философских понятий, решительно отделявшую их от подлинной действительности афинского государства.
Здесь, мне кажется, следует искать объяснения некоторых своеобразных особенностей идеала совершенной автаркии: этот идеал был задуман в недрах философской школы и отразил на себе ее дух,— дух углубленного искания истины и напряженного стремления к нравственному совершенству. Поудачному
1) Pöhlmanu, Grundriss der griechischen Geschichte. II Aufl. München 1896. S. 192.
64
разъяснению кн. С. Н. Трубецкого, идеал высшей жизни, который со времени пифагорейцев разделялся более или менее всеми философскими школами древности, сводился к представлению о «жизни, проводимой в замкнутом кругу избранных друзей, соединенных общностью духовных интересов, отдавшихся всецело совместному исканию истины и заботе о совершенствовании, о гармоническом развитии своих духовных, умственных и физических сил». Политический идеал греческих философов был создан в тесной связи с этим стремлением к высшему совершенству. Понятно, что он явился отрицанием широких замыслов о новых землях и заморских владениях: он требовал тесного круга близко сплоченных людей, того государства-города, с которым связывала греческую мысль старая традиция. Когда в школе Сократа был поставлен вопрос о цели политического союза и государственной жизни, ответ на этот вопрос был подсказан всем идеалистическим строем школы, ее верой в силу разума, в возможность высшей правды и высшего совершенства. Государство призвано служить справедливости, в этом духе оно должно воспитывать своих граждан и с этой целью оно должно сообразовать свои учреждения и свою жизнь. В противоположность демократической вере в правду большинства и законность народного правления, здесь выдвигается первенство правды, основанной на знании, и необходимость законности, утверждающейся на согласии с законами божественными. Демократическому империализму противопоставляется совершенная автаркия, свободному самоуправлению народа правление мудрых и знающих.
Вместе с тем вся политическая жизнь в идеях философской школы Сократа поднимается на некоторую необычную высоту сознательного и разумного порядка, гармонически сочетающего общественные противоречия. Платон в этом отношении является лишь наиболее ярким выразителем основных стремлений Сократовой школы, которые у самого Сократа выражаются в общих руководящих указаниях, а у другого великого ученика школы Аристотеля — в более умеренных и близких к действительности построениях.
Характеризуя особенности идеала совершенной автаркии, необходимо упомянуть в заключение о том существенном обстоя-
65
тельстве, что он создан был в IV веке, после тяжких ударов, понесенных Афинами, и в эпоху постепенного их упадка. Роковой исход сицилийской экспедиции (413 г.) в самой демократии породил неуверенность и смущение, а в кругах, недовольных народным правлением, вызвал стремление возвратиться к старому строю. Переворот 411 года, приведший к власти олигархов, не дал прочных результатов, как не дало их и правление тридцати. Однако и восстановленная демократия не могла уже стать прочной и могущественной. Четвертый век является периодом медленной агонии афинского государства, утратившего под конец свою независимость. При этих условиях идеальные построения философов питались постоянным недоверием к существующему строю, а иногда и горячей враждой к нему. И философская мысль еще далее уходила на высоту отвлеченных умозрений, создавая свой идеал вдали от бедствий афинской жизни.
Мы должны теперь рассмотреть этот идеал в его различных выражениях у Сократа, Платона, Аристотеля.
2. Сократ.
1. Значение Сократа. Его философия.
Произнести это имя: «Сократ» — значит вызвать в человеческой душе одно из самых лучших исторических воспоминаний. Есть у Платона красивый образ, живописующий влияние людей друг на друга: душа, встречаясь с другой, родственной ей душою получает крылья и способность к духовному полету. Вот эта способность окрылять чужие души в высшей степени присуща Сократу. Даже и теперь, когда много веков спустя мы читаем о Сократе, когда к нам доносится, звук его бодрящих речей в классической передаче Платона, мы чувствуем, что нас захватывает и поднимает какое-то веяние доброго гения. О том, какое влияние имел он на своих современников, мы узнаем из свидетельства того же Платона: ни один из ораторов афинских не действовал так сильно и глубоко на слушателей, мужчин, женщин и юношей, — как Сократ своими простыми ре-
66
чами: билось сердце, слезы текли, душа смущалась и негодовала против собственного рабства 1).
Но как понять, как объяснить это влияние Сократа? Прежде всего надо сказать, что мы напрасно стали бы полагаться здесь на самые подробные изложения и самые кропотливые работы, стремящиеся восстановить подлинное учение Сократа. Прочтя добросовестнейшее изложение в большом труде Целлера или в обширном исследовании Фулье, мы все же получаем впечатление, что это не все, что это слишком мало. Где же та философия, которая так могущественно действовала на современников? Это потому, что Сократ принадлежал к числу тех учителей человечества, которые проповедовали не только свою доктрину, но и свою личность. Их влияние есть тайна их индивидуальности; ее нельзя выразить словами, ее можно только чувствовать. В каком-то таинственном сочетании неуловимых оттенков души и сердца носят они свою привлекательную силу; о таких людях можно сказать известных стихом:
«Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в них».
Можно сколько угодно анализировать и систематизировать их слова и учения, и все это будет недостаточно, не то. Отделенные от живой личности, которая их произносила, они теряют свою главную силу. Поэтому, повторяю, никакое и подробнейшее изложение Сократовых взглядов не дает полного представления о них. Для того, чтобы узнать Сократа, следует читать Платона — это будет самый близкий и самый лучший путь к цели. Сам Сократ не оставил ни строчки, но Платон был именно тот ученик его, который своим глубоким и проникновенным духом был всего более способен передать сущность Сократа. Платон в одно и то же время и философ, и художник; его одушевленный пересказ дает не только мысли, но также и образы; нам передается его настроение и чувство, и прежде чем понять глубину излагаемой системы, мы уже чувствуем нравственную силу личности. А в отношении к Сократу это самое главное. Когда я
1) Plato Symp. 215 Е. См. кн. О. Н. Трубецкой, Метафизика в древней Греции. М. 1890. Стр. 440.
67
ставлю этот вопрос: что узнаем мы о Сократе через Платона? — я прихожу к заключению, что первое и самое сильное впечатление мы получаем от личности Сократа. Мы чувствуем, что в Сократе воплотилась живая сила знания и добра. И здесь-то мы начинаем, благодаря Платону, понимать обаяние его учителя. Когда то, чего так ищут и жаждут люди — уверенность в смысле жизни и спокойствие духа — воплощается в конкретном человеке, в живом образе, это убеждает лучше всяких систем и теорий. Вот отчего собираются к Сократу его слушатели, вот отчего все хотят послушать этого удивительного человека, который в эпоху скептицизма и неверия ходит с таким бодрым видом, с такой утешающей речью, с таким истинно - философским взглядом на вещи. Это сама философия говорит его устами, отражается во всех словах и поступках, и наконец запечатлевает самую его смерть. Это прежде всего цельная личность, в которой мысли, слова и действия сочетаются в неразрывном единстве.
Я не буду говорить более этого о Сократе, как о человеке. Моя специальная задача заключается не в этом. Мне хотелось бы остановиться на особенностях его, как моралиста и гражданина, и здесь всего удобнее начать с противопоставления его софистам. При этом необходимо иметь в виду, что Сократ, выступивший на поприще философского учительства вскоре после начала пелопонесской войны, пережил не только расцвет софистики в лице старших софистов, но также и ее позднейший уклон к радикальному имморализму в конце V века 1). Он был свидетелем и наиболее блестящих триумфов ее в Афинах, и начавшейся против нее реакции.
В проповеди софистов, как мы показали это ранее, была известная двойственность, сочетание великих начал с ложными выводами. Они говорили людям: «будьте свободны» и кончали заявлением, что во имя свободы человеку все позволено, даже и
1) См. данные выше хронологические указания относительно развития софистических учений, стр. 54. О времени выступления Сократа, Zeller, о. с. Il Th., I Abtli., S. 53, Note 1. и Ed. Meyer. Bd. IV, S. 435. Главные даты его биографии можно установить следующим образом: рождение — 469 г., первоначальное выступление около 430 г.; в 424 г. Сократ уже известный человек, как показывают нападки на него Аристофана и Амейпсия; запрещение преподавания по закону Крития и Харикла в 404 г.: осуждение и смерть Сократа в 399 г.
68
отрицание чужой свободы. Они говорили: «человек все может узнать, всему научиться» и кончали тем, что удовлетворяли жажду познаний жалкими обрывками философии и сомнительным утешением, что каждый прав по-своему. Этот печальный конец проповеди, начинавшейся такими знаменательными словами, объясняется тем, что у софистов, по мере постепенного развития их учений, место энтузиазма занял расчет и место убеждения фраза. Философия была всецело подчинена нуждам дня и политическим потребностям. Свобода и истина получили служебный и второстепенный характер; главной целью стал внешний успех.
Если обратить внимание на это извращение задач познания и политики у позднейших софистов, то станет ясно, что Сократ должен был начать прежде всего с отрицания. Так часто и так настойчиво повторяет он: «я ничего не знаю» и иногда к этому прибавляет: «политикой я не занимаюсь» 1). Эти отрицательные заявления получают ясный смысл, когда мы сопоставляем их с самоуверенным доктринерством софистов. Знание софистов подобно мелкой и низкопробной монете, которую легко получать пригоршнями 2). Оно усваивается тем проще и скорее, чем менее в нем углубленных точек зрения, мучительных вопросов, трудных проблем. Но знание это призрачно и непрочно, и Сократ заявляет, что этого знания он не имеет: «я знаю, что я ничего не знаю». В этой скромности Сократа его сила; он сознает свое незнание, чтобы отсюда возвыситься к настоящему знанию, чтобы мыслить и искать, упорным трудом добывая истину. Знание лежит в глубине вещей и в глубине нашего существа; оно не дается легко и при первом желании, человек должен сделаться достойным истины, он должен возвыситься к ней.
Другое отрицание Сократа касается политики. Платон влагает ему в уста слова: «к политикам я не принадлежу» 3). И здесь опять подразумевается та политика, которой обучали позднейшие софисты, политика честолюбия и насилия, своекорыстных
1) В Apol.. 31. D это уклонение от занятии политикой Сократ объясняет, как веление своего внутреннего голоса.
2) См. ироническое отношение к всезнанию софистов в Hipp. min. 364 А, 368 В. Та же ирония звучит в обращении Сократа к, Гиппию в Men. IV, 4, 6.
3) Gorg. 473 E.
69
стремлений и призрачных целей. Отрицая это ложное искусство, Сократ имеет в виду, что политическая мудрость, как и истинное познание, есть удел тех, которые стремятся к ним искренним возношением духа. Надо много размышлять и учиться, чтобы приобрести то и другое.
Таким образом мы понимаем то, что называется иронией Сократа. Эта ирония относится к призрачному знанию и к ложной политике. Софисты только что убедили афинян, что их политика и их наука есть то настоящее знание, которое должен иметь человек. Задача Сократа состоит в том, чтобы раскрыть глаза народа на этот призрак знания. И вот он появляется всюду, со всеми вступает в разговор, и его первая мысль всегда одна и та же: посмотрим, что можно об этом знать достоверного. Остроумной критикой, массой примеров и сопоставлений и добродушной насмешкой он стремится разрушить самоуверенность и доктринерство. Он не берется учить, он хочет прежде всего уничтожить мнимую ученость. В противоположность софистам он утверждает, что он ни мало не сознает себя мудрым и не умеет учить людей чему бы то ни было. Мудрейший из людей по его словам тот, кто не считает себя мудрым, кто думает что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе ничего не стоит 1). И потому ирония Сократа становится сознательным общественным служением, которое сам он называл «испытанием себя и других». Потом, на суде Сократ говорил своим судьям: «отпустите вы меня или не отпустите, я буду делать то же самое, хотя бы мне пришлось и несколько раз умереть за это» 2). В этом его высшее призвание — будить мысль и совесть своих сограждан, подрывать их мирное спокойствие. В той же речи на суде он именно так и смотрит на свою задачу. «Может быть вы, — так говорит он судьям, — как те, которых пробуждают от сна, наброситесь на меня, по совету Анита, и легко убьете меня, чтобы затем провести во сне всю остальную жизнь вашу, если только Бог, жалея вас, не пошлет вам еще кого-нибудь. А что я действительно таков, что как будто бы
1) Apol. 23 A.
2) Apol. 30 С.
70
Богом дан городу вашему, вы можете убедиться из следующего: есть нечто сверхчеловеческое в том, что я оставил всякую заботу о собственных делах, столько лет терпя в них ущерб, и всецело посвятил себя вашим, обращаясь с каждым из вас, как отец, или старший брат, убеждая вас стремиться к добродетели» 1).
Здесь-то мы начинаем понимать всю глубину Сократовской иронии: это — не плод насмешливого ума, не природный дар остроумия, а нравственный подвиг критики и суда над окружающей средой. В этом подвиге философ сочетается с пророком и патриотом. Мы бы назвали его пророческий дар бичующим, если бы в нем не было какой-то мягкости и теплоты, чего-то добродушно-отеческого и снисходительно-дружеского. Сократ верно говорил о себе, что он относился к своим согражданам, как отец или старший брат.
Но ирония, критика есть лишь первая часть задачи Сократа. Она направляется на всякое мнимое знание. Здесь одинаково достается и софистическим учениям, и старым преданиям и предрассудкам. Все неосновательное, непроверенное должно быть отброшено. Одна эта критика была уже глубоко важным делом. Встревожить и пробудить общественную совесть — это великая заслуга. Но она становится еще более великой и важной, если за критикой следует новая вера, если ирония сочетается с энтузиазмом. Надо сильно верить для того, чтобы иметь право критиковать: у Сократа была эта вера, и она давала его критике и нравственное оправдание, и ясную цель.
Во что же верил Сократ? Это не будет лишь очень общим указанием, если мы скажем, что он верил в истину и добро. В век скептицизма и неверия, каким был его век, это значило очень много. В подобные критические эпохи ничто так не трудно, как верить. Вера должна здесь пройти через критику и сомнение; и если это не простой возврат усталой души к покинутым догматам, если это есть новое и свободное исповедание, оно всегда является некоторым чудом внутреннего откровения. И как же благодарны мы бываем тем философам и пророкам,
1) Ароl. 31 А—В.
71
которые умеют пронести благодатный дар веры чрез очистительный огонь критики. Они не только учат нас, но и примиряют с жизнью, в ее высшем мистическом смысле. Таким философом был Сократ, и оттого, как рассказывает о нем Платон, у его слушателей — сердце билось, слезы текли и душа хотела быть свободной, — свободной от предрассудков и принятых мнений, свободной через критику для новой веры.
Мы должны однако определить основные верования Сократа несколько ближе и подробнее. В какую истину он верил и в какое добро?
При тех условиях, в которых развивал свои взгляды Сократ, понятно, что он не мог дать стройной философской системы. Часто и много обдумывал он про себя свои взгляды, простаивая иногда несколько часов на одном месте, забывая все окружающее: но он никогда не имел ни охоты, ни потребности присесть за систематическое писание. Его призвание — устная беседа, живой диалог. Он прежде всего философ-просветитель, он идет в народ, он пробуждает мысль своим словом. К общим проблемам он переходит от частных, иногда практических вопросов. С кем только не говорил он, начиная от молодых политиков честолюбцев, от философов по призванию и кончая простыми ремесленниками, и с каждым о том, что его интересует. Понятно, какие разнообразные вопросы при этом затрагивались и как трудно было свести все это в систему. Это одно обстоятельство, почему Сократ не оставил законченного учения. Другое обстоятельство заключалось в следующем. Сократ выступил против софистов, которые подрывали авторитет знания, и его главной целью было восстановить этот авторитет. Надо было возвратить веру человека в истину и разум, и эту задачу взял на себя Сократ. Только после него греческая мысль могла обнаружить тот смелый, тот гениальный полет, какой она проявила в Платоне. Мы можем, не боясь преувеличения, сказать, что Сократ подарил миру Платона. На легкомысленный скептицизм софистов, на их поверхностное всезнание надо было ответить глубокой верой в истинное познание, которое стоит перед человеком, как заветная цель и священный долг. Сократ был именно таким мыслителем, который был призван
72
разрешить эту задачу; и он выполнил свою миссию с таким увлекательным энтузиазмом, что и теперь, когда мы ищем в истории мысли философа, который был бы олицетворением веры в разум и познание, мы прежде всего останавливаемся на нем. Иногда типическими философами, представляющими две противоположности человеческого духа — разум и волю — считают Сократа и Канта. Собственно говоря, есть только две оригинальных философских системы — замечает Виндельбанд —Сократовская и Кантовская 1).
Это сопоставление Сократа, который ничего не писал, cКантом, который так много и глубоко писал, очень знаменательно. Вот что значит сила настроения и живого убеждения. Устная проповедь иногда равносильна законченной системе. Учитель Сократ, наряду с писателем Кантом, возвышаются среди других философов, — великие среди великих.
Мы сейчас объяснили, почему Сократ не дал законченной системы и указали две причины этого — устный и отрывочный характер его бесед, и затем — его цель, состоявшую в том, чтобы возвратить веру в разум; вся сила его ушла на это. Но если у Сократа не было законченной системы, это не значит, чтобы у него не было определенных и глубоких взглядов. Прежде всего здесь следует указать на тот основной взгляд его, который относится к природе познания. Убежденный в том, что есть некоторая безусловная истина, царящая над произволом личных мнений, Сократ искал в познании постоянных и прочных основ, и нашел эти основы в понятиях, в которых, по его учению, раскрывается сущность явлений, их общая непреходящая основа. Софисты ссылались на изменчивость и шаткость индивидуальных мнений; Сократ, напротив, хочет показать, что в содержании нашего познания есть элементы общности и постоянства, и как надежный путь к истинному познанию он указывает образование понятий. Он предлагает испытывать и проверять свои представления, отбрасывать в них случайные и второстепенные признаки и стремиться к установле-
1). Windelband, Präludien, Freiburg und Tübingen 1884. S 117 (Zweite Aullage 1903. S. 124).
73
нию твердых начал. В своих беседах он дает многочисленные примеры подобного анализа. Для того, чтобы определить какое-либо понятие, он берет различные случаи жизни, различные опыты и наблюдения, сверяет, сопоставляет их и таким образом приходит к общим определениям, обнимающим все случаи, какие только можно себе представить. В этих общих определениях, в этих понятиях заключается по Сократу критерий истины.
Как указывал еще Аристотель, Сократ впервые открыл индукцию и методу определения понятий, как сознательные логические приемы. Он не воспользовался этим открытием для обоснования методы научного знания, и главная область, в которой он применял свои приемы, была область моральных вопросов. Но важно было то, что в общих понятиях он нашел образ истины и путь к ее отысканию. Это было открытие еще более знаменательное с общефилософской точки зрения, чем с методологической. В том увлечении, с которым учил о нем Сократ, утверждая на нем свою веру в истину и добро, заключается объяснение, каким образом на почве этой — с первого взгляда скудной по содержанию — философии понятия создались позднейшие великие системы.
Уже и сам Сократ связывал со своими логическими основаниями некоторые важные и основные метафизические воззрения, отличавшие его философию от древнегреческого созерцания и перешедшие затем от него к Платону. Здесь прежде всего необходимо отметить его веру в божественное начало, присущее миру, в разум вселенной, устрояющий и объединяющий ее в стройном порядке. Находя в сознании человеческом начала разума, Сократ считает немыслимым, чтобы только один человек был носителем разума, нигде более не проявляющегося, и чтобы все сущее в своем величии и беспредельности было устроено неразумием (Mem. I, 4, 8). Но разум вселенной, по учению Сократа, не есть только отвлеченное начало порядка и благоустройства, он есть также премудрый демиург и зиждитель мира и вместе с тем Бог благой, жизнелюбец и человеколюбец. Сократ верил в промысел Божий, в заботу Бога о мире и человеке, в непосред-
74
ственную и всепроникающую связь Божественного разума и человеческого 1).
Наряду с этим основным метафизическим воззрением Сократа стоит и тот его взгляд, которым он так отличается от древнегреческого созерцания и который перешел затем от него к Платону. Это мысль о двойственности мироздания, о противоречии двух миров, преходящего и вечного. Мысль эта не раз мелькала, как неясный образ, как смутное предчувствие, в системах первого периода. Теперь она получает значение коренного и центрального принципа и становится основным убеждением Сократовой школы. Платонизм был только глубоким выражением ее. С тех пор этот философский дуализм, — эта мысль о двойственности мироздания — стал присущ философии, как одна из самых выдающихся ее систем. В конце концов она представляет собою замечательную попытку разъяснить разлад духа человеческого с собою и с миром, двойство наших стремлений, противоречие между идеальными основами и земным несовершенством. Это — попытка понять человека, как участника двух миров, видимого и преходящего с одной стороны, незримого и идеального с другой. Это —попытка объяснить бесконечность человеческих стремлений, твердость надежд и глубину веры. Все это идет — так учат Сократ и Платон — из некоторой неизъяснимой глубины духа, из его идеальной основы; в этом мире человек пребывает лишь телом своим; душа его рвется вверх, к бесконечному. Будучи безусловно отличной от тела, душа причастна Божеству и чем более она отрешается от земного, тем ближе человек к своему идеалу (Mem. IV, 3, 14 и I, 16, 10).
Этот взгляд был намечен Сократом. Вот та истина, которую он носит с собою и которая вдохновляет его проповедь. Вот почему, когда он, встречаясь со своими согражданами, начинает разговор с ними, он неизменно говорит своему собеседнику: «о лучший из мужей, гражданин города Афин, величайшего и славнейшего в мудрости и силе, как не стыдно тебе заботиться только о богатстве, чтобы его у тебя было всех
1) См. исчерпывающее сопоставление цитат у кн. С. Н. Трубецкого, Метафизика в древней Греции. М. 1891. Стр. 494—495, Cp. Zeller, о. с. SS. 176—179.
75
больше, о почестях, о славе людской, а о мудрости и правде но заботиться и не думать о душе, чтобы она была всего лучше». (Apol. 29 D—Е). Отсюда и убеждение Сократа, что проповедь его есть священный долг, от исполнения которого его не могут отвратить ни угрозы, ни кары. Отсюда и его вера в некоторый внутренний таинственный голос, которому он повинуется, как предписанию свыше. Он живет и учит, исполняя высшее предназначение и как бы прозревая за внешними делами людей, за круговоротом временных событий ту вечную цель, к которой все стремится и которую он, Сократ, должен раскрыть своим согражданам.
Эта истина, в которую верил Сократ, поясняет также и то, в какое добро он верил. Он верил, что есть в мире высшая цель и сокровенный смысл; он верил, что есть основа дня наших добрых стремлений и для утверждения объективного добра. Памятуя об этом, человек должен заботиться о своей душе, о мудрости и правде, о стремлении к божественному (Apol. 29 Е; Mem. I, 6, 10). Вот в чем состоит его истинное благо. Оно дается человеку внутренним самоуглублением, и когда оно закреплено изучением и упражнением, оно становится прочным его достоянием (Mem. III, 9, 14).
В этом стремлении к величайшему благу человеческому, к добродетели, Сократ видел руководящее начало для жизни, как личной, так и общественной. Отчуждение от добродетели и отдельного человека уводит с правильного пути, и в обществе порождает столкновения и раздоры. Люди должны быть умеренными и воздержанными, и тогда они достигнут как личного счастья, так и общественного мира (Mem. IV, 5, 6 и II, G, 21—22).
Этими утверждениями Сократ высказывает очень важный этический принцип, который опять-таки был впоследствии развит Платоном. Нельзя утвердить ни личной, ни общественной жизни на стремлении к внешнему счастью. Случайное и непрочное, оно порождает лишь раздоры между людьми. Согласие может быть достигнуто только путем отречения и при посредстве высшей и всеобщей цели. У Платона отсюда вытекает подробный общественный идеал, своеобразный и знаменательный; у Сократа высказываются только общие основания этого идеала.
76
Некоторые исследователи указывают на то, что Сократ не выдержал последовательно этого идеального принципа и нередко склонялся к утилитаризму, говоря, что высшее благо для человека есть также известная его польза 1). Этот традиционный упрек Сократовой этике может быть принят только с весьма значительными ограничениями, совершенно ослабляющими его критическую силу. Несомненно, что в изложении Ксенофонта нравственное учение Сократа приобретает нередко утилитарный и даже релятивистический характер: нравственное сводится к полезному, и притом к полезному не объективно, а смотря по условиям и обстоятельствам. Если опираться на известное место из IV книги «Воспоминаний» Ксенофонта (IV, С, 8) 2), то возможно утверждать, что Сократ в своем учении о нравственности только повторял мораль Протагора с ее относительным и условным характером. Высказывая мысль, что полезное для одного может быть вредным для другого и что добро есть не что иное, как полезное для того, для кого оно полезно, не воспроизводил ли Сократ, по крайней мере в моральной области, положение Протагора о том, что «человек есть мера всех вещей»? Но прийти к этому выводу значит явно обнаружить несостоятельность его оснований. Допустить, что Сократ в этом основном положении сходился с софистами, ведь это значит сделать непонятными и все остальное содержание его философии, и его горячую полемику с своими философскими противниками. Даже те, кто подобно Целлеру настаивает на утилитарных основах морали Сократа, должны признать, что в учении его есть и ряд совершенно иных определений, которые, — что особенно важно отметить, — переданы нам не только Платоном, но также и Ксенофонтом. 3). В этих определениях Сократ предстает нам в образе возвышенного идеалиста, осно-
1). У Целлера (о. с. SS. 151—153 и примечания к ним) собраны все цитаты, говорящие в пользу этого взгляда.
2) Привожу здесь полностью это место, представляющее часть беседы Сократа с Эвтидомом. „Кажется ли тебе — спрашивает Сократ — что одно и то же полезно для всех? — Конечно, нет. — Так как же? не кажется ли тебе, что полезное для одного иногда бывает вредным для другого? — И очень часто.- Но скажешь ли ты, что добро есть что-либо иное, чем полезное? —Конечно, нет. — Следовательно, полезное есть добро для того, для кого оно полезно? — Мне кажется“.
3) См. Zeller, о. с. SS. 153—156.
77
вывающего добродетель на воздержании и на стремлении к божественному. Эта кажущаяся двойственность этики Сократа, это колебание ее между началами идеализма и утилитаризма остались бы для нас совершенно непонятными, если бы мы не обратили внимания на общий дух его учений. Останавливаясь на отдельно взятых местах из Ксенофонта, принимая эти места за буквальную запись слов Сократа и толкуя их вне общего содержания его философии, мы рискуем впасть в недоразумения и ошибки 1). Но когда мы берем все приписываемые философу изречения в совокупности, пред нами постепенно вырисовывается ясная и цельная картина. Объяснение заключается в том, что учению Сократа несомненно был присущ элемент утилитаризма, но не как главный и основной, а как вторичный и производный. Сократ был не прочь показать, что добродетель ведет в конце концов и к счастью человека, но он вовсе не думал выводить или основывать добродетель на счастье, пользе или расчете. Счастье в его системе есть следствие, а не основание добродетели, и Сократ, отказавшийся бежать из тюрьмы, смертью своей запечатлел это убеждение, что там, где дело идет о верности нравственному долгу, всякие соображения пользы должны быть откинуты.
1) Новейшая критика далеко оставила за собою прежнюю точку зрения на „Воспоминания“ Ксенофонта, представителем которой являлся еще Целлер и которая исходила из полного доверия к точности „Воспоминании“ (см. Zoller, о. с. SS. 182— 186: Trene der Xenophontischen Darstellung). Не только точность, но даже и принадлежность значительной части „Воспоминаний“ Ксенофонту подвергнута сомнению (см. Joel, Der echte und der Xenophontischc Socrates. Bd. I. Einleitung). Немецкая критика проявила в этом отношении скептицизм, иногда доходящий до крайности (примером чего является сам Joel). Во всяком случае пользоваться в настоящее время текстом „Воспоминаний" с прежней доверчивостью невозможно. Не может быть сомнения, что различные части их, в качестве свидетельства о Сократе, имеют весьма различную ценность, и опираться на них можно только с величайшей осторожностью, не полагаясь на отдельные места, а сопоставляя их каждый раз со всем содержанием и смыслом философии Сократа, поскольку мы можем судить об этом из всех сохранившихся свидетельств. Иначе придется приписать Сократу и одобрение рабства, и формализм, и утилитарную мораль, и мелкую практичность, и многое другое.— О различии между основным ходом „Воспоминаний“, передающим иногда, невидимому, подлинные мысли Сократа, и собственными пояснениями и иллюстрациями к этому основному ходу со стороны Ксенофонта см. тонкий анализ у Ivo Bruns, Das literarische Porträt der Griechen. Berlin 1896. cap. VII: Xenophon’s „Denkwürdigkeiten“. Точка зрения Брунса, к которой примыкает и Эд. Мейер, представляется мне правильной серединой между излишним доверием Целлера, и крайним скептицизмом Иоэля.
78
Этическое учение Сократа еще более уяснится нам в своей цельности и последовательности, если мы приведем его в связь с общими нравственными воззрениями его народа. Позднейшее резкое противопоставление счастья и долга было чуждо греческим созерцаниям, и подходить к этике Сократа с таким противопоставлением значило бы применять к ее анализу совершенно чуждую мерку. Сократ вместе с своим народом верил, что добродетель и счастье неразлучны. С точки зрения этого оптимизма слишком холодным, слишком отвлеченным показалось бы учение новоевропейской морали, предписывающей стремиться к исполнению долга, независимо и даже вопреки своему счастью. Для грека такое противоположение было немыслимо. Положить на одну чашу весов идею долга, идущую наперекор всем нашим склонностям, всем нашим мечтам о счастье, а на другую привлекательную, жизнерадостную, манящую к себе совокупность земных благ, и утверждать еще при этом, что первая чаша перевешивает, этого греки никогда бы не поняли.— Но то счастье, которое Сократ полагает естественным последствием добродетели, не есть во всяком случае обычное благополучие будничной жизни. Такое внешнее благополучие он считал случайным и непрочным. Оно приходит и уходит, оно может даже вредить человеку, как призрачная приманка, уклоняющая от истинной цели 1). А эта истинная цель есть прежде всего счастье духа, познающего добро и осуществляющего его в жизни 2).
Изложенный здесь взгляд на этику Сократа получает особенное подкрепление в том другом основном его учении, согласно которому добродетель есть знание 3). Подобно другим философам второго периода, философам-просветителям, Сократ думал, что добродетели можно научиться, что разум и познание приводят к ней, как к своему естественному результату. Но
1). Вспомним здесь хотя бы цитированное выше место из Ксенофонта, Меm. IV, 5, 6.
2) Воззрение Целлера относительно утилитарного обоснования Сократовой этики совершенно поколеблено последующими исследователями. См. напр. Fouillée, La philosophie de Socrate. Paris 1874. T. I, p. 259 et suiv., особ. p. 272 et suiv.; кн. C. Н. Трубецкой, Метафизика в древней Греции. М. 1891. Стр. 477—485; Joël, Der echte und der Xenophontische Socrates. Bd. I, см. особ. S 425 ff.
3) См. отчетливое выражение этого взгляда у Ксенофонта Mem. Ш. 9, 5.
79
ведь это значило также, что добродетель, подобно знанию, имеет всеобщий и необходимый характер, что она есть норма, обязательная для всех. Это не случайное установление людей, как говорили софисты, не придуманная ими условная мораль, которую можно поворачивать, как угодно, а священный и безусловный закон, который в своем существе не может подлежать никаким сомнениям. Безусловность нравственного закона в представлении Сократа прямо вытекает из безусловности истинного познания. Но шаткое и относительное мнение, а всеобщая и необходимая истина лежит в основе нравственности и сообщает ей всеобщий и необходимый характер.
Важность этого учения для Сократа не может подлежать сомнению 1). Но в таком случае как возможно поддерживать мысль о близости Сократовой этики к релятивизму Протагора, к утилитаризму, к морали условной пользы? Совокупное рассмотрение всех сторон этического учения Сократа лучше всего убеждает в том, сколь неправильно придавать преувеличенное значение некоторым случайным свидетельствам Ксенофонта.
В убежденной проповеди Сократа разум и познание являются силами, против которых ничто не может устоять, которые побеждают всякое сопротивление страстей и пороков. О том, что здесь было известное преувеличение, нечего распространяться. Еще Аристотель заметил, что Сократ упустил из вида неразумную часть души 2). Очевидно однако, что и это учение Сократа есть продукт его цельной нравственной натуры. Сам господствуя над своими страстями, повинуясь своему разуму, видя в этом истинное благо, мог ли Сократ думать иначе? О хороших, но односторонних убеждениях говорят иногда: «это истина, но это — не полная истина». Мы можем применить эти слова и к воззрению Сократа. Конечно, разум и познание не все, что владеет человеком, что направляет его действия и даже его мысли. Но разве познание, проникновенное и углубленное познание, образуя ум, не влияет также на сердце? Разве расширение нашего
1) Joël делает интересный опыт именно на этом логическом элементе Сократовой этики основать ее характеристику. В связи с этим он приписывает особенное значение тем данным, которые сообщает о ней Аристотель.
2) Magn. Моr. I , I, 1182а 15.
80
умственного взора, разве пребывание в чистой атмосфере мысли не воспитывает и нашу волю? В просветительную эпоху, к которой принадлежал Сократ и которая вся исходила из веры в познание, преувеличение было естественно и неизбежно. Но здесь была и доля правды, за которую мы должны быть признательны Сократу. Не будем забывать также и того, что Сократ действовал в этом случае против крайних выводов софистики. Он видел ту смуту, которую вносили эти выводы в умы; он видел, как шаткость умственной жизни отражается и на поведении, как многие лишены были всякой нравственной опоры, запутанные обманчивой речью риторов. Естественно было сказать в это время, что твердое познание значит не только много, но все.
2. Отношение Сократа к естественному праву.
Его политический идеал.
Мы можем теперь определить наконец и отношение Сократа, к политике и праву. Если, как мы видели, он сам утверждал о себе, что к политикам он не принадлежит, это не значит, чтобы он не проявлял горячего и постоянного интереса к политическим вопросам. Он не хотел участвовать в политике практически, он осуждал порядки своего государства, но вместе с тем он носил в себе идеал лучшей государственной жизни, и для нее хотел он приготовить новых граждан просветительным действием своих учений. Реформа жизни при посредстве знания являлась и для него руководящей целью. Это был тот пункт, в котором он сходился с софистами и следовал за ними.
И в другом отношении Сократ продолжал и поддерживал положительные стороны софистических учений: он разделял их представление об естественном праве, как высшем основании справедливости. Но у него это представление получило совершенно особый характер, какого оно не имело ни в одном из направлений софистики. Вместо того, чтобы быть радикальным отрицанием положительного права, идея божественных неписаных законов становится у Сократа только нравственным основанием положительных законов, и таким образом между естественным и положительным правом устанавливается прямая связь.
81
Мысль Сократа об этой связи иногда, истолковывали так, что все содержание справедливости он сводил к положительному праву. Но и здесь причиной недоразумения является одностороннее заключение из отдельных изречений, переданных Ксенофонтом. Когда берут то место из «Воспоминаний», где Сократ отождествляет справедливое с законным (IV, 4, 12), можно действительно подумать, что справедливость он ставил в зависимость от определений положительного закона. Но однако уже простое сопоставление этого места со всем содержанием и смыслом той главы, где излагается беседа Сократа с Гиппием о справедливости, сразу приводит к иным выводам. Сущность этой беседы прежде всего заключается в том, чтобы противопоставить законность произволу и утвердить мысль о справедливости законного порядка. Соответственно с этим и глава, передающая разговор о справедливости, начинается с похвалы Сократу за неуклонное соблюдение законов: в городе и на военной службе, все равно имел ли он против себя противозаконные желания народа или произвольные распоряжения олигархов, он всегда стоял на страже законности. Эта мысль о преимуществах законного порядка по мере развития беседы переходит в целый панегирик законности. «Повсюду в Элладе — говорит Сократ — установлен закон, чтобы граждане приносили клятву в единомыслии, и повсюду они приносят эту клятву... Это делается для того, чтобы они повиновались законам. Когда граждане сохраняют это повиновение, государства бывают самыми счастливыми и сильными; между тем как без единомыслия ни государство, ни отдельное хозяйство не могут хорошо управляться. Да и в частных делах кто менее наказывается государством и кто более уважается, как не тот, кто повинуется законам? Кто менее терпит ущерба и кто более побеждает в судебных местах? Кому скорее доверят опеку над имуществом или над сыновьями или над дочерями? Кого все государство признает более достойным доверия, чем человека законного? От кого скорее получат удовлетворение своих справедливых притязаний родители, родственники, слуги, друзья, граждане, чужестранцы? Кому более будут доверять неприятели при заключении перемирия или в договорах о мире? С кем более, как не с человеком законным, захотят сде-
82
латься союзниками? Кому более доверят союзники предводительство, охрану крепостей, города»?... «Вот почему я и доказываю, — заключает свою речь Сократ, — что законное и справедливое одно и то же».
Но как бы для того, чтобы не осталось впечатления, что законами государственными и человеческими исчерпывается вся справедливость, Сократ, продолжая беседу, ставит вопрос о законах неписаных. Это — законы, установленные богами и признанные повсюду. Обязанность почитания родителей, долг благодарности за полученные благодеяния, запрещение браков между близкими родственниками существуют везде, и свойство этих норм таково, что избежать кары за их нарушение невозможно. Беседа с Гиппием кончается заключением Сократа: «значит, Гиппий, и богам угодно чтобы справедливое и законное было одно и то же». В этих многозначительных словах содержится признание, что проистекающее из воли богов согласие справедливого и законного есть высшее оправдание святости законного порядка. Кто не найдет во всем приведенном рассуждении горячей защиты принципа законности и правового порядка? Кто не усмотрит здесь решительного протеста против произвола и беззакония?
Но может подлежать сомнению, что приводимые Ксенофонтом мысли действительно исходили от Сократа 1). Это вполне подтверждается и свидетельствами Платона в «Апологии» (32 B-C-D)и «Критоне». Здесь также справедливость полагается в соблюдении законности, при чем законы человеческие объявляются «братьями» законов божественных (Krito54 С). Положительное право данного государства рассматривается, как часть общего мирового порядка: от последствий его нарушения человека не спасают ни бегство, ни смерть. Повсюду он встречается с такими же законами, с такими же устоями нравственного порядка, одинаково имеющими значение и для земной жизни, и за ее пределами.
Все эти свидетельства, вместе взятые, позволяют нам с
1) Я говорю здесь, конечно, только об основных мыслях беседы, которая в своих подробностях есть свободное воспроизведение Ксенофонта. Некоторые исследователи считают всю эту беседу позднейшей вставкой. Мы должны сказать, что кому бы она не принадлежала, она во всяком случае совпадает с другими свидетельствами о Сократе и в своей основе правильно передаст живое предание о великом мудреце.
83
ясностью установить отношение Сократа к естественному праву. Подобно софистам он видел в нем высшую неписаную справедливость, которая стоит над волей людей и не зависит от человеческого установления. Но согласно общему духу своего учения, он с особенной силой подчеркивает неизменный и безусловный характер этой справедливости: она существует повсюду, в качестве общеобязательной нормы, и отступления от нее сами собою навлекают кару на отступников. Наряду с этим неизменным естественным правом Сократ признавал изменчивое положительное право. В изменчивости положительного порядка некоторые софисты видели повод к отрицанию его авторитета. «Как можно считать законы и повиновение им делом важным, если сами законодатели часто отвергают и изменяют их?» спрашивает Гиппий (Mem. IV, 4, 14). На этот вопрос Сократ отвечает разъяснением значения принципа законности. Положительное право, хотя бы и изменчивое, есть необходимая основа государственного порядка и вместе с тем часть того общего мирового порядка, основой которого являются божественные неписаные законы. Вот почему «богам угодно, чтобы справедливое и законное было одно ито же». После всех сделанных разъяснений очевидно, что это сближение справедливого и законного следует понимать только как результат признания непосредственной связи естественного права с положительным. Высшую опору справедливости Сократ видел не в предписаниях законодателя, а в тех основах общего нравственного порядка, которые и самим этим предписаниям сообщают их авторитетную силу. Далекий от того, чтобы сводить всю справедливость к положительному праву, он напротив искал для этого права нравственного оправдания в его связи с правом естественным и с общими условиями государственного порядка.
Правильность изложенного взгляда на учение Сократа подтверждается не только свидетельством его учеников, но и фактами его жизни. Являя собою пример сыновнего почтения к своему государству и его законам, он в то же время жил и действовал в предчувствии иной и высшей справедливости. В речи своей на суде, переданной Платоном, он следующим образом вспоминает о своем отношении к законам: «Никогда, Афиняне, не
84
занимал я в городе никакой другой должности, но в совете я заседал. И пришла нашей филе Антиохиде очередь заседать в то время, когда вы желали судить огулом десятерых стратегов, которые не подобрали пострадавших в морском сражении, — судить незаконно, как вы сами признали впоследствии. Тогда я, единственный из пританов, восстал против нарушения закона, и в то время, когда ораторы готовы были обвинить меня и посадить в тюрьму, а вы сами этого требовали и кричали, в то время я думал, что мне скорее следует, несмотря на опасность, стоять на стороне закона и справедливости, нежели, из страха перед тюрьмой или смертью, быть за одно с вами, желающими несправедливого. Это еще было тогда, когда город управлялся народом, а когда наступила олигархия, то и тридцать в свою очередь призвали меня и еще четверых граждан в Круглую Палату и велели нам привести из Саламина Саламинца Льва, чтобы казнить его. Многое в этом роде приказывали они делать и многим другим, желая отыскать как можно больше виновных. Только на этот раз опять я доказал не словами, а делом, что для меня смерть, если не грубо так выразиться, самое пустое дело, а вот воздерживаться от всего беззаконного и безбожного, это для меня самое важное. Таким образом, как ни могущественно было это правительство, а меня оно не испугало настолько, чтобы заставить сделать что-нибудь несправедливое, но, когда вышли мы из Круглой Палаты, четверо из нас отправились на Саламин и привезли Льва, а я отправился домой» (Apol. 32 B-C-D)1).
Так рисуется нам неуклонная преданность Сократа принципу законности: эта преданность вытекает у него не из каких- либо внешних побуждений, а из глубины внутреннего сознания. Он не склоняется пред могуществом власти, пред шумом народных масс: его покоряет только нравственная сторона законного порядка, та внутренняя сила законности, которая составляет главную опору государства. Против несправедливых распоряжений властвующих он восстает с бесстрашной смелостью непо-
1) Привожу это место в переводе М. С. Соловьева (Творения Платона, Перевод с греческого Владимира Соловьева, М. С. Соловьева и кн. С. Н. Трубецкого. Т. II).
85
колебимого убеждения и пред лицом смерти остается столь же непреклонным, как и в обычных столкновениях жизни.
Но признавая авторитет положительного порядка и вменяя всем в обязанность ему подчиняться, Сократ далеко не считает его образцом совершенства. Сознание высшей правды постоянно приводит его в противоречие с окружающим строем, и в его душе слагается идеал новой и лучшей жизни. В правильном воспитании граждан, в усовершенствовании их взглядов, в подготовлении лучшего будущего он видит свое призвание. Он хочет раскрыть всем глаза на коренные недостатки афинского государства, указать для него новые пути и настоящие непризрачные цели. Постоянно касается он в своих беседах вопросов общественной реформы, и когда мы собираем отдельные черты, сохраненные его учениками, перед нами вырисовывается ясный и определенный политический идеал. Сократ не остановился, подобно софистам, на отрицательных выводах из идеи естественного права: его вера в божественную справедливость, руководящую людей, побуждала его к положительному творчеству. И таким образом, он именно должен быть признан первым творцом того идеала, который после него лег в основу построений Платона и Аристотеля. В этом идеале есть и своеобразные, чисто Сократовские черты, но общие начала его те же, что и у великих последователей Сократа. И как впоследствии у Платона и у Аристотеля, так и у Сократа исходным пунктом идеального построения является глубокое недовольство существующим и принципиальное его отрицание. Самые причины этого отрицательного отношения к действительности близко подходят к основным мотивам Платона и Аристотеля.
Неудачи афинян в конце V века должны были всех наводить на грустные размышления. Упадок афинского могущества был очевидным фактом, и обсуждая его причины, Сократ постепенно восходит к самым коренным причинам общего неустройства. Первая мысль, которая являлась ему в данном случае, заключалась в том, что сами афиняне сделались хуже и уклонились от старых преданий. «Значительно выдвинувшись по сравнению с другими, афиняне перестали заботиться о самих себе и стали вследствие этого хуже… Если бы они, исследовавши обы-
86
чаи предков, не хуже предков исполняли их, они и сами не были бы хуже. Если же этого нельзя, то подражая тем, которые в настоящее время являются первыми и следуя тому же образу жизни, они ни в чем не были бы хуже их» (Mem. III, 5, 14), Легко понять, кого имеет в виду Сократ под именем «первенствующих в настоящее время» (νῦν πρωτεύοντας); собеседник его сразу догадывается, что речь идет о Лакедемонянах, у которых всего более сохранились старые устои. Лакономания, связанная с уважением к прошлому, есть первый и простейший элемент того идеального строя, который предносился Сократу. Отступление афинян от старых устоев представляется ему самой наглядной причиной их слабости; это было объяснение, которое очень многим казалось тогда неоспоримым. Но Сократ не считает эту слабость за неизлечимую болезнь (Mem. III, 5, 18). Он не отчаивается за будущее, и вот почему в своих беседах он постоянно возвращается и к причинам болезни, и к средствам исцеления.
Указание на забвение старых преданий имело скорее отрицательный характер, и естественно, что Сократ на этом не остановился. Он идет далее и глубже: он хочет понять и указать, чем же плох тот новый строй, который афиняне противопоставили строгости старых преданий. И здесь опять - таки объяснение являлось само собой. Скорбя о неудачах афинского государства, Сократ, как многие в его время, винил в них народное правление. Мог ли он, столь настойчиво требовавший подготовки к политике, мириться с тем, что государством руководит народное собрание, состоящее, по его словам, из людей, которые «никогда не размышляли о государственных делах» (Mem; III, 7, 7). «Разве ты стыдишься этих суконщиков, сапожников, плотников, земледельцев, купцов или тех рыночных меновщиков, которые только и думают о том, как бы дешевле купить и дороже продать. Ведь из всех этих людей и составляется народное собрание» (Mem. III, 7, 6). Нет нужды разъяснять, что в этой беспощадной характеристике содержится решительное отрицание демократического строя. Народное собрание представляется Сократу прежде всего невежественной толпой ремесленников и торговцев, главные помыслы которой обращены на суетные заботы о
87
выгоде и барыше. Эти «простые люди», которых Клеон считал лучшей опорой хорошего правления, кажутся Сократу только людьми, не подготовленными к политике, никогда не размышлявшими о государственных делах 1).
Но еще более осуждает он афинскую демократию за принятый ею способ избрания правящих лиц. Замещение должностей посредством жребия представляется ему совершенным извращением правильного порядка. По словам одного из обвинителей Сократа он доказывал, «что нелепо ставить по жребию правителей государства, тогда как никто не хочет избирать жребием ни кормчего, ни строителя, ни флейтиста, ошибки которых приносят гораздо менее вреда, чем ошибки в отношении государства» (Mem. I, 2, 9). «Такие речи, — прибавляет обвинитель, — внушали молодежи презрение к установленному порядку и делали ее склонной к насилию» (ibid). Ксенофонт, передающий это обвинение, отрицает в нем только одно: Сократ никого не мог приводить на путь насилия, его пример говорил только о силе убеждения. Но что речи его содержали в себе прямое осуждение установленного строя, это не только не оспаривается Ксенофонтом, но и подтверждается всем тем, что он сообщает о своем великом учителе.
Неподготовленность к политике и самого народа, и его случайных вождей являлась, однако, не единственной причиной, губившей демократию, по мнению Сократа. Мы встречаем у него и другое указание на язвы Афин, которое потом воспроизводится у Платона и Аристотеля. От него исходит это убеждение всей его школы, что жизнь афинян получила опасный уклон в сторону стяжания, накопления денег и приобретения богатств. В речи своей на суде, как передает ее Платон, Сократ с особенной силой выдвигает именно этот мотив своей проповеди: «ведь я только и делаю, что хожу и убеждаю каждого из вас, молодого и старого, заботиться раньше и сильнее не о телах ваших или о деньгах, но о душе, чтобы она была как можно лучше, говоря вам: не от денег рождается доблесть, а от доблести бывают
1) См. выше стр. 62, — В более общее форме отрицательное отношение к мнению народной массы приписывается Сократу и Платоном, см, напр. Aleib. 1,111 — 112; Krito 44 D.
88
у людей и деньги, и все прочие блага, как в частной жизни, так и в общественной» 1). Страсть к стяжанию (ὁ τοῦ πλεονεκτεῖν ἔρως), как одна из причин общего расстройства, находит самое решительное порицание и в тех беседах, которые сохранены «Воспоминаниями» Ксенофонта 2)
Таковы мотивы, которые восстановляют Сократа против существующего порядка. Силою убеждения, которой по мнению его и его учеников «безопасно и дружественно» (Mem. I, 2, 10) осуществляется влияние на сограждан, стремится он направить афинян на лучшие пути. В спокойном тоне его речей слышится глубокий нравственный протест против всего, что видел он пред собою. Демократические Афины конца V века мало напоминали еще недавнюю эпоху Эфиальта и Перикла. «Порядок законодательства, проникнутый скорее консервативным духом, отмененный печатью умеренности и уважения к существующим законам» 3), сменился тем тягостным расстройством общих дел, которое Эд. Мейер назвал «состоянием непрерывной анархии» 4) Но и смена демократии олигархией, которую пережил Сократ, нисколько не радовала его: в господстве тридцати, с которыми он очень скоро пришел в столкновение, он видел то же уклонение от истинных путей политики и сверх того жестокость тиранического произвола 5). Знакомые ему формы афинского устройства глубоко возмущали его и заставляли искать иных политических начал. Какие же это были начала и как слагался из них новый политический идеал?
Упоминание о нравах предков и подражании спартанцам могло бы навести на мысль, что Сократ мечтает о возрождении старины. Однако, самое поверхностное ознакомление с совокупностью его взглядов приводит к заключению, что от старой Греции он хочет сохранить только принцип законности, уважение к законному порядку. Это и есть первый камень его политического построения. Когда он определяет ту форму правления.
1) Apol. 30 В; см. 29 Е.
2) См., например, Mem. II, 6, 21—24.
3) В. Бузескул, История Афинской демократии. С.-Пб. 1909, стр. 137.
4) Ed. Meyer, о. с. Bd. IV, S. 335. См. В. Бузескул, стр. 279.
3) Mem., I, 2, 31 п Apol. 32 C-D.
89
которую он считает лучшей и называет аристократией, он видит главный признак ее в том, что здесь «власти поставляются из лиц, исполняющих законы». В отличие от этого «в плутократии власти поставляются по богатству, а в демократии — из всех» (Mem. ΙΥ, 6, 12) 1). Как именно выдвигаются в аристократии люди, чтущие закон, это остается неясным. Все это разграничение, несомненно очень близко передающее мнение Сократа, имеет скорее характер нравственной оценки, чем научной классификации. В немногих словах оно выражает его основной взгляд, что правители могут быть только из лучших людей, а не из богатых и не из всех. Плутократия и демократия, очевидно, рассматриваются, как формы извращенные, и в этом смысле противопоставляются аристократии, как единственно правильному устройству.
Начало законности, которым Сократ освящал свою лучшую форму, само по себе не представляло ничего нового. Как мы видели выше 2), это начало служило и для сторонников демократии к восхвалению народного правления, при котором, по их мнению, всего более охраняется незыблемость законного порядка. Сократ, как и его противники, стоял тут на общей почве афинских
1) Приведенное здесь место из Ксенофонта дает повод Рему путем чрезвычайного искусственного толкования прийти к выводу, будто бы Сократ не был противником демократического устройства (Rehm. Geschichte der Staafstrechtswissensehaft. Freiburg u. Leipzig 1896. S. 29). Этот взгляд, нашедший и в русской литературе своего сторонника в лице М. М. Ковалевского (От прямого народоправства к представительному. М. 1906. T. 1, стр. 29), был бы настоящим открытием и ниспровержением прочно установившагося понимания, если бы он имел за себя какие-нибудь основания. Рем ссылается на то, что в аристократии, плутократии и демократии поставление властью обозначается у Сократа одним и тем же термином — χαθίπτασυαι. „Кому иначе должно это принадлежать, —спрашивает Рем, — как не народному собранию, если, как показывает « πάντων», это поставление исходит во всех трех формах от одного и того же органа, — ,,πάντες“. Здесь дается совершенно превратное толкование текста: ἐκ πάντων, „из всех“ относится у Ксенофонта исключительно к демократии, а καθίστασθαι означает вообще „поставляться“ безотносительно к тому или другому способу поставления. — Я не говорю уже о том, что при современном взгляде на текст Ксенофонтовых „Воспоминаний“ основывать столь важный вывод на случайном сопоставлении слов одного места совершенно неправильно. Замечу здесь кстати, что, и вообще говоря, Рем —опасный руководитель при изучении древнегреческих учений, к изложению которых он применяет терминологию немецкой юридической школы государственного права.
2) См. стр. 62.
90
преданий. Но он совершенно отрешался от этой почвы, когда связывал охрану законного порядка с новым условием, — знанием. Реформа жизни при посредстве знания — это был лозунг всей просветительной эпохи, к которой принадлежал Сократ. Особенность его школы заключалась в том, что этот лозунг она применила к переустройству политических учреждении.
«Цари и правители, — говорил он, — не те, которые держат скипетры или которых выбрали первые попавшиеся люди или которые намечены посредством жребия, и не те, которые достигли власти посредством насилия или обмана, а те, которые умеют править» (Mem. III, 9, 10). Вот принцип, которым Сократ разрывал со всем прошлым и в котором он обнаруживал истинный дух своей философской школы. Если цель жизни человеческой есть добродетель, а добродетель есть знание, то отсюда должна быть определена и цель государства. Не легкий жребий, доступный каждому, а тяжкий подвиг и труд налагаются этой целью на человека, призванного к власти. Управление государством представляется Сократу величайшим из всех дел (πάντων ἔργων μέγιστον — Mem. IV, 2, 2), прекраснейшей и царской добродетелью (Mem. IV, 2, 11), и он не перестает доказывать на разные лады, сколь необходимо знание и изучение для правителей государства: искусство править не дается само собою, оно есть удел особо призванных и подготовленных 1).
В этом противопоставлении владычества мудрых и знающих правлению случая и судьбы чувствуются неизменные укоры Сократа афинской демократии; но здесь есть и нечто большее. Не только бесконечно более трудным, но и совершенно иным по целям, чем думали афиняне, представляется политическое искусство Сократу, и тут опять мы вступаем в область его (философских созерцаний, к которым он хотел возвысить своих сограждан. Не богатство и не слава, не шум внешней жизни, а внутреннее совершенство души, воспитание к добродетели — вот к чему призывает Сократ. И когда он видит, как мало вокруг него понимают эти истинные цели и как все, в частной и общественной жизни, идут ложными путями, он не устает внушать
1) См. Mem. IV, 2, 2; III, 9, 10 — 11, III, 5, 21; III, 6.
91
всем, как первую и высшую заповедь, заботу о душе, воздержание, единомыслие и дружбу 1). Это был совет философа уйти от жажды приобретений и освободиться от порождаемой ею вражды. Это был выход, который очевидно внушался Сократу зрелищем гражданской борьбы и обострением внутренних противоречий. Платон и Аристотель в этом отношении только следовали за ним, повторяя заветы своего учителя. Но здесь мы чувствуем также, как политический идеал греческих мудрецов уже у Сократа приобретает по преимуществу философский характер, как исключительно запечатлевается он высшим стремлением к истине и совершенству. В этом философском замысле, как удачно заметил Эд. Мейер, государство перестает быть силой 2), оно становится чистым воплощением нравственной идеи. Так было положено начало идеалу совершенной автаркии. Внешнее, могущество — таков был лозунг афинской демократии со времен Фемистокла. Сократ и его школа противопоставляют этому требование внутреннего совершенства.
Часто потом стремление к внутреннему совершенству противополагали заботе об усовершенствовании общественных форм. Особенность школы Сократа заключается в том, что она не разъединяет, а сочетает оба эти начала: совершенства личной жизни она хочет достигнуть чрез переустройство общественных отношений, а преуспеяние общества связывает с нравственным подъемом личности. По ее учению, одно невозможно без другого. Вот почему и Сократ и его ученики, Платон и Аристотель, уделяют так много внимания политическим вопросам. Проблема правильного устройства государства становится у них неотъемлемой частью философских построений.
Сам основатель школы не входил однако в этой области в подробности и частности. Он ограничивался определением одних общих оснований политического идеала. Принцип законности, господство знающих, естественное подчинение им остальных во имя высшего совершенства —таковы основания этого идеала. Что с этим связывалось известное разделение занятий и жизнен-
1) См. приведенные выше места: Apol. 30 В, 29 Е; Mem. II, 6, 21—24; IV, 4, 4-16; IV, 7, 14.
2) Ed. Meyer, о. с. Bd. IV, SS. 460-461.
92
ных положений 1), если не определенных сословий, что здесь имелось в виду преобладание аристократических элементов над массой народной, это прямо вытекает из принципов Сократа. Но его аристократия есть аристократия ума и знания; вот почему его политический идеал приводит его в столь же резкое противоречие с родовитой олигархией, как и с народными вождями.
Но если Сократ не останавливался на подробностях идеального политического устройства, то тем настойчивее подчеркивал он необходимость правильного воспитания. Господство знающих представлялось ему, по-видимому, настолько важной и решающей идеей, настолько увлекало его своею силой нового откровения, что дальнейшие подробности отступали на второй план. Но из самой идеи знания с необходимостью вытекала потребность воспитания: знание не дается само собою, оно требует подготовления. Эту задачу подготовления новых граждан к лучшему политическому строю и ставит своей ближайшей целью Сократ. Сам он не занимается политикой, но считает наилучшим служением государству готовить к политической деятельности других. «Как лучше мог бы я заниматься государственными делами, — спрашивает он, — если бы я сам занимался ими или если бы я заботился о том, чтобы подготовить как можно более лиц, способных к этому занятию» (Меш. I, 6, 15). Какого рода подготовление имел в виду Сократ, мы уже знаем из предшествующего. Вместе с представлением о трудности и ответственности государственного служения, он внушал своим слушателям также и мысль о высших целях политического искусства. По словам Ксенофонта, Сократ резко осуждал ту политику своекорыстных расчетов, которую многие в его время делали своей целью. «Те, кто стремится к почестям и власти в государстве, для того чтобы иметь возможность присваивать себе чужое имущество, совершать насилия и пользоваться наслаждениями, несправедливы и преступны и не могут жить в ладу с другими» (Mem. II, 6, 24). Править в согласии с людьми и в соответствии с законами, иметь в виду общее благо государства, вносить в народ единство и согласие — вот чему учил Сократ будущих прави-
1) Pohlmann, Geschichte des antiken Kommunismus end Socialismus Bd. 1, S, 276.
93
телей 1). Для власти, как и для граждан, он признавал необходимость высшей нравственной нормы, авторитету которой все должны подчиняться.
Но эти поучения Сократа переносят его на почву новых просветительных идей. Политика, как знание, прививаемое воспитанием, —это был идеал, разрывавший с прошлым. В основу подчинения гражданина государству полагалось сознательное и свободное признание авторитета законов. По свидетельству Платона, это подчинение представлялось Сократу даже в качестве договорного отношения: признавши однажды над собою законы, человек должен соблюдать их безусловно, но в самом признании он властен и свободен (Krito 51 D—Е).
В этом обращении к сознанию и свободе человека Сократ сходился с софистами, но вместе с тем он и преодолевал односторонность их субъективизма. Если свобода, которую они провозглашали, переходила в право сильного и в господство произвола, не значило ли это, что ее надо выразить иначе и глубже. Свобода полная и безусловная, не связанная никаким законом, никакой общей целью, превращается в стихийный произвол; значит надо внести в понятие свободы норму и цель, правило и закон, чтобы дать ей разумную твердость и нравственное постоянство. Свобода должна соединиться с высшей целью, с разумным познанием, чтобы быть нравственной и достойной человека.
Так от субъективизма эпохи просвещения Сократ переходил к новому созерцанию, к утверждению объективных и безусловных связей в мире и в жизни. Господство разума, этот естественный закон вселенной, он хотел сделать и нормой отношений общественных. И ему предносилось счастливое правление мудрых и знающих, где разум царит в обществе, где добродетель направляет все шаги политики.
Никакой правящий класс не любит подобных напоминаний о разуме и добродетели. Судьба хотела, чтобы Сократ уже на склоне лет своих, завершая свою деятельность, поплатился за смелую проповедь. Был ли это простой случай или неизбежный результат? Факт тот, что Сократ учил и обличал очень долго,
1) Mem. IV, 7, 12 и 14; III, 2, 2—3; II, 6, 21 24.
94
до семидесяти лет, и кара постигла его тогда, когда он, быть может, был уже близок, к естественной смерти. Какой-то ненужной нелепостью представляется весь этот процесс с его случайным исходом. Народные страсти разыгрались, целый ряд личных и общественных обид вспомнился, для того чтобы склонить судей к суровому приговору, и Сократ был присужден к смерти.
Но и в самой смерти своей он остался великим учителем человечества. И до него, и после него многие философы страдали за свои идеи, а некоторые и умирали за них, подобно Сократу. Отчего же его смерть является таким высоким и исключительным примером? По этому поводу уже было правильно разъяснено 1), что в конце Сократа поучительное и великое есть та простота и ясность душевная, та преданность судьбе, с которой он умер. Все хорошо, все ясно для него; его не смущают ни раскаяние в прошлом, ни тревога за будущее: он чист душою и верит. Вот разгадка. Его смерть есть его победа; это апофеоза его доктрины и жизни. Не многим достается в удел такая прекрасная смерть; но когда так умирают люди, мы невольно повторяем возглас: смерть, где твое жало?
Сократ умер, но его душа, его светлый образ остались не только в памяти учеников, но и в памяти человечества. Люди живут не только надеждой, но и воспоминанием. И чем более оставляет нам прошлое таких животворных воспоминаний, чем отраднее и ярче они, тем легче переносим мы бремя жизни. Великие примеры, великие доктрины не умирают; в памяти человечества оставляют они неизгладимый след. А Сократ живет в человечестве и своей доктриной, и своей личностью. Он был одним из тех, о которых можно сказать, что они дают нам еще более своею личностью, чем своим учением или своими делами. То, что они есть, что они собой представляют, значит для нас еще более, чем то, что они делают или говорят. Одно присутствие их с нами и среди нас действует успокоительно, возвышает нас, приводит к гармонии, а их отсутствие мы чувству-
1) Windelband, Präludien, И Aufl. Tübingen und Leipzig 1903. S. 91 (статья: Ueber Socrates), Об отношении Сократа к своему народу — Pohlmann, Socrates und sein Volk. Munchen und Leipzig 1899.
95
ем, как тяжкий и жестокий удар, после которого остается лишь одно утешение, что они были и что они могли быть.
Таков Сократ. Его личность есть сама по себе великое поучение. Она действует на нас, как действовала в свое время на его слушателей, как живая сила знания и добра, как живой образ осуществленного нравственного закона. И как осуществлённого! — не в аскетическом отчуждении от мира, не в бегстве от его соблазнов и грехов, не в удалении от его горестей и печалей, а среди них, в шумном водовороте событий, в тревожной смене настроений большой столицы, переживавшей внутренний кризис политического распадения.
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
