13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Зеньковский Василий, протопресвитер
Зеньковский В., прот. Общие законы экономической жизни
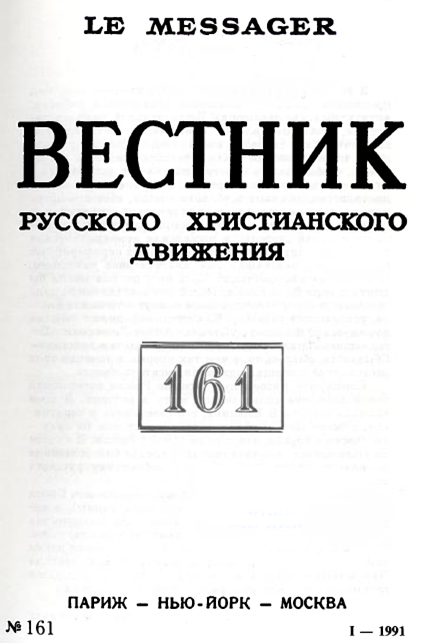
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Прот. ВАСИЛИЙ ЗЕНЬКОВСКИЙ
ОБЩИЕ ЗАКОНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ
В архиве прот. В. Зеньковского (1882-1962) сохранились две трети объемной рукописной книги.* написанной им в самые первые годы эмиграции. Автор ставил себе задачу «связать современное сознание с Православием, так как даже у нас, в России, стране Православия, установился взгляд на него, как на нечто замершее и неподвижное». Он рассматривал свою работу лишь как «введение к выработке целостной православной системы».
Вторая глава книги посвящена анализу экономической жизни Европы после окончания Первой мировой войны. Несмотря на то, что она написана 70 лет назад, в своих основных положениях (о необходимости строить экономику на личностном начале, об обреченности государственно-социалистической системы, об экономическом единстве Европы) она звучит вполне актуально. (Печатается с некоторыми сокращениями).
Если мы обратимся к анализу современной экономической жизни, то прежде всего внимание наше останавливается на чрезвычайной ее сложности. С возникновением машин, с наступлением капитализма, падением натурального хозяйства экономическое развитие Европы пошло гигантскими шагами и в течение одного XIX века достигло небывалого расцвета. Это экономическое развитие не во всех странах шло одинаково: наибольшей силы достигло оно перед мировой войной в Германии, Англии, Америке; в других европейских странах, в силу различных причин, оно было слабее. Тем не менее экономическая жизнь Европы, хотя и протекает в рамках национальных государств и является одним из могущественных факторов национального развития, с исключительной силой разбивает перегородки, стоящие между отдельными государствами. Европейская культура, единая в своем духовном источнике, в своем духовном
* (Из 684 страниц утеряны стр. 371-546).
71
развитии, в XIX веке стала слагаться если не в экономически единую, то экономически связную культуру. Взаимная экономическая зависимость стала необычайно возрастать по мере роста промышленности, стало выдвигаться понятие мирового рынка, различные колебания в жизни которого стали отражаться очень сильно в самых различных уголках мира. Возникло понятие «мировых экономических кризисов», обобщающие факты чрезвычайной чувствительности экономической жизни отдельных стран к кризисам, происшедшим на мировом рынке.
Экономическое развитие Европы, до сих пор своими корнями уходящее в самые глубины национальной жизни и являющееся могущественнейшим двигателем ее, давно стало выходить за пределы национальных государств и объединять более значительные политические группы. Здесь следует видеть главнейшую причину тех империалистических тенденций, о которых мы говорили в предыдущей главе: политический империализм определяется могучими силами экономического характера. Если экономический рост Европы и в настоящее время в значительной мере привел к известному экономическому единству, которое с такой яркостью выяснилось в процессе войны 1914-18 гг. и в ее итогах, то уже совершенно бесспорно стало в итоге XIX века, что ни одна страна не может экономически замкнуться сама в себе. Экономическая жизнь повелительно требует соединения если не всех, то хотя бы по группам, нескольких государств в экономический союз отсюда у экономически передовых стран, какими являются Германия и Англия, их глубочайшие империалистические устремления. Политические процессы, как никогда еще в истории, определяются экономическими факторами, — и нечего удивляться, что это положение вещей было закреплено в системе «экономического материализма»: при всей принципиальной неправде этой теории она характерна именно тем, что пытается учесть значение в истории экономического фактора, который играет действительно огромную роль в современных политических отношениях. Надо при этом иметь в виду,
72
что эти объединяющие тенденции экономической жизни отнюдь не должны быть толкуемы так, что все это идет в интересах капиталистов, как это принято подчеркивать в бесчисленных брошюрах, посвященных характеристике современного империализма. Объединяющие тенденции современной экономики проявляются совершенно независимо от чьих бы то ни было интересов, и если интересы буржуазии, интересы капитала ведут к экономическому объединению, то с другой стороны эти интересы в огромной мере и страдают от этого объединения. Экономическое развитие, по мере дифференциации и усложнения производства, экономических отношений, создает все большую зависимость, все более тесную связь между отдельными государствами. Отдельные классы отчасти выигрывают, отчасти проигрывают от этого, и связывать это экономическое объединение с судьбой пролетариата или финансового капитала или объединившейся мировой буржуазии — это значит не замечать того, что оно идет совершенно независимо от интересов этих групп, хотя и открывает для различных групп те или иные возможности его использования. С этой точки зрения можно сказать, что никогда еще мировая история не находилась в такой глубокой зависимости от хода экономический жизни, как теперь, никогда еще не была так глубока и непреодолима власть законов экономической жизни, как именно в этих условиях экономического объединения. Машинное производство уже само по себе произвело глубочайшие изменения в экономической жизни Европы: оно дало ей небывалую мощь, но оно составляет источник ее слабости, ибо прежние формы экономической жизни, при которых отдельные государства были сравнительно независимы одни от других, исчезли почти безвозвратно. После войны 1914-18 годов с небывалой отчетливостью выступил, например, тот факт, что экономическая разруха в России, связанная с большевизмом, делает невозможным экономическое восстановление всей Европы. Европа не может вернуться к тем формам экономической жизни, которые существовали сто-двести лет тому назад. Машинное производство создало мировой рынок, и пока не восстановится этот
73
мировой рынок, до тех пор Европа не придет в экономическое равновесие. Ни в чем это не сказывается с такой ясностью, как в финансовой жизни Европы: в итоге войны исчезло международное финансовое обращение, взамен которого мы имеем настоящий финансовый хаос, дающий место самой широкой спекуляции. Каждая страна имеет свой особый курс для иностранной валюты, и находясь в Югославии вы легко можете обратить свои деньги в румынскую или немецкую валюту и дорого продать ее в других странах. Единство в международных финансовых операциях исчезло и едва ли будет восстановлено очень скоро; до известной степени оно задерживается искусственно в целях поднятия курса в отдельных странах. С ничтожными в данной стране деньгами вы можете оказаться богачом в другой стране, ибо соотношение курсов не отвечает реальным экономическим отношениям — те же английские фунты, на которые вы едва можете прожить, например, в Турции, сделают вас богачом в Югославии.
Все это только подтверждает невозможность выйти за пределы мировой экономической жизни и вернуться к докапиталистической хозяйственной жизни, всецело укладывавшейся в рамки национальных государств. Поистине nolentem fata trahunt! Не сумевшее договориться до вольного и свободного объединения, европейское человечество дошло в своем экономическом развитии до такой ступени, на которой оно неизбежно, можно сказать «фатально». Какие бы политические бури ни разыгрывались из-за того, кто будет дирижером в этом экономическом оркестре, но тянуть враз все же невозможно, и могучей силой неотвратимого «фатума» европейские народы, не умеющие прийти к свободному сотрудничеству, принуждены все же добиваться известного единства. В высшей степени любопытно, что после политического разгрома Германии силы противоположной коалиции несмотря на упорное сопротивление Франции не могут уклониться от задачи восстановления экономической мощи Германии, без чего немыслимо экономическое восстановление всей Европы. Иронический тезис Эндрлля в его известной книге об экономической безрезультатности войн начинает
74
блестяще оправдываться в итогах мировой войны. Как из оркестра не может быть удален ни один существенный инструмент без того, чтобы не исчезла возможность достижения известных звуковых итогов, так из экономического взаимодействия стран Европы не может быть удалено ни одно из более или менее крупных государственных образований без самого тяжелого ущерба для других.
Это единство экономической жизни Европы, при всех вариациях, связанных с теми или иными факторами в отдельных странах, ведет в более сильной степени, чем что-либо другое, к тому, что европейская культура в целом является как бы своеобразным организмом. В силу чрезвычайной экономической взаимозависимости стран Европы друг от друга все болезненные процессы, переживаемые одними странами, несут угрозу и тем странам, которые в данном отношении являются здоровыми. Судьба Европы, дошедшей в своем экономическом развитии до тех высот, на каких она ныне стоит, оказывается единой, проблемы ее культуры тоже едины, и если бы в провиденциальных путях истории была бы намечена гибель какого-либо одного крупного народа Европы, то это в сущности поставило бы под вопрос бытие и всей европейской культуры. Необъединенная, хотя и единая, таящая в себе чрезвычайные противоречия (как внешние, так и внутренние) Европа живет единой жизнью вопреки ее желанию, вопреки стремлениям отдельных стран. Войны, подобные Наполеоновским, или последней мировой войне, показывают всю историческую бесплодность взаимной борьбы, эти войны служат лишь саморазрушению Европы, свидетельствуют о глубоком историческом тупике, в котором она находится, говорят о крайней необходимости освободиться от того яда, который вырабатывается в глубине европейской культуры, но они не могут изменить течения европейской истории, хотя могут приблизить ее конец. Мировая война 1914-18 годов есть катастрофа для Европы, от которой она не сможет скоро излечиться, и если она была совершенно неизбежна в той реальной исторической обстановке, которая складывалась в Европе во второй половине XIX века и в начале XX века, то все же она была катастрофой,
75
погубившей бесконечно много и задержавшей исторический процесс. Уже война 1870 была прекрасным уроком того, что на пути военного порабощения нельзя найти решения политических проблем Европы; все, что происходило дальше, славянский вопрос, вокруг которого шли основные политические расслоения, и ныне остался нерешенным благодаря временному выходу России из состава европейских держав. В экономической среде идут и будут идти свои войны, но они не решат проблем, — и чем дальше идет история Европы, тем катастрофичнее может быть для нее неумение найти иные пути для разрешения ее основных проблем.
Приглядимся теперь к основным чертам экономического строя современной Европы. (...)
На первом плане я должен поставить характерный экономический и социальный индивидуализм. До известной степени это черта, присущая всему человечеству, но только на почве Европы и, что особенно важно иметь в виду, на почве тонко развитого римского частного права, всецело построенного на основе экономического индивидуализма, стало возможно то экономическое развитие, какое пережила Европа. Хотя и в Европе начало экономического индивидуализма долгое время (а кое-где и поныне) встречало серьезнейшее противодействие в других силах экономической жизни, тем не менее именно экономическому индивидуализму должны мы приписать творческое значение в развитии хозяйственной жизни Европы, должно признать его главным фактором экономического прогресса. В. Зомбарт в своих исследованиях, посвященных развитию капитализма (двухтомное исследование, специально посвященное этому вопросу, работы Zutun und Kapitalismus, Krieg und Kapitalismus, das Judentum, der Bourgeois), очень удачно вскрыл целый ряд иных факторов, влиявших на развитие современного хозяйства, на его структуру и организацию, и все же мы должны сказать, что действие всех этих факторов стало возможно только потому, что движущим началом экономической жизни был упомянутый экономический индивидуализм. Весь хозяйственный строй Европы настолько тесно и глубоко связан с экономическим
76
индивидуализмом, что попытки его вытеснения, принимающие все более систематический и реалистический характер в различных социалистических движениях, разбиваются о него, угрожая возвращением народного хозяйства к экономическому варварству. Социалистические опыты большевиков в России, отбрасывая даже те уродливые и нелепые стороны, которые были им присущи, с чрезвычайной яркостью показали невозможность — в порядке внешней регуляции экономических отношений — выкинуть экономический индивидуализм из недр Европы. А между тем социализм остается прав в том, что в экономическом индивидуализме он видит главную беду современной Европы. Не раскрывая это сейчас в подробностях и оставляя это на дальнейшее, скажем лишь, что с экономическим индивидуализмом действительно стоит и падает современная Европа, что он является ее силой и ее слабостью, что в нем источник экономической мощи, экономического расцвета Европы, но в нем же источник ее экономического разложения. Эта двойственность исторического значения экономического индивидуализма станет нам понятной лишь тогда, когда мы подойдем ближе к его существу. К характеристике экономического индивидуализма мы теперь и обращаемся.
Если мы возьмем экономическую жизнь новейшей Европы, в которой все основные ее моменты выступают с полной отчетливостью, то легко убедиться в том, что основные движущие мотивы хозяйственной деятельности определяются стремлением индивидуума к накоплению благ. В основе современной жизни лежит принцип так называемой частной, т. е. индивидуальной собственности; хозяйствующий субъект обладает определенной собственностью — прежде всего здесь имеется в виду земельная собственность. Вся экономическая деятельность отдельного лица направлена на то, чтобы использовать эту собственность в целях накопления хозяйственных благ. Правда, кое-где, например, в России, мы имеем и до сих пор формы общинного землевладения, когда субъектом прав является не отдельное лицо, а целая община. Но одним из наиболее серьезных, вытекающих
77
из самой сущности современной экономики, возражений против общинного хозяйства всегда и было то, что, не обладая правом собственности на землю, трудящийся над ней никогда не может работать так, как работал бы он над землей, которая принадлежала бы ему всецело. Это возражение должно быть признано совершенно справедливым, поскольку мы стоим на почве эмпирических данных, на почве той экономической психологии, которая реально управляет хозяйственными процессами. Участник общинного землевладения, при максимальной добросовестности с его стороны, никогда не может внести столько экономической инициативы, такого всестороннего, напряженного внимания к земле, которую он обрабатывает только в данном году. Вся его работа, идущая сверх положенного, будет индивидуально бесплодна и не нужна, потому что он не может предпринять никаких длительных улучшений при подвижности тех участков земли, над которыми он работает.
Насколько иначе слагается хозяйственная психология в том случае, если работа протекает над землей, находящейся в полном владении работника! Он знает свою землю из года в год, он может предпринять те или иные меры по улучшению хозяйства, — его одушевляет мысль о тех плодах его трудов, которые соберет если не он сам, то его дети. Правда, при общинном землевладении чувство собственности не вполне исчезает, т. к. община в целом является все же собственником и каждый отдельный член в общем сознает себя собственником всей общинной земли, именно как член общины. С этой точки зрения понятно, что в той хозяйственной психологии, которая имеет место при общинном землевладении, мы не найдем того чистого типа, который мы хотим обрисовать: чувство собственности не отсутствует здесь всецело. В качестве члена общины отдельный предприимчивый человек может проявить свою хозяйственную инициативу в том, что предложит всей общине те или иные разумные меры, которые могут поднять производительность земли, способствовать борьбе с оврагами, вредными насекомыми и т. д. В гораздо более ясной форме выступает творческое
78
значение экономического индивидуализма в других формах промышленности. Психология хозяина любого промышленного предприятия и в мелких предприятиях это выступает даже яснее и прозрачнее — совершенно отлична от психологии наемного работника, получающего определенную плату за свой труд. Наемный рабочий заинтересован только в том, чтобы получить для себя больше выгод от работы, его не интересует развитие предприятия, его не волнуют неудачи — ведь в случае полного упадка предприятия он всегда найдет себе другое место. Правда, сплошь и рядом наемные рабочие, работающие более или менее продолжительное время в известном предприятии, настолько срастаются с ним, что начинают дорожить им, гордиться его успехами, тревожиться о его неудачах, но эти явления не имеют типического характера, а главное — не являются решающими в экономических отношениях. Психология наемного рабочего, меняющего хозяев и заинтересованного только в повышении заработной платы, не может поднять в нем творческого интереса к предприятию; с другой стороны, если бы даже возникли какие-нибудь проекты, касающиеся улучшения постановки дела, решающее слово, готовность на риск должны исходить от хозяина. Не будучи материально ответственным, не будучи глубоко заинтересован в благополучии именно данного предприятия, наемный рабочий может случайно приходить к известным проектам, но в нем, конечно, не может быть места для той творческой инициативы, которая может развиться только у хозяина предприятия. Помимо того, что собственник предприятия действительно заинтересован тем, чтобы его предприятие не терпело неудач, — всякое удачное изменение всецело и непосредственно ощущается им; только он и может рискнуть на осуществление какого-нибудь нового плана, так как вся материальная ответственность действительно ложится на него. Это вносит трезвость в его размышления, но это же придает значение и целесообразность его инициативе.
Один из наиболее выдающихся психологов недавнего времени держался взгляда, что в нас имеется инстинкт собственности. Я считаю этот взгляд совершенно правиль-
79
ным, только хотел бы подчеркнуть инстинктивность этого стремления к собственности. Мы стремимся к тому, чтобы нашей собственностью стало все то, что нам дорого и нужно, чтобы получили полную власть над ним это есть одно из основных стремлений наших. Оно, однако, не одно господствует в нашей душе; рядом с этим устремлением к власти над предметами, над людьми всегда в нас развивается стремление приспособляться к другим, сообразовываться с их желаниями, с их стремлениями. Оба этих психологических движения одинаково сильны, одинаково неустранимы в нашей душе и в случае подавления или недоразвития какого-либо одного из них мы получаем нарушение психического равновесия. Из основного стремления к выявлению индивидуальной воли к власти развивается в нас могучий инстинкт собственности над предметами (а в былое время и над людьми). Не будем сейчас входить в психологический анализ того, как надо различать стремление к власти и стремление к собственности; обратим лишь внимание на то, что стремление к собственности в его основной психологии не имеет определенного объекта, решительно не связано с какими-либо определенными предметами. То, что в одну экономическую эпоху не является предметом собственности, является res nullius, в другую эпоху становится предметом обладания. Вот почему неудачны попытки опровергать, например, возможность уничтожения собственности на землю тем, что в нас есть инстинкт собственности; на психологии собственности нельзя обосновать никакой определенной экономической программы и можно, опираясь на нее, лишь одно утверждать, что полное и всецелое устранение собственности прямо неосуществимо. Отдельные виды собственности (в частности, важнейший вид собственности на землю) как известно, являются продуктом социального развития, имеют, другими словами, исторический характер, а, следовательно, имея начало, могут иметь и конец. Как было время, когда человек, имея те же психические черты, что и раньше, не знал некоторых видов собственности, так нет ничего нелогичного в том, что, оставаясь с теми же основными психическими особенностями, он в известное
80
время утеряет эту форму собственности. Законы психологии неизменны, а формы экономической жизни изменчивы; вот почему во всякую экономическую эпоху мы найдем «собственность» как явление социально ’Психическое (хотя бы еще и не было правовой атмосферы, тех правовых форм, которые создают собственность в современном юридическом смысле этого слова), хотя виды собственности меняются, как меняется правосознание, меняется юридическая регуляция тех отношений, которые создаются на этой почве.
В психологии собственности лежит ключ к пониманию явления экономического индивидуализма. В своей чистой форме экономический индивидуализм встречается редко в силу того, что он постоянно осложняется различными социальными явлениями, но это вовсе не должно закрывать глаза на то, что экономический индивидуализм есть явление чрезвычайно характерное именно для Европейской культуры. Но прежде чем мы обратимся ίκ·: этому, вернемся еще к его психологии. Психология собственности, удовлетворяя потребность власти, питает вместе с тем потребность в объекте для творчества; только над тем, чего собственником являюсь я, я могу делать опыты, пробы, могу предпринимать те или иные действия. Здесь лежит источник творческой силы, присущей сознанию собственности; если же вы являетесь, говоря терминами экономики, «арендатором» данной вещи, то ваша свобода в отношении к ней ограничена и, в лучшем случае, дает простор для того, чтобы суметь извлечь из данной вещи максимум того, что она может дать. Путь эксплуатации не открывает перед вами пути творческой работы, т. к. в вас нет сознания полной материальной ответственности. Сознание собственности, с другой стороны, впервые формирует психологию индивидуального интереса (в экономическом смысле этого слова). По отношению к тому, что не принадлежит вам, не может развиться «интерес»; о чьих-нибудь интересах можно говорить лишь на почве собственности; лишь по аналогии с этим понятием и можно строить понятие экономического интереса пролетариата, которому, впрочем, усваивается особый вид собственности — собственность его труда, так
81
что интерес пролетариата заключается в наилучшем использовании его труда (отсюда психологически понятно, почему в рабочих массах так легко прививается идея, что капиталисты эксплуатируют труд рабочего, что всякая собственность по своему происхождению есть, говоря словами Прудона, воровство). Еще более остро выдвигается необходимость в защите своей собственности в этом направлении экономический интерес осознается в полной степени, т. к. даже в благоустроенном, правовом государстве всегда приходится быть на страже собственности, дабы она не была расхищена. Здесь выступает характернейшее явление экономической жизни, лежащее в основе экономического индивидуализма. Хозяйственные ценности обладают своеобразной непроницаемостью, как бы напоминающей физическую непроницаемость. Подобно тому, как пространство, заполненное каким-либо телом, непроницаемо для другого тела, разного рода хозяйственные ценности занимают какое-то место, только им принадлежащее. Один и тот же товар не может быть одновременно моим и вашим. Если духовные ценности не перестают оставаться моими, хотя бы я «сообщил» их другим, которые ими пользуются, то материальные ценности, которые я «сообщу» другим, не могут уже быть использованы мной. В социально-экономическом пространстве материальная ценность, какой-либо продукт или товар, может быть вещью кого-либо одного, а не нескольких, словно принадлежа одному, эта ценность становится социально непроницаемой для других. И если данной вещью стремятся овладеть несколько людей, в силу чего их экономические «интересы»* направлены на одну и ту же вещь, то здесь неизбежно возникает полное противоречие интересов. Интерес одного исключает интерес другого, в результате чего неизбежно возникает борьба за данную ценность. Подобно тому, как в одном и том же месте не могут находиться двое, а только кто-либо один, так одну и ту же вещь может использовать лишь один, а не несколько. Взаимное вытеснение создает
* Психология интереса это так ясно, что не стоит подробно и развивать связана не только с имеющейся у меня собственностью, но и с тем, чем я хочу завладеть в собственность.
82
борьбу, в которой нет иного выхода, как только тот, чтобы кто-либо оказался победителем, а другой — побежденным.
Конечно, иной раз возможен компромисс, что ведь «делится» между враждующими сторонами, подобно тому, как в крайнем случае на одном и том же стуле можно как-то, с неудобством, усесться двоим. Но в том и дело, что это неудобно, неприятно! Экономический интерес сам по себе выдвигает необходимость овладеть тем или иным материальным благом, но он определяется теми запросами, какие во мне сейчас имеются налицо, и решительно не влияет на расширение или уменьшение моих запросов. Объем моих запросов не есть величина постоянная и находится в функциональной зависимости от целого ряда факторов, действие этих факторов может менять объем моих запросов, но мои притязания на какую-либо материальную ценность всецело определяются теми запросами, какие во мне сейчас налицо. И если, например, под влиянием каких-либо соображений или переживаний я изменяю свои запросы, готов удовлетвориться лишь долей того, к чему я раньше стремился, то, разумеется, тогда может исчезнуть противоположность экономических интересов. Но в качестве экономического фактора мои интересы не могут меняться — все изменения происходят, так сказать, с экономической стороны процесса. Если произошло во мне психическое изменение, то меняется и мой экономический интерес, — но динамика экономического интереса как такового, т. е. взятого независимо от его связи с психическими переживаниями субъекта, не знает никаких «соглашений» и допускает только исключение противоположного интереса. Конечно, экономическая активность не может быть оторвана от всей социально-психической и индивидуально-психической активности данного субъекта; вот почему то понятие homo economicus, которое, если не ошибаюсь, впервые ввел Адам Смит в целях методологических, должно быть признано научной фикцией, которая может иметь порой большое эвристическое значение, но которая все же искажает конкретную действительность. «Борьба интересов» неизбежна, пока мы исходим из застывших экономических интересов, но в том-то и дело, что позади
83
экономических интересов стоят их живые носители, которые могут под влиянием самых разнообразных внутренних или внешних причин изменить свои запросы, в результате чего изменятся и их экономические интересы. Правда, при чрезвычайном развитии и усложнении экономической жизни в ней с полной ясностью выступает самостоятельная закономерность экономических процессов, чем подчеркивается, что все колебания и изменения, происходящие индивидуально у хозяйствующих субъектов, не имеют заметного влияния на ход экономической жизни в целом. Однако, это вовсе еще не ведет к своеобразному фатализму, вовсе не превращает экономический интерес в живой индивидуальности в нечто совершенно самостоятельное и независимое — и говорит только о том, что разрозненные, случайные колебания в отдельных лицах не нарушают общей картины. Однако те или иные психологические сдвиги, если только в силу своей распространенности или в силу социальных условий они становятся исторически значительными, могут совершенно изменить характер экономической жизни. История экономического развития Европы, по мере ее научной разработки, все более раскрывает историческую конкретность и неповторимость экономического развития, какое пережила Европа. Кроме тех явлений, на которые я выше указывал в связи с работами Зиммеля, достаточно вспомнить историю кооперации, сентиментальной и романтической в ее первых шагах, и тем не менее развившейся в могучее социальное явление в наши дни.
Все это убеждает нас в том, что социальная «непроницаемость» материальной ценности, борьба интересов, вырастающая на этой почве, вовсе не является каким-то фатальным фактом в экономической жизни Европы, что вполне мыслимо и исторически мыслимо развитие Европы в иную сторону, если бы появились какие-либо факторы, ослабляющие борьбу интересов. Но если мы обратимся к экономической действительности, то мы должны будем признать, что экономическая жизнь Европы заполнена напряженной и открытой борьбой интересов. Борьба за существование никогда не достигала такого напряжения, такой силы, как в ΧΙΧ-ΧΧ веке, и
84
это связано как с чрезвычайным ростом населения, так, с другой стороны, с изменением экономической жизни. Борьба за существование (в своем экономическом аспекте это и есть борьба интересов) была всегда и она всегда имела достаточно яркий характер, но при натуральном хозяйстве экономические отношения почти всегда имели личный характер, продукты, можно сказать, носили на себе печать того, кто их создавал или собирал. Борьба за существование была борьбой одних людей с другими — и все те факторы социального взаимодействия, которые связаны с отношением одной личности к другой, влияли на эту борьбу. Она могла принимать ожесточенный, жестокий характер, была всегда направлена на определенных людей, — и в этой борьбе всегда могли выступать, приобретать свое значение те факторы, которые связаны с. непосредственным отношением к личности. Низкие и высокие чувства: зависть, ненависть, вражда, с одной стороны, уважение, благодарность, привязанность, с другой стороны, являются весьма могущественными факторами, определяющими наши личные отношения и потому влияющими на экономические взаимоотношения. Но постепенная замена натурального хозяйства меновым и особенно денежным разъединяет, раздвигает производителя и потребителя настолько, что экономический процесс перестает быть связан с личными отношениями. С полной ясностью это выступает в денежном хозяйстве: с помощью денег, этих безымянных средств обмена, вы добываете на рынке необходимые вам товары, совершенно не зная и не интересуясь тем, кто и как создал данный товар. Машинное производство с его фабрикантами окончательно оторвало товар от производителя, и все экономическое взаимодействие приобрело анонимный характер. Любой товар вы можете купить за деньги — это значит, что при добывании продуктов вы совершенно не имеете никакого общения ни с тем, кто его произвел, ни даже с тем, кто его доставляет, ибо товар в данном магазине решительно такой же, как и в другом. Те материальные блага, в которых мы нуждаемся, в наше время решительно стали анонимными, как-то обособились; с этим и связано то, что К. Маркс удачно назвал «товарным
85
фетишизмом»: в наших глазах каждый товар как бы обладает самостоятельной ценностью; лишь с помощью усилия мысли мы можем восстановить социально-экономическое происхождение данного продукта, можем понять, откуда присуща ему его ценность.
При этом изменении психологии экономической жизни, при этой «анонимности» продуктов, борьба за существование не перестала быть в своем экономическом аспекте борьбой интересов, только она приобрела иной характер, она также стала «анонимной». На первый план выдвинулась борьба за деньги, как универсальную ценность: кто обладает деньгами, тот без всякого труда может приобрести все, что ему нужно. Универсальность покупательной силы денег, так сказать, сгустила в деньгах всю экономическую энергию; деньги отодвинули все иные моменты экономической жизни, и если в современной жизни здесь осталось что-либо личное, то лишь в борьбе за деньги. Целью борьбы за существование стало добывание денег, — и это придало столкновениям людей на этой почве трагический характер в гораздо большей степени, чем это было раньше. Мы забываем о том, что реальное и живое стоит за теми деньгами, которые мы получаем, мы не видим и не можем увидеть живой процесс работы, в итоге которого получаются деньги. И вот отчего накопляющиеся в сфере экономической жизни обиды, недоразумения, злые чувства имеют анонимный характер. Это не превращает их в «беспредметные» чувства, но придает им известную неопределенность; нам необходим какой-либо объект, к которому мы могли бы направить наше озлобление, наши обиды. На этом именно пути наличность анонимных обид с особой легкостью создаются социальные мифы: социальная психология недаром нас учит тому, что в основе социального общения лежит эмоциональное сближение и поскольку эмоциональное взаимодействие переходит в более определенную форму, оно неизбежно пользуется услугами воображения.* Тенденция к созданию мифов лежит, таким образом, в самих основах
* См. мою книгу «Пробл.» и «Введение в пед.».
86
социального общения, и, разумеется, тот безличный, анонимный характер, который имеют экономические отношения в наше время, особенно благоприятен для возникновения мифов. Не имея определенного предмета, безымянные обиды, озлобление, ненависть находят для себя предмет при помощи воображения, создают и закрепляют ту или иную социальную мифологию — и это особенно запутывает и осложняет социальный процесс, часто заводит в безвыходный по-видимому тупик. Ввиду чрезвычайной важности затронутой сейчас темы, я считаю нужным пояснить ее примером. Каждый из нас, врастая в современные социальные отношения, стремясь достигнуть того или иного социального положения, вообще занять какое-либо место в системе социальных отношений, неизбежно проникается той общей идеей, что условием экономического и социального благосостояния являются «деньги» — именно в силу их универсальной покупательной силы. В последнем счете нам нужны не деньги, а те или иные блага, но, обладая деньгами, мы свободны в работе своей, мы можем добыть именно то, что нам нужно. Эта универсальность денег превращается в основное средство при достижении любой экономической или социальной цели. Но связанная с существом денег анонимность — закрытость тех реальных отношений, которые стоят за деньгами, как носителями ценностей, закрытость или подвижность и заменимость тех реальных благ, которые могут быть получены с помощью денег, неизбежно сосредотачивают на деньгах большее внимание, чем это могло бы определяться их существом, неизбежно ведет к тому, что из универсального средства в экономической жизни деньги превращаются в универсальную ее цель. Подмен этот, ведущий к тому, что средство к известной цели, выдвигаясь на первый план, становится само постепенно целью, имеет место всегда в нашей душе и не заключает в себе ничего загадочного, — но в современной экономической жизни, получившей характер анонимности, отодвинувшей от потребителя те реальные, живые процессы, которые стоят за продукцией товаров (равно как отодвинувшей от производителя те живые процессы, в которых используется его работа) этот подмен
87
приобретает исключительное значение. Анонимность, царящая в современной экономической жизни, чрезвычайно усиливает денежный фетишизм, усиливает превращение их в самодовлеющую цель экономической деятельности. Универсальность покупательной силы денег, в связи с анонимностью современных отношений, неизбежно вызывает устремление к деньгам как таковым. На всей нашей культурной жизни лежит страшная печать этой всеобщей устремленности к деньгам — и чем дальше усложняется культурный процесс, тем с большей силой и обнаженностью выступает погоня за деньгами; происходит в силу этого какое-то опустошение души — устремление к деньгам становится если не центральным, то настолько все-таки доминирующим фактором деятельности, что оно всюду и на всем кладет свою печать. Благороднейшие и бескорыстнейшие устремления неизбежно в своем воплощении связываются с системой социальных отношений и тоже становятся «источником» дохода, получают денежную расценку. Хотя, по крылатым словам Пушкина, вдохновение не продается, но рукопись всегда можно продать. Это удачно подчеркивает, как денежный момент проникает в самые глубокие тайники души следом за теми или иными выявлениями их, когда своим дыханием он отравляет самые источники духовной жизни. В гениальном обобщении, которое дал Гоголь в Чичикове (основная черта которого, по словам Гоголя, заключается в том, что он «приобретатель»: Гоголь пытается в Чичикове охватить основные линии современного «экономического» человека), с полной ясностью выступает разрушение душевной жизни, связанное с этим переводом на деньги всех духовных достижений. Типично для Чичикова, что когда он говорил о добродетели, он умел слезу пустить: он эксплуатировал в тех или иных житейских целях (над которыми всегда и во всем возвышалась верховная цель — обогащение) самые лучшие движения души. И это наблюдение Гоголя блестяще оправдалось в духовной жизни Европы: здесь надо искать ключи к пониманию того своеобразия экономической психологии современных людей, которое еще Герцен так едко высмеивал, как
88
духовное мещанство. Действительно, устремление к обогащению подчиняет себе разнообразнейшие духовные процессы — и на этом пути вянет духовная энергия, на всю духовную жизнь кладется печать пошлости — и источники духовного творчества совершенно иссякают. Для примера возьмем этическую жизнь. В основе ее лежит живой опыт добра, живое чувство его; но в современной действительности, отдаваясь директивам морального сознания, мы ставим между собой и людьми — деньги. Главное, чем мы хотим помочь, в чем мы видим главную причину бед, главное средство для помощи это деньги. В силу этого неизбежно отодвигается человек, наше отношение к нему становится бездушным и внешним. В этом процессе опустошения современной души, который мы попытаемся вскрыть ниже в связи с ростом неорганических отношений, юридизма и внешней культуры, роль денег, становящихся между людьми, огромна. Со всей силой художественного гения почувствовал это Лев Николаевич Толстой, как это видно из его политико-экономических (хотя и наивных и все же очень глубоких) взглядов, особенно в его заметках по поводу голода 1892 года. Вся активность наша, в случае несчастья с людьми, вполне исчерпывается тем, что мы даем деньги. Деньги превращают наши человеческие отношения в что-то внешнее, они всюду вносят ту же атмосферу анонимности, в которой они сами получили свой настоящий смысл. То отношение к людям, которое растет из любви к ним, т. е. имеет чисто внутренний характер, разрушает перегородки между людьми, подменяется внешними отношениями, которые исчерпываются денежными взносами. В связи с этим этическая активность тускнеет и опустошается в глубочайших своих истоках, слабеет духовная напряженность, социальная атмосфера все более становится насквозь проникнутой психологией анонимности и универсального экономического фактора денег. Не нужно быть тупым, пустым, узким человеком, чтобы всецело проникнуться этой ядовитой атмосферой, — наоборот, сами мы живо и полно вбираем в себя то, чем живет и дышит современное человечество, мы с малых лет проникаемся сознанием
89
того, что в деньгах ключ ко всем ценностям, ко всем возможностям. И разве с помощью денег не становятся нам доступны все страны, все достижения, все лучшие цветки культуры — и разве при отсутствии денег не чувствуем мы себя связанными во всех шагах. Искусство, наука, даже религиозное общение идут легко и просто, если мы свободны в выборе жизненных условий, если нам не приходится всю энергию растрачивать на добывание денег. Деньги уже не только универсальное покупательное средство, но они стали условием всякого культурного процесса. Позже других, медленно подходят к этой истине носители духовной культуры (например, педагоги), но ныне и они охвачены жаждой профессионального объединения в целях улучшения материального положения, а после войны стали всюду возникать союзы интеллигентных тружеников, или, как говорили у нас в дни революции, союзы трудовой интеллигенции (движение во Франции и других странах). Не кто иной, как Маркс обличал современную культуру в том, что она имеет еврейский характер. Маркс видел существенное в возрастающей всюду жажде обогащения, наживы, спекуляции, в этой жажде денег, которая ядовитым дыханием отравляет нашу жизнь. Как ни верно это, но мы не углубимся в суть вопроса, если не поймем, что жажда денег, отношение к деньгам, как главной цели активности, есть не столько источник порчи нашей культуры, сколько ее итог есть результат какой-то основной ошибки, основного греха. Принимая всецело формулу Маркса о еврейском характере современной культуры, мы должны в само понятие «еврейства» вложить более глубокий смысл. Такие чуждые и далекие друг другу мыслители, как Владимир Соловьев и Чемберлен (см. его Grundlagen desXIX Jahrhunderts) сходятся в характеристике еврейства как религиозного материализма: да, материализм, стремление к внешним, осязаемым, эмпирическим благам приобретает религиозное значение, и обратно религиозные устремления облекаются в форму чувственного, эмпирического материала. Процесс культуры есть процесс накопления внешних благ. Иудаизм в современной культуре был бы
90
невозможен в такой силе, если бы экономическая жизнь не развернулась бы в форму денежного хозяйства. Анонимность экономических отношений отодвинула человека в этих отношениях и на первый план поставила товар, а затем деньги, сосредоточивши на них всю силу и мощь культуры. В этой атмосфере, где был забыт человеком человек, начало религиозного иудаизма получило могучий толчок для своего развития, и можно сказать, что современная культура вся обвеяна духом религиозной чувственности или, лучше, чувственной, материалистической религиозности. Товары и деньги — настоящие божества современной культуры. Все стремятся к обогащению, все друг друга давят, губят, борются, но эта борьба прикрыта анонимностью·, гибель, смерть человека завуалированы анонимностью. Одни эксплуатируют других, одни обогащаются за счет других, одни вытесняют других, но нигде и никогда эта борьба людей не идет в открытую. То, что в процессе конкуренции, жесточайшей жизненной борьбы гибнут люди, этого никто прямо не видит, человек находится где-то за сценой, и если слышны стоны и вопли, то на это можно ответить пожертвованием денег, но те, кто наверху, не сознают и не могут сознавать, что их победа куплена жизнью других. Современная экономическая машина действует так, что человек мало сталкивается с человеком, как таковым, как живой личностью — все анонимно, все безличны.
И самые обиды, и социальный гнев, социальная ненависть и озлобление тоже носят анонимный характер. Конечно, можно ненавидеть кого-либо, кто лично вас обидел, но главнейшие, глубочайшие обиды анонимны, они идут от строя, от всего хода экономической жизни. Тут же выдвигаются социальные мифологемы, чтобы создать предмет для ярких и сильных чувств. Возникает психическая форма* рабочего, пролетария, купца, буржуя, помещика за этой формой скрывается для нас человек. Если прочитать прекрасный роман Синклера «Джунгли», то мы получим очень яркую, сгущенную картину того, как давит экономический порядок на массы людей. Отдельные
* О понятии психической формы см. мое «Введение в педагогику».
91
лица могли бы смягчить или ослабить это давление, но вся машина жизни так сложилась, что она все равно давит. Любопытно тут же отметить очень важное переживание современного человека, без которого нельзя ни понять современной души, ни найти выхода из тупика противоречий современной жизни. Каждый из нас включен в современную жизнь — и как бы отчетливо мы не понимали те ужасы, которые ей присущи, мы не можем не сознавать своего индивидуального бессилия изменить порядок, сложившийся в современных условиях. Неправда нависла над всем строем, проникла в самую структуру экономической жизни, — и если кто-либо откажется от психологии интереса, захочет стать выше экономического индивидуализма, это оказывается совершенно не под силу отдельному человеку. Нельзя отменить индивидуальными усилиями порядок, создававшийся веками, и отсюда рождается чувство глубочайшего уныния и апатии; и чем мы тоньше и человечнее, чем лучше понимаем мы, как давит современный экономический строй неудачника, труженика, тех, кто внизу, — тем мучительнее нам жить. Чувство это само по себе бесплодно, и вся его историческая функция только в том и заключается, чтобы ставить общую проблему о неправде современной жизни, чтобы пробуждать сознание того, что без глубочайшей, коренной реформы, без преображения социального процесса как такового, без освещения его отдельный человек ничего здесь сделать не может.
Но прежде чем мы перейдем к той окончательной характеристике современного экономического строя, исходя из которой мы могли бы наметить выходы из создавшегося тупика, мы вернемся к самому анализу современной хозяйственной жизни. Современное хозяйство — есть хозяйство народов, но в своих основах оно глубоко индивидуалистично. Оно представляет сложный международный организм, но растет оно из личной инициативы, из психологии «интереса», и без этой индивидуальной экономико-психологической подкладки нам не понять современного хозяйства. Начинаясь, однако, в индивидуальном, точнее говоря, имея в индивидууме основные
92
экономические узлы, из которых исходит всякое движение, экономический процесс, по мере формирования общества, становится все более и более социальным, пока наконец не возникает «народное хозяйство» в истинном смысле слова, т. е. пока народ не становится подлинным хозяйствующим субъектом. Возникновение международных экономических процессов постепенно разрушает национальные рамки, в которых совершается экономический процесс, но этот процесс сближения национальностей на экономической почве, процесс втягивания национальных хозяйств в общечеловеческую международную форму не устраняет того, что хозяйствующим субъектом является все же народ, а не человечество как единый организм. Экономическое сближение и объединение, подчиняющее экономическое развитие отдельных народов закономерности нового международного хозяйства, разрушает лишь перегородки между хозяйствующими организмами, но не разрушает известной национальной замкнутости в хозяйстве, — во всяком случае, при всей яркости интернациональных тенденций в экономической жизни Европы, в общем и основном ее хозяйственная жизнь не утеряла своеобразия и печати национальностей, о которых здесь речь. А если присмотреться к истории хозяйственного развития Европы, то зависимость экономического развития от национальности, от исторических условий ее жизни будет еще яснее и ярче.
В современной экономической жизни Европы мы имеем этот любопытный и чреватый тяжелыми последствиями для всей жизни дуализм: истинным хозяйствующим субъектом является народ в целом, а с другой стороны, вся хозяйственная жизнь идет под знаком экономического индивидуализма. Конечно, индивидуализм всегда остается последней динамической инстанцией; в прямом смысле действует всегда индивидуум, хотя бы те или иные его действия были социально мотивированы, обусловлены или даже предопределены. Игра всех тех факторов, которые определяют ход индивидуальной психики, никогда не может быть сведена к нулю, не может быть элиминирована. Это мы не должны никогда забывать и в этом, как будет ясно дальше, лежит в конце концов путь
93
к преображению хозяйственного хаоса, какой мы видим в современной действительности, в хозяйственном космосе. Через преображение личности только и могут проникать лучи правды в недра социальной жизни, чтобы преобразить самые основы социального развития. Однако, если личность является последней динамической инстанцией, какую знает история, то это не исключает того, что над личностью вырастают надиндивидуальные процессы, подлинным субъектом которых становится коллективное единство. Образование национальности, впервые дающее место действительно новой, именно коллективной индивидуальности, формирует этот новый субъект социального процесса. Экономический процесс, в очень раннюю эпоху социальной жизни не выходивший за пределы личности или отдельной семьи, постепенно объединяет малые группы в большие для организации, для охраны и защиты, планомерного развития хозяйства. Именно на почве общих экономических интересов и формируются более крупные образования из мелких, и конечно, если мы не можем приписать экономическому фактору решающего значения в деле образования национальности, так как здесь играют не менее, а может и более важную роль иные факторы, создающие духовное единство, то все же без экономического объединения, без организации экономических отношений тоже немыслимо образование нации. Протекая в рамках формирующейся или сформировавшейся национальности, экономический процесс, в конце концов, идет в сторону удовлетворения запросов нации в целом, хотя экономическая активность всегда осуществляется отдельным индивидуумом. Прогресс экономический возможен лишь на почве разделения труда, на основе дифференциации и для отдельной личности остается огромное поле для проявления личной инициативы, личной энергии. Однако развитие экономического индивидуализма, как это мы находим в современной Европе, на основе его римского индивидуалистического гражданского права, очень плохо уживается с фактом народного хозяйства, накопляя весьма тяжелые и глубокие противоречия в самых основах современной хозяйственной жизни. Если Маркс, констатируя
94
эти противоречия, возвел их в «естественный» закон диалектического развития всякой экономической жизни, то это обобщение было неправильным. Все особенности современного экономического строя, его противоречия и трудности совершенно конкретны, связаны с конкретными историческими условиями, в каких развивался экономический процесс в Европе, и вовсе не имеет в себе ничего фатального, «естественного» в том смысле, как говорится о естественных законах природы. Экономическая жизнь Европы, как это нам станет яснее в другой связи, связана была с определенными религиозными аберрациями, конфликты, зреющие в современной экономической жизни Европы, имеют в своем существе религиозную основу, являются выражением религиозной драмы, длящейся на протяжении всей европейской истории. Но не будем пока забегать вперед. Ничто так не характеризует того экономического дуализма, наличность которого образует основу неустойчивости современного строя Европы, как развитие капитализма, на общей характеристике которого мы несколько остановимся.
Поскольку история экономического развития Европы может быть прослежена при современном состоянии истории (см. особенно труды Зомбарта, упомянутые выше) не может быть никакого сомнения в том, что концентрация производства, возможная лишь при накоплении «капитала», слагалась исторически как раз на почве экономического индивидуализма, т. е. на основе индивидуальной предприимчивости, экономической инициативы, личной энергии и подобных индивидуальных факторов. Можно бесконечно утончать и углублять ту историю возникновения «буржуазного духа», которую написал Зомбарт в своей книге «Der Bourgeois», но нельзя не согласиться с ним в том, что движущей силой экономического прогресса везде была индивидуальная предприимчивость, организационная одаренность и иные индивидуальные особенности. В этом смысле нет никакого сомнения, что на современном капитализме лежит печать именно этой стремящейся к обогащению, к расширению и концентрации производства личности, и если; кроме авантюризма, спекуляции и других отрицательных, хотя
95
и несомненно «творческих» сип, здесь действовали и общие факторы, как война, религиозные нравы и т. д., — то все же в современной экономической жизни Европы действительно действует своеобразный homo economicus, суетливый, ловкий, предприимчивый, аморальный, — и дыхание его собственности веет над всем этим «еврейским», по выражению К. Маркса, периодом экономической истории. Таким остается экономическое развитие Европы и доныне, и доныне она опирается на того же homo economicus, и если в недрах экономической жизни Европы не угасли следы других изначальных форм хозяйства (например, общинного хозяйства), если возникают в ней явления другого порядка (отчасти, хотя и не вполне, кооперативное движение, участие рабочих в прибылях и т. п.), то все же в основном психология экономического индивидуума остается той же. Необходимо тут же еще раз подчеркнуть, что никто из нас индивидуальными усилиями не может сбросить страшной власти господствующей психологии — и если лучи, преображающие социальную жизнь, могут проникать в се недра лишь через индивидуума, то это еще не означает свободы индивидуума от , власти сложившейся социальной атмосферы. Нигде не * сказывается с такой силой власть социальной традиции, как именно в экономической области. i
Но если движущие начала современного капитализма 1 восходят к экономическому индивидуализму, то само по себе явление капитализма в своей закономерности, в своих тенденциях выходит далеко за пределы его. Суть современного капитализма, хотя он и вырос на основе экономического индивидуализма, заключается именно в ( организации народного хозяйства, хозяйства, в котором хозяйствующим субъектом является не индивидуум, а новое коллективное единство-народ. Процесс образования капиталистического хозяйства, т. с. образования крупного производства, начавшийся уже в XIVвеке (эпоха «раннего капитализма», по выражению Зомбарта) становится постепенно все шире и шире, захватывая все более широкие сферы хозяйства. Зомбарт, как известно, находит три крупных фактора, способствовавших образованию капиталистического хозяйства: возрастающую роскошь,
96
для удовлетворения которой впервые было организовано крупное производство целого ряда предметов, войну, выдвигавшую потребность в организации и расширении определенных видов производства, и, наконец, еврейство, переселение которого в XVI-XVIIвеках на север Европы переместило хозяйственную жизнь Европы на север. Не будем оспаривать мнения выдающегося знатока истории хозяйственного развития Европы, но обратим внимание на то, что капитализм, как организация крупных производств, стал возможен и исторически нужен лишь в условиях формировавшихся национальных государств. С одной стороны, организация крупных производств, являясь следствием скопления значительных капиталов, вообще возможна лишь в условиях сложившейся государственности, в атмосфере права, охраняющего частную собственность. История городов в средние века, бывших центрами экономической жизни и ставших оплотом в организации правопорядка, любопытна в том отношении, что именно городам принадлежит крупнейшая роль и в образовании национальных государств. Образование королевской власти означало сосредоточение власти в одних руках, означало возникновение объединяющего центра, собирающего вокруг себя страну. Единый правопорядок, развитие путей сообщения — основные условия для экономического развития — выросли в Европе на почве борьбы с политическим партикуляризмом. Экономический фактор в этом процессе концентрации власти и образования государственного единства был очень заметен как раз именно горожане и стали естественными союзниками королей в их политической борьбе с вассалами. Для экономической жизни, постепенно переходившей к денежному обороту, дальнейшее развитие вне государственного единства страны было невозможно и ненужно. Экономические запросы производителей, в частности тех, кто мог идти навстречу концентрации производства, только потому и получили возможность исторического влияния на политический процесс, что в процессе политического развития стало слагаться национальное единство, стало крепнуть и усиливаться внутреннее единство. Именно для этою формировав-
97
шегося единства, для этого государственного организма и нужна была организация крупных производств. Если Зомбарт прав, указывая на войну, которая выдвигала необходимость некоторых производств в широком масштабе, то кроме чисто внешних условий, которые он здесь отмечает в войне, сами войны являлись крупнейшим фактором в известном объединении и организации национальной группы. На сцену истории выступает постепенно новый субъект — народ, как единое, изнутри спаянное, само в себе целостное и устойчивое образование. Для этого нового явления, для народа, как организованного и живого единства, войны служили вехами в осознании единства и далее в выражении его — достаточно вспомнить, насколько тесно связаны периоды духовного расцвета в любой нации с политическим ростом ее. Конечно, война, как таковая, выдвигала такие экономические проблемы, которые могли быть решены лишь в капиталистическом хозяйстве, но именно сближение у Зомбарта таких факторов, как война, роскошь и еврейство — это своеобразная трилогия, написанная талантливым историком, — показывает, что здесь принимаются во внимание лишь внешние стимулы, которые выдвигали те или иные движения в организации народного хозяйства. Однако роль войны, как одного из важнейших моментов в образовании национальных государств, имеет большую роль в экономическом развитии Европы, чем это указывает Зомбарт. Дело ведь не только в возникновении новых или в расширении старых производств, связанном с появлением многочисленных армий, но дело в том, что война, в которой особенно четко и ясно выступает единство народа, имела и будет далее иметь огромное влияние на общую организацию народного хозяйства. Достаточно указать на возрастающую роль государства как хозяйствующего субъекта; эта роль, необыкновенно возрастающая во время войны, ведущая к национализации целого ряда форм хозяйственной жизни (например, национализация путей сообщения), все более выявляет тот основной факт, что так называемое капиталистическое хозяйство, хотя фактически и покоится на экономическом индивидуализме, хотя имеет под собой стремящегося к наживе и обогащению
98
отдельного «экономического человека», но что оно в сущности является связанным с иным социальным процессом, что оно является функцией той социальной консолидации, которая связана с образованием нации. С чрезвычайной яркостью это выступило в последней войне, во время которой выступило очень ярко и характерно то, что называют в полемических целях «государственным социализмом»: национализация целого ряда производств. Государство явно становится не только заинтересованной в организации капиталистического хозяйства стороной, но оно становится постепенно хозяйствующим субъектом — и чем дальше идет исторический процесс, тем яснее и ярче проступает это. И если какой-то романист в своей утопии о переходе к социалистическому строю говорит, что могучее развитие капитализма, выразившееся не только в организации крупных производств, но и в их концентрации и объединении (синдикаты, тресты и т. д.), подготовило именно ту организацию народного хозяйства, которая необходима для социалистического строя, и добавляет, что вся перемена при переходе к социализму заключается в том, что в высокоорганизованном капиталистическом хозяйстве на место отдельных лиц становятся общины и государство, — то он прав в том, что капиталистическое хозяйство существует действительно ad usum народа, а не предпринимателей. Исторически капиталистическое хозяйство росло и растет как организуемое капиталистами, но тут-то и лежит причина тех глубоких противоречий в современном экономическом строе, которые, чем дальше, тем глубже сотрясают жизнь Европы. И пусть будет побежден революционный социализм или коммунизм благодаря тем формам, в какие он вылился преимущественно в России, пусть снова и снова победит государственный инстинкт народов, но поскольку экономическое развитие ведет, к образованию классов — что совершенно неизбежно при экономическом индивидуализме, — борьба классов может быть регулируема или умеряема государством, но она неизбежна. Огонь, которым горит какой-либо горючий материал, может быть локализован, постоянно можно тушить его, но пока этот огонь горит, всегда может
99
случиться такая конфигурация обстоятельств, при которой он вспыхнет таким же ужасным пламенем, как вспыхнул он в России теперь, и его разрушительное действие будет безмерно.
Основное противоречие, лежащее в самых основах современных государств, заключается в экономическом индивидуализме, с одной стороны, и в образовании надиндивидуальных, коллективных единств (нации). Из этого противоречия развиваются столь типичные явления, как «классы» с их классовыми интересами, и как бы нас не звали к солидарности классов, но все те случаи, когда такая солидарность выступает как прочный и устойчивый факт, там просто исчезают классы и выступает нация, как живое и целостное единство. Соглашение между классами, мирное разрешение классовых конфликтов, конечно, хорошая вещь, и ко всему этому мы обязаны стремиться как внешней регуляции экономических противоречий, но ведь это паллиативы, годные только для того, чтобы за годами или десятками лет экономического покоя выдвинуть с необычайной остротой скрытые противоречия... Попробуем несколько разобраться во всем этом.
Осознавший себя экономический индивидуализм выдвинул когда-то учение о «гармонии» интересов. Это учение, как известно, не встретило поддержки у экономистов, стоявших на почве эмпирических данных. Экономическая действительность менее всего может быть понята в свете этой теории гармонии интересов. Конечно, можно говорить о ценности и желательности этой гармонии с этической или государственной точки зрения, но на почве экономического индивидуализма, с присущей ему социальной непроницаемостью, о которой мы говорили выше, нет и не может быть места «гармонии» интересов: есть только борьба интересов. Правда, экономическая политика пыталась выдвинуть известный принцип laissez faire, laissez passer, уверяя, что в полнейшей свободе хозяйственной жизни может быть найдена основа экономического равновесия. Но во что фактически вылилось это «экономическое равновесие», известно всем, знающим историю хозяйственной жизни Европы в XIX в.: вместо равновесия получился хаос, и
100
государство, стоящее на страже интересов целого, должно было вмешаться в процесс экономической жизни. Доктрина экономического либерализма была окончательно дискредитирована эксплуатацией детского и женского труда, и все государства Европы, с большей или меньшей решительностью, ступили на путь государственной регуляции экономических отношений. Но все достижения, к каким способно государство в этом направлении, очень невелики, и государство стоит перед необходимостью все глубже и глубже входить в экономическую жизнь в качестве «третьей» стороны. Ясно, что на почве государственного социализма может быть достигнуто некоторое экономическое равновесие, некоторый экономический мир, но все это не меняет самой основы противоречий. Современное хозяйство есть организация хозяйственных процессов в интересах народа, нации, как коллективного, живого единства, и в этом исторический смысл и функция концентрации и организации широкого хозяйства, в этом его логика; между тем и исторически, и в современной основе своей наше народное хозяйство покоится на экономическом индивидуализме, на экономической атомизации, на противопоставлении интересов одного человека интересам другого. Отсюда неизбежна борьба, как основной двигатель современной экономической жизни, — отсюда возникновение классов. Жестокая борьба идет внутри классов и между ними — и во имя целого выступает только государство, как будто оно действительно является «третьей» стороной! Но вмешательство государства всегда будет попыткой внешней регуляции экономической жизни, между тем только внутреннее преображение общественной жизни, преображение неорганических отношений, царящих между народами и в недрах народной жизни, в органические, т. е. приближение народной и международной жизни к типу семейной социальности, к типу того внутреннего единства, которое имеется в здоровой семье, где личное творчество, инициатива совершенно свободны, но всегда согреты думой о семье, как целом, — может вывести нас из того тупика, в который мы ныне зашли...
101
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
