13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Франк Семён Людвигович
Франк С.Л. О невозможности философии (Письмо к другу)
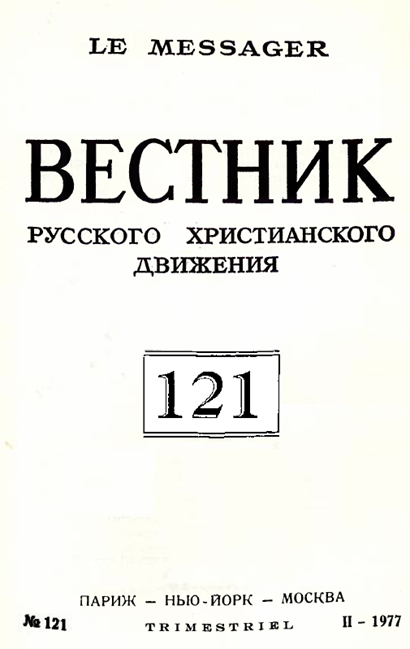
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
С. Л. ФРАНК
О НЕВОЗМОЖНОСТИ ФИЛОСОФИИ
(ПИСЬМО К ДРУГУ)
13-VΙI-44
...Я прочел с большим интересом твою философию. Она не хуже, а лучше многих других. Многое в ней я ощущаю, как очень меткое и верное и мне близкое. В частности, понимание сотворения мира по образцу художественного творчества я считаю безусловно истинным (истина довольно старая — как все настоящие истины — она есть и у Аристотеля, и у Шеллинга). Ты напрасно думаешь, что я займусь исправлением твоих «ересей» — на старости я сам все больше становлюсь еретиком и, при всем почтении к религиозной традиции, думаю, что философия, как дело свободной мысли, не должна боязливо оглядываться на церковное начальство и предание — что, впрочем, можно подкрепить и писанием, ср. ап. Павел: «надлежит и ересям быть, чтобы между вами обнаружились искуснейшие». Более того — мое главное возражение тебе состоит именно в том, что философия, которая была бы одновременно догматическим богословием (философия в рамках катехизиса), есть дело абсолютно невозможное). Она, в конце концов, не удалась даже Фоме Аквинскому, и тем более не может удастся нам с тобой, нынешним людям. Но я не берусь заняться систематическим разбором твоего построения — свидимся, поговорим. Вместо этого и в ответ на твое письмо мне хочется поболтать с тобой о философии вообще, или еще общее — как говорится, de omni re scibili et quibusdam aliis.
Уже давно я для себя самого сформулировал положение — «все ораторы — лгуны», именно в качестве ораторов; ибо для красоты стиля и композиции речи они должны фальсифицировать реальность, стилизовать ее; оратор — это человек, который «для красного словца не пожалеет ни матери, ни отца». За последнее время я то же самое говорю о философах (поскольку они строят некую законченную систему мира и бытия, а тем более — Бога и мира). Все философы, мнящие в системе мысли охватить все и все привести в порядок — «понять», «объяснить» и значит привести в порядок — или лгуны, или дураки (чаще — то и другое вместе). (Критика эта относится, конечно, и ко мне са-
162
мому. Смиренно каюсь в грехе глупости и недобросовестности мысли в моей жизни). На старости, следуя чудесной формуле Толстого «старому врать — что богатому красть», я хочу быть абсолютно правдивым и смиренным мыслью. Поэтому я ищу не «философии», а мудрости, т, е. просто правды — правды ума и сердца. (Впрочем, чтобы тебя не обижать, а также чтобы и в этом быть по возможности точным, скажу, что вернее всего,
163
философия есть игра ума — детская забава складывания домика из кубиков, с мечтой, что из этого выйдет «настоящий дом». Так как ты еще молод, то тебе простительно заниматься этой забавой). Но к делу! «Философия» есть попытка рассуждениями замазать щели, трещины и провалы бытия; замазка плохая, держится недолго, трещины опять скоро выступают наружу. А теперь, не боясь противоречий (Бергсон, который был очень мудр и правдив, говорил, что не надо бояться frôler les contradictions), я попытаюсь вкратце философски доказать невозможность философии (как вообще мудрость состоит в docta ignorantia, умудренное неведение, т. е. в преодолении мыслью сферы отвлеченной мысли.)
Что значит «объяснить» что-нибудь? Мы спрашиваем: почему А есть В? Философ отвечает на это «рассуждением» (особенные любители «рассуждать» — талмудисты, люди «не-арийского» склада ума); он говорит: «Дело очень просто: ведь А есть С, С есть D, a D есть В — ясно, что А должно быть В: в математике и чистой логике этим дело решено. Но в реальном знании мудрец отвечает философу: почему А есть С, и С есть D и т. д.? Это не менее загадочно, чем то, что А есть В, и потому все твое объяснение есть простое жульничество мысли — сознательное или бессознательное. В конце концов, всякая т. н. «логическая необходимость» сводится к констатированию некоторых фактов — необъяснимых фактов. (Факты такого рода, которыми занимается философия, я называю вечными фактами; Гёте называл это Urphänomene. )
Но это еще полбеды. В конце концов, разложить истину на ряд более простых истин есть дело полезное и разумное. Настоящая беда в том, что в бытии, а потому и в знании, все взаимно переплетено, так что распутывая один конец, запутываешь другой. Продолжаю мою схему: А есть В, потому что он есть С, С есть D, a D есть В. Но присмотревшись ближе, видишь, что, напр., D есть В только потому, что D есть А, а А есть В! И получается порочный круг — все рассуждения есть глупость или жульничество, и А есть В просто «потому», что он есть В. К тому же часто эти промежуточные звенья сами очень спорны и придумываются специально для «объяснения», т. е. замазывания трещин.
Пример из твоего — или вообще апологетического рассуждения. Как совместить зло со всеблагостью и всемогуществом Бога? Ответ: Бог дал людям свободу, т. е. возможность грешить.
164
Я спрашиваю: зачем же Бог дал людям такую свободу? Отчего он не мог дать свободу, присущую напр. святым, т. е. свободу как свободную невозможность грешить? Проще говоря, отчего Бог не сотворил всех и все святыми? Раз святые есть, и они тоже творение Божие, значит в безгрешной свободе нет ничего невозможного. Нам обетовано, что мир некогда будет таким преображенным, царством Божиим. Отчего он не мог быть таким с самого начала? — Я, конечно, знаю, что хохма-талмудист на это найдет новый ответ — это, мол, невозможно, потому что какое-нибудь М есть N, N есть Р, откуда следует... и т. д. Но я его обеспокою возражением: если это так, то Бог должен был так устроить мир, чтобы М не было N, N не было Р и т, д, — Или, как ты рассуждаешь: творение есть бытие вне Бога, бытие, связанное с «нет», а бытие не-божье «само собой» переходит в бытие против Бога. Я спрашиваю: почему? Нам обетовано, что, в конце концов, «Бог будет все во всем». Творение и тогда будет не-Бог, но оно уже не сможет быть против Бога, потому что будет насквозь пронизано Богом. Почему же тогда это не так с самого начала? И выходит зло есть, п. ч. творение есть, не есть против, а против есть зло. Но «не есть против» есть только иное слово для факта, что неведомо почему в мире есть злое начало...
— Кстати сказать, то, что я говорю, есть даже не ересь. В одном толстом немецком католическом трактате по догматическому богословию (конечно, с «imprimatur») я встретил четкое указание, что на этот вопрос (почему свобода не могла с самого начала быть «святой свободой») нельзя уже найти никакого ответа.
Другой пример. Ты возражаешь против моего сомнения во «всемогуществе» Бога и строишь очень умную и верную теорию Бога как художника-творца. Но все, что ты так верно говоришь о последнем, и сводится к тому, что художник не всемогущ. Художественное творчество связано с мукой творчества, с усилием
— никогда не абсолютно-успешным — преодолеть и собственную слабость, и упорство материала и т. д. Т. е. другими словами ты говоришь то же самое, что я. Я действительно думаю, что Бог не «сотворил» сразу мир совершенным, а мучительно творил его, стараясь поправлять его, исправлять неудачное в нем и что мы все участвуем и должны участвовать в этой — никогда до конца не осуществимой — задаче. Выражаясь антропоморфически-приблизительно, я думаю, что Бог иногда впадает в отчаяние, хочет разбить на куски эту дрянь, которая получилась из его чудного замысла (пророки говорили нечто в этом роде), а потом
105
жалеет и опять начинает стараться сделать лучше. — Но, говорят, Бог не имеет «материала» вне себя, и той слабости в себе, которая присуща человеку-художнику. Я отвечаю: я не знаю; может быть, это так (поскольку мыслить Бога как абсолютный первоисточник всего, это необходимо). Но я знаю только, что почему-то (я не — «хохма», и потому не спрашиваю почему?)
Божье творчество, как всякое иное, носит драматический характер. А эго и значит, что Бог не всемогущ в [этом] смысле, и что мир, по меньшей мере, не вполне удался ему (ссылка на грехопадение, конечно, ничего не объясняет — не нужно было делать такого мира, который мог пасть. Скажут: виноват не Бог, а человек. Верно, человеку нужно так чувствовать, иначе он станет свиньей; ребенок, который, оставшись один, устроил пожар, должен чувствовать себя виноватым, но зачем родители не убрали вовремя спичек, или не научили его обращаться с ними, или оставили его одного?)
Кстати — из немного другой оперы. Я не помню, чтобы я когда-нибудь говорил, что дело Христово не удалось. Думаю, что ты спутал, этого я не мог сказать; я считаю такую мысль величайшей пошлостью. Дело Христово абсолютно удалось, ибо его удача совсем не измеряется «удачей в мире» — Христос внес в мир вечный свет любви, который светит во тьме, и тьма не объяла его — Христос с самого начала знал, что этот свет не будет «иметь удачи» в мире, будет гоним, и хотел, чтобы он был 1
гоним, потому что этот свет и светит только через страдание. Он знал наперед, что «когда сын человеческий вернется на землю, он найдет не много веры». «Всемогущество» и «удача» Христова дела есть не что иное, как неудержимая тяга к нему человеческого сердца, при всей земной слабости этого дела. Римский стоик Катон говорил: победоносное дело угодно Богам, но побежденное — Катону. Почти так же Христос мог бы сказать, что ему угодно гонимое и слабое. И мы должны быть с Ним именно как с вечно гонимым и в гонении торжествовать величайшую и абсолютную победу над всем миром.
14 авг.
Я пишу как попало, как текут мысли, но ты сам почувствуешь связь. После тщательного обдумывания я пришел к ясному сознанию, что в христианской религиозной мысли и богословии есть два совершенно различных понятия Бога, которые — если не за-
166
мазывать и не затушёвывать противоречия, а мыслить абсолютно честно — совершенно непримиримы. Назову их «философским» и «религиозным» понятием Бога. Первое идеально последовательно развито Фомой Аквинским, — второе есть то, что Паскаль называл «Бог Иисуса Христа». У Фомы — Бог есть Абсолютное — абсолютная первопричина, первоисточник и всеобъемлющая и всеопределяющая сила всего вообще. В каком-то общем смысле это почти то же, что Бог Спинозы (если Фома избегает пантеизма, то именно потому, что он более последовательно и глубоко, чем Спиноза, проводит идею Бога-Абсолюта; именно поэтому абсолютное у него не поглощает относительного, как у Спинозы, а как бы дает ему расцвести в своем лоне — я мог бы это развить точнее, но это было бы слишком долго). Все остальные, обычные, религизоные атрибуты Бога — любовь, милосердие, Бог как личность etc. —есть уже только резльтат нечестного «приспособления» к традиции, жульничества мысли (конечно, бессознательного,, но это не меняет дела). Такой Бог необходим чистой философской мысли, но молиться ему, уповать на него, утешаться им — при строгой честности мысли — нельзя. Совсем другое существо — «Бог Иисуса Христа», Бог человеческого сердца, Бог как любовь и предмет любви, Бог как святыня, Радость, Утешение — Бог, который, как ты верно говоришь, Сам страдает с каждым плачущим ребенком. Этот Бог, воплощенный во Христе, в Евангелии (особенно Иоанновом) резко противопоставляется «князю» (а это значит — властителю, царю) «мира сего». В мире сем он сам гоним. Его царство (в котором одном он всемогущ!) — «не от мира сего». — Оба «Бога» несомненно существуют — один открывается умом, другой — сердцем. Но свести их обоих — в конце концов, Бога Аристотеля и Бога Иисуса Христа — к одному Богу — повторяю, абсолютно невозможно, по крайней мере рационально. (Если это большинству кажется возможным, то только потому, что психологически есть здесь промежуточное звено, «третий бог» — именно ветхозаветный — Бог как добрый и могущественный Властитель, который построил мир, как жилище для человека, и оказывает милости человеку, опекает его, если человек остается послушным рабом. Этого Бога фактически устранил Христос, заменив его Богом-отцом, Богом любви; и этого Бога никогда не знал учитель Фомы —Аристотель, для которого Бог еще «Перводвигатель» и «Чистая Мысль»). — Я, конечно, достаточно философ, чтобы не претендовать, что нашел точное понятие Бога. Конечно, все наши атрибуты имеют только
167
относительный, символический смысл (так и у Фомы), и на самом деле Бог есть только непостижимое! Поэтому я не пускаюсь в гностические фантазии, но представляю себе, что есть реально два Бога, — скажем «злой», или «равнодушный», и «добрый» и т. п. Я знаю только то, что я тут ничего не знаю. Как-то, где-то, уже за пределами человеческой мысли, все загадки должны разрешиться, и уповаем, что тогда мы поймем то, что остается теперь непонятным, и «узрим» истинного Бога. Но пока, здесь, с моим человеческим умом (и сердцем), я знаю одно: именно Иисус Христос открыл (и явил) нам того Бога, который нам нужен, и этот Бог, т. е. это понятие Бога, ближе к истинному Богу, чем всякое иное. Словом, к этому Богу обращена моя душа и каждый день жизни, и особенно — на пороге смерти. Если я и не научился ничему другому в жизни, то я научился смирению мысли, сознанию, что сердце мудрее ума. Точнее говоря, ум только тогда умен, мудр, когда он сознает себя ограниченным. Ницше совершенно верно говорил о философах: «Ich lache jeden Meister aus, der nicht sich selber ausgelacht». И вот почему я чувствую, например, — прости, что перескакиваю на новую тему — что Паскаль бесконечно, совершенно несравнимо умнее, мудрее, честнее всех, даже величайших философов. Философ есть вообще своеобразный, очень странный тип, и было бы наглостью думать, что то, что ему нужно и чего он ищет, есть абсолютная истина и нужное всякому человеку... Я совершенно ясно, прямо воочию вижу, что среди великой (действительно в известном смысле великой) французской литературы 17 века Паскаль возвышается, как великан над пигмеями; все остальные — «великие писатели», потому что они писатели (вдумаемся в это слово — писатель — специалист по писанию, мастер искусства писания), а Паскаль величайший писатель, потому что совсем не хочет быть писателем, а находит ясное, точное, правдивое слово, чтобы выразить, о чем скорбит его душа (и душа всякого человека), и рассказать о некоторых, хотя и непонятных, но бесспорных «вечных фактах», которые он увидал. И таково же его отношение к философам: философы — дети, забавляющиеся построением из кубиков «картины мироздания», а Паскаль среди них — взрослый, ему некогда играть, ибо он должен отдать себе серьёзный, ответственный отчет о нескольких фундаментальных фактах жизни, которые нужно отчетливо знать, чтобы разумно жить.
Я пишу тебе что-то вроде философского — или антифилософского — дневника, и притом очень вяло — не хватает энергии
168
для отчетливого выражения мысли. Так можно продолжать без конца — хочу сегодня кончить, и потому резюмирую.
Ты можешь подумать, что, отрицая «философию», я отрицаю себя самого и всю свою жизнь. Но это не так: 1) моя философия — начиная с «Предмета знания» — всегда заключалась в философском преодолении отвлеченной мысли, в docta ignorantia. 2) к этому я присоединяю теперь отрицание всеобъемлющих философских синтезов или систем — что есть только иная сторона предыдущей мысли. Я следую в этом очень мудрому и честному Бергсону. Вслед за ним, я думаю, что мы можем только пучками лучей философской мысли, как прожектором ночью, озарять отдельные клочки бытия, охватить и озарить целое в непротиворечивой системе идей, которая не была бы, как он говорил, trop large, а была бы сшита действительно по мерке бытия, нам не дано — вероятно, в конце концов, потому, что в самом бытии синтез не рационален, а сверхрационален. Бытие не однопланно, а многопланно, и между разными планами есть — для нашей мысли — непреодолимые провалы. Объединить в одно логическое целое физику с этикой, или онтологию, как она рисуется бесстрастной познающей мысли, с онтологией, отвечающей нуждам сердца (logique du cœur Паскаля) совершенно невозможно.
Из этого следует —и это есть мой главный ответ на твое письмо —что более всего невозможна отвлеченная богословско-философская система. Ибо к предыдущей трудности здесь присоединяется еще одна — противоречивость религиозных суждений и мыслей в традиционном, освещенном церковью, вероучении. Полагается верить, что это не так, но честная мысль не может не видеть этого. Есть непреодолимые разногласия не только между Ветхим и Новым Заветом, не только между отдельными частями Ветхого Завета, который есть, как известно, целая библиотека книг, написанных многими людьми на протяжении нескольких веков — от эпохи первобытной религиозной дикости до гениальных религиозно-моральных озарений пророков — но и между отдельными частями Нового Завета, как и между разными эпохами й направлениями церковного учения. И тем более — вопреки гениальному Фоме Аквинскому между Христом и Аристотелем! Твоя философия—повторяю — очень умна и талантлива, —«не хуже, а лучше многих других философий. А все-таки это безнадежная попытка — философски объяснить драму мировой истории, крестную смерть Христа, Богородицу, Троицу и сочетать все это с логикой А не-А.
169
Что остается делать нам, верующим людям мысли? Я сознательно проповедую то, что иронически было названо «двойной бухгалтерией» —проповедую не из цинизма, а, смею думать, из высшей мудрости. Надо сочетать совершенную независимость религиозной и философской мысли с детски-смиренным молитвенным соучастием в традиционно-церковной религиозной жизни. С одной стороны, мы не только вправе — мы обязаны с полной свободой, не оглядываясь на текст писания, пап и соборы, откликаться мыслью и сердцем на зов Бога, обращенный непосредственно к каждому из нас. Откровение не было когда-то, оно беспрерывно продолжается, и мы обязаны слушаться Бога больше, чем человеческого предания. Отношение, например, к мировому злу и страданию не только Достоевского, но даже искренне безбожных социалистов — более христианское, чем отношение Фомы Аквинского (который говорит где-то, что блаженные на небесах испытывают особенное блаженство, когда они глядят на вечные муки грешников! Как эго согласовать со словом ап. Павла, что болезнь одного члена тела есть болезнь всего организма? Как это согласовать с любовью?) А с другой стороны, мы не должны забывать, что все, даже лучшие и мудрейшие наши мысли, все же остаются субъективными и односторонними и что в традиционной церковной вере — плод коллективного восприятия откровения множеством верующих душ, в том числе гениальных — несмотря на все противоречия больше мудрости и истины, чем в наших отрывочных слабых мыслях. Так надо сочетать свободное дерзновение (только отказывающееся «объять необъятное») с детским смирением. Это есть прямая противоположность обычного в богословски-философских системах сочетания самомнения с робкой оглядкой на «катехизис». На этом кончаю.
__________
Письмо написано карандашом, “лежа в саду”. В последние два года войны Франки жили в альпийской деревушке, скрываясь от немцев. После нескольких сообщений частного характера, письмо заканчивалось следующей просьбой: “Пожалуйста, сохрани и при случае верни это письмо. Так как у меня нет сил на настоящее писание, то я хочу сохранить хоть этот, весьма вялый и хаотический, отрывок из философского дневника”. Письмо было возвращено адресатом, но было найдено лишь в этом году среди небольшого семейного архива, оставшегося на хранении у А. П. Струве. Прим, Ред.
170
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
