13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Трубецкой Евгений Николаевич
Трубецкой Е.Н. Метафизические предположения познания
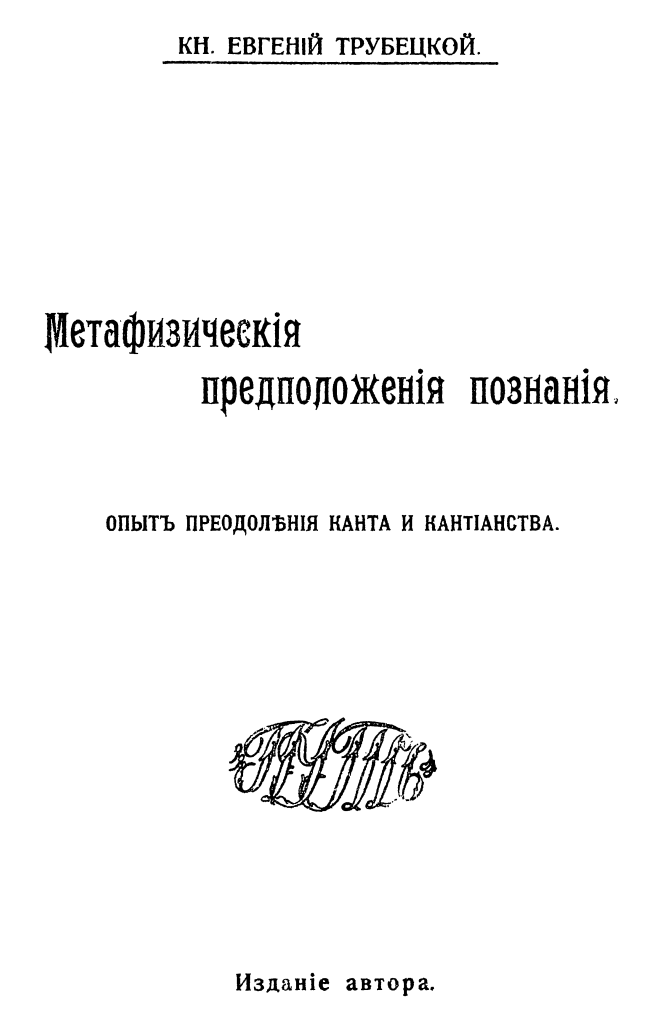
Разбивка страниц настоящей электронной книги соответствует оригиналу.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие I-II
ЧАСТЬ I. КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА И НЕОБХОДИМЫЕ МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПОЗНАНИЯ 1-207
Глава I. Трансцендентальный метод у Канта 3-42
I. Вперед от Канта и назад к Канту 3-5
II. Гносеологическое и психологическое в «Критике чистого разума» 5-12
III. Коперниково открытие Канта 12-20
IV. Постулат абсолютной мысли 20-23
V. Истина как всеединство конкретной интуиции в Безусловном. Постулат абсолютного сознания 23-30
VI.Абсолютное сознание и истина временного 30-34
VII. Абсолютное сознание и «наше» человеческое восприятие 34-42
Глава II. Время и пространство 42-72
I. Антропологическое обоснование пространства и времени у Канта 42-46
II. Пространство и время в их отношении к безусловному сознанию 46-49
III. Умосозерцательный характер воззрений пространства и времени 49-54
IV. Метафизическое значение представлений пространства и времени 54-58
V. Абсолютное как трансцендентное и имманентное миру в пространстве и времени 58-62
VI. Эзотерическая и экзотерическая сфера в абсолютном сознании 62-66
Глава III. Чистые понятия 72-118
I. Ложный антропологизм в учении Канта о категориях 72-77
II. Трансцендентальная апперцепция у Канта 77-82
III. Положительное и отрицательное в Кантовом учении о транцендентальной апперцепции 82-88
IV. Трансцендентальная апперцепция и абсолютный синтез в безусловном сознании 88-94
V. Категории рассудка 94-102
VI. Категории и опыт. Превращение восприятия в опыт 102-108
VII. Кантов схематизм чистых понятий и абсолютный синтез, как связующее начало в познании 108-115
VIII. Подчиненное значение категорий и их оправдание 115-118
Глава IV. Сущее и явление 118-142
I. Противоречия в понятии вещи в себе 118-125
II. Случайны или необходимы противоречия Канта? 125-129
IV. Явление и сущее 136-142
I. Кант о неизбежной иллюзии чистого разума 142-145
II. Кант об антиномиях чистого разума. Первая и вторая антиномии 145-152
III. Третья и четвертая антиномии Канта 152-156
IV. Разрешение космологического спора у Канта 156-166
V. Путь к разрешению антиномии причинности 166-174
VI. Общее значение антиномий 174-181
Глава VI. Конец трансцендентальной эстетики и приговор чистому разуму 181-207
I. Критика рациональной психологии у Канта 181-187
II. Кант о доказательствах бытия Божия 187-194
III. Приговор чистому разуму 194-201
IV. Регулятивный и конститутивный принцип знания 201-207
ЧАСТЬ II. ПОПЫТКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЗМА И КРУШЕНИЕ АНТИМЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КАНТИАНСТВЕ 207-332
Глава VII. Борьба с психологизмом в теории познания Когена 209-246
I. Основной принцип «Логики первоначала» 209-216
II. Учение Когена о времени. Пространстве и чувственности 217-225
III. Ложный антропологизм учения о познании Когена 226-239
IV. Истинный смысл гипотезы первоначала 239-247
Глава VIII. Борьба против психологизма в учении Риккерта 247-288
I. Первый путь теории познания 247-255
II. Второй путь теории познания 256-261
III. Предмет познания и теоретико-познавательный субъект 261-266
IV. Учение Риккерта о сверхиндивидуальном сознании и метафизический вопрос теории познания 266-273
V. «Два пути» и метафизические предположения познания 273-283
VI. Положительное и отрицательное в учении о познании Риккерта 283-288
Глава IX. Кризис Кантианства в учении Ласка 289-305
I. Борьба с психологизмом и новое истолкование «коперникова деяния» у Ласка 289-296
II. Противоречия Ласка в учении о форме и материи 296-305
Заключение 306-311
I. Итоги предыдущего 306-311
II. Точка зрения всеединого сознания и антропологизм 311-317
III. Абсолютное и чувственная достоверность 317-325
IV. Отвлеченное знание и его ценность 325-331
V. Познание и откровение 331-332
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Задача настоящего исследования, как видно из самого его заглавия, — не полемическая, а положительная. Полемика против Канта и кантианства в нем — не цель, а средство для обоснования собственных моих воззрений. Гносеология Канта и кантианства является в настоящее время господствующею, и кантианский гносеологизм, утверждающий возможность обосновать теорию познания безо всяких метафизических предположений, утверждается этим господствующим направлением как что-то бесспорное и окончательное. Поэтому попытка „преодоления Канта и кантианства“ безусловно обязательна для всякого учения, которое утверждает, что всякое познание как такое покоится на метафизических предположениях, и пытается вскрыть эти предположения.
Преодоление Канта и кантианства, как я его понимаю, не может исчерпываться опровержением его заблуждений. Всякое заблуждение великого ума живет истиной; та сила, которою оно увлекает людей, заключается или в некотором элементе истины, в некоторой ее части, которая утверждается как целое, или в обманчивом подобии истины, которое принимается за самое истину. Чтобы преодолеть какое-либо учение, нужно отнять у него возможность быть в чем-либо правым: для этого нужно или усвоить себе то зерно истины, которое оно в себе заключает или, если в нем нет и этого зерна, уяснить себе ту правду, которой оно подражает и от которой оно заимствует свое обманчивое правдоподобие.
Преодоление какого-либо заблуждения в философии возможно не иначе как через углубленное проникновение
I
в его истину. — Этим и определяется моя задана по отношению к Канту и кантианству.
Задача эта по отношению к немецкому идеализму вообще была поставлена другим русским философом, покойным кн. С. Н. Трубецким, который по этому поводу определенно сказал, что „истинное развитие, поступательное движение мысли, возможно только под условием преемства, усвоения добытых результатов — иначе труд ее действительно был бы работой Пенелопы“ 1).
Я не во всем согласен с гносеологическими воззрениями покойного мыслителя, но труд мой является попыткою разрешения поставленной им задачи, разрешения частичного, потому что настоящее исследование трактует не о германском идеализме в его целом, а только о Канте и кантианстве. Этим объясняется посвящение, связывающее настоящую книгу с памятью о дорогом отшедшем.
„Критика чистаго разума“ цитируется мною по нумерации страниц второго кантовского издания.
______________
____________
1) Основание идеализма, П. С. соч., т. II, 164.
1
ЧАСТЬ I.
КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА И НЕОБХОДИМЫЕ МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ ПОЗНАНИЯ.
2
ГЛАВА I
Трансцендентальный метод у Канта.
I. Вперед от Канта и назад к Канту.
Центральное течение философской мысли IX и XX столетия зачинается в Канте и периодически к нему возвращается. Эти беспрестанно повторяющиеся возвращения представляют собою одну из наиболее характерных и вместе парадоксальных особенностей новейшей истории философии. С самого появления „Критики чистого разума“ философия непрестанно стремилась „вперед от Канта“, — пыталась строить на положенном им основании. Одна за другой постройки возникали и рушились; их заменяли новыми, но при этом строители снова и снова возвращались к фундаменту, т.-е назад к Канту, — все к той же „Критике чистого разума“.
Таким образом, возглас „назад к Канту“ периодически возобновляющийся, вовсе не был, да и в настоящее время не является возгласом консервативным. — Как раз наоборот, именно он представляет собой симптом непрекращающегося, хотя, к сожалению, в общем, и неудачного строительства. Те, кто думает иначе, — впадают в жестокий самообман. Изречение — Kant verstehen heisst über Kant hinausgehen — вышло из кантианского лагеря. И точно, — словно какая-то роковая необходимость заставляет каждого кантианца „выходить за пределы“ Канта, выходить, может быть, и бессознательно, невольно — к той самой метафизике, которую отрицал учитель. Но в силу той же необходимости каждый данный выход оказывается неудовлетворительным. С одной стороны, необходим фундамент, с другой
3
Стороны — столь же необходимо крушение всего, что только на нем построено.
Изучая историю философии после Канта, все время испытываешь впечатление археологической прогулки среди внушительных развалин. Читая Фихте, Шеллинга, Гегеля, удивляешься гениальности строителей и величию того, что рухнуло. Но именно величие этих развалин периодически наводит панику, — тогда господствующим направлением становится то правоверное кантианство, которое утверждает, что на Канте ничего нельзя дальше строить, что его нужно только правильно истолковать и усвоить... Но „Критика чистого разума“ — не мертвая вещь, а живая мысль, которая растет и развивается: она заключает в себе множество плодотворных побегов, коих — при всем желании правоверных кантианцев — оказывается невозможным из нее удалить. И силой необходимости из нее рождаются вновь давно забытые ряды мыслей, воскресают старые метафизические системы, точнее говоря,- тени прежних систем. Из недр кантианства возникают неофихтеанство, неогегельянство и даже что-то похожее на неошеллингианство. И на всем этом уже заранее лежит печать смерти и разрушения. Тени великого прошлого германской метафизики исчезнут еще быстрее самого прошлого, чтобы уступить свое место другим, тоже исчезающим теням...
И без конца будет продолжаться эта сизифова работа среди царства теней, если мысль не прорвет порочного круга, если она не решит неотвязчивого вопроса, — что же приковывает ее, наконец, к столь явно несовершенному Кантову фундаменту, — какими его свойствами обусловливается его необходимость для философии и какими другими — роковая судьба всего на нем построенного?
В последующем изложении я попытаюсь ответить на этот вопрос. И так как сам Кант определил свой основоположный для новейшей философии труд, — „Критику чистого разума“, как трактат о методе 1), то задача предстоящей работы определяется ближайшим образом как исследование значения и ценности трансцендентального метода у Канта.
________________
1) XXII
4
II. Гносеологическое и психологическое в „Критике чистого
разума“
В самом понятии трансцендентального исследования и, стало быть, „трансцендентального метода“, как понимает их Кант, есть некоторая двойственность, чреватая последствиями не только для самого философа, но и для всех тех, кто строили или строят на положенном им основании.
Трансцендентальное исследование познания отвечает на вопрос о возможности познания; трансцендентальный метод отправляется от факта данного познания и затем выясняет необходимые условия его возможности.
Но вопрос этот может иметь два значения, которые нужно самым тщательным образом различать — одно теоретико-познавательное, а другое — психологическое. Что разумеет Кант под „необходимыми условиями познания — необходимые ли его логические предпосылки, которые служат условиями его достоверности, или же условия психологические, точнее говоря, антропологические — то определенное устройство наших человеческих способностей, в силу которого процесс познания совершается в нас психологически именно так, а не иначе? Необходимость логическая, очевидно, ничего общего с необходимостью психологическою не имеет, а потому мы имеем здесь два вопроса, всецело различных между собою, причем решение одного из них не только не дает, но и не подвигает решения другого.
Допустим, что мы выяснили психологические условия возможности познавания: положим, мы пришли к выводу, что то или другое понятие для нас психологически необходимо и что, в силу этой психологической необходимости, оно представляет собою неизбежное сопровождающее познавательного процесса. Решен ли этим гносеологический вопрос? Очевидно, — нет: психологически неизбежная мысль может быть и необходимой иллюзией лишенной познавательного значения. Таких необходимых иллюзий Кант знает много: сюда он относит, например, целый ряд суждений чистого разума, основанных на незаконном трансцендентном применении понятий рассудка. Кант отказывает всем им в познавательном значении, несмотря на их психологиче-
5
скую необходимость. Как бы ни было психологически необходимо то или другое понятие или воззрение, оно может оказаться иллюзией, а потому теория познания должна исследовать вопрос об его объективной, логической достоверности и значимости; в этом собственно и состоит гносеологический вопрос; никакого другого правильно понятая теория познания не решает и даже· не касается.
С этой точки зрения вопрос — как возможно познание — есть вопрос о логических предпосылках, об условиях значимости познания, точнее говоря, — вопрос о безусловном основании его достоверности. — Нет спора, что для „Критики чистого разума“ центр тяжести — именно в этом вопросе, что именно в нем Кант видит основную задачу трансцендентального исследования;· в этом смысле он говорит: „трансцендентальным (т.-е. исследующим возможность знания или применения его apriori) следует называть не всякое априорное знание, а только то, через которое мы узнаем, что и каким образом известные представления (наглядные представления и понятия) могут быть применяемы исключительно a priori, и как это возможно“ (80). Как видно отсюда, трансцендентальный вопрос для Канта — вопрос о возможности применения априорных представлений, т.-е. о возможности применения правомерного. Основная задача „Критики“, — как известно, решение вопроса о праве 1), а не вопроса о происхождении априорного познания, и в этом смысле Кант ясно говорит в предисловии к первому изданию „Критики“: „главный вопрос во всем исследовании состоит в том, что и насколько может быть познано рассудком и разумом, свободным от всякого опыта, а не в том, как возможна сама способность мышления“ (XI).
Гносеологическая задача тут как будто строго отличается от задачи психологической, и, тем не менее, по какой-то странной непоследовательности, в процессе самого исследования обе эти задачи незаметно для самого Канта вплетаются одна в другую, так что на гносеологический вопрос получается ответ явно психологический по смыслу. Ставится вопрос о безусловном основании достоверности или значимости априорного по-
_______________
1) Предисл. к I изд., XI—XII
6
знания, а в ответе указуются, как такое основание, антропологические условия познания: определенные человеческие способности, в силу которых для человеческого познания необходимы чистые воззрения и чистые категории рассудка, — вот последнее основание априорного знания в „Критике чистого разума“. Ничем иным кроме этой субъективной необходимости „для нас“ (füruns — выражение, беспрестанно возвращающееся у Канта) — возможность априорного знания в „Критике чистого разума“ не обосновывается: в этом именно и заключается ее роковая двусмысленность. С одной стороны, психологическое объяснение исключается в вопросе; с другой стороны, именно оно дается в ответе. Искомое основание достоверности человеческого познания в качестве основания безусловного и первоисточника всякой значимости в познании, казалось бы, не подлежит дальнейшему и в частности — антропологическому обоснованию. Безусловное основание возможности всякого знания именно потому, что оно — безусловное, должно быть надчеловеческим. Но трагедия чистого разума у Канта заключается именно в этом полном несоответствии между безусловностью, надчеловечностью искомого и антропологическою обусловленностью найденного.
Всмотревшись внимательно в „коперниково открытие“, мы убедимся, что именно в этой подмене безусловного „нашим“, т.-е. человеческим и заключается то его свойство, в силу которого на нем невозможно строить. Философская мысль ищет Безусловного и находит только антропологически обусловленное, стало быть, в конце концов не находит подлинно достоверного основания знания: строить на таком основании — значит строить на песке; в этом и есть причина, почему все построенное на Канте рушится.
Общий смысл Кантона решения вопроса о возможности априорного знания, как известно, сводится к тому, „что мы познаем apriori относительно вещей только то, что вложено в них нами самими“ (XVIII). Последние, подчеркнутые мною слова исключают возможность двух толкований: основа априорного знания — антропологична, априорные воззрения и понятия вносятся в познаваемые предметы именно человеческим умом, и никакой другой ум не может подразумеваться под „трансцендентальным субъектом познания“; понимать этот последний иначе,
7
например, как „я вooбщe“, как „сверхиндивидуальный или чистый субъект познания“ или как „мировую душу“, как это делали те или другие послекантовские философы — значит выходить за пределы мысли Канта.
Сам Кант видит сущность своего „коперниковского открытия“ именно в антропологическом обосновании знания. Открытие „Критики чистого разума“, что не понятия и представления человека сообразуются с предметами, а что, наоборот, познаваемые нами предметы сообразуются с „нашими“ представлениями и понятиями, — вот что, по Канту, составляет переворот в метафизике, подобный перевороту, совершенному Коперником в астрономии. Обоснование возможности априорного знания для него заключается именно в том, что человеческий ум является центральным светилом в познании: он вносит свой свет в познаваемое, а не получает его извне от вещей: „если“, говорит Кант, „воззрение должно сообразоваться со свойствами предметов, то я не вижу, как можно что-нибудь знать о них a priori; наоборот, если предметы (как объекты чувств) согласуются со свойствами нашей способности наглядного воззрения, то я вполне понимаю возможность априорного знания“ (XVII).
Несоответствие этого решения с сущностью поставленной Кантом задачи бросается в глаза. — То априорное знание, возможность коего требуется обосновать, определяется признаками всеобщности и необходимости (3—4, 64, 851). Требуется найти именно то, что сообщает этому познанию его аподиктическую достоверность и безусловное значение; иначе говоря, чтобы обосновать априорное познание, требуется связать его с чем-то безусловно достоверным, что служит первоисточником и основанием всякой достоверности: очевидно, что это „нечто“ не может быть в свою очередь обусловлено какой-либо иной, высшей достоверностью, иначе не оно было бы основанием достоверности безусловной. Искомое трансцендентального исследования есть таким образом — безусловное в познании, безусловное начало априорного и вообще всякого знания.
А в результате исследования у Канта источником достоверности знания провозглашается сам человеческий ум; — познание достоверно в силу того факта, что ум наш сам вносит в познаваемый материал свои априорные представления. Спрашивается, может ли этот факт в самом деле удостоверить
8
априорное знание: соответствует ли человеческий ум приписываемому ему значению безусловного, не подлежащего дальнейшему удостоверению основания всяческой достоверности?
Очевидно, что мы имеем здесь именно то психологическое решение, возможность и правомерность коего, казалось бы, столь решительно исключается постановкой трансцендентального вопроса у Канта. Данное устройство нашего ума, в силу которого необходимой формой нашего чувственного восприятия являются пространство и время, а необходимой формы нашей мысли являются „чистые понятия“ или „категории“ рассудка, — вот что служит условием возможности наших суждений, облеченных в форму всеобщности и безусловности. Но гарантирована ли этим достоверность этих суждений, — обоснована ли таким образом возможность действительного знания? Очевидно, нет: психологически обоснованная достоверность знания тотчас беспощадно разрушается сомнением, ибо, как уже выше было указано, психологически необходимое может быть и иллюзией. Что мне ручается за то, что необходимое для меня знание, основанное на моих субъективных понятиях и представлениях, есть нечто большее, чем необходимая для меня галлюцинация?
Известно, что учение Канта многими и в самом деле истолковывается как иллюзионизм; таково, напр., толкование Шопенгауера, к которому из русских писателей присоединяется Л. М. Лопатин. Толкование это противоречит намерениями Канта и его задаче, так как задача эта заключается именно в обосновании возможности объективного знания; явления, которые Кант считает единственно доступными познанию, — для него не иллюзия, а объективная реальность. Но, хотя сам Кант и не делал иллюзионистических выводов и даже открещивался от них, — предпосылки для иллюзионизма тем не менее имеются налицо в его учении, — если и не в задаче „Критики“, то в способе разрешения этой задачи. Этот способ делает учение Канта, вопреки его намерениям, беззащитным против возражений иллюзионизма. „Коперниково открытие“ не обосновывает возможности объективного и достоверного знания даже в тех скромных пределах, какие отводит знанию Кант, — в применении к явлениям в пространстве и во времени.
Всеобщность и объективность знания означает его обязатель-
9
ность для всех и каждого. Общезначимость какого-либо положения, все равно априорного или апостериорного, должна быть понимаема в том смысле, что данное положение является нормою истинного для всякой мысли: утверждаю ли я, что дважды два — четыре или что всякое явление имеет свою необходимую причину, — я подразумеваю, что эти положения истинны не для меня только, а для всех и всеми должны признаваться за истинные. Спрашивается, по какому праву я это делаю? У Канта этот вопрос не только остается без ответа, но даже и не ставится, и это — по той простой причине, что Кант безотчетно предполагает общезначимость форм наглядного представления и форм мысли для всех людей. У всех — должны быть одинаковые „чистые воззрения“ пространства и времени; у всех — тожественные категории (причинности и другие). Только, исходя из этого предположения, я могу произносить обязательные для всех познавательные суждения о том, что содержится в пространстве и времени.
Но в теории познания не может быть предположений безотчетных, и правомерность каждого данного предположения должна быть исследована. А потому мы обязаны ответить на вопрос: откуда мне известно, что мои формы сознания и мысли — значимы для всех? Тут-то и обнаруживается скрытый догматизм Кантовского обоснования вопроса о возможности познания.
„Мы знаем apriori о вещах только то, что сами мы в них вкладываем“. Догматизм выражается в самом слове „мы“ этого положения, столь существенного для кантовской теории познания. Какое право я имею говорить за других и предполагать, что они вкладывают или обязаны вкладывать в вещи те же априорные представления, что и я?
Заметим, что без этого превращения я в мы испаряется в ничто все Кантово обоснование априорного знания. Если положение, что дважды два - четыре, имеет силу для меня только, а другой свободен думать что дважды два — пять, — если основоположение всеобщей причинной связи явлений связывает меня одного, — то эти положения — не всеобщи, не необходимы и, стало быть, лишены существенных признаков априорного знания и даже знания вообще. Если я не могу связывать моими суждениями других, то ничего априорного вообще нет; нет и какого бы то ни
10
было познания; тем самым априорные понятия утрачивают свою логическую обязательность и для меня самого, а сохраняют лишь субъективную необходимость неотвязчивого миража.
Если теперь мы попытаемся ответить на поставленный вопрос о правомерности общезначимых суждений, — то невозможность психологического его решения станет сразу очевидной. Думать, что предположение общезначимости форм мысли и восприятия покоится на нашем знании общечеловеческой психологии — значило бы подводить под априорное знание фундамент не только крайне шаткий, но и заведомо ложный.
Знание общечеловеческой психологии, каковы бы ни были его объем и степень, есть во всяком случае знание чисто эмпирическое, которое, как таковое, не может служить основанием для понятий и суждений априорных, — т.-е. безусловных и всеобщих по форме. А кроме того, и в этом — главное, непосредственным, т,-е. независимым от формы нашей мысли знанием общечеловеческой психологии мы не обладаем. Знание это само в свою очередь обусловлено и опосредствовано теми самыми формами мысли и восприятия, которые имеется в виду на нем обосновать.
Иными словами, — доступ к внутреннему миру других людей для нас возможен лишь через наши априорные понятия и представления. Только в силу априорного убеждения, что сознание других людей обусловлено теми же, как и наше сознание, формами восприятия и мысли, — мы можем понимать других и знать что бы то ни было о их сознании и уме.
Короче говоря, не знание общечеловеческой психологии служит основанием моего убеждения в общезначимости и общеобязательности априорных понятий и представлений, а как раз наоборот: именно наличность у меня априорных понятий и представлений служит необходимым условием моего проникновения в чужое сознание. Я не мог бы обладать никаким знанием о человеческом сознании и вообще о человеческой психике, если бы априорные понятия не обладали для меня до такого знания непосредственною достоверностью. Основание нашего убеждения, что „другие“ должны воспринимать в форме пространства и временя и мыслить по закону достаточного основания, заключается в нашей непосредственной уверенности в безусловной необходимости этих форм. Иначе говоря, начала априорного знания — априорные воз-
11
зрения и понятия — обладают для нас достоверностью безусловною, ничем психологическим не опосредствованною и не обоснованною. Мы требуем от всех людей признания пифагоровой теоремы, потому, что мы apriori убеждены, что есть объективное пространство; оно необходимо обусловливает и определяет в наших глазах всякую человеческую психику, действительную и возможную, но это — лишь благодаря тому, что оно обладает в наших глазах некоторою безусловною значимостью, ни от какой человеческой психики независящей. Пространство, время, причинность в своем существовании и значимости совершенно не зависят от наличности человеческой или вообще какой-либо конкретной психики: иначе они были бы обусловлены эмпирическим фактом данной психологической организации и, следовательно, не были бы априорны. То, другое и третье существовало бы и значило бы, — если бы никаких людей не было бы на свете. Усомниться в этом — значило бы усомниться в самой всеобщности и необходимости, т.-е. иными словами — в априорности пространства, времени, причинности и других чистых понятий.
Основанием достоверности не может быть простое доверие к человеческому уму — моему или чужому. Наоборот, мы можем доверять человеческому уму лишь постольку, поскольку мы находим для него точку опоры в чем-то безусловном и независимо от него достоверном, что обусловливает и его самого, возможность самой его мысли и познания.
В этом заключается исходная точка для правильной оценки учения Канта.
III. Коперниково открытие Канта.
Никто не станет оспаривать открытой Коперником истины, что земля вращается вокруг солнца; но эта истина тотчас превратилась бы в ложь, если бы кто-либо вздумал утверждать солнце не в его относительном значении центра нашей планетной системы, а в безотносительном значении мирового центра, вокруг которого вращаются все светила и созвездия. Вращение земли вокруг солнца, разумеется, не исключает возможности предположить, что само наше солнце со всей его системой в свою очередь вращается вокруг какого-либо еще неоткрытого астрономией высшего центра.
12
Совершенно так же и открытие Канта, взятое в его относительном значении, есть истинное и великое открытие; но как только мы забудем об его относительности, мы тем самым тотчас превратим его в ложь.
Что мыслящий человеческий субъект в самом деле носит в своем уме представления и понятия всеобщие и необходимые по форме, — apriori обусловливающие самую возможность опыта и, следовательно, независимые от опыта, — этого после Канта уже нет надобности доказывать: в этом — его заслуга и непреходящая истина его коперникова открытия. Но как только эта первая ступень гносеологии возводится в последнюю и окончательную, — как только мыслящий человеческий субъект или какая-либо функция его ума провозглашается высшим, безусловным началом в познании, — в учение Канта тем самым вносится ложный догматический антропологизм, — тот самый, который был уже выше в нем отмечен.
Догматизм „Критики чистого разума“ выражается в том, что в ней трансцендентальный вопрос не доводится до конца. Найдя в человеческом уме ряд априорных представлений и понятий, Кант на этом останавливается и не спрашивает дальше, — не ставит вопроса о безусловном основании объективного применения этих представлений и понятий в познании. Он догматически предполагает, что человеческий субъект — центральное светило в познании — верховное начало всего познавательного процесса — источник всех познавательных принципов, с которыми должна сообразоваться не только его мысль, но и сама предметная действительность. А между тем в гносеологии, совершенно так же, как и в астрономии, — вполне законен вопрос: не вращается ли это светило вокруг какого-либо другого, высшего, от которого оно первоначально получает свой закон, критерий и норму?
Все предшествующее приводит нас к выводу, что вопрос этот вполне законен и уместен. Мы уже видели, что субъективно-антропологическое обоснование дознания у Канта оказалось в корне несостоятельным. Если я сам вкладываю априорные понятия в вещи, и вне меня эти понятия — недействительны, то они по необходимости лишены всеобщего и объективного значения, ибо в таком случае они обусловлены мною, т.-е. некоторою эмпириче-
13
скою данностью. Как только мы обусловливаем значимость априорного положения существованием какой-либо конкретной, эмпирической психики, — будь это мое я, общечеловеческое сознание или хотя бы сама „мировая душа“, - оно тем самым перестает быть априорным и падает. Самое различение между „эмпирической“ и „трансцендентальной“ апперцепцией, на которое любят ссылаться защитники Канта, — не выводит нас из этого неразрешимого в пределах Кантовой философии затруднения. Ибо мы должны допустить одно из двух: или эта „трансцендентальная апперцепция“ есть функция мысли какого-либо психологического субъекта — человеческого или какого-либо другого существа, — и в таком случае она не выводит нас за пределы „психологизма“, в дурном значении этого слова, не сообщает объективного значения тем априорным представлениям, коими она объединяет чувственный материал, — или же она — акт сознания, ничем эмпирическим не обусловленного — безусловного, но в таком случае она представляет собою выход за пределы кантианства — новый способ преодоления психологизма, коего мы пока не будем оценивать.
Здесь нам важно указать лишь, что вопрос о возможности априорного знания, а, следовательно, и всякого вообще знания (так как знание вообще возможно лишь в априорной форме всеобщности и необходимости), может быть разрешен лишь путем определенно метафизического выхода за пределы учения Канта и кантианства.
Все наши познавательные суждения, как такие, облекаются в форму безусловности и всеобщности. — Надо отдать себе отчет в их общей метафизической предпосылке. — Мы не можем утверждать ничего безусловным и всеобщим образом, если мы не имеем для этого точки опоры в чем-то действительно безусловном, что служит основанием всякой безусловной значимости мысли и бытия.
Всякое утверждение безусловное и всеобщее по форме, иначе говоря, всякое познание предполагает Истину, как что-то, что безусловно есть и безусловно объемлет все сущее и мыслимое. Напрасны все попытки отнять у этого необходимого предположения нашего познавания его онтологический характер и свести истину к „долженствованию“, „значимости“ или „ценности“. Все
14
эти попытки заключают в себе порочный круг: ибо долженствование признавать истину имеет место только в том предположении, что истина есть. Так же точно „ценными“ и „значимыми“ представляются истинные положения единственно в силу их согласия с сущею истиною 1). Предполагать истину — значит предполагать нечто Безусловное, что объемлет в себе все мыслимое и сущее.
Соответственно с этим, всякое наше всеобщее высказывание, а, стало быть, и всякое познавательное наше суждение — необходимо предполагает и утверждает нечто Безусловное как подлинно сущее: утверждать, что что-либо истинно — значит предполагать, что утверждение это имеет основание не в чем-либо проблематическом, могущем быть и не быть, а в том, что безусловно есть и не может быть иначе.
Что знание есть применение к познаваемому формы всеобщности и безусловности, это установлено еще Кантом. Чтобы довести до конца его трансцендентальное исследование, мы обязаны признать необходимую логическую предпосылку этого умственного акта — реальную всеобщность, то действительно безусловное, в чем все едино — и мысль и бытие. Отдаем ли мы себе в том отчет или нет, — во всяком случае каждый наш познавательный акт есть связывание познаваемого с чем-то, что безусловно и необходимо есть, отнесение его к какому-то не мыслимому только, а действительному всеединству. Положение дважды два четыре утратит свой характер познания, если мы допустим, что есть какая-либо область возможного, действительного или мыслимого, где дважды два равно пяти. Положение это представляет собою некоторое безусловно достоверное утверждение обо всем: как таковое, оно предполагает, что все действительное и мыслимое подчинено некоторому единству, иначе говоря, что есть всеединство. Всеединство, ἓν καὶ πᾶν, — необходимая форма нашей мысли; применение ее в познании сущего оправдывается лишь в том случае, если есть действительное ἓν καὶ πᾶν, объемлющее все, что есть.
Познание действительного бытия предполагает, что все сущее не только мысленно, но и реально объемлется формой всеедин-
______________
1) Соответствующее учение Риккерта будет разобрано ниже — в главе VIII.
15
ства. Реальное всеединое — и есть то оставленное без внимания „Коперниковым открытием‘‘ центральное светило, которое освещает весь наш умственный мир, хотя само оно остается для нас невидимым и до поры до времени — неведомым.
Чтобы предупредить возможность возражения против высказанной здесь мысли, которое уже было однажды сделано одним из моих критиков, я вынужден вновь подтвердить здесь, что предполагать Безусловное, как основание всякого познания, еще не значит отдавать себе в том отчет. Предположение это, как необходимая предпосылка, лежит в основе всякого познания и, стало быть, делается всяким познающим. Но иное дело исходить из предпосылки, а иное дело - сознавать ее. Не отдавал себе в ней отчета даже и Кант, а он справедливо считается одним из величайших мировых философов. Неосознанное им предположение всякого познания должно быть вскрыто путем философской рефлексии; к этому, как мы видели, должно привести до конца доведенное трансцендентальное исследование.
Связывание познаваемого материала формою безусловности и всеобщности (в наших познавательных суждениях) непременно предполагает, что познаваемое независимо от нас уже связано ею, что не мы впервые внесли в него эту связь. Мы не могли бы в наших познавательных суждениях предписывать норму всякой возможной мысли, требовать от всех признания провозглашаемой нами истины, если бы мы при этом не чувствовали достоверной, выше всяких сомнений поставленной опоры в Безусловном. Требование — признать истину предъявляется познающим субъектом не во имя свое, а во имя самой истины Последняя, следовательно, утверждается в познавательном суждении как Безусловное, при том не только в смысле безусловной нормы, но в смысле чего-то безусловно сущего: к этому и сводится все различие между суждениями, утверждаемыми как истинные, и суждениями, признаваемыми за ложные.
Это нетрудно пояснить на любом конкретном примере. Положим, я говорю — „сейчас идет снег“ или — „мне холодно‘‘. Выражаю ли я этими суждениями нечто признаваемое мною за быль или небылицу, в обоих случаях логический состав каждого из этих суждений — их форма и содержание будут абсолютно одинаковы. Отличие заключается единственно в том, что
16
суждению, признаваемому истинным, я говорю да в безусловной форме, утверждаю выражаемый им смысл, как что-то, что есть в Безусловном, а потому и должно признаваться всеми, значит для всех; наоборот, если эти суждения сознаются как ложные, им приписывается значимость лишь условная - значимость чьего-либо воображения или вымысла. Именно в силу своей безусловности, вследствие своей независимости от чего-либо субъективного, истина всегда сверхпсихологична, хотя бы „истинным‘‘ признавался психический факт. Мое ощущение холода, если оно истинно есть, так же как и всякая истина, утверждается мною как нечто общезначимое, при чем „значимость“ эта и здесь имеет все то же онтологическое основание в Безусловном: она означает, что ощущение холода, о котором я говорю, совершается не в моем воображении или вымысле, а в чем-то подлинно безусловном, что объемлет в себе мои переживания как и все, что действительно есть. Но утверждать безусловную значимость чего-либо — значит предполагать реальное Безусловное, вне которого ничего не может „значить“ что бы то ни было; утверждать, что истинное имеет безусловную значимость только „для нас“ — человеческих или вообще эмпирически обусловленных сознающих существ — значит впадать в грубое противоречие: ибо истинное под каким-либо антропологическим или эмпирическим условием уже не есть истинное. Утверждать, что есть истина, хотя бы частная, — значит предполагать, что есть подлинно Безусловное, вне которого не может быть и частной истины, не может быть и самой значимости.
Во всяком познании, чего бы оно ни касалось, — есть некоторый transcensus, — выход познающего субъекта к Безусловному. Главная ошибка Канта — именно в том, что он этого не заметил. По его мысли — единственно доступное нам познание явлений остается всецело в пределах „наших“ представлений, ибо „помимо наших представлений явления суть ничто“ (535). Нетрудно убедиться в том, что мы имеем здесь чистое недоразумение. Оставаясь в пределах только „наших“ представлений, мы не могли бы произнести относительно явлений ни одного познавательного суждения: ибо действительно познавательное суждение есть именно то, которое остается истинным, хотя бы „нас“ и нам подобных, а, стало быть, и „наших представлений“ вовсе
17
не было на свете. В действительности и Кант, не отдавая себе в том отчета, предполагает этот выход от „наших“ представлений к независимому от нас Безусловному всякий раз, когда он утверждает что-либо истинное, объективно действительное в пределах явлений: ибо никакое мое представление в качестве только моего не может претендовать на общезначимость: для этого оно должно обладать признаком безусловности, которого я ему не могу сообщить.
Наглядным примером такого безотчетного transcensus’a может служить хотя бы следующее суждение Канта —
„Что могут быть жители на луне, хотя ни один человек никогда не воспринимал их, без сомнения можно допустить, но это означает лишь, что в возможном прогрессе опыта мы могли бы встретить их; в самом деле, действительно все то, что находится в связи с восприятием согласно законам эмпирического синтеза. Следовательно, жители луны действительны в том случае, если они находятся в эмпирической связи с моим действительным сознанием, хотя вследствие этого они не становятся еще действительными сами по себе, т.-е. вне эмпирического синтеза“ (521).
Очевидно, что здесь Кант, сам того не замечая, изменяет своему антропологическому критерию феноменальной действительности. Действительным оказывается здесь не только то, что дано, но и то, что может быть дано; и, хотя Кант допускает действительность жителей луны лишь при условии „эмпирической связи с моим действительным сознанием“, слово „эмпирическая“ в данном случае — явная натяжка: ибо очевидно, что это — связь возможная, а не действительная. Для действительности предмета в порядке феноменальном (как понимает этот порядок Кант) вовсе не требуется, чтобы он действительно кем- либо воспринимался: достаточно, чтобы он был предметом возможного опыта. Очевидно и то, что та „возможность“ нашей встречи с жителями луны, о которой здесь идет речь, лежит не в самом чувствующем и воспринимающем человеческом субъекте, а в какой-то безусловно независящей от него действительности, ибо одна возможность „субъективного“ восприятия не дает критерия для различения действительного от несуществующего. Такие выражения как „возможное восприятие“ или
18
„возможный опыт“, в данном случае прикрывают собою явную двусмыслицу. Предметом возможного опыта для меня является действительный человек, живущий в другом полушарии. Но я могу говорить как о предмете возможного опыта и о возможных обитателях неоткрытой еще, но гипотетически существующей планеты. Раз под „возможным“ может подразумеваться и существующее и несуществующее, а только предполагаемое и допускаемое, — понятие „предмета возможного опыта“, очевидно, не выражает собою отличия между тем и другим. Отождествление действительности с совокупностью „предметов возможного опыта“ вовлекает Канта в порочный круг. С одной стороны, каждый данный предмет для него действителен лишь, поскольку он является предметом возможного опыта; с другой стороны, для него объективный опыт возможен, поскольку предмет его действителен.
Корень этого порочного круга — в ложном имманентизме точки зрения Канта и в присущей всякому познанию необходимости выхода к Безусловному. С одной стороны, по Канту, всякий предмет познания как такой антропологически обусловлен: предметом познания может быть только то, что нам является. С другой стороны, однако, Кант, вопреки своему учению, на каждом шагу вынужден предполагать такой предмет познания, который есть безусловно, т.-е. независимо от нас и от нашего восприятия, предмет существующий за пределами того, что нам является.
С одной стороны, в „Критике чистого разума“ Кант заявляет о непознаваемости Безусловного (предисловие, стр. XX), но с другой стороны, основной вопрос его трансцендентального исследования — вопрос о безусловном основании „абсолютно необходимого“ априорного знания с роковой необходимостью приводит к этому самому метафизическому вопросу о Безусловном: ибо если нет ничего безусловно сущего, то нет и никакого предмета познания, нет и самого познания.
Самая неудача этой попытки — построить теорию познания без предположения Безусловного, красноречиво свидетельствует о том, что для человеческой мысли это — предположение необходимое. Попытка устранить Абсолютное ведет только к тому, что в роли Абсолютного в „Критике чистого разума“ является
19
или сам познающий субъект (как основание не только познаваемости, но и самой реальности явлений) — или определенная функция его мысли (трансцендентальная апперцепция, рассудок — „законодатель природы“), при чем само собою разумеется, что этой несвойственной ему роли абсолюта „субъект познания“ не выдерживает: это и служит в „Критике“ источником нескончаемых противоречий. Формальная необходимость идеи Безусловного, как основания знания, выражается в том, что мыслитель, пытающийся построить без нее гносеологию, на самом деле вынужден вводить ее в свои рассуждения в той иди другой маске возводить в безусловное что-либо относительное. В неправильном присвоении человеческим силам, человеческой мысли и вообще человеческому естеству тех или других предикатов Безусловного и заключается тот ложный антропологизм и психологизм Кантова учения, который потом так ярко выразился в наукоучении Фихте, смешавшего в Абсолютном Я черты Безусловного и человеческого. В конце концов мы имеем в „Критике чистого разума“ гносеологию бесспорного мышления — точку зрения мысли, утратившей свой центр, вследствие чего она в собственных глазах из центра относительного превращается в центр абсолютный.
Посмотрим же — в чем подлинная точка опоры мысли? Что значит сказанное выше, что наше познание может найти себе обоснование и опору в Абсолютном?
IV. Постулат абсолютной мысли.
Мы уже видели, что в каждом нашем познавательном акте Безусловное предполагается как некоторое единство всего познаваемого. Поскольку мы познаем что-либо действительно существующее, мы необходимо предполагаем, что это существующее имеет свое мысленное определение в Безусловном, — иначе оно было бы непознаваемо; если бы существующее не имело в Безусловном своего ratio — т.-е. своего мысленного основания и значимости, — то всякие безусловные высказывания нашей мысли о существующем были бы тем самым ложью. Самый акт познавания, как искание безусловного, т.-е. истинного определения познаваемого, предполагает, что познаваемое определено мыслью в Безусловном.
20
Поскольку предметом познания является реальное, действительное, — тем самым постулируется, стало быть, единство мысли и бытия в Безусловном, тем самым предполагается, что все существующее как такое определено безусловною мыслью, так что безусловная мысль есть необходимый prius, трансцендентальное условие всего, что есть. Но этим еще не исчерпывается основное предположение нашего познания: мы познаем не только то, что есть, но и то, что было, и что будет, и, наконец, то, что только может быть. Имеет ли наше познание своим предметом настоящее, прошедшее, будущее или, наконец, только возможное, — все равно — оно выражается в форме высказываний, имеющих всеобщее и безусловное значение, в форме мысли, которая утверждается как безусловная. Стало быть, в нашем познании — безусловная мысль предполагается как необходимое трансцендентальное условие всего, что есть, что было и что будет, как безусловное единство, объемлющее в себе все действительное и возможное, дающее всему его подлинное определение.
Всякое утверждение безусловности какой-либо мысли (а таковое имеет место в каждом познавательном суждении), — непременно предполагает мысль как предикат самого Безусловного: отдаем ли мы в этом себе отчет или нет, — все равно, — в этом и заключается та точка опоры нашей мысли, которая служит источником ее дерзновения в познании; всякий раз, когда мы говорим «аминь» какой-либо нашей мысли, мы тем самым сознаем ее в Безусловном. Утверждая мысль всеобщим и безусловным образом, мы тем самым предполагаем, что данное мысленное содержание есть определение о нем самой мысли безусловной. Если мы в данном случае ошибаемся, если мысль, высказываемая нами как безусловная, обладает лишь условной значимостью «для нас», — то все наше знание — лишь, призрак, пустая видимость. Если все нами высказываемое — только наша человеческая фикция или мнение, не обоснованное в мысли безусловной, то познания мы вовсе не имеем, и самое это наименование «познание» — не более, как наш человеческий самообман.
Наше познавание есть или воспроизведение, хотя бы частичное, — того мысленного всеединства, в котором, независимо от нашей человеческой мысли, все определено мыслью безуслов-
21
ной, — или же оно — ничто. Абсолютная мысль в нашем познании предполагается как единая истина всего, так что всякая частная истина есть не более и не менее, как определение абсолютной мысли о чем-либо.
Что мы имеем в таком понятии истины, — это лучше всего выясняется путем сопоставления его с учением об истине Канта. Когда Кант утверждает, что «как истина, так и заблуждение, а, значит, и иллюзия как повод к заблуждению, встречается только в суждении, т.-е. только в отношении предметов к нашему рассудку» (350), этим вводится в понимание истины именно тот ложный антропологизм, который в корне противоречит основному предположению всякого познания. Ибо во всяком познавании истина предполагается как нечто безусловно независящее от нас и от наших суждений, и вместе — как объективная норма, которой мое сознание и моя мысль могут соответствовать и не соответствовать.
Что же это за объективная норма? Должна ли истина быть понимаема как какое-либо независимое от мысли свойство познаваемого предмета, с которым должны сообразоваться наши суждения? Но такое предположение делало бы познание безусловно невозможным: то, что безусловно чуждо мысли, не может и стать мыслью, не может быть выражено в терминах мысли и, стало быть, не может быть и познано. Мысль может получить норму только от мысли. Поэтому истина никогда не могла бы быть познана или сознана нами, если бы мысль не была ее имманентным определением, ее предикатом. Что истина вовсе не есть свойство реального, независимого от мысли предмета познания, видно уже из того, что истина может иметь своим предметом не только действительное, но и заведомо несуществующее, прошедшее, будущее, или же только возможное, а также долженствующее быть.
„Наполеон был в Москве в 1812 году“; — это суждение, как и все вообще наши суждения о прошедшем, — безусловно истинно, хотя никакого „реального предмета“ ему не соответствует: напротив, — словом „был“ категорически утверждается, что такого реального предмета нет в действительности. Он был в прошедшем, но что же такое эта реальность в прошедшем, о которой здесь идет речь? Конечно, это прежде всего
22
мысленная реальность, т.-е. реальность безусловно недействительная вне мысли. Только в мысли мы и можем утверждать действительность прошедшего, как и действительность будущего или только возможного вне мысли то и другое и третье — ничто. Но опять-таки и здесь, как во всяком нашем суждении, претендующем на истинность, — мы предполагаем безусловную действительность и безусловную значимость истинной мысли, совершенно независимую от нашей человеческой мысли. Что Наполеон был в Москве в 1812 году, — это остается вечно истинным, хотя бы на свете не было не только меня, но и никаких подобных мне людей или существ, могущих об этом знать или помнить. Ясно, что здесь предполагается такая безусловная значимость определенного мысленного содержания, которой никакое человеческое я своей мысли сообщить не может. Что сообщает безусловную значимость мысли, что Наполеон был в Москве в 1812 году? Или эта мысль обладает безусловно независимою от нас — людей действительностью, но в таком случае это-мысль безусловная, точнее говоря, определение самой безусловной мысли о бывшем; или же это — только ложное человеческое утверждение или вымысел, которому никакой истины не соответствует. Истина — или ничто, или она не человеком вымышленная, независимо от человека и от какого-либо психологического субъекта — действительная мысль. Если нет такой всеединой мысли, объемлющей все, что есть, что было и что будет, — мысли в которой увековечено исчезнувшее со всеми его мельчайшими подробностями и предвосхищено будущее, то истина прошедшего и будущего, более того, всякая вообще истина тем самым превращается в ничто. Ибо нет истины о каком-либо предмете вне определения о нем абсолютной мысли: выражения — истина, истинная мысль и абсолютная мысль суть термины равнозначащие.
V. Истина как всеединство конкретной интуиции в Безусловном. Постулат абсолютного сознания.
Чтобы окончательно освободиться от ложного антропологизма, надо вскрыть до конца все то, что заключается в этом предположении абсолютного всеединства, обусловливающем возможность познания, и строго отличить его как абсолютное от всего « нашего», т.-е. психологического, человеческого.
23
В нашем конкретном воззрении нам дано только эмпирическое, частное. Чтобы найти всеобщее, безусловное, т.-е., иначе говоря, истинное, нам необходимо прежде всего отвлечься от этой данности, подняться над нею к понятию. Отвлечение таким образом есть для нас психологически необходимая ступень к познанию истины. Что мы имеем в нем лишь психологическое условие человеческого познавания истины, ясно из того, что оно вынуждается именно несовершенством нашего чувственного воззрения, не дающего нам всеобщности, всецелости истины и несовершенством нашего ума, не охватывающего полноты конкретного многообразия. Только в силу этого несовершенства нам нужно отвлечь наше внимание от этого многообразия единичного, чтобы схватить всеобщее. Если бы в воспринимаемых нами явлениях нам было дано не дробное и частное, а всецелое, если бы мы обладали умом, который в каждом данном конкретном воззрении интуитивно схватывал бы мысленную связь бесконечного многообразия данного, — в этом вспомогательном орудии отвлечения, в этом сокращенном изображении познаваемого в отвлеченных умоначертаниях не было бы ни малейшей надобности. Ибо в таком случае наш ум видел бы истину непосредственно, безо всякого перехода от конкретного к отвлеченному и обратно — от отвлеченного к конкретному. В этом непосредственном интуитивном схватывании или видении истины выражается ступень, разумеется, несравненно высшая по сравнению с тою сравнительно бледною тенью истины, которую дают наши отвлеченные представления.
Мы — люди восходим к истине чрез отвлечение от непосредственно данного. В истории философии эта психологическая необходимость неоднократно смешивалась с объективно логическою: отвлечение гипостазировалось, переносилось в истину и понималось как ее определение: за истину принималось наше вспомогательное орудие познания — отвлеченное понятие. В древности, как известно, этим грешил Платон, который определял истинно-сущее как идею и в то же время понимал идеи как общие родовые представления, — чем стиралась грань, отделяющая «истинно-сущее» от наших отвлеченных понятий. А в новой философии это заблуждение нашло себе классическое выражение в учении Гегеля, для которого истина и есть понятие, а чистое
24
отвлечение — бытие вообще или, что то же, бытие, равное небытию, есть объективное начало сущего. Правда, Гегель понимает абсолютную мысль как мысль конкретную; ибо она рождает из себя беспредельное конкретное многообразие сущего. Но это конкретное всеединство в абсолютной мысли не есть нечто изначальное. Абсолютное начало всякого бытия само в себе отвлеченно 1) и конкретное множество в нем рождается, становится через переход от небытия к бытию. Стало быть, абсолютная мысль и у Гегеля понимается на подобие нашей мысли, как становящаяся или переходящая от отвлеченного к конкретному, от небытия к бытию.
Одна из первых и основных задач философии вообще и теории познания в частности заключается в том, чтобы освободиться от этой формы антропологизма, которая переносит определения нашей мысли в мысль абсолютную.
Та безусловная мысль, которая, как мы видели, предполагается всяким познавательным актом, не есть ни отвлеченное понятие, ни переход от отвлеченного к конкретному, ибо такой переход предполагал бы в ней изначальную пустоту, несвойственную абсолютному как такому.
Основное определение абсолютной мысли есть полнота, которая исключает для нее возможность какого-либо «становления» прогресса, усовершенствования. Именно, как сущая от начала полнота·, абсолютная мысль предполагается каждым актом нашего познавания. Это мысленное всеединство, которое постулируется всякою познающею мыслью, не есть отвлеченное понятие, а конкретная интуиция, в которой все конкретное многообразие того, что есть, что было и что будет, во всей полноте своей охвачено, насквозь пронизано и определено безусловной мыслью. Здесь нет ни оторванной от мысли безмысленной данности, ни отрешенной от конкретного многообразия мысли. В отличие от нашей но существу отвлеченной человеческой мысли, мысль в истине предполагается как всеохватывающая, всеопределяющая, т.-е. как имманентная всему тому конкретному многообразию, которое она определяет.
Пояснением к сказанному может служить хотя бы такой
_____________
1) WissenschaftderLogik, ITheil (S. W., IIIB), стр. 63, 67.
25
грубый пример. Чтобы схватить то общее всем людям, общечеловеческое, что есть в различных человеческих индивидах, наша человеческая мысль должна отвлечься от всего индивидуального, конкретного в них; но в истине нет этого отвлечения: в истине общее родовое пребывает во всех этих индивидах, как непосредственно им присущее: там все составляют единый пребывающий в смене поколений род, не переставая быть индивидами. Иначе говоря, истина предполагается в нашем познании как абсолютный синтез всеобщего и индивидуального в абсолютной мысли. Абсолютная мысль не есть та, которая сначала отвлекается от всего индивидуального, чтобы схватить всеобщее, а затем снова от всеобщего возвращается к индивидуальному, переходит от конкретного к отвлеченному и обратно. Нет! Единство всеобщего и индивидуального дано в ней от начала, притом безо всякого перехода; будучи по существу всеединой идя универсальной, она вместе с тем проникает до дна в конкретное многообразие индивидуального, так что в этом многообразии не остается ничего для нее темного, непроницаемого.
Соответственно с этим и противоположность рационального и иррационального, т.-е. доступного и недоступного мысли, есть чисто антропологическая противоположность, которая существует лишь для нас, людей, а не в применении к мысли абсолютной как такой. Когда мы говорим об «иррациональном» в абсолютном, то приемлемый смысл этого утверждения сводится к тому, что в абсолютном есть нечто иррациональное для нас, т.-е. не укладывающееся в формы нашего человеческого постижения. Иначе говоря, в нем есть бездонные глубины, которые совершенно не могут быть схвачены и поняты нашим отвлеченным и в меру своей отвлеченности поверхностным умом. Но для мысли абсолютной иррационального в этом смысле, т.-е. темного и неосвещенного нет ничего. В ней все освещено насквозь, все залито немеркнущим светом солнечного сияния, в котором все явно. И именно в качестве безусловного никакими препятствиями не может быть задержан этот свет. Прежде всего — никаким бытием, так как всякое бытие истинно есть лишь поскольку оно явно абсолютной мысли и вне ее не может быть бытием. Так же не может быть он остановлен или ограни-
26
чен какой-либо неявленною еще возможностью, ибо абсолютная мысль видит и держит в себе полноту всех возможностей, так что все возможное для нее явно и вне ее ничто невозможно.
Критикам, которые скажут, что все изложенное здесь есть чистый рационализм или гегельянство (а между критиками по всей вероятности найдутся и такие), я отвечаю заранее, что они не поняли в изложенном здесь воззрении самого существенного: именно, оно разрывает окончательно с тем человекообразным пониманием абсолютной мысли, с тем уподоблением ее «нашей», которое составляет характерное отличие не только гегельянства, но и всего вышедшего из Канта рационалистического течения новой философии. Для уяснения сущности излагаемого здесь воззрения, необходимо возможно резче подчеркнуть этот основной его контраст с вышедшей из Канта рационалистической метафизикой.
Вместе с отвлеченностью нашей человеческой мысли германские мыслители-идеалисты первой половины XIX столетия переносят в Абсолютное и нашу человеческую темноту. Их Абсолютное в самом себе есть бессознательное; и хотя самое это название было впервые применено к Абсолютному Эдуардом Гартманом, оно выражает собою очень старую традицию в немецкой философии. «Философией бессознательного» были, несомненно, хотя и каждое по-своему, учения Фихте, Шеллинга и Гегеля, ибо у всех этих мыслителей абсолютное первоначально, в самом себе лишено сознания: оно восходит к сознанию в процессе мировой эволюции, сознает себя впервые или становится для себя в человеке, причем у Фихте это восхождение к сознанию совершается через ряд рефлексий, у Гегеля — через диалектический процесс развития абсолютной мысли.
Именно в этой противоречивой схеме Абсолютного, которое, развиваясь, возвышается постепенно над бессознательным состоянием, чтобы дорасти, наконец, до самосознания человека — ясно обнажается антропологизм немецкой философии. Уподобление абсолютной мысли «нашей» выражается здесь и в том, что это — мысль первоначально пустая, абстрактная («Я» — Фихте, «безразличие» — Шеллинга, «ничто — небытие» — Гегеля) и в том, что она, как не обладающая полнотой, вынуждена прогрессиро-
27
вать и, наконец, в том, что в первоначальном своем источнике она является темною, бессознательною, вследствие чего самосознание человека понимается не как низшее по отношению к Абсолютному, а, напротив, как высшее, чего оно может достигнуть.
Вышеизложенное воззрение представляет полную противоположность этому ложному антропоцентризму. Для него Абсолютное есть полнота, как в порядке бытия, так и в порядке мысли. Мысль всеохватывающая, всеобъединяющая, определяющая все конкретное во всем его беспредельном многообразии, притом не в какой-либо стадии своего развития, а в вечности истины, не есть абстракция; не имея недостатка в чем-либо, объемля в себе не только все действительное, но и все возможное, мысль безусловная, по смыслу всего сказанного о ней здесь, не может развиваться или прогрессировать; наконец, по самому существу своему такая мысль не может быть в каком-либо отношении темною, несовершенною, неосознанною. Полнота безусловной мысли неотделима от полноты безусловного сознания: ибо нет в безусловном мысли отвлеченной, а есть непосредственная интуиция, есть непрестанное виденье того, что она мыслит: ибо мыслить и видеть для нее — одно и то же.
Нет представления более чуждого новой немецкой философии, чем это представление безусловного сознания; и в этом заключается, быть может, самая парадоксальная черта этой философии. С одной стороны здесь сказывается как-будто страх перед антропологизмом и желание избежать его — боязнь привнести в Абсолютное какие-либо человекообразные черты, а с другой стороны опасность подстерегает мысль именно там, где она всего меньше этого ожидает: она вечно подвергается риску принять за Абсолютное какое-либо из собственных своих отвлечений. В этой неспособности философской мысли нового времени и в особенности мысли немецкой — помыслить полноту сознания всего больше сказывается ее роковая рассудочность, ее неуменье выйти за пределы наших человеческих отвлечений к сознанию подлинно Безусловного.
Глубоко рассудочным характером отличаются все возражения, которые делаются на почве германской идеалистической философии против идеи Абсолютного сознания. С точки зрения, до
28
сих пор весьма распространенной, сознание предполагает самоограничение сознающего. Сознающий противополагает себе сознаваемое как другое, субъект ограничивает себя в сознании объектом и, следовательно, в качестве ограниченного, уже не может быть безусловным.
Основная ошибка всей этой аргументации заключается в смешении логической противоположности с реальной. Сознание действительно предполагает логическую противоположность сознающего и сознаваемого; но это еще не влечет за собою необходимости онтологической раздельности того и другого: онтологически сознающее и сознаваемое может быть одно и то же, по слову древнего философа:
— «Одно и то же есть мысль и то, о чем она мыслит».
В своем учении о божественном уме Аристотель, как известно, дал именно это начертание мысли, себе мыслящей: абсолютное сознание, разумеется, не было бы абсолютным, если бы в самой природе его лежала необходимость сознавать или мыслить другое; но также не было бы оно абсолютным и в том случае, если бы сознавать другое, полагать отличное от себя бытие и определять его было бы для него невозможным. Именно как таковое, абсолютное сознание не терпит никаких реальных границ, ни положенных ему извне чем-либо другим, ни реальных внутренних границ, кладущих предел заключающимся в нем самом возможностям другого; разумеется, в самом понятии абсолютного сознания, как и абсолютного вообще есть некоторая логическая граница, которая выражается в невозможности для него быть несовершенным, неполным, т.-е. не абсолютным. Но такого рода логическая грань между абсолютным и неабсолютным не имеет ничего общего с границей реальной 1).
_____________
1) Здесь, по-видимому, — основное разногласие между мною и превосходной работой С. Л. Франка («Предмет знания», Петроград, 1915), в других отношениях мне чрезвычайно близкой. Основное понятие теории познания у нас одно и то же — всеединство, которое для С. Л. Франка, как и для меня, представляет собою основное предположение всякого познавания; но ему чуждо понятие всеединого сознания, и в этом, как мне кажется, заключается основной недостаток приведенной работы. По С. Л. Франку, всякое сознание как такое предполагает трансцендентный ему предмет: «понятие сознания в том
29
VI. Абсолютное сознание и истина временного.
Понятие абсолютного сознания заключает в себе многочисленные затруднения, которые не могут быть до конца исследованы, освещены в пределах гносеологического исследования, так как для всестороннего рассмотрения их необходима целая метафизическая система. Здесь мы можем рассматривать все это учение лить в пределах теоретико-познавательного вопроса — как возможно познание. И именно в эту плоскость должна последовать за нами критика, которая хочет быть имманентною.
Основная мысль предшествовавшего изложения заключается в том, что необходимое предположение всякого человеческого познавания есть истина как абсолютное или всеединое сознание. Положение это не может быть опровергнуто указанием на какие-либо неприемлемые последствия, из него якобы вытекающие: ибо прежде всего нужно доказать, что эти «неприемлемые» и с первого взгляда даже нелепые положения действительно составляют последствия данного учения, а не неизбежные для всякого философского учения апории или антиномии, которые могут найти себе то или
_____________
единственном смысле, в котором оно не заключает противоречия, есть необходимое понятие члена отношения» (стр. 151—152); с этой точки зрения всякое сознание, как такое, необходимо предполагает, как свой противочлен нечто другое, от него отличное и ему потустороннее, некоторый трансцендентный предмет (там же). Я вполне согласен с Франком, что такова действительно природа нашего несовершенного сознания. Но когда С. Л. Франк считает «трансцендентный предмет» необходимым предположением всякого сознания как такого, это уже прямое отрицание всеединого сознания, ибо сознание, которое не все объемлет и которому что-либо трансцендентно, уже не есть сознание всеединое. Аргументация С. Л. Франка не дает для такого отрицания достаточного основания: сознание логически предполагает сознаваемое как логический, а вовсе не как реальный противочлен. Поэтому понятие сознания абсолютного или всеединого, для которого логическим противочленом служит не «трансцендентный предмет», а какое-либо имманентное содержание того же всееднного сознания, не заключает в себе логического противоречия. Наоборот, понятие всеединого — основное гносеологическое понятие Франка, логически приводит к понятию «всееднного сознания». Всеединство не было бы всеединством, если бы оно не включало в себя полноты сознания. Если бы оно не включало в себя сознания, то никакое приобщение сознания ко всеединству, а стало быть и никакое знание не было бы возможно.
30
иное разрешение. Указания на апории и антиномии не опровергают, а только ставят новые задачи перед философской мыслью. Если бы даже (что весьма сомнительно) кому-либо удалось доказать, что допущение какого-либо необходимого предположения сознания приводит к неразрешимому противоречию, это значило бы, что познание наше в корне противоречиво или антиномично; но это не доказывало бы, что для нашего познания такая предпосылка не необходима.
Единственный способ — опровергнуть вышеизложенное, это доказать, что истина как всеединое или абсолютное сознание нашим познаванием не предполагается. Я утверждаю, что вне этого предположения все наши познавательные суждения обращаются в ничто. Всякое познавательное суждение утверждает некоторое определенное содержание сознания как истинное, т.-е как безусловное. Пусть мне скажут, какой смысл могут иметь такие суждения, если подлинно безусловного сознания нет, и оценка какого-либо содержания сознания как безусловного выражает только нашу человеческую претензию. Только этим меня и можно опровергнуть. Пока это опровержение не дано, я считаю себя в праве утверждать, что истина, искомая всяким познаванием, предполагается им как безусловное или всеединое сознание.
Попытка новейшего кантианства свести истину к «долженствованию», «значимости», или «ценности», заключает в себе на самом деле скрытый антропологизм: поэтому, продуманная до конца, она неизбежно приводит к отрицанию объективной истины. В самом деле, все эти выражения определяют истину, как некоторую норму для мысли, которая должна признавать или ценить, для которой те или другие положения должны «значить» и т. п.
Мы должны отдать себе отчет в логических последствиях такого понимания истины; если истина — только норма для наших суждений, то она по существу антропологична: вне нас ее нет. С уничтожением психологических субъектов, могущих «ценить», «подчиняться долженствованию» и признавать «значение» уничтожается и истина. Есть только один способ избежать этого психологизма в теории познания; нужно признать, что истина есть, хотя бы тех субъектов, для которых она служит нормой, вовсе не было. Но признать, что истина есть независимо от
31
чьего-либо долженствования и оценки, значит допустить, что есть безусловно все те содержания сознания, которые утверждаются нами как истины. Иначе говоря, эти содержания есть не как наши человеческие долженствования, а как акты сознания Безусловного. Или истины нет вовсе, или — существует актуально сознание безусловное, все в себе объемлющее и, следовательно, всеединое.
Антиподом современного антиметафизического учения кантианства является учение покойного В. С. Соловьева, который определяет истину как Сущее Всеединое. Недостаток этого определения заключается в том, что оно выражает собою лишь одну центральную истину Безусловно Сущего, но не объемлет в себе всех частных истин о другом, не всеедином и не безусловном. Между тем эти частные истины фактически составляют большую часть содержания человеческого познания и, в качестве истин, должны найти себе место в Истине всеединой. Истина вовсе не всегда имеет своим предметом безусловно· Сущее, а иногда может иметь предмет заведомо несуществующий (напр., нечто долженствующее быть). Истина всеединая есть потому самому не только Истина сверхвременная, но и Истина всего временного, стало быть, прошедшего, настоящего и будущего. То, и другое, и третье в ней так или иначе есть, а именно на этом покоится возможность нашего, на все времена простирающегося, знания.
Всякая истина, будь она даже истиной какого-либо мимолетного факта, является неизбежно вечной. Это — неустранимое свойство всякой истины как такой. Что Наполеон был в Москве в 1812 году или что в июле 1916 года в центре России была дождливая погода, все это так же вечно истинно, как и то, что дважды два — четыре: ибо никогда и ни при каких условиях эти утверждения не были и не могут стать ложными. Всякий раз, когда мы утверждаем истинность какого-либо происшествия, настоящего, прошедшего или будущего, мы тем самым предполагаем его увековеченным в истине. Что же это за «вечность»? Это — не только «формальное» свойство истины, ибо нельзя прилагать форму вечности к какому-либо содержанию, не предполагая, что оно некоторым образом и в некотором определенном значении — вечно. Мы уже видели, что это — и не «вечная значимость»
32
для психологических субъектов, которые — сами не вечны. Прежнее существование Наполеона не перестанет быть истиною, хотя бы умерли все те психологические субъекты, для которых оно могло бы значить. Для бытия истины ничто психологическое не имеет ровно никакого значения.
Так же нелепо было бы предполагать, что истина какого- либо факта во времени есть вечная онтологическая реальность этого факта как такого. Утверждать истинность какого-либо протекшего или имеющего наступить факта — значит просто-напросто предполагать истинность, или, что то же, — безусловную и вечную значимость определенного содержания сознания, т.-е., стало быть, в конце концов, — безусловное и вечное сознание.
И таким образом мы становимся перед неотразимой дилеммой. Или всякий временный факт воистину увековечен в безусловном сознании, или наше человеческое познание о временном лишено всякой объективной опоры и основания. Или есть подлинно безусловное сознание, которое вечно созерцает прошедшее и будущее, видит то и другое в безусловной полноте его, как и настоящее, или же все временное есть ложь, как учили некогда Гераклит и Гегель: едва мы успели назвать исчезающий миг, как истина изречения нашего стала ложью. Если нет вечной памяти Безусловного, сохраняющей прошлое, то нет истории, нет самого прошлого, которое мы могли бы познавать. И, если нет вечного предвиденья Безусловного, то нет будущего; тогда и все предсказания нашего точного знания — химера и утопия.
Безусловное сознание, единым взором объемлющее все возможное и действительное, — и полноту вечно пребывающего, и бесконечные временные ряды, в недвижном спокойствии Истины вмещающее все то, что было, есть и будет, — такова точка опоры нашего познания, таков тот центральный свет вселенной, вокруг которого вращается вся солнечная система нашего человеческого ведения. Это основное предположение нашего познания осталось у Канта нераскрытым; и таким образом его Коперниково открытие не получило своего необходимого завершения.
___________
33
VII. Абсолютное сознание и ,,наше“ человеческое восприятие.
Тут может возникнуть сомнение, которое и в самом деле было высказано недавно Л. М. Лопатиным в его полемической статье по поводу моей книги — „Миросозерцание Вл. С. Соловьева“. — Действительно ли безусловное сознание может служить точкой опоры нашего человеческого познания? По мнению Л. М. Лопатина, „вечное созерцание Божественным разумом всего существующего есть идея очень важная, но это идея чисто метафизическая, из которой нельзя сделать никакого целесообразного употребления в логике и теории познания. Ею можно пользоваться для метафизического обоснования возможности сознающих себя конечных существ, но ее нельзя превратить в критерий достоверности наших обыденных суждений о камнях, деревьях и столах“ 1).
Внимательный читатель мог, конечно, заметить, что как в настоящем исследовании, так и в тех гносеологических рассуждениях моей книги о Соловьеве, на которые ссылается Л. М. Лопатин, я тщательно избегаю таких выражений, как «божественный разум» и вообще не употребляю предикат «божественный» в применении к «всеединому» или „безусловному“ сознанию. И это — не случайно.
Я не отрицаю, разумеется, что учение об абсолютном сознании в контексте моего религиозного по существу миросозерцания должно получить определенно религиозное освещение; но в пределах гносеологии вопрос о религиозном отношении к абсолютному не ставится вовсе, потому что гносеология трактует лишь о необходимых предпосылках человеческого познания; решая этот вопрос, она следует исключительно логическим критериям и никаких посторонних познаванию, а, стало быть, и никаких религиозных предпосылок в свое рассмотрение не вносит. Сам по себе результат, к которому мы пришли, опять-таки еще не уполномочивает нас на какие-либо религиозные выводы.
_____________
1) Вопросы философии и психологии, кн. 119 (сентябрь—октябрь 1912 г), стр. 372.
34
Мы пришли к заключению, что предположение абсолютного сознания есть необходимое трансцендентальное условие всякого человеческого познавания. Вывод этот добыт путем чисто-рационального исследования и покуда никакого религиозного содержания в себе не заключает. Наше отношение к Абсолютному становится религиозным лишь с того момента, когда Абсолютное утверждается нами как смысл и притом благой смысл всей нашей жизни и всего, что есть. Но в предположении абсолютного сознания еще нет такого утверждения. Гносеологическое исследование убеждает нас в том, что предположение абсолютного сознания необходимо; оно приводит нас к выводу, что абсолютное сознание и есть та истина всего, которая предполагается как искомое процессом познавания. Но оно оставляет нас в полной неизвестности относительно жизненного смысла этой истины и, стало быть, — относительно религиозной ценности абсолютного сознания. Что такое это мировое око, которое одинаково все видит, насквозь проницая и зло и добро, и правду и неправду? Раскрывается ли в нем положительный, добрый смысл вселенной или же, напротив, это умопостигаемое солнце только раскрывает и освещает своим ослепительно ярким светом бездну всеобщей бессмыслицы? Что дает нам уверенность, что для абсолютного сознания добро и зло неравноценны? А, покуда мы этого не знаем, какое мы имеем право именовать его божественным?
В пределах гносеологии эти вопросы не только не разрешаются, но даже и не ставятся. Она вскрывает только необходимые предположения нашего познавания, не предрешая, что мы найдем в этих предположениях для нашей жизни, — блаженство или отчаяние, рай или ад. Ее вывод — тот, что наше познание предполагает абсолютное сознание как условие своей достоверности. Но само по себе сознание, даже с предикатом абсолютного, — не добро и не зло; поэтому, покуда нам не открылись какие-либо другие стороны идеи Безусловного (а в пределах гносеологического исследования они и не могут открыться), вопрос о религиозном содержании безусловного сознания должен быть оставлен в стороне. Настоящее исследование, стало быть, должно оставаться в той области, в которую за нами может последовать всякий мыслящий человек, независимо от своих религиозных убеждений,
35
Если мы с этой точки зрения подойдем к разбору возражений Л. Μ. Лопатина, мы увидим, что они основаны на недоразумении. „Неужели“, говорит он, „князь Е. Н. Трубецкой серьезно думает, что он знает, да и все другие должны знать, как именно Божественный разум созерцает вещи? Такую громадную претензию мало высказать, ее надо чем-нибудь мотивировать. Князь Трубецкой, по-видимому, уверен, что столы для Бога так же белы и зелены, как для нас. Почему же, однако, он в этом уверен? И если он прав, то в какое исключительно печальное положение попадают, например, дальтонисты?“ (стр. 371).
Л. М. Лопатину, конечно нетрудно заменить здесь выражение „Божественный разум“ которого я избегаю, — выражением „абсолютное сознание“, которое я действительно употребляю; но даже и при такой замене между мыслью мною высказанною и мыслью, приписанной мне моим критиком, не окажется ни малейшего сходства.
Раз я доказываю, что абсолютное сознание необходимо предполагается всяким нашим познавательным актом, я, разумеется, не сомневаюсь, что оно видит все, что мы видим, и все знает, что мы знаем: иначе оно не было бы полнотою сознания и видения, т.-е., иначе говоря, оно не «было бы абсолютным. Вместо того Л. М. Лопатин приписывает мне нелепую мысль, будто мы люди все видим, что есть в абсолютном сознании более того, считает нужным убеждать меня в том, „что даже при самом утонченном анализе воспринимаемого и представляемого нами, едва ли нам удается построить адекватную картину мира, как он является в Божественном сознании“ (372).
В абсолютном сознании есть беспредельное множество граней или планов бытия, совершенно нам недоступных; и тот план бытия, в котором движется наша жизнь и наше сознание, является, быть может, лишь весьма небольшой частицей этой необъятной полноты сознаваемого и сущего в Безусловном; но одно все-таки остается непоколебимо достоверным: наш человеческий план бытия и все наше человеческое сознание, как и всякое вообще бытие и сознание, до дна обнажено, в малейших своих переживаниях явно перед всевиденьем Безусловного. С этой точки зрения нетрудно ответить на возражение (или скорее-
36
шутку) Л. М. Лопатина о „зеленых или белых столах“ и о „дальтонистах“. Если есть сознание воистину безусловное, — то все ряды совершающегося во времени непрестанно протекают перед его взором, стало быть и чувственные наши восприятия — до малейших подробностей их, а в том числе и восприятия дальтонистов; а в этом видении от века различены истина и ложь каждого нашего восприятия и каждого нашего суждения: т.-е., иначе говоря, в нем дан именно тот суд истины над нашим восприятием, который и составляет искомое нашего познавания; всякое, даже ничтожнейшее наше восприятие в этом суде определено в своем безусловном отношении и значении, все равно положительном или отрицательном; всякое показание наших чувств в нем распознано в подлинной своей ценности, — или как наша субъективная галлюцинация или как объективное свидетельство о действительно сущем. И, если есть в нашем восприятии или вообще сознании какая либо, хоть самая незначительная по содержанию истина, то безотносительно к безусловному сознанию она не может быть истиной. Включая в себя все, что дано в человеческом сознании, оно вместе с тем, как безусловная его норма, бесконечно возвышается над этой данностью.
По мнению Л. М. Лопатина, защищаемое мною воззрение предполагает, что „формы и свойства человеческой чувственности, без которых мы ничего не только вообразить, но и содержательно мыслить не можем“, являются „формами и свойствами усмотрений Божественного разума“ (372). Если бы это было верно, — моя мысль была бы, разумеется, тем самым опровергнута, ибо приписывать абсолютному сознанию границы сознания человеческого — очевидно нелепо! На самом деле, однако, — вовсе не мое воззрение, а как раз наоборот, — именно возражение, моего противника вносит в абсолютное сознание несовместимое с его природой ограничение: ибо оно изображает нашу человеческую чувственность как что-то для абсолютного сознания непроницаемое, как область, от него скрытую, а, стало быть, как границу для него. Если мой критик вообще признает существование абсолютного сознания, он должен допустить, что нет того ничтожного предмета, той мельчайшей будничной подробности нашей жизни и обстановки, — которая бы не была в нем до конца осознана. И,
37
если это сознание видит всю беспредельную множественность планов сознания и бытия, то наш план не составляет исключения из общего правила. Если таким образом перед Абсолютным обнажено все содержание нашего сознания, то отсюда необходимо следует, что и нам открыта некоторая сфера сознания абсолютного. И эта причастность к абсолютному настолько существенна для нашего сознания, что без нее оно бы погасло, — превратилось бы в ничто.
Когда я говорю — я есмь, — то уже в этом основном акте, моего знания о себе есть утверждение Абсолютного и моего я в нем. Я был бы ничто, если бы я существовал только в собственном „казании“ или в чьем либо мнении; но вышеприведенные слова значат, что я есмь в Безусловном: иначе говоря, знание или сознание о моем бытии я утверждаю как безусловное, от меня независящее. Если бы даже я впал в забытие, то все-таки я есмь, потому что обо мне сохраняется память в Безусловном, потому что таково определение безусловного сознания обо мне.
Л. М. Лопатин спрашивает, откуда я это знаю и требует от меня „доказательств“. Но именно в этом требовании и обнаруживается основное недоразумение его критики.
Как я могу доказывать то, что предполагается всяким познанием и, следовательно, всяким доказательством? Ведь необходимые предпосылки знания не доказуются, а постулируются! Доказывать уже значит предполагать возможность утверждения моего сознания в Безусловном: доказывать — значит связывать доказуемое с чем-то безусловно достоверным, что предшествует всякому доказательству и предполагается как его условие. Задача теории познания именно и заключается в том, чтобы вскрыть, осознать то Безусловное, что предполагается нашим познаванием. Но, раз эти необходимые предпосылки обнаружены трансцендентальным исследованием, — требовать их доказательств значит просто на просто настаивать, чтобы мы нашли основания для безосновного и условия для Безусловного.
Чтобы опровергнуть меня, Л. М. Лопатин должен был бы доказать, что абсолютное сознание вовсе не составляет необходимую предпосылку нашего знания; но он этого не сделал по той простой причине, что не только моя аргументация — самая сущ-
38
ность поднятого мною вопроса осталась вне поля его зрения. Вопрос поставлен мною о метафизических предпосылках человеческого знания и, соответственно с этим, вся моя аргументация направлена против распространенного в философии предрассудка, будто таких предпосылок не существует и будто никакого transcensus’a в нашем познавании не совершается. Между тем, Л. М. Лопатин выставляет против меня как аргумент голословное утверждение этого самого предрассудка.
„Гносеология, прежде чем обращаться к трансцендентным началам, должна установить имманентные признаки и нормы правильных познавательных действий. Если она этого не сделает, философия попадет в логический круг и погрязнет в безвыходном догматизме“ (372).
Догматизм заключается именно в этом утверждении моего критика: догматична, разумеется, не та гносеология, которая обнаруживает метафизические предпосылки наших суждений, а как раз наоборот, — та, которая не сознает их и, не отдавая себе в том отчета, орудует метафизическими понятиями. Такова была гносеология Канта, и в устах Л. М. Лопатина возглас „вперед от Канта“, — конечно, уместен; но самая настойчивость в его утверждении лишний раз подтверждает справедливость изречения:
А воз и ныне там!
__________
Из всего предшествовавшего ясно, почему воз не сдвинулся с места, и почему философская мысль прикована к Кантовой основе, - несмотря на полную невозможность ею удовлетвориться.
Смело поставленный вопрос о безусловном основании достоверности знания, — вот что приковывает к Канту новую философию; не решив этого основного для нее, критического вопроса об основании и источнике всех ее правомочий, она и в самом деле не может двигаться дальше. А затем ответ „Критики чистого разума“, столь явно несоответствующий ее вопросу, — ее попытка антропологического решения вопроса познания, — превращающая человеческое в безусловное, — вот что отталкивает от Канта и заставляет стремиться вперед от него. Борьба с антропологизмом и психологизмом, вновь обострив-
39
шаяся в наши дни, наполняет собою всю историю философии после Канта. Мысль ищет выхода и, не находя его, снова и снова возвращается к вопросу великого мыслителя, а затем в том или другом виде возобновляет и ошибки его решения.
Мысль только тогда вырвется из этого порочного круга, в котором она вращается, когда она поймет, что преодолеть антропологизм и психологизм — значит найти выхода к безусловному сознанию и в нем обрести точку опоры для сознания человеческого.
Нетрудно предвидеть, впрочем, что и этот выход, как и все доселе указанные, будет заподозрен в том самом антропологизме, которого он хочет избежать. Упрек в антропологизме чувствуется уже в вышеприведенных возражениях Л. М. Лопатина. И в самом деле, — сколько бы мы ни утверждали противоположность между безусловным и человеческим сознанием, — все-таки предшествующее изложение указывает некоторую точку объединения или совпадения между ними; все-таки оно дерзает утверждать, что в безусловном сознании есть сфера открытая и доступная человеческому знанию!
Тем, кто на этом будет основывать упрек в антропологизме, я отвечу, что тот антропологизм или психологизм, против которого надлежит бороться, выражается не в органическом объединении или синтезе, а в слиянии или смешении человеческого и Безусловного. В объединении человеческого и Безусловного — самая сущность знания, — ибо безусловность его и есть тот формальный признак, который отличает наше знание от недостоверного субъективного мнения. Названия антропологизма заслуживает не та точка зрения, которая сначала различает оба начала, а затем объединяет их, стало быть, не та, которая стремится к осуществлению безусловного в отличном от него человеческом; нет, антропологизм есть то направление философской мысли, которое выдает человеческое за безусловное; в гносеологии оно утверждает человеческое (наше сознание, мысль, какую либо ее функцию или отвлечение) как основание безусловной достоверности знания.
Наилучшим образным олицетворением этого антропологизма служит известный барон фон Мюнхгаузен, вытаскивающий сам себя с лошадью за волосы из болота. Предшествующее
40
изложение, как раз наоборот, решительно утверждает, что для человеческого разума это невозможно, и ищет для него надчеловеческого, безусловного основания.
В заключение остается подчеркнуть еще раз, что, как в предшествующем, так и в последующем, психологический вопрос о происхождении человеческого знания оставляется мною совершенно в стороне. Тот, кто скажет, что психологически изложенное здесь воззрение ровно ничего не объясняет, — будет совершенно прав. Психологически, разумеется, — познание остается такою же загадкой теперь, какой было и прежде. И тот, кто подумает, что я ввел в мое рассуждение безусловное сознание для того, чтобы объяснить его чудесным воздействием наше познание (в духе Беркли), — докажет этим только полное непонимание моей точки зрения.
В безусловном сознании я ищу не объяснения происхождения нашего познания, а обоснования его достоверности. В этом заключается тот выход из Канта, правильность которого предстоит обсудить моим критикам.
_____________
41
ГЛАВА II.
Время и пространство.
1. Антропологическое обоснование пространства и времени у Канта.
Область доступного познанию бытия по учению Канта совпадает с областью явлений в пространстве и временя. Поэтому учение о пространстве и времени, — об этих двух формах всего, что является, — для „Критики чистого разума“ должно служить по преимуществу пробным камнем. Что же мы имеем в этом учении?
Несоответствие между задачей „Критики“ и ее решением сказывается именно здесь особенно резко. Вопрос ставится о возможности чистой математики, — т.-е. об основании правомерности ее суждений. По Канту, „тут мы имеем дело с великим, и испытанным познанием, объем которого и теперь изумительно обширен, в будущем же обещает безграничное расширение, — с познанием, имеющим в себе совершенно аподиктическую достоверность, т.-е. абсолютную необходимость, не основанным, следовательно, ни на каких опытных основаниях, представляющим собою, поэтому, чистый продукт разума, — и, наконец, сверх того — с познанием вполне синтетическим: как же возможно человеческому разуму осуществить такое познание совершенно а priori? “ (Пролег. § 6).
Таков вопрос, но, хотя возможность опытного обоснования им категорически исключается, — тем не менее в ответе Канта под „абсолютно необходимое“ математическое знание подводится определенно психологический, т.-е., в конце концов эмпирический фундамент.
42
Возможность априорного математического познания по Канту обусловливается тем, что пространство и время суть субъективные условия нашей чувственности (42, 49). Наглядное представление пространства пребывает „только в субъекте, как формальное свойство его подвергаться воздействию объектов“ (41). Также и „время есть лишь субъективное условие нашего (человеческого) наглядного представления (которое всегда существует в чувственной форме, т.-е. поскольку мы подвергаемся воздействию со стороны предметов) и само по себе, вне субъекта, есть ничто" (51).
Чтобы не оставить сомнения в том, что речь идет здесь не о какой либо логической необходимости, а именно о необходимости психологической коренящейся в специфических особенностях человеческой психики, Кант категорически заявляет, что ,,только с точки зрения человека мы можем говорить о пространстве, о протяженных сущностях и т. п.“ (42). „Мы не можем судить о наглядных представлениях других мыслящих существ, подчинены ли они тем самым условиям, которые ограничивают наши наглядные воззрения и имеют для нас всеобщее значение“ (43).
Таким образом, по Канту, — именно факт данной психологической организации человеческого ума дает нам уверенность в общезначимости пространства и времени для всех людей. Я утверждаю, что одного этого указания достаточно, чтобы разрушить все Кантово обоснование априорности наших суждений о пространстве и времени.
В самом деле, сказать что формы пространства и времени имеют общезначимость только для нас людей — значит разрушить самое понятие „общезначимости“ и ниспровергнуть всякое обоснование априорности математических суждений: ибо та общечеловеческая умственно-психическая организация, для которой пространство и время „общезначимы“, есть не более, как факт, данный в опыте, — эмпирическая данность, на которой по собственному признанию Канта, нельзя основать никакой безусловной достоверности, никаких общезначимых суждений. Если необходимость восприятия явлений в форме пространства и времени для нас людей обусловливается исключительно тем, что такова данная наша психическая организация, то в наглядных представлениях пространства и времени нет ничего априорного; а,
43
стало быть, те априорные суждения о пространстве, которые составляют содержание геометрии, лишены всякого основания. В лучшем случае эти суждения — аргументы ad hominem в широком значении слова.
Видимость обоснования априорного знания о пространстве у Канта получается лишь постольку, поскольку он придает субъективной необходимости нашего человеческого восприятия безусловное значение. Этот ложный психологизм его учения сказывается между прочим в следующем: он придает аподиктический характер безусловной необходимости положению, „что пространство имеет только три измерения“ (41). По мнению Канта „такие положения не могут быть эмпирическими или опытными суждениями, а также не могут быть выведены из подобных суждений“ (41). Между тем, единственным основанием для приведенного суждения об измерениях пространства служит тот чисто эмпирический факт, что мы люди больше трех измерений пространства не воспринимаем. Никакой логической необходимости допускать только три измерения — отсюда не вытекает; и, вопреки мнимо необходимому положению Канта, современная математика допускает возможность существования неопределенного количества измерений пространства сверх воспринимаемых нами трех. Ясно, что психологическая ограниченность нашего восприятия у Канта совершенно незаконно превращена в логическую необходимость для мысли 1).
_____________
1) Чисто психологический характер носит на себе и аргументация Пролегомен (§ 12), о том же самом предмете. «Что полное пространство (т.-е. не ограничивающего собою другого пространства) имеет три измерения, и что пространство вообще не может иметь большего числа измерений, - это опирается на том положении, что в одной точке могут пересекаться под прямым углом не более как три линии; а это положение никак не может быть доказано из понятий, но основывается непосредственно на воззрении, и притом на чистом априорном, так как оно достоверно аподиктически». Вопреки Канту мне кажется, что „аподиктическая достоверность“, исключающая возможность четвертого измерения, тут не более, как petito principii: вся мнимая необходимость основывается на простом факте восприятия, на том факте, что данные сознающие существа, с которыми я и мне подобные встречаемся в нашем опыте, воспринимают не более трех линий, пересекающихся под прямым углом в одной точке. Обобщение, покоющееся на таком факте, в качестве чисто эмпирического, может быть ниспровергнуто противо-
44
К этому надо прибавить, что все Кантово учение о пространстве и времени догматически предполагает присущее каждому отдельному индивиду знание общечеловеческой психологии. Только это дает Канту возможность говорить об общезначимости наглядных представлений пространства и времени „с точки зрения человека“.
Но, спрашивается, откуда же мы знаем эту „точку зрения человека вообще“? Очевидно, что это мое познание о психологии и умственном складе других людей есть факт позднейшего происхождения по сравнению с аподиктическою достоверностью для меня форм пространства и времени. Не будь у меня этой безусловной уверенности в том, что пространство и время есть, и что, следовательно, существование их необходимо предполагается другими людьми точно так же, как и мною, — никакая беседа с „другими“ и никакое знакомство с точкой зрения „человека вообще“ для меня не было бы возможным. Отсюда следует, что непосредственным знанием „точки зрения человека“ мы не обладаем: наше знание о ней опосредствовано теми самыми априорными началами, коих достоверность Кант хочет на ней обосновать. Пространство и время есть, — это для меня а priori достоверно: только поэтому я знаю, что эти формы восприятия действительны для всякого человека, а не наоборот: эти наглядные представления действительны для всех, потому что они безусловно действительны. То чисто опытное суждение, что мои ближние подобно мне воспринимают не более трех измерений пространства, очевидно, — позднейшего происхождения по сравнению с достоверностью пространства вообще и обладает лишь условной достоверностью эмпирического обобщения, т.-е. впредь до опровержения каким либо новым опытом.
Отсюда видно, что лишь через Безусловное мы можем узнать общечеловеческое, только в нем можем мы найти человека и его восприятие. В этом именно и заключается уничтожающее возражение против всякой попытки утвердить возможность какого бы то ни было, хотя бы только феноменального знания на антро-
____________
положным фактом. Мнимо „априорное“ отрицание возможности четвертого измерения у Канта просто основано на ложном умозаключения от несуществования такого восприятия к его невозможности (а nonesse ad non posse).
45
пологической основе. Ибо и феноменальное знание есть знание лишь постольку, поскольку оно обладает формальным признаком безусловной необходимости и достоверности. Раз мы обладаем в какой-либо мере безусловным, априорным знанием хотя бы о формах явлений, — источником его достоверности и общезначимости для всех людей может быть лишь подлинно Безусловное, ни от какого человеческого сознания независящее.
II. Пространство и время в их отношении к безусловному
сознанию.
Здесь, как и во всех прочих гносеологических вопросах, мы становимся перед неотразимой дилеммой: пространство и время или обладают безусловной, независимой от человека и его сознания действительностью, или же они не обладают никакой действительностью, никакой значимостью даже и для нас людей. В самом деле, когда Шопенгауер утверждает, что пространство и время и все, что в них, суть лишь наш субъективный мираж, иллюзия человеческого сознания, и в то же время считает возможным априорное, т.-е. безусловно-необходимое знание о пространстве и времени, то мы имеем в этих утверждениях очевидное противоречие. Самая априорность, т.-е. безусловность наших утверждений о пространстве и времени предполагает абсолютную независимость этих форм являемости от таких эмпирических фактов, как „человеческая психика“ или „человеческий мозг“, или даже самое существование человеческого рода; априорность в данном случае предполагает, что пространство и время безусловно действительны, хотя бы людей на свете вовсе не было; только в этом предположении мы можем претендовать на безусловную обязательность наших априорных суждений о пространстве и времени для других людей. Априорные наши суждения о пространстве и времени предполагают определенное о них сознание как безусловное. Геометрические теоремы предполагают действительность пространства в безусловном сознании, так же как всякие наши высказывания о времени, претендующие на достоверность предполагают что есть безусловное сознание о времени, которое служит основанием действительности последнего.
46
Но имеем ли мы право предполагать действительность пространства в безусловном сознании? Не значит ли это — переносить в Абсолютное формы нашей человеческой чувственности? Мне уже приходилось выслушивать это возражение, и я не удивлюсь, если встречусь с ним в печати. Здесь я могу только сказать, что, несмотря на кажущуюся свою убедительность, оно покоится на очевидном недоразумении. Утверждать, что абсолютное сознание обусловлено формами пространства и времени было бы, разумеется, по меньшей мере нелепо; очевидно противоречивым и потому недопустимым представляется предположение, что эти формы в каком-либо отношении связывают или ограничивают абсолютное сознание. Но совершенно так же нелепо было бы допущение, что пространство и время пребывают вне поля зрения абсолютного сознания и могут быть действительны вне или независимо от него. Тут мы также имели бы безусловно несовместимое с понятием Абсолютного ограничение.
Пространство и время суть необходимые формы одного из планов бытия, — того, в котором вращается наше человеческое существование и сознание в данной его стадии. Только в приложимости этих форм ко всему, что является в этом по существу ограниченном плане, в их необходимости для этого плана, заключается их „безусловность“ и „общезначимость“: было бы глубоко ошибочно понимать эти выражения в том смысле, что пространство и время объемлют все, что есть и все, что может быть.
Но, как бы ни была ограничена плоскость пространственно- временного бытия, было бы в высокой степени наивно предполагать, что эта плоскость непроницаема для абсолютного сознания, исключена из него. Ибо, во первых, исключение чего либо из абсолютного всевидения по существу противоречиво, несовместимо с самым понятием абсолютного; во вторых, такое исключение лишало бы мир пространственно-временный его абсолютного основания и тем самым превращало бы его в ничто. Если бы абсолютное сознание созерцало только вечное, то временное просто на просто не существовало бы, не было бы даже самого миража, самого нашего субъективного сновидения временного: ибо сон возможен лишь как действительное происшествие во времени, как подлинное переживание того, кто видит сон. Действительно су-
47
ществует только то, что полагается как существующее в абсолютном сознании. Стало быть, и мой сон во времени действителен лишь, поскольку он полагается в абсолютном сознании, как происходящий во времени. Если бы не было абсолютного сознания о моем сне, не было бы и сна, не было бы миража, не было бы самой видимости чего бы то ни было, — этим изобличается шаткость иллюзионистического учения Шопенгауера о пространстве и времени. Это учение догматически предполагает... достоверность нашей иллюзии, нашего сновидения, дающего бытие действительности в пространстве и времени. Но оно забывает, что достоверность существования грезящего и достоверность существования его сна сама в свою очередь требует обоснования: а обосновать достоверность какого-либо содержания сознания, хотя бы и сна — значит так или иначе связать его с безусловным основанием всякой достоверности — утвердить его в безусловном сознании. А в данном случае такая попытка обоснования может привести лишь к тому выводу, что время составляет необходимое условие, логический prius сновидения, а потому не может быть его результатом.
Едва ли есть надобность долго останавливаться еще на одном, возражении, которое может быть здесь сделано философски неподготовленным читателем, — что пространство и время, как, формы чувственного представления, потому самому не могут быть представлениями абсолютного сознания, как не обладающего чувственностью и органами чувств. Достаточно сказать, что именно это возражение впадает в тот антропологизм, которого оно хочет избежать, и притом в чрезвычайно грубой форме. В самом деле, пусть, судит читатель, кто повинен в антропологизме, — наша ли точка зрения, которая утверждает, что абсолютное сознание непосредственно видит во всей его полноте тот пространственно-временный мир, который лишь несовершенно и частично воспринимается нами при помощи наших органов чувств, — или противоположная точка зрения, которая отрицает возможность такого видения на том основании, что Абсолютному недостает наших человеческих условий восприятия — органов чувств! Подобные возражения могут возникать именно благодаря человекообразному представлению об абсолютном сознании, — в данном случае благодаря перенесению в него нашего чисто че-
48
ловеческого раздвоения между рассудком и чувственностью. Лишь на почве отвлеченного спиритуализма, удачно названного Баадером „спиритуализмом евнухов“ возможно представление абсолютного сознания как отвлеченной мысли, которая, благодаря своей отвлеченности, не видит мира, нами чувственно воспринимаемого, а созерцает лишь бледные, бескрасочные его тени!
В отличие от этого бескровного спиритуализма развиваемое здесь воззрение полагает, — что абсолютное сознание объемлет наш пространственно-временный мир в ярком красочном видении, по сравнению с которым бесконечно бледно и бесцветно все, что мы называем красочным и ярким в нашем чувственном восприятии. Это абсолютное сознание составляет опору человеческой мысли и искомое нашего познавания именно потому, что противоположность мысленного и чувственного в нем снята. В его конкретной интуиций дан синтез того и другого. — Это конкретное видение, которое есть вместе с тем и совершенное постижение, не может быть названо ни только мысленным, ни только чувственным, ибо то и другое в нем — одно. Оно есть духовно-чувственное созерцание.
III. Умосозерцательный характер воззрений пространства и
времени.
В связи с этим необходимо отметить здесь еще одну ошибку в кантовом учении о пространстве и времени. С своей чисто антропологической точки зрения, которая предполагает мысленное и чувственное разделенным глубокою, непроходимой пропастью, Кант учит, что пространство и время суть формы чувственного восприятия, и именно в качестве таковых противополагает их мысли. На самом деле, однако, пространство и время не могут быть приурочены исключительно к чувственности, потому что они представляют собою неразрывное единство воззрительного и мысленного.
Относительно времени это в особенности бросается в глаза с первого же взгляда. Не одни только чувственные наши восприятия, — весь наш внутренний мир, в том числе и мысли наши, поскольку они суть наши психические переживания, — протекают в нашем сознании в форме времени. Раз в эту форму облекаются всякие наши переживания, — нечувственные, мыс-
49
ленные так же, как и чувственные, то совершенно непонятно,— на каком основании Кант считает время формой только чувственного восприятия.
Но это еще не все. — Даже и в том, как она оформливает чувственные восприятия, интуиция времени обнаруживает свою интеллектуальную, умосозерцательную природу: ибо она выражается в непрерывном переходе нашего сознания за границы всего воспринимаемого, а, стало быть, и всего чувственно воспринимаемого; допустим даже, что чувственное восприятие заполняет собою все мое поле зрения в настоящем, — интуиция времени в том именно и заключается, что я постоянно выхожу за границу этого настоящего к прошедшему, которое я вижу позади, и к будущему, которое я вижу впереди настоящего. И то и другое — и прошедшее и будущее — суть представления не чувственные, а мысленные; и, если они заполняются чувственным содержанием, то это происходит через отвлечение, актом умосозерцания, который закрепляет пережитое в памяти и предваряет будущее в воображении, представляя прошедшее и будущее как настоящее.
Кант совершенно прав в том, что время не есть понятие, а интуиция; но с другой стороны оно есть интуиция по существу умосозерцательная: ибо существо, лишенное мысленных по самой природе своей представлений прошедшего и будущего, тем самым лишено и самой интуиции времени. Все чувственное как таковое ограничено; сверхчувственный, умосозерцательный характер времени выражается именно в отрицании этой границы, в утверждении непрерывно текущей бесконечности.
Умосозерцательный характер интуиции времени выражается еще и в том, что она невозможна без чисто мысленной опоры в сверхвременном. — Только поднявшись мыслью над временем, мы можем сознать время.
Если бы наша душевная жизнь была простою сменой психических состояний во времени, то сознания времени, да и сознания вообще не было бы. Сознание времени имеет место лишь постольку, поскольку сменяющие друг друга состояния связываются вместе чем-то сверхвременным, — интуиция времени есть интуиция связи между прошедшим, настоящим и будущим. Если бы мысль наша уносилась без остатка гераклитовым
50
током, если бы все в ней было одна смена, то она не могла бы ни удерживать прошедшее, ни предварять будущее: она была бы вся целиком в настоящей секунде; поглощаясь настоящим, она не могла бы связать ни с чем этот оторванный и от прошедшего и от будущего преходящий миг. А без связи трех делений времени — нет самого сознания, нет самой интуиции времени. Ибо в этой интуиции, как это отмечено еще Кантом, целое предшествует частям; отдельные моменты представимы и мыслимы лишь как части, деления единого времени.
Кант основательно заметил, что мы не можем себе представить ничем не наполненного времени. Интуиция времени для нас возможна только как форма чего-либо совершающегося. Иными словами это значит, что мы можем созерцать время лишь в смене состояний чего-либо пребывающего. Мы можем отдать себе отчет в том, что нечто течет лишь поскольку нечто пребывает. Если среди всеобщего течения нет неподвижной точки опоры для мысли, то невозможна самая мысль, невозможно никакое сознание, — это прекрасно понял уже ученик Гераклита — Кратил, который довел свое утверждение всеобщего течения до того, что уже ничего не говорил, а только движением пальца выражал, что все течет; но и это телодвижение есть непоследовательность, ибо в нем выражается некоторое суждение, притом противоречивое: если у всеобщего течения нет пребывающего субъекта, то нет того „все“, которое течет; тогда отдельные моменты времени не суть состояния одного и того же субъекта, а, стало-быть, нет того, что переходит из одного состояния в другое, нет и самого перехода и течения. Иначе говоря, нет и самой интуиции времени.
В итоге мы приходам к пониманию интуиции времени, по существу отличному от кантовского. Вопреки Канту, который видит в этой интуиции только субъективное условие нашего наглядного представления, которое „всегда чувственно“ (51), мы пришли к заключению, что она по существу — интеллектуальный, умосозерцательный акт, который с одной стороны объемлет всякую чувственную данность, а с другой стороны осуществляется в отвлечении от нее. Тот чувственный материал, который охватывается нашей интуицией времени, всегда есть только частное; между тем, — то единое время, представляемое в нашей
51
интуиции, по отношению к которому каждый отдельный момент, составляет часть, — есть всеобщее; в этом и выражается умственно-воззрительный характер нашего представления времени. То частное, которое я вижу моими чувствами во времени, — есть исчезающий миг; но всеобщее, т.-е. само единое время я вижу только умом. И, если я вижу все это бесконечное время наполненным беспрерывно меняющимся, текущим содержанием, то и содержание это в большей его части — не чувственное, а умопредставляемое, мысленное: ибо чувства мои заполняют только настоящее. Если бы моя интуиция заполнялась одной лишь чувственной данностью без всякого мысленного ее воспроизведения, без всякого отнесения ее к тому, чего уже нет или еще нет, то ничего, кроме одного только мига в моей интуиции не было бы; не было бы никакой смены в моем сознании, т.-е., иначе говоря, не было бы интуиции времени; а поэтому в конце концов не было бы даже и „мига“: ибо „настоящий миг“ не может быть сознан иначе, как через противопоставление прошедшему и будущему 1).
Сказанное здесь относительно интуиции времени в большей своей части применимо и к интуиции пространства. Несомненное различие между обеими интуициями заключается в том, что мысль наша, как психическое переживание, подлежит форме, времени, но не облекается в форму пространства; ибо мысль, хотя бы и временная, — непротяженна. Умосозерцательный характер интуиции, однако, определенно сказывается и здесь.
Он обнаруживается в совершенно тех же признаках, как и умосозерцательный характер представления времени. В большей степени, чем интуиция времени, интуиция пространства есть
________________
1) Существенное отличие Когена от Канта заключается в том, что первый признает мысленный характер времени (Logik, 128 и след., ср. 165). К сожалению, он впадает в односторонность противоположенного свойства: он отрицает умосозерцательннй характер времени и превращает его в категорию чистой мысли. Если бы это было верно, все чувственное было бы тем самым исключено из времени, и время не могло бы наполняться чувственным содержанием. Оно было бы только формой мысли и не могло бы наполняться никаким иным содержанием, кроме мысленного; поэтому оно не могло бы быть формой наших чувственных переживаний.
52
форма чувственного материала; но совершенно так же, как и интуиция времени, она находится к чувственному материалу в двойственном отношении: с одной стороны она его объемлет, а с другой стороны она осуществляется в отвлечении от него мысленным актом. Чувственный материал заполняет лишь ограниченный момент, миг пространства; но самая интуиция пространства всегда уводит нас за эту границу чувственно воспринимаемого, всегда отрицает всякую границу: формальная бесконечность — столь же необходимое свойство пространства, как и времени. В качестве бесконечного пространство представляется лишь умом; и это значит, что наша интуиция пространства — по самому существу своему есть мысленное воззрение. Здесь, как и в интуиции времени, согласно верному замечанию Канта, — целое предшествует частям; отдельные пространства мыслимы и представимы лишь как части единого пространства. Но это единое бесконечное пространство, коего лишь бесконечно малая часть открывается моему чувственному восприятию, — созерцается только умом моим, а не чувствами. В интуиции пространства, как и в интуиции времени, чувственно воспринимаемое есть только частное, а самая интуиция, в которой это частное оформливается как протяженное, есть всеобщее. Но именно это всеобщее, которое и составляет содержание интуиции пространства, схватывается умом, мыслью. И, если по отношению к пространству так же верно, как и по отношению ко времени, что оно представимо лишь как форма, наполненная содержанием, то содержание это и здесь — в большей своей части умопредставляемое, мыслимое. — Нам не дано бесконечное пространство, наполненное бесконечным множеством протяженных предметов, — ибо бесконечное вообще нам не дано: всякая данность, как такая, — конечна. Но мы мыслим пространство бесконечным и мыслим его наполненным. Было бы неточно сказать, что это наполнение мысленной схемы бесконечного пространства является делом воображения: воображение, как и чувственность, дает нам лишь конкретные, ограниченные образы протяженных предметов, и только ум наш влагает в эти образы бесконечность, мыслить их в бесконечном множестве. Интуиция пространства, как и интуиция времени, обладает характером синтетическим, ибо она видит единое во многом; но именно это ее свойство и выдает ее умосозерцательный харак-
53
тер: ибо видеть всеобщее в частном и единое во многом мы можем только умными очами 1).
IV. Метафизическое значение представлений пространства и
времени.
В результате всего вышеизложенного мы приходим к выводу, который для гносеологии представляет большую важность. По Канту пространство есть только форма явлений наших внешних чувств, а время — только форма явлений чувства внутреннего и внешнего. С этой точки зрения как самые интуиции пространства и времени, так и все основанные на этих интуициях познавательные суждения остаются в чисто имманентной сфере „возможного опыта“ и только в этих пределах могут претендовать на общезначимость.
Мы, напротив, видели, что пространство и время суть умосозерцания или мысленные воззрения, которые не только в пределах возможного опыта не могут быть реализованы, но в самом существе своем заключают необходимый выход (transcensus) за эти пределы. Утверждая единое пространство и единое время как необходимое предположение и логическое prius всех возможных пространств и времен, сам Кант, не отдавая себе в том отчета, совершает выход в метафизическую область и нарушает тем самым свои собственные запреты: ибо, в качестве единого, время, так же, как и пространство, представляют собою нечто большее, чем субъективные формы наших восприятий. Наши восприятия могут наполнить содержанием лишь исчезающий миг времени и столь же ничтожный момент пространства. Между тем учение Канта предполагает заполненным содержанием единое бесконечное пространство и бесконечное время: ибо, согласно его собственному учению, пустое пространство как и пустое время есть чистейший абсурд и небылица: пространство·
____________
1) Здесь необходимо заметить, что это умосозерцание или умственное зрение по своему понятию не тожественно с мыслью: это явствует между прочим из того, что границы нашего умосозерцания не суть границы нашей мысли: созерцать мы можем лишь трехмерное пространство, а мыслить можем неопределенное количество измерений.
54
и время могут существовать лишь как имманентные формы того что размещено в пространстве и что протекает во времени.
Указать умосозерцательную природу интуиций пространства и времени, как это было сделано в предшествующем изложении, — значит тем самым обнаружить метафизическое их значение. В самом деле, ведь это умосозерцание заключает в себе умозрительное предположение, коему нет и не может быть ничего даже приблизительно соответствующего в нашем опыте. В моем опыте я обречен всегда воспринимать только частное, но умом я вижу всеобщее. Ум мой созерцает не какие-либо оторванные от целого моменты пространства и времени. Он видит наполненными единое время и единое пространство, т.-е. то самое, чего мои чувства во времени заведомо никогда не увидят.
И это умосозерцание есть вместе с тем и метафизический постулат: ибо ум мой постулирует реальность того, что он видит. Как бы ни был ничтожен тот отдел пространства и времени, который я воспринимаю моими чувствами, — ум мой предполагает, что единое время есть, единое пространство есть, хотя бы и меня не было. И это предположение — не какая-либо случайная гипотеза, которая может быть нами произвольно допущена или отброшена, а необходимая предпосылка всего нашего познаванья, касающаяся как самых форм пространства и времени, так и всего, что находится в этих формах. Если нет единого пространства, то вся геометрия обращается в ничто, потому что тогда теорема, выведенная на изучении одного трех-угольника не может иметь значения для всех возможных трех-угольников вообще. Если нет единого времени, по отношению к которому отдельные времена суть лишь части, то всякие суждения о причинной зависимости явлений, да и всякое вообще знание явлениях, — все равно априорное или апостериорное, — тем самым превращается в ничто: ибо всякое знание о явлениях во времени предполагает связь времен, т.-е., иначе говоря, — единство времени.
Кант думал избежать метафизики, ограничивая познание одною областью явлений в пространстве и времени: но оказывается, что метафизику невозможно изгнать и из этой области: ибо на метафизических предположениях покоится все наше дей-
55
ствительное знание о пространстве, времени и о всем, что их заполняет. Познание даже и в этой области предполагает транссубъективную реальность мира явлений, т.-е, транссубъективную реальность наполненного ими единого пространства и единого времени. Если единое пространство и единое время — только мыслится человеческим умом, а вне его суть ничто, то не только геометрия и естествознание, — все наше сознание о внешнем мире и о нас самих есть сплошной бред.
В наших субъективных переживаниях мы видим пространственно-временный мир разорванным и как бы расколотым на-двое: с одной стороны — отвлеченно всеобщее — умосозерцаемая схема единого пространства и времени, а с другой стороны — отвлеченно частное — наполненный чувственно воспринимаемым содержанием миг: и вот, в познании мы стремимся восстановить цельность этого разорванного мира — понять воспринимаемое нами частное в его связи с умопредставляемым целым. Каждый акт нашего познания есть некоторого рода синтез всеобщего и частного1). Но акт познания — только вскрывает то, что есть в познаваемой им истине. Стало быть, всякий акт познания предполагает синтез всеобщего и частного уже данным в истине. В частности всякое познание явлений в пространстве и времени, какой бы частный характер оно ни носило, предполагает единое пространство и единое время, наполненное бесконечным многообразием явлений, причем, явления эти связаны между собою уже одним этим единством наполняемой ими или общей им формы.
Сказать, что каждый наш познавательный акт предполагает синтез всеобщего и частного завершенным в истине, значит выразить другими словами то, что уже было высказано нами раньше, что истина есть абсолютное сознание: ибо и всеобщее и частное, которые мы предполагаем связанными в истине, представляют собою содержания сознания... Утверждать истинность или, что тоже, безусловность каких-либо содержаний сознания — значит предполагать их в Безусловном. Мир в пространстве и времени осознан и положен как реальный в абсолютном
_______________
1) Скрытый синтез заключается и в анализе: ибо, восходя от частного к общему, он тем самым утверждает общее как присущее частному.
56
сознании: в этом и только в этом может заключаться истина необходимого для нашего феноменального познания предположения единого наполненного пространства и единого наполненного времени. Только в абсолютном сознании может быть обоснована достоверность представлений пространства и времени.
Несколько иное решение занимающего нас вопроса дает кн. С. Н. Трубецкой в своей статье „В защиту идеализма“. Признавая, что мир явлений в пространстве и времени предполагает универсальное сознание и универсальную чувственность, он вместе с тем не допускает, чтобы субъектом этого сознания и этой чувственности могло быть Абсолютное. „Если субъектом такой чувственности не может быть ни индивидуально ограниченное существо, ни Существо абсолютное, то остается допустить, что ее субъектом может быть только такое психофизическое существо, которое столь же универсально, как пространство и время, но вместе с тем, подобно времени и пространству, не обладает признаками абсолютного бытия: это — космическое существо или мир в психической основе, — то, что Платон назвал Мировою Душою“ 1).
В этом объяснении мы найдем коренной недостаток всех попыток психологического обоснования познания. — Гипотеза мировой души не в состоянии сообщить каким-либо нашим представлениям безусловной достоверности, а потому, какова бы ни была ее метафизическая ценность, гносеологически она представляется совершенно излишней. Бытие мировой души, ее трансцендентальная чувственность, ее сознание, — все это положения, которые сами в свою очередь должны быть удостоверены. Верить в истинность этих положений — значит предполагать, что они выражают собою не субъективное наше мнение о мировой душе, а объективное о ней определение самой безусловной мысли. Чтобы мировая душа была субъектом всего совершающегося во времени, надо, чтобы в безусловном сознании она полагалась как таковая. Значит, есть ли мировая душа или нет, является ли она или не является субъектом универсального сознания и вселенской чувственности, все равно, как она сама, так и все ее сознание является достоверным лишь постольку, посколь-
_____________
1) Кн. С. Трубецкой, П. с. т. II. 288,
57
кy оно удостоверено в безусловном сознании и в безусловной мысли. Но, если так, то безусловное сознание является единственным основанием всякой достоверности, и притом основанием непосредственным; никакие посредствующие инстанции ничего не могут дать для удостоверения каких-либо наших представлений, мыслей и суждений. Их достоверность или обоснована в безусловном сознании или вовсе лишена всяких оснований.
Что же касается сомнений в возможности безусловного сознания о мире в пространстве и времени, то они уже получили выше достаточное опровержение, вследствие чего здесь нет надобности к ним возвращаться. Или мы верим в возможность, сочетания нашего человеческого сознания с безусловным, или же мы должны отвергнуть возможность какого-либо истинного познания и сознания для человека. Но, если мы признаем, что Безусловное есть всеединое, что нет для него ничего непроницаемого, то мы должны допустить, что и формы пространства и времени не составляют исключения. И в них, хотя бы и несовершенно и неполно, может раскрываться его содержание. В этом и заключается основание для объяснения возможности человеческого познания.
V. Абсолютное как трансцендентное и имманентное миру в пространстве и времени.
Главная трудность в философском понимании пространства и времени, которая так или иначе должна найти себе разрешение в теории познания, заключается в следующем. —
С одной стороны абсолютное бытие по самому существу своему сверхпространственно и сверхвременно, ибо все, что есть в пространстве и времени, тем самым обусловлено и ограничено. Тем самым пространство и время исключаются из безусловно-Сущего и утверждаются как формы существования другого, обусловленного бытия. С другой стороны, утверждать пространство и время даже в этом качестве форм существования другого — значит предполагать их безусловность; ибо помимо безусловно-Сущего и вне его ничто действительным быть не может.
Антиномия, требующая себе разрешения, таким образом сво-
58
дится к следующему: все наше познание о мире в пространстве и времени предполагает с одной стороны, что эти формы существования могут быть действительны только вне Абсолютного, а с другой стороны, что они не могут быть действительны вне его. И то и другое предположение для нашего познания одинаково необходимы, из чего видно, что мы имеем здесь дело не со случайным противоречием, а с подлинной антиномией.
Нетрудно заметить, что эта антиномия представляет собою лишь частное выражение другой — более общей — именно антиномии Абсолютного и его другого. Оба эти противоположные термина — и Абсолютное и его другое — одинаково необходимо предполагаются нашим познаванием: ибо уже тем самым, что я предполагаю Истину не как данную мне, а как искомую, как познаваемую, но еще не познанную, — я утверждаю себя как другое по отношению к Абсолютному. Но этот акт утверждения Абсолютного и его другого опять-таки неизбежно антиномичен: ибо в нем другое полагается и вне Безусловного (иначе оно не было бы другое) и в Безусловном, так как вне его ничто не может существовать. Абсолютное предполагается в нашем познании и как отрешенное от всякого частного бытия и как всецелое, т.-е. объемлющее в себе все, — и как трансцендентное своему другому и как имманентное всему. В частности, по отношению к формам пространства и времени Абсолютное в нашем познании предполагается и как свободное, т.-е. отрешенное от этих форм и как полагающее их в себе. При этом для достоверности пространства и времени, для возможности каких-либо познавательных о них суждений, и то и другое предположение одинаково необходимы.
Самая попытка решения этого вопроса требует построения целой философской системы, ибо все вопросы теоретической метафизики, какие есть и могут быть, в конце концов приводятся к этому основному вопросу об отношении Абсолютного и его другого. Поэтому то решение, какое может быть намечено в пределах теории познания, является неизбежно лишь предварительным и неполным.
Прежде всего антиномия, отмеченная здесь, очевидно, есть, лишь противоречие нашей несовершенной способности постижения, а не внутреннее противоречие самого Абсолютного: ибо предположение.
59
двух исключающих друг друга истин в Абсолютном или об Абсолютном равнозначительно отрицанию последнего; а это означало бы самоотрицание самой человеческой мысли, отказ от нее, так как всякий ее акт покоится на предположении единого Абсолютного как единой Истины. Стало быть, всякий акт нашего познавания исходит из того предположения, что все антиномии, с которыми мы сталкиваемся, когда судим об Абсолютном, суть антиномии наши, а не абсолютной мысли, которые, стало быть, в единстве истины безусловной так или иначе разрешены или сняты.
Следовательно, — если для нашего познавания одинаково необходимо предполагать Абсолютное и трансцендентным и имманентным миру в пространстве и времени, то при этом предполагается, что в самом Абсолютном трансцендентность и имманентность не суть противоречивые определения. В Абсолютном то и другое может совмещаться, так что можно утверждать и то, что пространственно-временный мир пребывает вне Абсолютного, и то, что он пребывает в Aбcoлютнoм, с уверенностью, что в этих как будто исключающих друг друга утверждениях нет противоречия абсолютного, а есть только противоречие для нас, для нашего несовершенного понимания.
Идеалом и для нашего ума является, очевидно, не это внутренне противоречивое, а, стало-быть, и ложное мысленное отображение Абсолютного, внутренне извращенное его воспроизведение, а возможное приближение к единству истины, т.-е. к разрешению противоречия. Некоторая попытка такого разрешения подготовляется предшествующим изложением.
Раз необходимое предположение нашей мысли заключается в том, что Абсолютное и трансцендентно и в то же время имманентно своему другому, т.-е. миру в пространстве и времени, то единственно возможный смысл такого предположения заключается в том, что предикаты трансцендентности и имманентности присущи Абсолютному не в oднoм и том же отношении, т.-е. что в одном отношении Абсолютное трансцендентно, а в другом оно имманентно этому миру.
Некоторое пособие к пониманию этого совмещения противопо- ложностей (coincidentia oppositorum) в Абсолютном дает установленное уже выше различение между абсолютным бытием и
60
абсолютным сознанием. Мы уже видели, что необходимое предположение нашей мысли есть Абсолютное как сущее и как сознающее. Эти предикаты — не тождественны между собою, — ибо бытием Абсолютного, очевидно, не может быть что-либо другое, кроме его самого, — тогда как сознавать оно может и другое. Абсолютное сознание предполагается нашим познаванием потому, что именно оно — абсолютное сознание — и является необходимым условием возможности другого, при чем это другое в одно и то же время есть и не есть в Абсолютном.
В этом — первый шаг к разрешению нашей антиномии. Как сознающее, Абсолютное, очевидно, имманентно, всему, что есть: ибо быть — и значит быть положенным как сущее в абсолютном сознании; все, что есть — в нем содержится и в нем всецело осознано. Это утверждение сущего как сущего в безусловной мысли, это осознание и полагание его в абсолютном сознании — и есть тот акт, которым Абсолютное все в себе держит. Абсолютное как вседержащее, очевидно, присутствует во всем, ибо его активное сознание и деятельная мысль обосновывает собою связь бытия, которая бы иначе распалась. — Но с другой стороны очевидно, что такая имманентность не исключает трансцендентности в другом отношении.
Если Абсолютное полагает или держит другое в своем сознании то это еще не значит, чтобы это другое было причастно внутренней, имманентной для Абсолютного сфере его бытия. Сознаваемое другое может сознаваться в Абсолютном и как внутренне чуждое ему; стало-быть, будучи имманентным другому как полнота сознания о нем, Абсолютное может быть вместе с тем и потусторонним ему как бытие. Если наше человеческое сознание не ограничено областью нашего бытия, а может и вне его охватывать беспредельный мир возможностей, то то же самое а fortiori верно по отношению к сознанию абсолютному. Именно как сознающее, Абсолютное может одновременно и присутствовать в сознаваемом и (в другом отношении) — быть вне его, быть и трансцендентным и имманентным своему другому в одном и том же акте.
Впрочем, не только как сознающее, но и как сущее, Абсолютное может быть в одно и то же время и трансцендентным и имманентным другому. Можно без всякого логиче-
61
ского противоречия мыслить Безусловное, как действенно осуществляющееся в другом, можно без противоречия мыслить такое осуществление как постепенно совершающееся а, следовательно, в каждый отдельный момент несовершенное, не полное; в таком случае абсолютное бытие будет одновременно и имманентным другому, поскольку оно в нем раскрывается, и трансцендентным ему, поскольку полнота абсолютного бытия остается ему потустороннею или запредельною.
Отношение Абсолютного к миру, становящемуся во времени, очевидно, и не может быть иным: ибо с одной стороны все временное как движущееся, развивающееся, совершающееся, тем самым исключено из полноты безусловного бытия: временное, как таковое этой полноты в себе не вмещает. — С другой стороны, если бы в процессе генезиса во времени никакое приобщение к безусловному бытию не было возможно, то весь этот генезис, т.-е., иначе говоря, — весь процесс во времени — был бы процессом только мнимым, — в котором не возникало бы ничего действительного. По самому понятию своему временный мир как такой есть и не есть в Абсолютном. Для него одинаково существенно отношение к Абсолютному и как к потустороннему и как посюстороннему. Стало-быть, обращая термины, мы можем с таким же правом сказать, что Абсолютное, в свою очередь есть и не есть в этом временном мире: некоторым образом оно присутствует в этом мире, а некоторым образом не присутствует в нем.
VI. Эзотерическая и экзотерическая сфера в абсолютном
сознании.
В результате всего вышеизложенного получается чрезвычайно важный для гносеологии вывод.
С одной стороны полнота Абсолютного бытия исключает из себя все неполное, совершающееся, становящееся; с другой стороны абсолютное сознание объемлет все в себе, — как внутреннюю (имманентную) Абсолютному сферу бытия, так и внешнюю ему сферу другого; стало-быть, и другое объемлется абсолютным сознанием в обоих его существенных отношениях — и как утверждаемое в Абсолютном и как положенное вне его.
62
Иными словами это значит, что в абсолютном сознании есть две основные сферы, по отношению к коим все прочие возможные и действительные сферы его суть лишь частные подразделения. Это — область эзотерическая и область экзотерическая: первая есть область сознания Абсолютного о себе самом: вторая, напротив, есть сознание Абсолютного о другом, как полагаемом в отвлечении от абсолютного бытия, вне его.
Противоположность эта не должна быть понимаема в том смысле, чтобы другое было совершенно исключено из внутренней, эзотерической сферы абсолютного сознания: сознание Абсолютного о другом экзотерично лишь, поскольку это другое представляется внешними и чуждым ему бытием. Но ведь такое отношение Абсолютного к его другому вовсе не есть единственно возможное. Можно себе представить и такое их взаимоотношение, при котором другое всецело извнутри проникается Абсолютным, становится сосудом Безусловного и как бы его откровением, а Абсолютное действенно осуществляется в своем другом. В этом последнем случае, т.-е. именно поскольку оно проникается извнутри Абсолютным, „другое“ входит в эзотерическую сферу абсолютного сознания.
Я не предрешаю пока вопроса о том, имеет ли место в действительности это последнее, т.-е. эзотерическое отношение „другого“ к абсолютному; здесь, в пределах гносеологии рационального познания, речь идет пока даже не о реальной, а только о логической возможности этого отношения, т.-е. о его мыслимости. Оставаясь в этих пределах, мы можем следующим образом точнее определить высказанную здесь мысль. — Абсолютное может относиться к своему другому или внутренне, органически, проникая другое как содержание его бытия, наполняя его собою. Это — то отношение Абсолютного к его другому, которое на религиозном языке называется благодатным. Или же Абсолютное относится к другому не внутренним, а, так сказать, внешним образом, не как содержание, а как закон его бытия.
Вопрос о благодатном отношении Абсолютного к его другому есть вместе с тем и вопрос о религиозном отношении к Абсолютному. Как таковой он остается всецело за пределами гносеологии рационального познания, которая, как уже было выше сказано, не исходит ни из каких религиозных предпо-
63
ложений и не уполномочивает ни к каким религиозным выводам. Совершается ли это внутреннее проникновение другого Безусловным или нет, это — вопрос, который здесь даже не может быть затронут. Наоборот, вопрос о подзаконном отношении другого к Абсолютному имеет уже для гносеологии рационального познания первостепенное значение.
Что Абсолютное есть всеобщий закон мысли и бытия, что в области познания все ему подзаконно, — и познающий и познаваемое, — к этому в конце концов сводится все, что было высказано здесь об основном метафизическом предположении всякого познания. Мы уже видели, что все познаваемое как такое предполагается как положенное в абсолютном сознании и что в этом заключается необходимое трансцендентальное условие всякого познавания; в частности, поскольку наше познание относится к реальному бытию, оно предполагает, что в абсолютном сознании положено все, что есть, — и в этом предположении заключается необходимое условие всякого экзистенциального суждения. — Всеобщность, необходимость и безусловность, — т.-е. именно те признаки всякого познавательного суждения, которые выражают собою его необходимую форму, суть вместе с тем не что иное, как выражение закона Безусловного в познании. Высказывая какое-либо утверждение о каком-либо предмете в этой форме, — мы тем самым предполагаем, что он подзаконен Безусловному. На этом предположении основано всякое утверждение какой бы то ни было закономерности в познаваемом: ибо, где нет формы безусловности и всеобщности, — там нет и закона. Всякие наши умозаключения, — все равно от частного к общему или от общего к частному, — совершаются именно в этой форме. И все они могут быть правомерны лишь в том предположении, что безусловное есть всеобщий закон познаваемого, что все действительное и возможное в нем положено и в нем осознано.
Возвращаясь к ближайшему предмету настоящей главы, необходимо здесь отметить, что только в предположении экзотерической сферы в абсолютном сознании возможно разрешение указанной выше антиномии пространственно-временного бытия. Мы видели, что все временное как такое с одной стороны исключено из Абсолютного, а с другой стороны положено в Абсолютном, при чем для действительности временного бытия оди-
64
наково необходимо и то и другое предположение, — и то, что оно положено в Абсолютном, и то, что оно исключено из него. Теперь, с точки зрения установленного различия эзотерической и экзотерической сферы в абсолютном сознании, намечается правильный путь к разрешению этой антиномии.
Время, как таковое, очевидно, исключено из той внутренней, эзотерической сферы абсолютного бытия и сознания, где есть всяческая полнота: ибо там не может быть никакого изменения или стремления, а есть недвижный, вечный покой. Но, если время исключено из эзотерической сферы абсолютного сознания, это не значит, чтобы оно было исключено из абсолютного сознания вообще, ибо в этом последнем случае времени и временного просто на просто не было бы. Подлинное метафизическое место времени и временного есть экзотерическая сфера абсолютного сознания, т.-е. тот именно его акт, коим Абсолютное полагает другое в отвлечении от собственного своего бытия. Форма существования абсолютной полноты бытия есть вечность. Но, раз вне этой полноты актом абсолютной мысли полагается другое, — неполное, неутвердившееся во внутренней сфере Абсолютного существование, — для него вечность тем самым как бы приостанавливается, и в этом именно заключается сущность времени; для лишенного безусловной полноты существования вечность есть нечто недостигнутое, не данное, не совершившееся; вечность не удерживается в нем; но именно потому, что оно не удерживает в себе вечности, оно беспрерывно протекает. Для всего, что не обладает безусловной полнотой, стремление к ней и, следовательно, беспрерывное течение, беспрерывная смена состояний, есть необходимый закон существования. Отсюда мы получаем такое метафизическое определение времени: не будучи формой безусловного бытия, оно есть вместе с тем необходимый закон Безусловного для всякого бытия, положенного в экзотерической сфере абсолютного сознания. Подняться над этим законом, т.-е. над временем, „другое“ может лишь постольку, поскольку оно приобщается к бытию безусловному, т.-е. поскольку оно проникает в эзотерическую сферу Безусловного.
Сказанное здесь о времени не может быть целиком применено к пространству. Если временное как такое исключено из эзотерической сферы абсолютного сознания, то мы не можем того же
65
сказать а priori относительно бытия пространственного. Между пространственным и вечным нет той логической несовместимости, какая есть между вечным и временным. Что все пространственное пребывает в непрерывном движении и постольку находится вне эзотерической сферы-абсолютного сознания, это — не более, как эмпирический закон и простой факт нашей действительности, которому, как и всякому только фактическому существованию, может когда-либо наступить конец. Что наш пространственный, т.-е. телесный мир, движется, — это свидетельствует лишь о том, что в настоящей стадии его существования абсолютная полнота бытия в нем не явлена и не осуществлена. Заключать отсюда к невозможности абсолютной телесности, т.-е. такой формы пространственного бытия, которая была бы действительным воплощением и откровением Абсолютного, мы не имеем права; если такая телесность уже явлена или когда-либо явится, то в этом предположении ее надлежит считать включенной в эзотерический план бытия. В пределах теории познания мы, разумеется, не можем предрешать, случится это или нет; здесь для нас важно только отметить, что логически не исключена ни та ни другая возможность.
VII. Экзотерический план абсолютного сознания как область рационального познания в отличие от откровения.
Нетрудно предвидеть, что высказанные здесь мысли встретят энергический отпор с двух диаметрально противоположных точек зрения: одним они покажутся вторжением мистицизма в область научного исследования: другие, напротив, возмутятся с религиозной точки зрения этой попыткой связать рациональное, научное знание с „недосягаемой “ для науки областью абсолютного сознания. Одни будут упрекать меня в ложном мистицизме, другие, напротив, — в ложном рационализме.
В ответ на эти упреки нам предстоит здесь выяснить, что в вышеизложенном нет ни посягательства на самостоятельность науки или религиозной веры, ни смешения этих двух разнородных областей. Напротив, с той точки зрения, на которой мы стоим, возможно и даже необходимо отчетливое и строгое их разграничение.
66
Мы пришли к тому результату, что наше человеческое познание возможно лишь постольку, поскольку в абсолютном сознании есть область ему открытая и доступная. Тут нет ни „умаления достоинства“ науки, ни „посягательства“ на ее самостоятельность, ни попытки подчинить ее каким-либо чуждым ей критериям; наоборот, тут есть философское обоснование и утверждение тех имманентных критериев, которыми научное знание всегда пользовалось и пользуется. Гносеологическое исследование, которое было здесь изложено, — именно потому, что оно гносеологическое, — не дает никаких руководящих начал для того научного знания, которое оно исследует, а только вскрывает его необходимые логические предпосылки, выясняет условия его достоверности. Во всяком человеческом знании, следовательно, и в знании научном, нам открывается известная сфера безусловного сознания; в этом результате нет ни расширения ни умаления области чисто-рационального знания; вместо всего этого есть только ее удостоверение, только обоснование права науки высказывать суждения о познаваемом в форме всеобщности и безусловности. Все притязание вышеизложенного исследования заключается лишь в том, чтобы быть точной рефлексией о человеческом познании, поскольку оно является исключительно рациональным: в качестве таковой она не вносит в изучаемый ею предмет какого-либо нового содержания, не навязывает познанию каких-либо посторонних ему идеалов и норм, а берет его таким, каково оно есть, рассматривает его с точки зрения его собственных задач и стремлений.
Есть ли в вышеизложенном какое-либо незаконное вторжение рационального познания в область религии или какое-либо умаление этой области? Оно несомненно имело бы место, если бы мы утверждали, что никаких тайн в абсолютном сознании для нашей мысли нет и, что, следовательно, вся полнота абсолютного бытия может быть познана нами безо всякого содействия откровения. Но ничего подобного мы не утверждали и не утверждаем. Смысл вышеизложенного — тот, что наше человеческое познание как в действительности своей, так и во всех своих возможностях до дна открыто сознанию абсолютному, и что мы не можем познать решительно ничего, что бы не было им осознано. Если я утверждаю, что солнце светите в
67
моей комнате, я этим, разумеется, не умаляю ни солнца, ни его света: ибо утверждать, что оно озаряет небольшую комнату в две-три квадратных сажени, очевидно, не значит отрицать, что за пределами этой комнаты солнечный свет освещает необъятные горизонты. То же верно и в гносеологии: утверждать, что беззавистный источник света, который наполняет собою все действительное и возможное, освещает и тот маленький уголок, который называется областью человеческого познания, очевидно, не значит умалять этот свет: умаление имело бы место в том случае, если бы мы утверждали, что весь свет целиком содержится в этом уголке, что абсолютное сознание целиком вмещается в человеческом рациональном познании. Но смысл вышеизложенного диаметрально противоположен такому утверждению. Мы пришли к тому заключению, что наше человеческое познание предполагает умопостигаемое солнце абсолютного сознания. Но это солнце — кроме доступной нам области — наполняет светом бесчисленные миры. Абсолютное сознание объемлет и держит в себе множество планов бытия, из коих чистому рациональному познанию доступен лишь один; да и в этом одном мы знаем лишь его поверхность. А за этой видимой и познаваемой нами поверхностью скрываются беспредельные и бездонные глубины, — также до дна освещенные, также всецело открытые, но не нашему, а безусловному сознанию.
Таким образом вышеизложенная точка зрения приводит не к отрицанию, а, как раз наоборот, — к признанию запредельных нашему дознанию тайн сознания безусловного. Могут ли эти тайны в той или другой степени быть нам открыты за пределами рационального познания, на почве религиозного отношения к Абсолютному, — это вопрос, который выходит за пределы гносеологии рационального познания и, следовательно, не может быть ни разрешен, ни даже поставлен в ней во всем его объеме. Здесь нам важно лишь отметить, что вышеизложенная точка зрения не исключает возможности откровения. Раз область чистого, независимого от религии рационального познания — по самому существу своему ограничена тесными пределами, за этими пределами открывается область возможностей, которую мы с нашей человеческой точки зрения не в праве ограничивать, потому что это значило бы вносить ограничения в Безусловное.
68
Ясно и определенно формулировать высказанную здесь точку зрения, — значит убедиться в том, что между нею и религиозным откровением не только нет, но и не может быть столкновений, поскольку наука остается наукой, а откровение — откровением. Правда, мы пришли к выводу, что рациональное познание, к чему бы оно ни относилось, каков бы ни был его предмет, возможно лишь через Абсолютное; но в рациональном познании и в откровении мы имеем два совершенно отличные друг от друга отношения человека к Абсолютному и к абсолютному сознанию.
Общее и основное отличие выражается в том, что рациональное познание, поскольку оно остается только рациональным, сосредотачивается всецело и исключительно в экзотерическом плане абсолютного сознания и вовсе не проникает в эзотерический план. Наоборот, сущность откровения заключается именно в проникновении человеческого сознания в эзотерический план абсолютного сознания, точнее говоря, в проникновении этого плана в человеческое сознание. — Резкая граница между рациональным знанием и откровением кладется понятием Богоявления или теофании. Наука как такая с ним совершенно не сталкивается, так как предметом ее изучения не является явление Абсолютного; она изучает не самое Абсолютное, а многообразие явлений его другого; для рационального научного знания как такого — Богоявление есть иная феноменальная действительность, иной план бытия, о котором оно ничего не знает. Также и философия, поскольку она остается на почве исключительно рационального знания, - не имеет дела с непосредственным явлением Абсолютного, а восходит к Абсолютному умозрительным путем, отправляясь от действительности другого. Для чистой рациональной философии Абсолютное является только предметом умозрения, а не опыта. Как только Абсолютное становится для нее непосредственным явлением, данностью внутреннего опыта или опыта коллективного, она тем самым становится на определенно религиозную точку зрения и, следовательно, перестает быть исключительно рациональной.
Откровение, как объективное, так и внутреннее, субъективное, всецело покоится на предположении, что Абсолютное явило себя человеку как Бог, причем откровение объективное указы-
69
вает на определенное объективное явление Божественного в истории, а откровение субъективное предполагает ряд явлений Божества во внутреннем мире человека.
Утверждая, что здесь именно лежит грань, отделяющая откровение от чисто рационального, хотя бы и философского познания, я вовсе не хочу этим сказать, — что рациональное познание и признание Богоявления, т.-е. божественной эмпирии, взаимно друг друга исключают. — Напротив, философия может свободно прийти к признанию такого явления, философское исследование может привести нас к свободному выбору той или другой точки зрения на явленную нам действительность Абсолютного, углубить и расширить наше сознание этой действительности. Но с той минуты, как Абсолютное становится для нее эмпирией, данностью, философия перестает быть только рациональным учением и становится кроме того и философией откровения.
Чисто рациональная философия имеет дело исключительно с той экзотерической областью абсолютного сознания, где собственное бытие Абсолютного еще не явлено, где еще нет внутреннего проникновения его в другое. Мы уже видели что это — область подзаконная Абсолютному, т.-е. что в ней оно открывается не как внутреннее содержание, а лишь как трансцендентальное условие или, что то же, как всеобщий закон мысли и бытия.
Этим точно определяется предел рационального познания об Абсолютном. Рациональная философия может познать его не в его собственном бытии (ибо для этого требуется опыт об Абсолютном, т.-е. откровение), а лишь как закон другого. Это — естественный предел для мысли, которая не имеет непосредственного соприкосновения с областью безусловного бытия, для которой эта область не есть конкретное переживание, а только предмет отвлеченного созерцания. В этих пределах наше познание об Абсолютном поневоле остается весьма скудным и схематичным; за то оно обладает безусловною достоверностью.
Что такое абсолютное бытие в собственной своей имманентной сфере, — этого мы, очевидно, не можем узнать одними усилиями мысли или умозрения, так как всякое реальное бытие познается из опыта, и бытие абсолютное не составляет исключения из этого правила. В этом опыте, который входит в область исключительно рационального познания, нам дано только
70
другое, — Но и этого достаточно, чтобы знать об Абсолютном как о необходимом условии всякого другого т.-е. всякой реальности и всякого познания. Что Абсолютное есть как всеединое, что оно обладает полнотой бытия и сознания что оно держит в своем сознании все, что есть, это мы можем знать с достоверностью уже в пределах рационального знания, ибо в этом состоит необходимое его предположение; а в своих необходимых предпосылках рациональное знание может и должно дать себе отчет.
Было бы, однако, весьма неосторожным приписывать этому знанию значение доказательства бытия Божия и вообще утверждать, что в нем есть религиозное содержание. Ибо признать абсолютное сознание, которое все в себе держит — и добро и зло, и прекрасное и безобразное — еще не значит сказать ему „Господь мой и Бог мой“. Для такого отношения к Абсолютному нужно признать его как благой смысл всего, что есть; но для этого нужно узнать его в нем самом, отдельно от того несовершенного другого, которое он держит в своем сознании. Ибо, кто видит только это другое, — тот не проникает в мировой смысл и не возвышается над видимой бессмыслицей временного существования 1).
Предельное понятие рациональной философии — Абсолютное как вседержащее — само по себе лишено религиозного содержания. Ибо, если бы Абсолютное было только вседержителем, оно не было бы Богом.
Для нас важно пока отметить, что в пределах рациональной философии может быть установлена необходимость этого понятия, как основание всякой достоверности. Всякая достоверность и всякое познание покоится на том предложении, что в абсолютном сознании есть некоторая область, открытая познающему независимо от его религиозного отношения к Абсолютному.
_____________
1) Этим объясняется между прочим тот факт, что сторонники доказательств бытия Божия чаще встречаются среди мыслителей-рационалистов, нежели среди людей религиозных; удовлетвориться такими доказательствами могут только те, для кого мысль о Боге исчерпывается отвлеченными умозрительными схемами. Вся полнота содержания идеи Бога дается данными религиозного опыта и, следовательно, а priori выведена быть не может.
_______________
71
ГЛАВА III
Чистые понятия.
I.Ложный антропологизм в учении Канта о категориях.
В учении Канта о чистых понятиях или категориях мы без труда найдем те же достоинства и те же недостатки, как и в его учении о пространстве и времени. «Коперниково открытие» и тут остается незавершенным. С одной стороны, Канту в самом деле удалось доказать, что все наши познавательные суждения обусловлены а priori чистыми понятиями, которые составляют необходимое условие всякого опыта и, следовательно, не могут от него получать свою значимость или на нем основывать свою достоверность. С другой стороны, решение вопроса о правомерности применения этих понятий к познаваемому и о достоверности обусловленного ими объективного знания, остается тут по существу антропологическим, а, следовательно, глубоко неудовлетворительным.
Форма всеобщности в процессе нашего познавания предваряет всякий возможный его предмет и, следовательно, составляет необходимое априорное условие всякого опыта. Раньше всякого опыта она предопределяет всякие наши познавательные суждения о предметах; стало быть, некоторые чистые, т.е. независимые от опыта понятия или категории, составляют необходимый prius всякого познания, — в этом Кант совершенно прав.
Но этим еще не решается вопрос об объективной значимости категорий. По какому праву мы применяем к предметам наши априорные понятия, и что нам ручается за то, что в результате такого применения получается объективное, т.е. общезначимое, для всех обязательное знание? Ответ Канта на этот вопрос заключается в указании на субъективность явления — той единственной области бытия, в которой наши чистые
72
понятия могут применяться. — «Чистые понятия рассудка возможны а priori и даже в отношении к опыту необходимы только потому, что наше познание имеет дело с явлениями, коих возможность заключается в нас самих, коих связь и единство (в представлении предмета) существует только в нас, следовательно, должны предшествовать всякому опыту и впервые делают его возможным со стороны формы». Кант категорически заявляет, что «на этом единственно возможном основании» построена вся его дедукция категорий (І-е изд., 130), т.е., говоря иначе, весь его ответ на вопрос о правомерности их применения.
Так выражается точка зрения «Критики чистого разума» в первом ее издании; во втором издании мы находим совершенно тот же взгляд, хотя и выраженный иными словами: «что законы явлений в природе должны сообразоваться с рассудком и его априорной формой, т.е. с его способностью соединять многообразие вообще, это не более странно, чем то, что сами явления должны согласоваться с формой чувственного воззрения а priori. В самом деле, законы существуют не в явлениях, а только в отношении к субъекту, которому присущи явления, поскольку он обладает рассудком, точно так же, как и явления существуют не в себе, а только лишь в отношении к тому же существу, поскольку оно обладает чувствами. Вещам в себе закономерность была бы необходимо присуща также и вне рассудка, познающего их. Но явления суть лишь представления о вещах, которые остаются непознанными в отношении того, чем они могут быть в себе. В качестве же простых представлений они подчиняются не иначе как тому закону соединения, который предписывается им соединяющей способностью» (164).
Видимость обоснования познания получается здесь посредством того же незаконного превращения «я» в «мы», которое уже было выше отмечено. Право применения моих категорий к явлениям по Канту обусловливается тем, что явления суть мои представления. — Этого предположения, очевидно, недостаточно для обоснования возможности объективного, для всех обязательного знания. В самом деле, если явления суть только мои представления, то какое право я имею предполагать, что те же явления воспринимаются другими людьми? В чем заключаются основания предположения, что у этих «другихъ» — те же, что и у меня чистые понятия?
73
Очевидно, что в каждом акте познавания я выхожу за пределы моих представлений как таковых; я предполагаю общезначимостъ явления, о котором я высказываю то или другое познавательное суждение и общезначимость необходимых форм моего суждения, т.е. моих чистых понятий.
Как должны быть понимаемы вышеприведенные слова Канта, что «законы существуют не в явлениях, а только в отношении к субъекту, которому присущи явления»? Стать на ту точку зрения, что этот «субъект», которому присущи данные конкретные явления, есть только данное психофизическое лицо, — значит разом уничтожить всякую возможность объективного познания. Ибо объективное познание с самого начала предполагает различие между субъективной галлюцинацией, которую действительно воспринимает только данный психофизический субъект, и объективной действительностью явлений, которую должны воспринимать все. Совершенно так же познание предполагает различие между бредовыми связями представлений, присущими явлениям только в отношении к данному субъекту, и такими объективными связями представлений, которые всеми должны признаваться как закон самой действительности, самой природы.
В понятии «закона природы», хотя оно относится несомненно к явлениям, а не к каким-либо метафизическим «сущностям», есть очевидный transcensus, очевидный выход за пределы представлений человеческого субъекта. Одно из двух, — или закон природы действителен за пределами моих представлений, или он вовсе не есть закон природы.
Метафизический характер опытных суждений обнаруживается против воли Канта у него самого, в том рассуждении его «Пролегомен», где опыт сопоставляется с суждениями восприятия. Пока я рассуждаю только о моих субъективных переживаниях как таких, — мои суждения остаются только «суждениями восприятия», которые по Канту имеют лишь субъективную значимость. С его точки зрения опыт начинается лишь с того момента, когда мое восприятие или эмпирическое сознание связывается мною в суждении с «сознанием вообще» (Bewusstsein überhaupt)1). Мое восприятие, например, свидетельствует о том,
_______________________
1) Poleg. § 20.
74
что камень нагревается, когда его освещает солнце, но в этом восприятии, как таком, еще нет опыта.
«Если же я говорю: солнце согревает камень, то тут уже сверх восприятия привходит еще рассудочное понятие причины, связывающее необходимо с понятием солнца понятие теплоты, и синтетическое суждение становится необходимо всеобщим, следовательно объективным, и из восприятия превращается в опыт»1).
Сопоставляя это объяснение с приведенными выше рассуждениями об основаниях правомерности применения категорий к объективному знанию, мы убедимся, что в основе трансцендентальной аналитики Канта лежит безысходное противоречие: с одной стороны я имею право применять мои субъективные чистые понятия к явлениям единственно потому, что и явления суть только мои представления, причем это связывание категориями действительно лишь в отношении к субъекту, которому присущи явления. С другой стороны Кант категорически заявляет, что объединение наших представлений «происходит или только относительно субъекта, — тогда оно случайно и субъективно; или же оно происходит безотносительно к субъекту (schlechthin), и тогда оно необходимо и объективно» (§ 2).
Противоречие это у Канта — совершенно неустранимо: ибо с одной стороны он хочет обосновать знание, т.е. такое применение категорий, которое действительно имеет безусловное а, стало быть, безотносительное к каждому данному субъекту значение: с другой стороны, поскольку Кант признает за категориями значимость только субъективную, он не имеет ни малейшего права приписывать им и связыванию представлений через их посредство значение безотносительное к субъекту, — хотя бы даже в пределах явлений.
Противоречие лежит в самом существе попытки антропологического обоснования знания; с одной стороны ее задача — в том, чтобы найти безусловное основание достоверности познания в самом познающем человеческом субъекте; с другой стороны всякий познавательный, акт по существу своему выходит за эти пределы: всякое познание как такое притязает на транссубъективное значение. Неудивительно, что в результате антро-
____________________
1) Ibid.
75
пологическое, т.е. по существу субъективное объяснение и обоснование познания у Канта оказывается невыдержанным. Видимость обоснования получается лишь постольку, поскольку сам познающий человеческий субъект или, точнее говоря, какая-либо одна из его способностей, одна из функций его ума незаметно для самого Канта получает абсолютное значение. Изгнанное из «Критики чистого разума», Абсолютное возвращается туда в человекообразной маске: ибо в конце концов вся суть антропологической теории познания заключается в подстановке человеческого на место безусловного, точнее говоря, — в смешении того и другого.
Эта черта в особенности ярко сказывается в учении «Критики» и «Пролегомен» о нашем рассудке как законодателе природы. С одной стороны Кант всячески подчеркивает человечность рассудка и вытекающую отсюда приложимость его категориальных форм только к тому, что нам — людям является. С другой стороны, поскольку этот рассудок предписывает законы всем явлениям, какие есть и будут, явлениям не только действительным, но и возможным, — он этим, очевидно, выходит за пределы чисто человеческого, ибо человеческое законодательство как такое не могло бы быть безусловным. Только безусловная мысль может связывать заранее, а priori, определенными формами все явления действительные и только возможные. Поскольку Кант приписывает человеческому рассудку это всеобщее законодательство, необходимо подчиняющее себе все, что есть в природе, — рассудок тем самым наделяется свойствами мысли безусловной.
«Имманентное употребление» категорий рассудка — в пределах моего или хотя бы даже общечеловеческого опыта — есть чистейший самообман. Ибо самым своим притязанием на всеобщность и безусловность категории выходят за пределы возможного опыта, который дает вам только частное. Самое выражение «в пределах возможного опыта» есть величайшее недоразумение. — Всякое априорное познание о природе или о «порядке природы» предполагает природу как целое и представляет собою высказывание об этом целом: иначе оно теряет всякий смысл. Так, напр., закон причинности есть или закон всего, что совершается во времени, или он вовсе не есть закон. Но
76
природа как все и как целое не только не дана нам, но и не может быть дана нам в опыте: предметом возможного опыта является только частное, только отдельные части природы. Когда мы судим о целом (а такое суждение мы имеем во всяком априорном высказывании о природ), — мы тем самым выходим за пределы возможного опыта вообще и всецело становимся на почву умозрения.
Оправдывать «законодательство рассудка» совпадением природы с нашим возможным опытом, стало быть, невозможно. Мы видим природу как целое (даже если понимать под этим целым совокупность явлений) только умом. И приписывать тем или другим формам этого умозрения значение безусловных и необходимых законов природы — значит предполагать, что необходимые формы нашей мысли суть определения самой мысли безусловной. Только в этом предположении возможна та присущая всякому объективному познанию уверенность, что формы нашей мысли (как, напр., закон причинности) в природе действительны безусловно, совершенно независимо от того, существуем или не существуем мы и даже самый род человеческий.
II. Трансцендентальная апперцепция у Канта.
Основное противоречие «трансцендентальной аналитики» Канта особенно резко выступает в центральном и важнейшем для нее учении — о трансцендентальном единстве самосознания или о трансцендентальной апперцепции. Характерное для ложного антропологизма смешение человеческого и Безусловного здесь получает наиболее ясное и сосредоточенное выражение. — Ибо именно здесь функция мысли чисто человеческой приобретает значение универсально-космическое, утверждается как условие возможности не только объективного знания, но и объективного существования целого мира явлений во времени.
«Трансцендентальной апперцепции» принадлежит в «Критике чистого разума» двойственное значение — субъективно-психологического условия познания и вместе с тем — объективно логического основания его достоверности; при этом тот и другой момент у Канта не разграничен, вследствие чего страницы, посвященные трансцендентальной апперцепции, принадлежат к
77
числу наиболее темных и трудных для понимания в «Критике чистого разума».
Ход мысли Канта в общем сводится к следующему. — «Я могу судить о чем бы то ни было лишь постольку, поскольку все представления, входящие как элементы в мое суждение, сопровождаются единым, всегда тождественным с собою утверждением «я мыслю»: ибо для того, чтобы судить, я должен одинаково признавать как мои все те представления, о которых я сужу. Следовательно, говорит Кант, все многообразие наглядного представления имеет необходимое отношение к «я мыслю» того самого субъекта, в котором это многообразие находится» (2-е изд., 132).
О чем идет здесь речь, — о психологических условиях или о необходимых логических предпосылках суждения? В первом случае Кант, разумеется, совершенно прав. Психологически всякое суждение действительно обусловливается единством мыслящего субъекта. Я не мог бы связать двух представлений в суждения, если бы оба представления не были представлениями одного и того же сознания — моего сознания. Поэтому раньше всякого суждения я уверен в тождестве моего мыслящего субъекта и без этой уверенности не мог бы судить ни о чем.
Стало быть, пока идет речь о субъективно-психологических условиях суждения, аргументация Канта совершенно правильна. Если мы допустим, что тождество сознания познающего могло нарушиться в течение процесса познавания или вообще может быть нарушено, то тем самым познание становится для такого субъекта действительно невозможным.
Но для Канта значение так понимаемой трансцендентальной апперцепции — вовсе не только психологическое. В ней он хочет найти решение собственно трансцендентального, т.е. гносеологического вопроса — о логических предположениях познания. И эта его попытка встречается с рядом непреодолимых затруднений.
Прежде всего для этого ему приходится утверждать трансцендентальную апперцепцию и как акт сознания данного психологического субъекта, и в то же время — как акт универсальный, сверхиндивидуальный, сверхпсихический; это — такой акт, в котором все познающие и даже все сознающие субъекты сходятся.
78
В приведенном выше (стр. 78) заявлении, что все многообразие наглядных представлений имеет необходимое отношение к представлению «я мыслю» «того самого субъекта», в котором это многообразие находится, Кант как будто предполагает субъекта эмпирического, психологического, т. е. функцию мысли именно такого субъекта. В дальнейшем, однако, трансцендентальная апперцепция резко противополагается всему эмпирическому, психологическому и в этом противоположении наделяется свойствами сознания сверхъиндивидуального, универсального.
«Это представление», продолжает Кант (речь идет о представлении «я мыслю») «есть акт самодеятельности, т.е. оно не может рассматриваться как принадлежащее чувственности. Я называю его чистою апперцепциею, чтобы отличить его от эмпирической апперцепции; оно есть самосознание, производящее представление «я мыслю», которое должно иметь возможность сопровождать все остальные представления и быть тожественным во всяком сознании (курсив мой); следовательно, это самосознание не может сопровождаться никаким дальнейшим представлением; поэтому я называю его также первоначальной апперцепцией» (2-е изд., 32)1).
Двойственный характер трансцендентальной апперцепции обнаруживается здесь как нельзя более ясно. С одной стороны она — акт моего сознания, и, по Канту, право каждого данного субъекта — произносить априорные суждения о явлениях — основывается именно на том, что явления суть его представления. Именно в этом смысле Кант говорит, что «первоначальное и необходимое сознание тожества нашего Я есть, в то же время, сознание столь же необходимого единства синтеза всех явлений согласно понятиям, т.е. согласно правилам» (I изд., 108). Логическое основание априоризма с этой точки зрения заключается в том, что явления как мои представления должны сообразоваться с формами моего сознания, как с априорным их условием (II изд., 132). В том же смысле Кант утверждает, что «именно это трансцендентальное единство апперцепции создает из всех возможных явлений, какие только могут су-
___________________
1) Ср. I изд., 107—108.
79
ществовать в опыте, — связь всех этих представлений сообразна законам» (I изд., 108).
Сказанным, однако, не разрешается основной гносеологический вопрос: если я имею право судить а priori только о моих представлениях, то какое право я имею связывать такими суждениями других — всякого возможного субъекта познания? По какому праву я требую для моих априорных суждений общего признания? Иначе говоря, до тех пор, пока трансцендентальная апперцепция остается функцией замкнутого в себе индивидуального сознания, она не объясняет и не обосновывает именно того свойства априорного познания, которое требуется обосновать его общезначимости.
Видимость обоснования получается лишь постольку, поскольку трасцендентальная апперцепция утверждается как сверхиндивидуальный, тожественный во всяком сознании акт1). Иначе говоря, в учении о трансцендентальной апперцепции у Канта совершается безотчетный, им самим несознанный выход за пределы моих представлений в транссубъективную область (transcensus). Только при этом условии моя трансцендентальная апперцепция может безусловно связывать моими чистыми понятиями не только мои чувственные представления, но и всякие возможные чувственные представления других познающих субъектов. Основное противоречие антропологической гносеологии Канта выражается в непрерывном колебании между двумя существенно различными пониманиями трансцендентальной апперцепции и категориального синтеза, из коих одно — весьма узкое, а другое, напротив, — чрезмерно широкое. С одной стороны все оправдание априорного знания у него построено на том предположении, что формы моего сознания (моя трансцендентальная апперцепция) имеют безусловное значение в пределах моих представлений и только в этих пределах. С другой стороны «Критика чистого разума» категорически заявляет: «Чистые понятия рассудка относятся при посредстве одного лишь рассудка к предметам наглядного представления вообще, независимо от того, сходны ли эти наглядные представления с нашими или нет» (II изд.150). Здесь Кант, очевидно, не замечает, что наглядные предста-
___________________
1) См. приведенную выше цитату, стр. 79.
80
вления, «несходные с нашими» или даже просто не наши, тем самым трансцендентны нашему сознанию; стало быть, применение к ним категорий представляет типический случай трансцендентного их применения — того самого, которое воспрещается «Критикой чистого разума». Но без нарушения этого запрета, — объективное познание было бы, очевидно, невозможным. Если бы человеческий субъект ограничивался строго имманентным применением категорий только к тому, что ему является, его суждения, очевидно, не могли бы иметь общего для всех значения. Оправдание «общезначимого» знания у Канта достигается путем незаметного для него самого превращения трансцендентальной апперцепции из акта индивидуального сознания в акт «сознания вообще»; только благодаря этому у него «категории, будучи чистыми формами мысли, приобретают, тем не менее, объективную реальность» в применении к явлениям (II изд.,150—151), а самые явления из субъективной данности превращаются в объективную действительность, которая существует безотносительно к тому, воспринимается или не воспринимается она каждым отдельным субъектом.
Превращая Я индивидуальное в Я абсолютное, универсальное,— Фихте только договаривает мысль Канта. Превращение это зачинается уже в «Критике чистого разума», — именно в ее учении о трансцендентальной апперцепции. Только с точки зрения такого универсального, сверхиндивидуального понимания трансцендентальной апперцепции можно понять, например, такое заявление «Критики чистого разума»: «Первоначальное и необходимое сознание тождества нашего Я есть в то же время сознание столь же необходимого единства синтеза всех явлений согласно понятиям, т.е. согласно правилам, которые делают явления не только необходимо воспроизводимыми, но таким образом определяют для их наглядного представления предмет, т.е. понятие о чем-то, в чем они необходимо связаны» (I изд., 108). Во втором издании «Критики» трансцендентальная апперцепция объективируется, быть может, еще более, нежели в первом. Здесь Кант уже прямо говорит, что самое «суждение есть не что иное, как способ приводить определенные познания к объективному единству апперцепции. Относительное словечко есть в суждении имеет целью именно отли-
81
чить объективное единство данных представлений от субъективного. Им обозначается отношение представлений к первоначальной апперцепции и необходимое единство их, хотя бы само суждение и было эмпирическим, следовательно случайным, как напр. суждение — тела тяжелы». Лишь через отнесение представлений к трансцендентальной апперцепции «возникает суждение, т.е. отношение, имеющее объективное значение и достаточно отличающееся от отношения тех же самых представлений, которое имело бы только субъективное значение, напр., согласно законам ассоциации. Согласно законам ассоциации я мог бы только сказать: если я несу тело, я чувствую давление тяжести, но не мог бы сказать: оно, тело, есть нечто тяжелое, следовательно, утверждать, что эти два представления связаны в объекте, т.е. без различия состояний субъекта, а не сосуществуют только (как бы часто это ни повторялось) в восприятии» (II изд., 141—142).
Подстановка человеческого на место безусловного достигает высшей своей точки именно здесь: ибо Кант категорически заявляет, что через отнесение представлений к трансцендентальной апперцепции они перестают быть субъективными. Трансцендентальная апперцепция сообщает им характер безусловной необходимости. Очевидно таким образом, что она здесь наделяется свойствами сознания безусловного; но вместе с тем, по Канту, она продолжает быть функцией самосознания психофизического, человеческого субъекта. В разрешении этого противоречия заключается вместе с тем и путь к правильному разрешению гносеологической задачи.
III. Положительное и отрицательное в Кантовом учении о трансцендентальной апперцепции.
Заблуждение Канта здесь, как и во всей вообще «Критике чистого разума», заключается вовсе не в утверждении человеческого в безусловном, а в неразличении, точнее говоря, в смешении того и другого, вследствие чего «трансцендентальная апперцепция» у него носит неясный, двойственный облик. Недостаток заключается здесь именно в сбивчивости, в проходящей через всю трансцендентальную аналитику путанице по-
82
нятий. Кант выдвигает то субъективно-антропологическую сторону трансцендентальной апперцепции, то, наоборот, ее сверхиндивидуальную, объективно-универсальную функцию; и именно неразличение этих противоположных определений, постоянное колебание между теми и другими делает чтение соответствующих отделов «Критики» крайне утомительным. По меткому замечанию Паульсена, кто читает в первый раз трансцендентальную аналитику, у того является такое настроение, как будто он весь день странствовал среди бесконечных дюн; каждый раз, когда у странника является надежда, что он взлез на последнюю вершину и увидит перед собою цель, перед ним вырастают все новые и новые холмы1).
Такое изложение типично для автора, который сам не с полной ясностью видит цель своего странствования. «Новые холмы» беспрестанно вырастают перед читателем именно от того, что Кант сам не может успокоиться и остановиться как на окончательном на каком-либо из даваемых им определений трансцендентальной апперцепции; вот почему он нагромождает одну на другую все новые и новые характеристики, чем однако не устраняется общий всем им основной недостаток.
Недостаток этот может быть устранен только путем ясного различения того, что у Канта смешивается, т.е. человеческого и безусловного. Познающий человеческий субъект должен сознать себя как другое по отношению к Абсолютному; в этом состоит необходимый но, конечно (запомним это), — только первый шаг к обоснованию возможности познания. — Ибо познание, хотя бы и человеческое, характеризуется признаком безусловности и всеобщности а, стало быть, — предполагает возможность некоторого осуществления безусловного в познающей человеческой мысли. Поэтому, отличив эту мысль от Абсолютного, теория познания должна сделать второй и еще более важный шаг: она должна, понять единство Абсолютного и его другого в познании, т.е. она должна понять возможность того именно объединения человеческого и Абсолютного в мысли, без которого все человеческое познавание вообще превращается в пустую претензию. Ложный антропологизм Канта заключается вовсе
________________________
1) Паульсен, Кант, русский перев. Н. Лосскаго, стр. 71.
83
не в том, что в его гносеологии происходит некоторое объединение человеческого и Безусловного, а в том, что, благодаря неразличению или неясному различению того и другого, философ не находит и не может найти подлинной точки их объединения. Величайшее препятствие к объединению есть смешение: чтобы объединить в мысли какие-либо необходимые противоположности, необходимо сначала строго их различить. И именно в этом различении мы найдем подлинный, ускользнувший от внимания Канта смысл трансцендентальной апперцепции.
По Канту, как мы видели, — трансцендентальная апперцепция — тот первоначальный акт мысли, который обусловливает собою всякое человеческое познание, — сводится к сознанию тождества познающего субъекта, — к представлению «я мыслю», сопровождающему всякий наш мысленный акт. — Наше познание и в самом деле обусловлено одной первоначальной мыслью — интуицией, но только эта первоначальная интуиция или апперцепция вовсе не такова, как она представляется Канту.
Тожество познающего субъекта, как сказано, — только необходимое психологическое условие познавания, а вовсе не необходимое логическое предположение познавательного суждения. Утверждаю ли я, что дважды два — четыре или что земля вращается вокруг солнца, мое «я мыслю» такими утверждениями отнюдь не предполагается и ни в каком отношении не составляет их необходимую логическую предпосылку. Эти положения остаются безусловно достоверными и истинными совершенно независимо от того, мыслю я их или нет. А потому, когда я утверждаю, что дважды два —четыре, мое «я мыслю» вовсе не является необходимым логическим сопровождающим такого суждения. Напротив, аподиктическая достоверность приписывается мною данному положению именно потому, что, утверждая его, я отвлекаюсь и от моего, и от всякого другого познающего Я. Положение остается верным, хотя бы этих субъектов познавания вовсе не было.
Всякое положение в познании приобретает для нас достоверность лишь постольку, поскольку мы связываем его с чем-то безусловным, что раньше всякого акта познания для нас достоверно; но это безусловное prius всякого познания у Канта осталось необнаруженным. То представление «я мыслю», в кото-
84
ром он видит первоначальное, ничем другим не обусловленное условие нашего познания, на самом деле вовсе не первоначально, а сложно и при этом обусловлено. А именно, как уже было вскользь указано выше, — наше самосознание, как и всякое вообще наше сознание о чем-либо, обусловлено интуицией Безусловного, которая и составляет первоначальное предположение не только всего нашего познания, но и всякого нашего мысленного акта. Ибо мысль вообще возможна лишь как отнесение к Безусловному того или другого мысленного содержания. Такое отнесение имеет место и в представлении «я есмь я» или «я мыслю», в котором Кант видит сущность трансцендентальной или «первоначальной» апперцепции. В этом акте сознающее Я отличает себя, как постоянное, пребывающее нечто от всех преходящих и изменчивых состояний своего сознания. Значит ли это, что в трансцендентальной апперцепции «Я полагает себя просто и безусловно безо всякого дальнейшего на то основания»? Так и в самом деле после Канта учил Фихте, который, довершая мысль учителя, понял акт человеческого самосознания как самоутверждение безусловно сущего. Но в этом основоположении его наукоучения и состоит его основное заблуждение.
Заблуждение заключается в том, что Фихте принял производную абсолютность за первоначальную, — принял за Абсолютное наше Я, которое на самом деле абсолютно или безусловно не само по себе и не чрез само себя, а лишь по приобщению к подлинно-Безусловному. Верно не то, что «Я полагает себя просто и безусловно безо всякого на то основания», а то, что наше Я полагает себя как другое в отличном от него Безусловном.
Нетрудно убедиться, что оба эти момента представляют собою существенные признаки того акта самосознания, который носит у Канта название «трансцендентальной апперцепции». Вслед за Кантом и Фихте не заметил, что в акте нашего самосознания — «Я=я» с самого начала уже предположено отличие этого сознающего я от Безусловного. Все мои представления суть представления одного и того же представляющего и мыслящего субъекта; и, познавая, я, конечно, сознаю это тожество. Но самый акт тожества представляющего субъекта отнюдь не сообщает
85
моим представлениям безусловной необходимости и общезначимости. Значит, мое «я», как такое, отнюдь не предполагается как Абсолютное в познании. Когда я утверждаю какое-либо мое представление как истинное или безусловно значимое, это возможно лишь через отнесение этого представления к чему-то безусловному надо мною по отношению к чему мое я есть другое. Представление «я мыслю» или «я равно я» не составляет исключения из общего правила. Когда мы утверждаем это представление как истинное т.е. как общезначимое, когда мы заявляем наше я есмь я притязанием на абсолютную достоверность, мы уже тем самым выходим за пределы этого «я», — ибо мы приписываем ему безусловную необходимость, которую оно само своим представлениям сообщить не может. Иначе говоря, мы в одно и то же время и утверждаем его в Безусловном и противополагаем его Безусловному как другое.
Кажущаяся «простота» нашего акта самосознания на самом деле есть только видимость. Внимательная рефлексия обнаруживает здесь не простой, а сложный, тройственный акт, а именно: во-первых, простое и непосредственное положение или, что то же, — предположение Безусловного; во-вторых, — положение моего я как другого и, наконец, в-третъих — связывание (синтез) этого я с Безусловным.
1) Что бы ни полагалось нами вообще, Безусловное всегда необходимо предполагается. В этом заключается основной закон, — форма нашей мысли, ее а priori. Предположение это не обусловливается моим «я равно я», оно вообще не обусловливается ничем, никакой другой моей мыслью, никаким другим моим представлением: ибо я не мог бы отличать одни мои мысли и представления как истинные от других как ложных, если бы раньше всякого представления я не предполагал, что нечто истинно или нечто есть безусловно; это безусловное есть, хотя бы и меня не было: только в этом предположении самое мое я приобретает достоверность. Мои представления, как такие, сами по себе еще не достоверны: достоверными они становятся лишь через отнесение к чему-то другому Безусловному, что не есть Я.
2) Тем самым, стало быть, наше я полагается как другое по отношению к Безусловному. — Без этого противоположения не было бы самого акта нашего самосознания. Ибо в нашем
86
самосознании есть в одно и то же время и утверждение нашего я, и выход за его пределы. Мое «я мыслю», вопреки Канту, вовсе не есть представление, сопровождающее и обусловливающее все прочие мои представления: в нем есть мое знание о себе, которое, как такое неизбежно выходит за пределы субъективно представляемого в транссубъективную область, ибо в нем утверждается объективное существование не только моего представления, но я как мыслящего и представляющего, — т.е. как некоторого сущего (субъекта), который есть независимо от отдельных своих представлений. Хотя бы даже я не думала о себе или даже забыл о себе, — все-таки я есмь, — таково содержание нашего самосознания: в нем, стало быть, есть и утверждение моей субъективной границы (противоположение себя Безусловному) и выход за эту границу к Безусловному. Поэтому положение «я есмь я», которое кажется простым и аналитическим, на самом деле есть суждение синтетическое, ибо действительный смысл его таков: мое я — есть не только представление, неизбежно сопровождающее все мои представления: оно существует за их пределами, ибо оно положено как сущее в Безусловном.
3) Таким образом в акте самосознания, кроме предположения Безусловного и противоположения ему себя, есть еще и третья сторона — связыванье себя с Безусловным, утверждение себя в нем; и знание мое о себе, как и всякое вообще мое знание, имеет место лишь в меру этого синтеза. Я знаю, что я есмь, — в этом сознании есть несомненно предположение Безусловного и моей связи с ним: ибо я действительно есмь лишь в том случае, если мое бытие не есть только мое субъективное представление, а объективное определение обо мне мысли безусловной. Предположение Безусловного и есть то, что объективирует субъективное восприятие нашего «я» и возводит это восприятие на степень сознания, т.е. знания о себе. Само собою разумеется, что это первоначальное предположение Безусловного не есть ясная о нем мысль. Предполагать Безусловное еще не значит мыслить о нем в понятиях; у всякого человека есть интуиция Безусловного, при свете этой интуиции мы сознаем самих себя и все вообще, что мы сознаем; но видеть что-либо во свете еще не значит видеть самый источник света: для
87
этого необходимо поднять свой взор от освещенных предметов к тому, что светит. Так и в сознании — со-знавать или, что то же, видеть что-либо умом во свете Абсолютного, еще не значит отдавать себе отчет в самом Абсолютном; философское сознание Абсолютного становится нам доступным лишь через высший мысленный подъем, через рефлексию на ту первоначальную интуицию, которая трансцендентально обусловливает наше сознание. Обусловливая все в нашем сознании, само Абсолютное остается первоначально скрытым от мысли, которой оно светит. Но, путем углубления в самое себя, путем ясного самосознания, — мысль наша необходимо должна прийти к выводу, что Абсолютным опосредствовано всякое наше знание, более того, — всякая наша мысль, — не исключая и нашего «я». Ибо подлинная форма нашей мысли и есть форма Безусловного.
Трансцендентальная апперцепция есть ни что иное как осознание человеком самого себя в этой форме – интуиция нашего я в Безусловном; на этой интуиции в конце концов покоятся все притязания человеческой мысли и все ее действительные правомочия в познании. Здесь, как и во всем своем учении, Кант близко подошел к правильному решению вопроса о познании: ошибка его заключалась не в применении трансцендентального метода, а в недоведении этого метода до конца. Поэтому наше «я есмь» получает у него значение последнего, высшего условия нашего познания. Между тем, для решения вопроса о познании, — он должен был задаться дальнейшим вопросом: как возможно самое наше я. Только поставив этот вопрос, он мог бы найти безусловный центр нашего самосознания, а тем самым и то последнее условие нашего познания, которое ничем другим обусловлено или обосновано быть не может.
IV. Трансцендентальная апперцепция и абсолютный синтез в безусловном сознании.
В Абсолютном получает свое удостоверение мое я как сознающее и мыслящее; но вопрос о возможности познания этим еще не разрешен: ибо тот факт, что я есмь и я мыслю, еще не ручается за достоверность значения моей мысли, т.е. за ее истинность.
88
В предшествующем изложении уже неоднократно было выяснено, что в нашем познавательном процессе Абсолютное предполагается как начало и конец всякого сознания. Относя к нему всякое наше познание, т.е. все истинное в содержаниях нашего сознания, мы тем самым предполагаем в нем безусловное или истинное сознание. В этом предположении заключается и необходимая опора нашего самосознания. — В безусловном сознании заключается основание достоверности моего «я есмь», как и всякого другого моего сужденья. Я есмь в действительности лишь при том условии, если я осознан в Абсолютном как сущий. Но ведь в Абсолютном осознано не только мое «я есмь», но и всякое мое представление, всякая моя мысль, — все равно истинная и ложная. Если таким образом в безусловном сознании все одинаково содержится и все одинаково удостоверяется — и истинная моя мысль и ложная, — то не следует ли отсюда, что безусловное сознание как такое не может служить основанием для различения истины и лжи? Выше мы определили истину как безусловное сознание; как согласить это положение с высказанным сейчас, — что в нем осознана всякая наша мысль, — все равно истинная или ложная? Если безусловное сознание содержит в себе и истину и ложь, то по какому праву мы отождествляем его с истиной?
Возражение это с первого взгляда кажется уничтожающим для всего изложенного здесь воззрения. Между тем правильное истолкование высказанных здесь начал дает на него удовлетворительный ответ и приводит к разрешению указанного в нем противоречия.
Истина заключается не в каком-либо частном содержании безусловного сознания, взятом вне связи с целым, а в самом безусловном сознании, — в его абсолютном синтезе как целом. Любое частное содержание, взятое вне этого синтеза, — тем самым превращается в ложь. И наоборот, всякая ложь, в нем осознанная, в его абсолютном синтезе снимается как ложь: ибо безусловное сознание о лжи есть истина.
Пояснением к сказанному может служить хотя бы пример какого-либо ложного свидетельского показания. Возьмем, например, нашумевшее на весь мир показание: «Бейлис убил Ющинского»; если высказанное в таком виде это утверждение будет
89
ложью, то, взятое в абсолютном его контексте, оно будет звучать примерно так: «свидетельница А ложно утверждает, что Бейлис убил Ющинского», и в этом контексте оно будет истинным. Сознание о лжи есть истина, и вот почему между положением, что в абсолютном сознании осознана всякая наша мысль, — истинная как и ложная, — и высказанным раньше утверждением тожестве, истины и абсолютного сознания нет никакого противоречия.
В абсолютном сознании все наши представления и мысли, если можно так выразиться, — даны в их абсолютном контексте или, точнее говоря, — в абсолютном их синтезе, где явно безусловное значение каждой отдельной мысли и каждого отдельного представления. Всякая человеческая ложь обнажена перед этим сознанием; но, какая бы ложь ни обнажалась перед ним, его осознание лжи есть истина: ибо человеческая ложь есть ни что иное, как отдельное представление или сочетание отдельных представлений, — вырванных из безусловного их контекста, — т.е. из всеединства абсолютного синтеза; и лишь постольку наши представления ложны. Но в безусловном сознании каждое наше представление дано в его абсолютном контексте; следовательно, хотя в нем развернут от начала до конца весь ряд представлений каждого сознающего человеческого субъекта, — наша человеческая ложь, как такая, в нем снимается.
В этом и заключается значение безусловного сознания для нашего человеческого дознавания. Все мои человеческие представления в нем от века даны, — но они даны в нем в их абсолютном отношении и значении — в их абсолютном синтезе; в силу этой своей особенности безусловное сознание близко нам — людям: в нем мы найдем не чуждую нам истину, а всю полноту истины, стало быть, и истину наших человеческих представлений. И каждое наше представление — все равно истинное или ложное — имеет в нем свою безусловную истину. Положим, вследствие какого-либо недостатка моего зрения, я вижу все предметы вдвойне. Это представление как и всякое другое — ложно лишь вне своего безусловного контекста, т.е. вне безусловной связи с другими представлениями, и истинно в своем безусловном контексте. Оно ложно в качестве показателя объективной действительности, но вместе с тем оно есть действи-
90
тельный и постольку истинный показатель моего поврежденного зрения. Тот факт, что данный человек с поврежденным зрением воспринимает предметы вдвойне, есть несомненная и безусловная истина. Но именно в этом безусловном его значении, т.е. в его истине, каждое его представление осознано в безусловном сознании. Поэтому — узнать истину какого-либо моего представления именно и значит найти его в безусловном сознании или, что то же, — в контексте абсолютного синтеза.
В абсолютном сознании объективируется не только мое самосознание, но и весь ряд моих представлений — действительных и возможных — с той однако разницей против моего эмпирического сознания, что там мое я со всем, что оно представляет, дано в истине; и таким образом абсолютное сознание обо мне свободно от моей лжи. В этом и заключается основание, почему именно в безусловном сознании наше познающее я находит свою единственно возможную точку опоры, — в этом и весь смысл трансцендентальной апперцепции. Трансцендентальная апперцепция есть не что иное как предшествующая всякому познанию и обусловливающая его уверенность, — что мое я со всем, что оно сознает и представляет, есть в безусловном или, что то же, в истине. Но истина, как мы видели, есть то же, что безусловное сознание. И только в этом предположении оправдывается уверенность познающего в возможности познания.
Основной парадокс человеческого познания заключается именно в том, что оно связывает мои восприятия, мои представления в безусловные по форме, для всех обязательные суждения. Очевидно, что я здесь выхожу за пределы моих субъективных переживаний и утверждаю нечто большее, чем то, что в них заключается. — Связывая мое восприятие тяжести с моим же восприятием телесности, — т.е. протяженности, непроницаемости, упругости и проч., я говорю — «тела тяжелы» и требую, чтобы все так думали. По какому праву я навязываю другим мои восприятия? Чем оправдывается эта претензия на безусловность? Все той же трансцендентальной апперцепцией; все той же уверенностью, что мое я и мои представления положены в Безусловном, — все тем же предположением, что есть безусловное сознание, в котором снята ложь моего я и моих представлений, и вместе с тем все мною представляемое утверждено в своей истине.
91
Истина, как сказано, есть абсолютный синтез; в этом заключается оправдание всего искания нашей мысли, всего ее стремления к познанию. Познание наше, как это удалось доказать Канту, выражается в форме синтетических суждений, которые связывают наши представления всеобщим и безусловным образом. Вся задача этого нашего человеческого синтеза — в частичном воспроизведении абсолютного синтеза; и вся его надежда — в том, что такой синтез есть в безусловном сознании, что там мы найдем безусловную и необходимую связь всего вообще существующего и представляемого, а, стало быть, и наших человеческих представлений. В безусловном сознании, стало быть, я найду мое представление не как мое переживание только, а как всеобщее, общезначимое содержание мысли. В предположении этом нет ничего произвольного, ничего выдуманного нами. Оно не есть произвольная философская гипотеза, а необходимый постулат, из которого исходит познание и который предполагается, стало быть, всяким познающим. Одно из двух: или раньше всякого моего познавания абсолютный синтез моих представлений дан в истине; или же, если он не дан, то все мое познавание есть пустое и тщетное стремление. Но что такое абсолютный синтез представлений, как не абсолютное сознание? Предположение абсолютного сознания implicite заключается в притязании каждого из нас на общезначимость его мыслей, его представлений: поэтому оно не более парадоксально, чем это притязание.
Здесь уместно будет отметить ту относительную истину, которая выразилась в учении Платона о познании. По Платону, наше человеческое познание есть воспоминание о чем-то осознанном раньше, — до нашего здешнего земного познавания. Относительная истина этого воззрения заключается, конечно, вовсе не в сомнительных гаданиях Платона о предсуществовании или о вечном существовании нашей души; его правда —в том, что наше человеческое познание в его целом и в каждом отдельном его акте предваряется и обусловливается некоторым совпадающим (точнее говоря, тожественным) с истиной, безусловным сознанием и что в нем раньше моего сознания осознано или, что то же, отнесено к истине всякое мое представление. Чтобы познать истину, я должен воспроизвести и в этом смысле —
92
«вспомнить» мои представления в той их безусловной связи, в которой они были даны до моего появления на свет, — даны от века. Предметом «воспоминания», стало быть, являются не вечные идеи — первообразы как у Платона, точнее говоря, не одни вечные идеи, а безусловное сознание обо всем, что вообще познается, — о текучем и подвижном — так же, как и о пребывающем и неизменном: ибо в вечной памяти Безусловного, в его недвижной летописи мироздания сохраняется не только все, что есть, но и все, что протекает.
От века данный в безусловном сознании, абсолютный синтез моих представлений мне не дан, а задан. Как уже было выше сказано, — в абсолютном синтезе, т.е. в безусловном сознании, нет ни отвлеченно-всеобщего, ни отвлеченно-частного, ибо оно есть конкретное всеединство, в нем всякая частность — каждый преходящий миг действительного и возможного, как бы ничтожен он ни был, дан в своем всеобщем и безусловном значении, — в полноте своего всеединого смысла; а с другой стороны, в нем всеобщее не есть отвлеченное понятие, а конкретное осуществление всеединства — наполненная конкретным содержанием интуиция единства в многообразии. Наоборот, в моем сознании эта связь разорвана и только имеет (должна) быть восстановлена: поскольку эта задача мною не выполнена, мое сознание пребывает вне истины: истина познается нами лишь поскольку порванная связь восстановляется в нашей мысли, т.е. поскольку мысль схватывает всеобщее в частном и связывает одно с другим. — Связывание это, как было уже неоднократно указано, выражается в отнесении познаваемого к Безусловному.
Отнесение это совершается и в религиозно-мистическом познании на почве данного откровения и в познании чисто рациональном. Согласно плану настоящего исследования, мы оставим здесь первое в стороне и пока займемся исключительно последним.
Чисто рациональное познание, как уже было выше сказано, есть то, в котором Абсолютное не дано как явление. Здесь мы видим Безусловное только умом — в отвлечении от всего извне данного, а потому все познание наше, к чему бы оно ни относилось, хотя бы даже оно имело своим предметом явления
93
чувственного опыта, носят на себе отвлеченный характер. В моем чувственном восприятии я нахожу только частное: всеединое или всеобщее мне не дано как явление; поэтому, чтобы найти его, я должен отвлечься от всего, что является; если даже задача моя заключается в познании явлений, — то я могу найти их всеобщий закон, т.е. отнести их к Безусловному не иначе, как через отвлечение от всего конкретного разнообразия в них, т.е. посредством понятия. Нам предстоит теперь решить вопрос об основании достоверности такого отвлеченного знания. Как возможно отвлеченное познание посредством понятий?
V. Категории рассудка.
В ответ на вопрос о возможности рационального познания Кант указывает на категории рассудка или на априорные понятия, необходимо обусловливающие всякие наши познавательные суждения. При этом он не только не пытается обосновать логической необходимости этих категорий, как условий знания, но считает неуместным самый вопрос об их обосновании. В «Критике чистого разума» он категорически заявляет: «Что касается своеобразных особенностей нашего рассудка, именно того, что он осуществляет а priori единство апперцепции только посредством категорий и только посредством именно таких-то видов и такого-то числа их, для этого обстоятельства нельзя указать никаких дальнейших оснований так же, как нельзя обосновать, почему мы имеем именно такие-то, а не иные функции суждения, или почему время и пространство суть единственные формы возможного для нас наглядного представления» (II изд., 145-146).
Все обоснование здесь сводится к ссылке на психологическую необходимость категорий для рассудка в силу его «своеобразной особенности», причем самая таблица категорий выводится у Канта весьма произвольно. Роковой недостаток антропологической точки зрения на познание выступает как нельзя более ясно в приведенном рассуждении: в нем трансцендентальное исследование останавливается на полпути: оно не объясняет и не обосновывает именно того, что требуется обосновать: той
94
«своеобразной особенности» нашей мысли, которая делает ее орудием объективного, общезначимого знания1).
Недостающее у Канта объяснение на самом деле должно и может быть найдено. С точки зрения вышеизложенных начал, оно в общем сводится к следующему. — Во всех своих функциях мысль наша формально обусловлена интуицией Безусловного, как всеединства. Что бы ни полагаюсь нашей мыслью, Безусловное при этом предполагается как то, к чему все полагаемое должно быть отнесено, т.е., иначе говоря, как единство всего мыслимого. В этом отнесении и состоит наше мышление. Формы наших суждений, — категории, в которых, как признает это и Кант, выражаются основные функции нашей мысли, — суть не что иное, как способы отнесения мыслимого содержания к Безусловному. Нетрудно убедиться, что в этой первоначальной интуиции Безусловного, посредством которой и в отношении к которой мы судим все то, о чем мы судим, предопределены или предположены и основные способы наших суждений: иначе говоря, в ней предзаложена целая система категорий.
Прежде всего это бросается в глаза относительно тех категорий, которые составляют основные признаки априорного как такого: «необходимость и строгая всеобщность» суть, по Канту, «достоверные признаки познания а priori и нераздельно связаны
_______________
1) Защищая «Критику чистого разума» против упрека в антропологизме, Риль (Der Philosophische Kritizismus, В. 1, 380—384, Leipzig, 1908) приводит ряд выдержек, где Кант решительно противополагает точку зрения «Критики» всякому антропологическому и психологическому обоснованию познания. В приводимых Рилем местах Кант указывает, что психологическое или антропологическое объяснение познания в конце концов обосновывает лишь субъективную необходимость тех или других понятий, а не объективно-логическую необходимость их для познания. Однако убедительность этих доводов Риля — лишь кажущаяся. Из того, что точка зрения «Критики чистого разума» не была сознательно антропологическою, отнюдь не следует, чтобы в ней не было антропологизма неосознанного и безотчетного. Тот факт, что Кант пытался отмежеваться от психологизма и антропологизма, сам по себе еще не доказывает, чтобы эта попытка удалась. Раз в «Критике» необходимость категорий обосновывается единственно «своеобразными особенностями человеческого рассудка», психологизм в ней остается непобежденным. В начале этого исследования мною уже было указало, что «Критика чистого разума» отделяется от антропологизма и психологизма лишь в постановке задачи теории познания, а не в ее решении.
95
друг с другом» (II изд., 4). К этим двум признакам априорного нужно присоединить еще и третий — безусловность, причем к сказанному Кантом следует прибавить, что в этих трех категориях мы имеем не только необходимые признаки априорного, но вместе с тем и априорную форму всякого познания вообще: необходимость, всеобщность и безусловностъ — в этих словах выражается то основное притязание познавательных суждений, отказ от которого равнозначителен отказу от познания.
Но именно эти три категории по преимуществу представляют собою формальное, абстрактное выражение той интуиции Безусловного, которая составляет первоначальное и основное а priori нашей мысли. Только в этой интуиции — их смысл и оправдание. Ибо всякие безусловные утверждения возможны лишь в том предположении, что есть что-то безусловное, в чем положено все мыслимое, действительное и возможное; необходимость есть другое выражение той же безусловности, а всеобщность, т.е. значимость для всех, опять-таки выражает собою все ту же интуицию некоторого еѵ και παν, Всеединого, в котором положено все мыслимое; ибо иначе было бы бессмысленно требовать признания той иди другой мысли от всех, иначе говоря, было бы бессмысленно основное притязание познания.
Все что есть и что мыслимо, подзаконно единому Безусловному — вот что выражается этими тремя категориями; но то же самое предполагается применением всех категорий вообще. В предположении Безусловного, как всеединого, implicite заключается основание нашей категории единства; категория эта выражает собою все тот же закон, в силу которого судить для нас значит относить к единству. Уже блаженный Августин отметил, что в обеих основных функциях нашей мысли — в синтезе и анализе — мысль наша так или иначе оперирует понятием единства: она или связывает воедино, или отсекает от единства (т.е. освобождает единство от того, что не едино), но в обоих случаях она ищет единства и любит единство1). И уже Августин справедливо указал, что основание этой функ-
______________________
1) См. мое соч. «Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке. Миросозерцание бл. Августина», стр. 56—57.
96
ции всеединства заключается в утверждении единой реальной основы всего сущего и мыслимого, в предположении единства всего, — единства не только мысленного, но и онтологического. Если бы такое единство не было положено в Безусловном, то всякие наши суждения о сущем были бы лишены всякого действительного значения, категория «единства» была бы пустою видимостью и реальное познание было бы тем самым невозможным.
В той же интуиции всеединства положено и все, — т.е. многое во едином так же, как самое единство в Безусловном полагается как единое во многом. Мы не можем мыслить, не относя все мыслимое к единству в Безусловном. Следовательно, в первоначальной интуиции Безусловного одинаково существенны и единое, и все (многое). Одно от другого неотделимо, — потому что то и другое в первоначальной нашей интуиции, обусловливающей познание, положены в абсолютном синтезе. Без единства многое не могло бы объединяться во все, а не будь «всего», не было бы и единства.
В той же первоначальной интуиции Безусловное полагается как сущее, как предшествующая всякой мысли реальность, как то, без чего самой мысли не было бы. Что Безусловное воистину есть сущее (οντως οѵ), — это предполагается всяким мысленным актом: иначе нам не к чему было бы относить мыслимое; если Безусловное не реально, то вся наша мысль есть фикция1). Стало быть, в интуиции Безусловного и через нее положена категория реальности или бытия. Что эта категория полагается именно в интуиции Безусловного, а не независимо или отдельно от нее, видно из того, что только в Безусловном можно утверждать бытие чего бы то ни было; оно есть необходимое условие (prius) всех экзистенциальных суждений, ибо утверждать какое-либо существование можно лишь в том предположении, что есть что-то безусловное, в чем положено как существующее все то, что существует. Все реальное уже заранее, до всякого опыта отнесено нами ко всеединству, этому а priori всего реального и, стало быть, всякого опыта. В первоначаль-
_______________________
1) Если бы Безусловное было только «методологическим понятием», а не действительностью, то все наше знание было бы мнимым. Ибо, если нет реального Безусловного, то и метод отнесения к безусловному — чистая бессмыслица.
97
ной интуиция Безусловного оно предположено как единство всего, что есть; следовательно, в этой интуиции положено а priori чистое понятие (категория) бытия.
Но никакое данное бытие не адекватно нашей интуиции Безусловного: она превышает всякую не только данную, но и представляемую и воображаемую нами действительность, вследствие чего наша мысль, как предопределенная в своем движении этой интуицией, неизбежно выходит за пределы всякой действительности данной и воображаемой и за этими пределами необходимо предполагает бесконечный мир возможностей. В безусловном, как таком, следовательно, положена категория возможности — тоже необходимая форма нашей мысли, — необходимая потому, что без этой категории мы не могли бы относить всего к безусловному: если бы в составе этого всего, относимого к Безусловному, было только действительное и не было бы беспредельных возможностей, оно тем самым не было бы всеединым и не было бы Безусловным.
В интуиции Безусловного обоснованы вообще все те функции нашей мысли а, стало быть, и все те категории, посредством которых мы мыслим не только само Безусловное, но и его другое: ибо и другое возможно лишь чрез Безусловное и должно быть через него понято. Оно подзаконно Безусловному: в этом состоит основное априорное определение всего «другого». Именно в силу этого априорного убеждения в подзаконности всего, что есть, Безусловному мы задаемся вопросом почему, который относится ко всему, что нам является. Мы а priori убеждены, что решительно все нам известное и неизвестное должно иметь свое безусловное почему, т.е., иначе говоря, свое безусловное основание. Таким образом в интуиции Безусловного как всеединого, дана категория основания. То и другое неразрывно связано вместе, так что вне предположения Безусловного, категория основания теряет всякий смысл и даже вовсе перестает быть функцией мысли; а с другой стороны, раз есть Безусловное, — тем самым предположена и категория основания: ибо все, что есть, должно иметь свое необходимое основание в Безусловном. Категория основания необходимо предопределяет нашу мысль в контексте закона достаточного основания. Но что такое этот закон, как не один из необходимых для нашей
98
мысли способов отнесения всего к единству Безусловного? Все имеет свое необходимое основание! Разве не очевидно, что этот закон представлял бы собою чистейшую бессмыслицу, — если бы все не было связано некоторым единством и если бы эта связь единства, лежащая в основе всего, не имела безусловного характера! Или все, что есть, связано в реальном Безусловном, и тогда все должно иметь свое основание в этой связи; или же самый вопрос об основании неуместен. Наш вопрос «почему» есть, таким образом, красноречивое свидетельство о том, что составляет необходимый prius всякого «почему», — о нашей интуиции всего в единстве Безусловного: только на почве этой интуиции зарождается этот вопрос; только через нее он возможен.
В зависимости от того, спрашиваем ли мы об основании бытия или об основании познания (почему то или другое есть или почему мы это знаем), вопрос «почему» может иметь два разных смысла. Но в обоих случаях как самый вопрос, так и соответствующая ему категория основания имеет один и тот же источник или корень, точнее говоря, одно и то же условие значимости. В одном случае «основание» выражает собою неуклонный закон бытия (все существующее имеет необходимое основание), в другом случае — норму для мысли (мысль должна быть обоснована), причем мысль, соответствующая норме, признается за знание, а мысль, ей несоответствующая, отбрасывается как неосновательная; но всеобщность закона, как и всеобщность нормы в обоих случаях выражает лишь различные стороны одного и того же начала всеединства в Безусловном. В подзаконности ему всего, что есть, это всеединство некоторым образом осуществлено; поэтому все существующее имеет в нем свое необходимое основание. В некотором другом отношении и порядке всеединство еще не осуществлено, но должно быть осуществлено; оно есть императив со всеобщим и безусловным значением: в этом смысле мы требуем, чтобы мысль была обоснована, т.е. чтобы она утвердилась в той всеобщности и безусловности, которая требуется идеалом знания. Иначе говоря, обоснование мысли есть исполнение всеединства, как логической нормы.
В порядке бытия категория основания является в двух ви-
99
дах, как основание бытия в собственном смысле и как основание становления во времени (причинность). В первом случае между основанием и обоснованным нет генетической связи: основанием свойств геометрических фигур служит не что-либо генетически предшествующее, а нечто сосуществующее — другие свойства тех же фигур. Во втором случае основание определяется как причина, т.е. как то, что необходимо обосновывает генезис. Но в обоих случаях мы имеем два аспекта одной и той же интуиции всеединства, в котором все необходимо обосновано — и в порядке сосуществования, и в порядке последовательности. Только через отнесение данного, начерченного мною треугольника ко всеединству я могу утверждать, что свойства его суть свойства треугольника вообще: без этого мы не могли бы вывести ни одной геометрической теоремы. А относительно причинности еще Шопенгауер основательно заметил, что она — не извозчик, которого можно отпустить по достижении стоянки: она не знает остановки и продолжается в бесконечность, охватывая в себе все, что во времени. Почему? Потому, что все, что есть во времени, связано все той же связью всеединства, в силу которой ни один момент не может существовать сам по себе, как безусловное, независимое от уже бывшего или будущего. Как закон временного бытия, — Безусловное выражается не в каком-либо отдельном моменте времени, а в их всеобщей и необходимой связи, в силу которой настоящее обосновано в прошедшем и в свою очередь обосновывает будущее.
Задача моя здесь заключается вовсе не в том, чтобы формулировать исчерпывающую таблицу категорий, а в том, чтобы указать общий их принцип и источник, понять категории вообще как различные разветвления единого принципа познания. Принцип этот заключается в том, что каждый возможный предмет познания, — каков бы он ни был, имеет свое а priori в едином необходимом предположении познания: ибо всякий предмет познаваем лишь как положенный во всеединстве и чрез всеединство в Безусловном. Указать этот общий принцип, общее основание категориального синтеза и зарегистрировать исчерпывающую таблицу категорий, разумеется, не одно и то же. Но я сомневаюсь в возможности найти такую таблицу, и в
100
этом заключается опять-таки одно из характерных отличий развиваемой здесь точки зрения от точки зрения Канта.
Для Канта основание априоризма заключается в «своеобразной особенности» человеческого рассудка, т.е. в чисто психологической его черте, которая, в качестве таковой, поддается точному и исчерпывающему описанию. Естественно, что Кант пытался изучить эту черту в том ее выражении, которое представлялось ему данным, — в наших суждениях, для чего он позаимствовал таблицу суждений из формальной логики и не без натяжек вывел отсюда свою дюжину категорій1). Напротив, мне кажется, во-первых, что категории вообще не могут быть приурочены к рассматриваемым в формальной логике формам суждений: ибо некоторые категории формально обусловливают все виды суждений (всеобщность в смысле общезначимости, безусловность и необходимость); другие категории, как напр. категория «реальности» или бытия, не могут быть приурочены ни к какой определенной форме суждений. Во-вторых, категории коренятся вовсе не в какой-либо неподвижной «особенности» нашего человеческого рассудка, а в абсолютном синтезе, который, в соответствии с развитием нашей мысли, по мере ее восхождения из одного плана бытия в другой и из ступени в ступень сознания, может раскрываться нам в новых и новых аспектах; а тем самым полагаются новые и новые категории, которые, стало быть, не могут быть заранее исчерпаны, собраны в раз навсегда данный, неподвижный каталог. Раз категории суть способы отнесения данного предмета познания к Безусловному, то, соответственно особенностям предмета, должны быть применяемы и специфические способы их отнесения к этому неподвижному центру мысли, а, стало быть, и специфические категории. Меняются тут, разумеется, не самые категории, которые, в качестве априорных, неизменны; меняется наше со-
______________________
1) Натяжка, напр., заключается в приурочении категории реальности к утвердительным суждениям, так как логическая форма утверждения не есть непременно утверждение реальности: утверждать можно и несуществование и долженствование. Также трудно уловить и соответствие между категорическими суждениями и категорией субстанции. Наконец, причинность не соответствует гипотетическим суждениям, т. к. причинность вовсе не есть синоним всякого «если — то».
101
знание, которому, по мере его развития, открываются новые, ранее для него скрытые области познания, а, соответственно с этим, — и новые для него способы отнесения нашего нового опыта к Безусловному, стало быть, новые для нас категории.
Зарегистрировать все категории было бы возможно лишь в том случае, если бы решительно все категории были присущи всем планам сознания и всем стадиям развития мысли. Но таких категорий сравнительно немного; с одной стороны, такие логические аспекты Всеединого как единое, все, безусловное, необходимое, всеобщее, — обусловливают собою всякую мысль и навязываются ей на всякой ступени ее возвышения: ибо от Всеединого или Безусловного ей никуда уйти нельзя. С другой стороны, мы знаем категории определенных планов бытия и сознания, как, например, категория причинности или категория субстанции. Категория причинности есть именно та разновидность категории основания, которая служит только формой временного бытия. В сверхвременной сфере нет ни возникновения, ни уничтожения; поэтому основание бытия тут сосуществует (совечно) с тем, что оно обосновывает и, стало быть, не может быть названо причиною в специфическом значении этого слова. Наоборот, «субстанция» означает сверхвременное бытие; ничто временное не есть субстанция и, стало быть, в этом понятии мы имеем также категорию одного плана бытия, а не всякого бытия, как такого.
VI. Категории и опыт. Превращение восприятия в опыт.
Здесь мы можем разрешить одно затруднение, которое для субъективно-антропологического понимания категорий представляется совершенно непреодолимым. С одной стороны, категории суть по самой природе своей априорные, т.е. независимые от всякого опыта понятия. С другой стороны, есть категории определенного плана бытия, определенной сферы знания и даже определенной науки: есть категории чистой математики (количество, число), есть категории естествознания и истории (напр., причинность), не приложимые в математике. Но если таким образом есть категории, приуроченные к определенным конкретным предметам знания и даже предметам опыта, — категории, кото-
102
рые обладают значимостью лишь в связи с этими предметами как способы их познания, то не установляется ли этим зависимость категорий от опыта? Если, напр., категория причинности мыслима, как форма чего-либо данного во времени, то не значит ли это, что эта категория обусловлена некоторой эмпирической данностью? Да и вообще, если категории обладают значимостью лишь как формы определенного содержания, то не следует ли отсюда, что форма и содержание взаимно друг друга обусловливают? Во что же при этих условиях превращается та «независимость от опыта» категорий, в которой Кант видит основной признак всякой вообще априорности?
Пока мы стоим на субъективно антропологической точке зрения, — затруднение это остается без всякого разрешения: ибо субъективно (психологически) наше сознание категорий действительно возбуждается в нас опытом и может возникать по поводу опыта. Но с изложенной выше точки зрения отношение категорий к опыту представляется совершенно в ином освещении, а, соответственно с этим, и самая априорность их приобретает прочное обоснование. Основание их априорности заключается вовсе не в том, что в нашей человеческой мысли они положены раньше всякого нашего опыта, а в том, что они предшествуют самой нашей мысли как закон, положенный ей в Безусловном. Априорность категорий заключается не в том, что они суть субъективные условия нашего мышления (ибо все, что только «субъективно», тем самым — не априорно), а в том, что они суть объективные, т.е. абсолютные условия нашего субъективного мышления. Они обоснованы в Абсолютном и тем самым независимы от всякого нашего опыта, ибо они необходимо предшествуют опыту всех человеческих существ, какие имеют родиться. Но, как только мы попробуем помыслить их отдельно от этого безусловного средоточия всякой мысли, в котором они приобретают действительно объективное значение, априорность их разом падает; ни всеобщности, ни необходимости, ни независимости от человеческого опыта у них не остается. Они превращаются в простую причуду человеческого рассудка по поводу случайного факта человеческого опыта.
Та же путеводная нить приведет нас и к разрешению других трудностей, встречающихся на каждом шагу в «трансцен-
103
дентальной аналитике» Канта. Прежде всего точка зрения Канта не дает сколько-нибудь удовлетворительного разрешения вопроса о возможности опыта.
Источником всякого опыта служит восприятие, которое по самому существу своему состоит из индивидуально-психических переживаний данного, конкретного психологического субъекта. В самом опыте, однако, этот индивидуально-психический материал подвергается полному превращению: ибо он утверждается не как индивидуальное, а как всеобщее, для всех обязательное. Говоря словами Канта, в опытном суждении я соединяю мои восприятия «в сознании вообще» (Пролег., § 20). Как и по какому, праву совершается такое превращение?
По Канту оно совершается через категориальный синтез: категория превращает индивидуальное восприятие в общезначимый опыт. Но объяснение это — совершенно неудовлетворительно, ибо оно оставляет без всякого ответа основной вопрос познания, вопрос о праве: по какому праву мы применяем общезначимые категории к нашим по существу индивидуальным переживаниям? Какое право мы имеем требовать, чтобы содержание этих переживаний признавалось истинным, т.е. обязательным для всех?
Вопрос этот может быть пояснен на известном кантовском примере, приводимом в «Пролегоменах» (§ 20). — «Когда солнце освещает камень, то он становится теплым, — это суждение есть простое суждение восприятия и не содержит никакой (?) необходимости: как бы часто мы это ни воспринимали, можно сказать только, что восприятия обыкновенно связаны таким образом. Если же я говорю: солнце согревает камень, то тут уже сверх восприятия привходит еще рассудочное понятие причины, связывающее необходимо с понятием солнца понятие теплоты, и синтетическое суждение становится необходимо всеобщим, следовательно объективным из восприятия превращается в опыт».
Превращение моего восприятия в общезначимый опыт здесь только констатируется, но не объясняется – обосновывается,
Я вижу свет; но по какому праву это же световое ощущение превращается моим суждением в видимое всеми солнце? Мне тепло! Какое право я имею превращать это мое субъективное
104
ощущение в объективное «тепло», долженствующее всеми ощущаться? Наконец, — связь названных впечатлений тепла и света наблюдается мною только в моем восприятии: какое право я имею утверждать эту субъективную связь восприятия как безусловно необходимую, существующую за пределами моего восприятия — для всех?
Основной парадокс всякого суждения опыта заключается в том, что в нём индивидуальное по существу переживание (восприятие, ощущение) утверждается вместе с тем как сверхиндивидуальное, безусловное, для всех необходимое. Откуда это право индивида деспотически всем навязывать свои ощущения как безусловно необходимые, истинные? — Опытное суждение отличается от суждения восприятия именно тем, что оно совершенно отвлекается от «воспринимающего субъекта» и от всего вообще психологического. Что «солнце нагревает камень», — это я утверждаю безотносительно к какому-либо психическому субъекту сознания; но в этом-то и состоит необъясненный доселе парадокс опытного суждения: спрашивается, какое право я имею отвлекаться здесь от всего психологического и антропологического, когда весь материал моего суждения по существу психологичен и антропологичен?
На почве антропологической теории познания из этого затруднения нет выхода. Учение, которое объясняет и обосновывает все познание вообще исключительно моими представлениями, очевидно, не в состоянии обосновать перехода от этого «моего» к сверхиндивидуальному (транссубъективному) и безусловному. На почве Кантова учения переход этот так и должен оставаться чудом, — фактом необъясненным и необъяснимым, не подлежащим какому-либо обоснованию. Напротив, с точки зрения высказанных здесь положений мы приходим к обоснованию, столь же необходимому, сколь и естественному.
Весь парадокс опытного суждения заключается в том, что в нем утверждается безусловность, т.е. общезначимость индивидуально-психического переживания. Мое восприятие тепла и света утверждается как содержание безусловного сознания! — С вышеизложенной точки зрения этот парадокс перестает быть парадоксом. Мои восприятия действительно даны в безусловном сознании: они действительно в нем положены и осо-
105
знаны раньше моего появления на свет. В этом и в этом одном — основание моего права на общезначимое знание: в этом — объяснение и вместе обоснование законности превращения восприятия в опыт.
Начало общезначимого знания заключается уже в суждениях восприятия. Напрасно думает Кант, что суждения эти не содержат в себе «никакой необходимости» (см. выше стр. 104): тот факт, что мне в настоящую минуту светло — безусловно необходим и безусловно достоверен, хотя бы даже этот «факт» был просто моей галлюцинацией. Безусловно достоверным и необходимым остается в этом случае тот самый факт, что я воспринимаю, вижу данную галлюцинацию. И безусловная достоверность уже здесь выводит нас за пределы только субъективных переживаний. Данное мое восприятие как мое положено в Безусловном: иначе оно вовсе не существовало бы, — не было бы действительным происшествием даже в качестве моей субъективной галлюцинации.
Мое субъективное сознание и мое субъективное представление предполагается в Безусловном, — в этом, таким образом, заключается возможность суждений восприятия. В этом же, как мы сейчас увидим, заключается условие возможности и обоснование опытных суждений.
Мои восприятия положены в абсолютном сознании; но абсолютное сознание не есть агломерат отрывочных и бессвязных представлений, а идеальное всеединство или абсолютный синтез, в котором всякое представление, как и всякое бытие, положено в абсолютном своем отношении и в абсолютном своем значении. Стало быть, в абсолютном сознании не только даны и не просто даны все мои представления, какие есть, были и будут: они даны в нем во всеединстве или, — что то же, — в контексте абсолютного синтеза; т.е., иначе говоря, — в абсолютном сознании мои представления даны в том их контексте, в котором вся моя субъективная ложь снята как ложь; стало быть, здесь каждое мое представление в своей отдельности и все в совокупности — даны в своей истине. В этой двоякой уверенности — оправдание дерзновения моего познания и основание моего права — строит из материала моих ощущений объективное здание общезначимого познания.
106
Здесь возможность превращения восприятия в опыт получает свое единственно правильное обоснование и объяснение. Одним из моих восприятий я приписываю значение только субъективных явлений моего я; другие, напротив, суть для меня явления объективной действительности во мне. Вот это зеленое пятно в моем поле зрения есть результат утомления или повреждения моего зрительного органа: «я вижу зеленое», но это зеленое для меня не есть свойство объективной действительности. В другом случае, однако, то же самое зрительное впечатление зеленого для меня объективируется, отделяется от меня самого и в суждении — «трава зелена» — я совершенно отвлекаюсь от самого себя. Я убежден, что в течение многих веков, совершенно независимо от меня, повторялась эта зелень луга и леса и что мое ощущение зелени есть в данном случае объективное явление.
Как это возможно? Суждение «трава зелена», очевидно, предполагает, во-первых, безусловную необходимость существования травы независимо от меня, во-вторых — безусловно необходимую связь между этим объективно данным существованием и моим зрительным ощущением зеленого. Все эти предположения сводятся к одному — к предположению абсолютного синтеза или всеединства, в котором мои восприятия даны в своем безусловно необходимом отношении к независимой от меня действительности, — так, что они становятся ее явлениями.
Только в том предположении, что мои восприятия включены в абсолютный синтез — положены как объективно необходимые в безусловном сознании — я могу связывать эти восприятия в познавательные суждения и требовать для них общего признания. В суждениях «тела тяжелы» или «солнце светит» мои переживания, мои ощущения утверждаются как безусловная истина, как факты безусловного, для всех обязательного сознания. — Я имею право на такие утверждения лишь в том случае, если безусловное сознание воистину есть, если мои ощущения света и тяжести в нем и в самом деле положены как явления объективного космоса.
В этом — оправдание категориального синтеза наших восприятий. Мы уже видели, что категории суть способы отнесения познаваемого к Безусловному. Мы относим чувственно воспринимаемый материал к Безусловному, мы связываем его в Без-
107
условном потому, что мы уверены, что раньше всякой нашей мысли этот материал в Безусловном уже связан. Раньше, чем мы сознали и осмыслили наши ощущения, они уже осмыслены и осознаны в Безусловном, т.е. даны в его абсолютном синтезе. Мои субъективные галлюцинации и аберрации моих поврежденных чувств так и даны и осознаны в Безусловном, как мои галлюцинации; наоборот, мои восприятия объективной действительности так и положены в Абсолютном, как объективные ее явления. Но все, что положено в безусловном сознании, — тем самым имеет всеобщее значение: отсюда и мое право — применять к моим индивидуальным переживаниям общезначимые категории. — В безусловном сознании индивидуальное дано как всеобщее, отсюда — стремление нашего познания и его обязанность — мыслить всеобщее в индивидуальном. Познание наше может быть объяснено и обосновано лишь как частичное воспроизведение абсолютного синтеза.
VII.Кантов схематизм чистых понятий и абсолютный синтез, как связующее начало в познании.
Слова Канта «мысли без содержания пусты, наглядные представления без понятий слепы» (II изд., 75) точно отражают предшествующее познанию состояние наших познавательных способностей: с одной стороны — пустые категории, с другой стороны — безмысленный хаос слепых представлений, — таково то состояние духа, которое выражается словом незнание. Каким образом эти разрозненные элементы могут объединиться в то целое, которое мы называем познанием, это — задача, которая на почве кантова учения должна оставаться навсегда неразрешенной. Какие бы операции мы ни производили над такими отрицательными величинами, как пустые понятия (категории) и слепые представления, — из их сочетаний мы не получим величины положительной, — не получим знания. Мало того, если в нашей мысли есть только эти два элемента, — категории и наглядные представления — и никакого третьего начала, связующего и объединяющего то и другое, — то никакое сочетание их не представляется возможным: категории так и должны оставаться «пустыми», а наглядные представления, — «слепыми».
108
Пропасть между мыслью и чувственностью ничем не может быть заполнена.
Кант чувствовал затруднение и сделал попытку преодолеть его в своей знаменитой главе «О схематизме чистых рассудочных понятий»; но именно в этой попытке и обнаруживается ярче, чем где-либо, роковой недостаток всей его точки зрения.
Трудность, отмеченная Кантом, заключается в следующем: с одной стороны — понятие, под которое подводится любой предмет, должно быть однородно с представлением этого предмета (напр., тарелка не могла бы быть подведена под понятие круглого тела, если бы эмпирическое представление тарелки не было в каком-либо отношении однородно с чистым геометрическим понятием круга). — С другой стороны «чистые понятия рассудка совершенно неоднородны с эмпирическими (и вообще чувственными) наглядными представлениями и никогда не могут быть найдены ни в одном наглядном представлении. Отсюда возникает вопрос, как возможно подведение наглядных представлений под чистые понятия, т.е. применение категорий к явлениям, так как никто ведь не станет утверждать, будто категории, — напр., категория причинности, — могут быть также наглядна представляемы посредством чувств и содержатся в явлении»? (II изд., 176—177). Кант чувствует, что для объединения категорий и чувственного воззрения требуется объединяющее начало, отличное от обоих противоположных элементов человеческого познания. «В исследуемом нами случае», по его мнению, «очевидно, должно существовать нечто третье, однородное в одном отношении с категориями, а в другом — с явлениями, и обусловливающее возможность применения категорий к явлениям. Это посредствующее представление должно быть чистым (не заключающим в себе ничего эмпирического) и тем не менее с одной стороны интеллектуальным, а с другой — чувственным» (177).
Задача поставлена верно: теория познания должна найти такое центральное представление, в котором категории и чувственные представления составляют одно неразрывное, органически единое целое. Если такого связующего начала нет, то весь категориальный синтез, а вместе с ним и всякое вообще наше познание — не более, как иллюзия. Но, как бы оно ни
109
было необходимо, поиски Канта оканчиваются полной неудачей; и это — по той простой причине, что на той антропологической точке зрения, на которой он стоит, объединяющее начало не может быть найдено. Все, что я сознаю, есть или мое наглядное представление, или мое понятие: пока я не выхожу из этой плоскости — tertium non datur — цельность моего расколовшегося надвое сознания не может быть восстановлена никакими усилиями моей мысли.
В роли объединяющего начала у Канта является «трансцендентальная схема». Но, присмотревшись к ней внимательно, мы тотчас убеждаемся в призрачности объединения: при малейшем прикосновении анализа «схема» немедленно превращается или в «пустое понятие», или в «слепое представление»; и мост, перекинутый с одного берега на другой, оказывается бумажным.
Посредствующим началом между чувственностью и рассудком, по Канту, служит время. С одной стороны, в качестве чистого и априорного воззрения, оно однородно понятиям рассудка; с другой стороны «трансцендентальное определение времени однородно с явлением, поскольку время содержится во всяком эмпирическом представлении многообразия» (II изд., 178). Будучи, таким образом, однородно и категориям, и явлениям, время объединяет те в другие: оно облекает понятия рассудка в наглядные схемы, что и делает возможным применение их в опыте.
В действительности, однако, «схемы», извлекаемые Кантом из представления времени, нисколько не приближают категорий к явлениям и не объясняют их применения к последним. По Канту, «чистая схема величины, как понятия рассудка, есть число, т.е. представление, объединяющее в себе последовательное присоединение единицы к единице (однородного)» (II изд.. 182). На самом деле число вовсе не предполагает времени, вовсе не требует совершающегося во времени перехода от единицы к единице, т.е. счисления. Нетрудно представить себе ум, который разом интуитивно схватывает множество в единстве, т.е. представляет какой угодно величины числа без всякого перехода (счета) во времени; стало быть, наглядное представление времени для числа вовсе не существенно. Самое же число, как понятие, ничуть не менее отвлеченно и ничуть не более однородно
110
с чувственным представлением, чем понятие «величины», для которого оно должно служить схемой; подставляя на место величины «число вообще», мы все еще остаемся в пределах категорий и не получаем никакого «посредства» между ними и явлениями.
Так же точно ничего не дают и другие кантовские схемы: так переход во времени «от ощущения, имеющего известную степень, вплоть до исчезновения его», — вопреки Канту, не дает схемы «реальности»; интенсивность ощущения становится схемой реальности лишь постольку, поскольку самое ощущение уже подведено под категорию реальности; стало быть, схема в данном случае служит не посредством, а результатом подведения явления под категорию. Схемой субстанции Кант считает «устойчивость реального во времени»; но здесь мы имеем вовсе не схему, — а либо иное словесное выражение той же категории субстанции, либо наглядное представление, по существу чуждое этой категории. Если под «устойчивостью реального во времени» разуметь просто-напросто сверхвременное бытие, то эти слова суть лишь точное выражение понятия субстанции и больше ничего. Если же под «устойчивым во времени» разуметь просто длящееся явление, т.е. явление, обладающее относительной продолжительностью, то между таким явлением и субстанцией вовсе нет той однородности, которая, по Канту, должна существовать между схемой и понятием. Еще большая натяжка заключается в утверждении, что схемою причинности служит «последовательность многообразия, поскольку она подчинена правилу». Одно из двух: или мы имеем тут такую последовательность, где последующее обосновано в предыдущем, т.е. пересказ в других выражениях того же понятия причинности, или же мы имеем просто однообразную последовательность, — например, однообразное чередование дня и ночи; но такая последовательность, хотя и «подчиненная правилу», с понятием причинности не имеет ничего общего. В обоих случаях мы не имеем именно того, чего ищет Кант, — схемы, посредствующей между понятием и явлением. Такие же натяжки есть и во всех прочих «схемах» Канта; они легко могут быть обнаружены всяким философски образованным читателем, а потому едва ли здесь есть надобность далее на них останавливаться.
111
Для нашей цели достаточно выяснить общую и основную причину этой неудачи. Как сказано, она заключается в антропологизме кантова учения о познании. Мысль эта требует пояснения.
Третьим объединяющим началом между мыслью и чувственностью может быть только такой акт сознания, в котором самая противоположность мысленного и чувственного снята, так что все чувственное в этом акте обладает всеобщностью мысли, а мысленное непосредственно воплощается в полноте конкретного многообразия чувственного. В этом акте сознания чувственность адекватна мысли и мысль объемлет полноту конкретного многообразия чувственного. Здесь нет ни отвлеченной мысли, ни безмысленной данности, а есть конкретная интуиция, которая непосредственно схватывает, видит единое во многом. Тут чувственность насквозь пронизывается мыслью, а мысль становится конкретным видением. Только в такой конкретной интуиции снимается противоположность слепого представления и пустой мысли. Только в ней, стало быть, можно найти разрешение поставленного Кантом вопроса о третьем начале, связующем категории и чувственность, а, стало быть, и о правомерности применения категорий в человеческом познании.
Остановиться на таком решении, однако, для Канта было невозможным именно вследствие антропологического по существу характера его учения. Он знает только антропологически ограниченную чувственность и антропологически ограниченную мысль, отвлеченно частное и отвлеченно всеобщее. Поэтому понятие универсальной, всеединой чувственности остается ему столь же чуждым, как понятие всеединой мысли; при этих условиях чувственность и мысль должны оставаться непримиримой противоположностью, которая ничем не может быть опосредствована или снята. Точка их объединения не может быть найдена, а потому не может быть обосновано и познание. Чтобы найти то третье связующее начало, которого искал Кант, нужен тот самый transcensns, возможность которого он отвергал, выход нашего сознания к Всеединому или Безусловному: в нем, — и только в нем, — мы найдем искомое единство мысленного и чувственного, т.е. то самое, что составляет необходимое основание и предположение всякого реального познания.
112
В самом деле, подводя в познавательных суждениях под категории чувственный материал, мы предполагаем, что то и другое — и мысль и чувство — едино в истине, т.е. что противоположность мысленного и чувственного в истине снята, так что там мысль является имманентным определением чувственного, а чувственное — подлинным содержанием и выражением мысли. Иначе говоря, истина предполагается нашим познаванием как абсолютный синтез, в котором раньше всякой нашей мысли все мысленное и чувственное связано с безусловной необходимостью. Интуиция абсолютного синтеза, предшествующего всякому нашему познанию, и есть то третье, связующее начало, которое обусловливает (т.е. оправдывает) возможность приложения наших категорий к данным чувственного восприятия. Мы можем связывать мыслью чувственный материал в объективно значимое целое познание лишь в том предположении, что этот материал уже связан мыслью в Безусловном. Задача познания — лишь в воспроизведении этой связи: если ее нет в Безусловном, если она не положена во всеедином сознании, то нам нечего познавать, и все наше мышление — лишь праздное занятие.
Тут, однако, мне могут сделать возражение, которое как будто ниспровергает все изложенное выше построение. Пусть абсолютный синтез мысленного и чувственного дан в абсолютном, всеедином сознании: этим еще не обоснована возможность моего, человеческого познания. Мое познание было бы обосновано лишь в том случае, если бы было показано, что безусловное сознание может стать моим. Стало быть, для разрешения этой задачи недостаточно простого указания на то, что абсолютный синтез есть в истине; нужно еще установить возможную причастность моего сознания этому синтезу: нужно показать, что безусловное сознание может быть моим, ибо только при этом условии истина может быть моею.
Вопрос, разумеется, вполне законен; но внимательный читатель найдет на него ответ в предшествующем изложении. Мы видели, что человеческое сознание не есть замкнутая сфера по отношению к сознанию безусловному: первое есть лишь, поскольку оно положено в последнем, лишь поскольку оно осознано в безусловном. Но поэтому самому и безусловное сознание
113
не есть абсолютно непроницаемая сфера для нашего, человеческого. Оно есть в нашем сознании, ибо оно предполагается им: мы можем найти его в наших представлениях как имманентный им закон и синтез; и всякое наше углубление в самих себя неизбежно приводит к нему. Недаром самопознание еще древними философами было понято как путь к абсолютному сознанию. Рефлексия над собственным сознанием неизбежно приводит нас к уверенности, что наше человеческое сознание положено в Безусловном и в нем от века осознано, и что постольку, сознавая самих себя, мы найдем в собственном сознании некоторое откровение сознания Безусловного, некоторую долю его содержания. Уверенность, что мое я, как сознающее, положено в безусловном сознании, рождает во мне уверенность, что и безусловное сознание может стать моим, т.е. может наполнить мое сознание. Истина может стать моею лишь в том предположении и при том условии, что мое я положено и осознано в истине. И та и другая уверенность, как мы видели, дана в трансцендентальной апперцепции, как она была охарактеризована выше, — в том первичном тройственном акте, в котором предполагается Безусловное, и мое я с одной стороны противополагается ему, а с другой стороны утверждается в нем и связывается с ним.
В этом тройственном акте заключается основание н объяснение нашего познания, а вместе с тем — ключ к разрешению некоторых кажущихся противоречий. Из этих антиномий познания, с которыми мы будем еще сталкиваться в дальнейшем, я отмечу здесь самую основную. В предшествующем изложении неоднократно указывалось, что задача познания может быть разрешена лишь через transcensus, т.е. через выход нашего человеческого сознания к сознанию безусловному. Но, как было только что здесь выяснено, условие возможности познания заключается именно в том, что безусловное сознание имманентно нашему, так что мы можем найти его, оставаясь в пределах нашего сознания, путем самоуглубления.
Я настаиваю на том, что и то и другое положение одинаково верно: мы имеем здесь не случайное противоречие какого-либо философского построения, а необходимую антиномию познания, которая может и должна найти себе разрешение.
114
Нетрудно убедиться, что мы имеем здесь лишь гносеологический аспект той антиномии Абсолютного и его другого, которая уже была отмечена в предшествующем изложении. С одной стороны Абсолютное трансцендентно своему другому, с другой стороны оно ему имманентно. Мы видели, что антиномия эта разрешается различением различных планов бытия и сознания в Абсолютном. Так же разрешается и отмеченная здесь антиномия познания.
Безусловное сознание частью имманентно нашему, поскольку в нем есть открытая для нас сфера; и постольку мы можем найти его в самих себе, путем самоуглубления, без всякого transcensus’a. Частью, напротив, оно трансцендентно нам; и постольку для овладения им нам нужен transcensus, т.е. выход за ту плоскость сознания, в которой пребывает наша мысль, переход из плана в план сознания. Но всяким таким переходом область имманентного нам тем самым расширяется. То, что было раньше трансцендентным сознанию, на более высокой ступени познания становится имманентным ему.
Отсюда видно, что между предположением трансцендентности безусловного сознания нашему и предположением его имманентности — нет непримиримого противоречия. Есть только необходимая, хотя и разрешимая антиномия. Ее разрешение будет вместе с тем и разрешением вопроса о возможности познания.
ѴІІІ. Подчиненное значение категорий и их оправдание.
В заключении настоящей главы остается отметить, что высказанное здесь понимание категорий с одной стороны коренным образом противоречит правоверному кантианству, а с другой стороны признает великую истину открытия Канта и пытается обосновать ее: постольку она столь же коренным образом расходится с враждебным Канту алогизмом наших дней.
Основное отличие излагаемого здесь воззрения от кантовского в общем сводится к следующему. — Для Канта категории суть первоначальные, абсолютные условия человеческого познания, которые ничем другим обусловлены и обоснованы быть не могут. Мы судим обо всем в форме категорий просто потому,
115
что мы так судим, — просто потому, что такова своеобразная особенность нашего рассудка.
Напротив, настоящее исследование выяснило, что категории, при всей их необходимости для нас, вовсе не суть первоначальные условия нашей мысли. Есть другое, высшее начало над категориями, которое первее их и составляет общее их prius условие и основание в нашей мысли. Интуиция Безусловного как Всеединого, — вот подлинное а priori нашей мысли; и все наши категории в ней так или иначе обоснованы, — все они суть лишь способы отнесения мыслимого содержания к этой интуиции, которая предшествует в нашем уме всякому категориальному мышлению. Категории суть формы наших суждений; но раньше, чем судить о каком-либо предмете, я уже вижу его во всеединстве. Суждению всегда предшествует конкретная интуиция, которая затем облекается мыслью в форму понятия; категории суть не что иное как различные формальные выражения интуиции всеединства в нашем рефлектирующем уме, различные способы высказывания этой интуиции в терминах отвлеченной мысли.
В этом заключается оправдание категориального мышления и вместе с тем — опровержение модного в наши дни учения алогизма, будто источник всех категорий есть грех1) и будто категории соответственно с этим суть болезнь, от которой возможно и даже должно исцелиться. «Болезнь» или, точнее говоря, несовершенство нашей мысли — заключается вовсе не в существовании категорий, а в том, что в нашем уме они отвлеченны и пусты, — не наполнены конкретным содержанием. Абсолютное всеединство не только не есть отрицание категорий, но как раз наоборот, — их обоснование и утверждение. Если категории — болезнь и грех нашей мысли, то ложью должно быть признано само Абсолютное, ибо в таком случае нет ни безусловного, ни единого, ни всего, ни необходимого. Идея абсолютного тем самым неизбежно утрачивает всякую форму, а, стало быть, и все свое содержание, ибо нет всеединого содержания вне всеединой формы. Содержание может отделяться (отвле-
___________________
1) См., напр., Н. А. Бердяев «Философия свободы», 119 (Москва, 1911, изд. книгоиздательства «Путь»).
116
катъся) от формы лишь в нашем отвлеченном мышлении. И современный алогизм в его бесформенности есть типический образец именно отвлеченной, не конкретной мысли, — мысли, бессильной подняться над отвлечением. Такая мысль сама себя убивает: кто утверждает, подобно Н. А. Бердяеву, что в Абсолютном не действительны никакие логические законы, ни закон тожества, ни закон противоречия, тот должен окончательно отречься от самой идеи Абсолютного, ибо в таком случае самые противоречивые высказывания о нем одинаково верны: и то, что оно есть, и то, что оно не есть, и то, что оно вечно пребывает, и то, что оно может уничтожиться, и то, что оно все собою обусловливает, и то, что существующее им вовсе не обусловлено. Как только мы утверждаем, что абсолютное есть, — тем самым нам необходимо навязывается целая система категорий, и навязывается она не как болезнь, а как здоровье — как разумная необходимость — относит все, что есть, к безусловно Сущему. Применение категорий к конкретному содержанию не только не есть грех, но, как раз наоборот, оно выражает собою деятельную борьбу мысли против греха, —тот ее акт, в котором она стремится преодолеть свое отчуждение от всеединства и утвердиться в нем. Грех мысли выражается именно в этом ее отчуждении, в том ее состоянии внутреннего распада, когда с одной стороны категории не наполнены содержанием и, стало быть, отвлеченны, а с другой стороны чувственные данные не охвачены мыслью, не осмыслены в ней. Но идеал познания как раз именно и заключается в преодолении этого раздвоения, в осуществлении всеединства в мысли. Во всеединстве, таким образом, упраздняются не самые категории, а только их пустота и отвлеченность. Ибо здесь присущая нашей мысли форма безусловности наполняется соответствующим ей безусловным содержанием.
117
ГЛАВА IV.
Сущее и явление.
I. Противоречия в понятии вещи в себе.
Учение Канта об условиях познания составляет неразрывное целое с его же учением о границах познания; с точки зрения „Критики чистого разума“ вместе с антропологическими условиями познания даны и его антропологические границы. Поэтому оба учения должны быть обсуждаемы и оцениваемы вместе.
Познание по Канту обусловлено а priori формами чувственного воззрения и формами, мысли, интуициями пространства и времени, и категориями рассудка. Вытекающее отсюда ограничение познания заключается в том, что эти формы нашего представления и мысли приложимы только в пределах наших представлений. Мы не можем знать вещей, как они существуют сами в себе независимо от наших представлений: в область, доступную нашему познанию, входят только явления, т.-е. вещи, как мы их представляем; напротив, вещи в себе нашему познанию безусловно недоступны.
Таким образом различение вещей в себе или ноуменов и явлений или феноменов имеет для теории познания Канта первостепенное, основоположное значение. Между тем, как уже это давно выяснено философской критикой, в основе этого учения о двух противоположных областях бытия лежит глубокое, непримиримое противоречие. Из противоречивых утверждений слагается поэтому все, что Кант учит о границах человеческого познания.
Объяснение этих противоречий имеет первостепенное значение не только для оценки „Критики чистого разума“, но и для вся-
118
кой теории познания вообще. Поэтому мы должны остановить на них наше внимание.
Противоречие, как это неоднократно было указано критиками Канта, лежит в самой его исходной точке. С одной стороны для него вещь в себе безусловно непознаваема, и именно в этом он видит основную границу человеческого познания; с другой стороны, всматриваясь в эту границу, мы убеждаемся, что она проводится Кантом на почве определенного метафизического учения, которое во всяком случае предполагает существование вещи в себе и ее коренное отличие от явления, а, стало-быть, вынуждено, вопреки запретам „Критики· чистого разума“, кое-что знать о ней.
Уже самое учение Канта о непознаваемости „вещи в себе“ предполагает ее реальность. Если бы вещь в себе была только моим вымыслом, моей фантазией, она была бы вполне познаваема. По верному замечанию Куно Фишера, „если бы вещи в себе не было присуще свойство подлинно действительного ила реального, как основы всех представляемых и являющихся вещей, то учение о непознаваемости было бы лишено всякого смысла; оно было бы не только незначительным, но и нелепым. Как может что-то в сущности вовсе не существующее, а только мыслимое быть утверждаемо в серьез, как непознаваемое?“ 1)
С одной стороны теория познания Канта принципиально отрицает возможность какой бы то ни было онтологии; с другой стороны, сама того не замечая, она основывается на онтологическом по существу учении о противоположности между вещью в себе и явлением. Что за пределами моих представлений действительно существует некоторая вещь в себе, для меня непознаваемая, — в этом состоит одно из основных предположений „Критики чистого разума“.
Не следует ли понимать непознаваемость этой „вещи“ в том ограниченном, условном смысле слова, что я знаю только об ее существовании, но не знаю ее свойств? Нетрудно убедиться, что даже и в этом смысле основной принцип „Критики чистого разума“ в ней не выдержан: ее запреты нарушаются у Канта не одними только экзистенциальными суждениями. Кроме
___________
1) Kuno Fischer. „Gesch. . neueren Philosophie“. V B., 2 Aufl., 90.
119
существования „вещи в себе“ Кант вынужден знать о ней еще и многое другое, ибо, как уже было отменено критикою, теоретико-познавательная пропасть между вещью в себе и явлением у него вообще смешивается с метафизическою 1).
Во-первых, мы находим в „Критике чистого разума“ весьма определенное отрицательное знание о вещи в себе. Она безусловно несхожа с явлениями; ибо между миром, как мы его представляем, и миром, как он есть на самом деле, нет ничего общего. В „Критике чистого разума“ постоянно встречаются рядом два противоположных утверждения: с одной стороны, „каковы предметы в себе, этого мы никогда не узнали бы даже и с помощью самого ясного знания явлении их, которое единственно доступно нам“ (60); с другой стороны, однако, по Канту, мы точно знаем, что „вещи, представляемые нами, не таковы сами по себе, как мы их представляем“ (59). Мало того, Канту хорошо известно и то, в чем заключается отрицательное отличие ноуменов от феноменов. Он знает, что вещь в себе — непротяженное и сверхвременное нечто (I изд., 358), что пространство и время вообще только субъективны, что они не существуют „вне нашей души“ (IIизд., 520). Соответственно с этим он полагает, что „если бы мы уничтожили наш субъект или только субъективные свойства наших чувств вообще, то все свойства объектов и все отношения их в пространстве и времени, а также само пространство и время исчезли бы“ (II изд., 59). Эта точка зрения определенно выражается не только в первом, но и во втором издании „Критики“. В обоих изданиях Кант категорически заявляет: „мы достаточно доказали в трансцендентальной эстетике, что все, что совершается в пространстве и времени, стало-быть, все предметы нашего возможного опыта суть не что иное, как явления, т.-е. только представления, которые, так, как они представляются нами, как протяженные существа или ряды изменений, не имеют существования сами по себе вне нашей мысли. Это учение я называю трансцендентальным идеализмом“ (519). Таким образом, в обоих изданиях „Критики“ учение об исключительной субъективности пространства
__________
1) I. Volkelt, „Immanuel Kant’s Erkentnisstheorie“. 44-45 (Leipzig, Verlag v. LeopoldVoss, 1879).
120
и времени, а, стало-быть, категорическое утверждение, что пространства и времени нет в вещи в себе, — признается существенным признаком основной точки зрения Канта — его трансцендентального идеализма. Также и учение о неприложимости категорий к вещам в себе у Канта приобретает оттенок метафизического знания о вещи в себе, о ее внекатегориальном бытии. Для него категории суть „не что иное, как формы мысли, содержащие в себе логическую способность объединять а priori в одно сознание многообразие, данное в наглядном представлении, и потому, если отнять от них единственно возможный для нас способ наглядного представления, они могут иметь еще меньше значения, чем чистые чувственные формы, посредством которых, по крайней мере, дается объект, между тем как свойственный нашему рассудку способ соединения многообразия не имеет никакого значения, если к нему не присоединяется то наглядное представление, без которого многообразие не может быть дано нам“ (306). Учение о внекатегориальном бытии вещей в себе выражено здесь и в других местах „Критики“ как-будто менее ясно, чем учение о их существовании вне пространства и времени; но оно составляет прямой и необходимый вывод из мысли Канта. В самом деле, если категории — только наш способ мысли о наших представлениях в пространстве и времени, при чем пространства и времени в вещах себе нет, — то очевидно, что вещи в себе как внепространственные, вневременные и чуждые нашим представлениям вообще, тем самым и внекатегориальны. Соответственно с этим Кант прямо говорит в Пролегоменах (§ 30), что категории — только наши субъективные способы складывания явлений, „чтобы можно было их читать как опыт“; основоположения, происходящие из отношения этих понятий к чувственному миру, — за пределами опыта суть лишь „произвольные комбинации без объективной реальности“ 1).
К отрицательному знанию о вещи в себе присоединяется в „Критике чистого разума» еще и положительное, при чем между ее положительными и отрицательными определениями опять-таки существует очевидное противоречие: с одной стороны, как мы видели, Кант решительно отрицает возможность применения ка-
____________
1) Ср. Volkelt, цит. соч., 47—48.
121
тегорий к вещам в себе; с другой стороны все то знание о них, которое контрабандой проникает в „Критику чистого разума‘‘, добывается именно путем применения к ним категорий.
Чаще всего вещь в себе определяется в „Критике‘‘, как некоторая неизвестная нам реальность, X, лежащая в основе· явлений; при этом Кант не замечает, что инкогнито этой реальности· нарушается не одним применением к ней категории „реальности‘‘, но также и тем, что данное явление есть ее явление. „Вещь в себе‘‘ и „явление‘‘ у Канта — понятия соотносительные, ибо он не в состоянии мыслить явление без того, что является; для него оно непременно есть явление чего-либо в себе сущего; поэтому неудивительно, что противоречивые утверждения о вещи в себе в „Критике‘‘ содержатся иногда в пределах одного и того же суждения: Кант говорит о ней как об являющемся неизвестном, не замечая при этом явного contradictio in adjecto.
Так, напр., он сообщает, что „наглядное представление тела не содержит в себе ничего, что могло бы принадлежать предметам самим по себе; оно выражает только явление чего-то и способ действия чего-то на нас; эта восприимчивость нашей способности познания называется чувственностью и отличается как небо от земли от знания предметов самих по себе, хотя бы мы рассмотрели явления до последней глубины их‘‘ (61). Кант совершенно не замечает здесь, что знать „явление чего-то‘‘ и определенное действие этого „чего-то‘‘ на человеческую чувственность — значит знать об этом „что-то‘‘ чрезвычайно много, даже беспредельно много, ибо познание явлений может беспредельно расширяться; но, как бы оно ни расширялось, оно всегда так или иначе относится к тому, что является.
Мы имеем здесь дело не с какой-либо случайной обмолвкой „Критики чистого разума‘‘: понимание вещи в себе, как неизвестного, которое является, для нее весьма существенно и характерно. Поэтому количество цитат, иллюстрирующих указанное противоречие, могло бы быть значительно умножено. Здесь будет достаточно привести несколько ярких примеров.— В предисловии ко второму изданию „Критики‘‘ Кант прямо говорит: „Мы не можем познавать никакой предмет как вещь в себе, но лишь поскольку он (курсив мой) есть предмет чувственного
122
воззрения». (XXVI) Этими словами вещь в себе и явление изображаются как два аспекта одно и то же. Было бы ошибочно думать, что мы имеем здесь дело с какой-либо особенностью второго издания „Критики‘‘ в отличие от первого: совершенно те же мысли и выражения встречаются не только в местах, общих обоим изданиям 1), но и в текстах первого издания, не включенных в состав второго: там также Кант говорит о вещи в себе, как о том „нечто, что лежит в основе внешних явлений и что аффицирует наши чувства так, что они по-лучают представления пространства, материи, формы п т. д.‘‘ (изд. I, 358).
Кант восстает против применения к вещи в себе категорий субстанции (344); а между тем только-что приведенные места предполагают именно субстанциальное отношение между явлением и вещью в себе, — его умопостигаемою сущностью. Впрочем, даже и устранение категории субстанции в данном случае мало помогает: так или иначе, нарушение запретов „Критики чистого разума‘‘ неизбежно для Канта. Попытка обойтись без категории субстанции ведет только к тому, что автор „Критики чистого разума‘‘ применяет к вещи в себе другую категорию, именно категорию причинности. По его словам, наш рассудок мыслит вещь в себе „как трансцендентальный объект, составляющий, причину явления‘‘ (344). Опять-таки мы имеем здесь не случайную обмолвку. Места, где говорится об обусловливающем явление причинном воздействии (аффицировании) вещи в себе на нашу чувственность, встречаются в обоих изданиях „Критики чистого разума‘‘ в большом изобилии. И, странное дело, об этом аффицировании идет речь в тех самых текстах, где говорится о непозпаваемости вещи в себе. По Канту, „мы имеем дело только с нашими представлениями; каковы могут быть, вещи в себе (вне отношения к представлениям, через которые они нас аффицируют ), это совершенно выходит за пределы нашей области познания‘‘ (235). В других местах вещь в себе определяется как неизвестное „нечто‘‘, что аффицирует наши чувства‘‘ (I изд., 358). Самое внутреннее чувство об ясняется само-
__________
1) См., напр., 428: das, wasderErscheinungderMateriealsDingansicbzuGrundeliegt.
123
аффицированием воспринимающего субъекта (155), т.-е. опять-таки воздействием его, как вещи в себе, на свою же собственную чувственность. Насколько учение о причинном воздействии ,,трансцендентального объекта‘‘ или вещи в себе на нашу чувственность существенно для „Критики чистого разума‘‘, доказывается тем , что Кант вводит его в самое определение ощущения, даваемое в начале трансцендентальной эстетики. По его словам, „действие предмета на нашу способность представления, поскольку он нас аффицирует, есть ощущение‘‘ (34). Без этого условия не была бы возможна никакая чувственная данность, никакое наглядное представление; наглядное представление „имеет место лишь постольку, поскольку предмет нам дан; это же последнее опять-таки (по крайней мере для нас, людей) возможно лишь вследствие того, что предмет определенным образом аффицирует нашу душу“ (33).
Что здесь речь идет именно о вещи в себе, в этом не может быть сомнения, хотя в приведенных двух последних текстах трансцендентальной эстетики она не названа: ибо предмет, служащий причиной наших представлений и, следовательно, от них не зависящий, очевидно, не может быть ничем иным.
В этом учении об „аффицировании‘‘ мы имеем не только незаконное применение категории причинности к вещам в себе: им запреты „Критики чистого разума‘‘ вообще нарушаются по всей линии: сам того не замечая, Кант привносит здесь в вещи в себе не только категории, но и наглядные представления пространства и времени, ибо то и другое предполагается самым понятием „аффицирования‘‘ В самом деле, что значит аффицировать, как не действовать на нашу чувственность во времени! И что такое воздействие на наши органы чувств, как не определенное действие внешнего предмета в пространстве? С одной стороны Кант исключает представления пространства и времени из области вещей в себе; с другой стороны он не в состоянии вполне отрешиться от этих наглядных представлений, когда он пытается продумать отношение вещей в себе к нашей чувственности.
124
II. Случайны или необходимы противоречия Канта?
Что мы имеет в этих внутренних, противоречиях „Критики чистого разума“? Представляются ли они устранимыми и случайными, или же они коренятся в самом существе точки зрения Канта и, следовательно, необходимы для нее?
Если бы противоречия „Критики чистого разума“ были только результатом исправлений, внесенных в нее Кантом во втором издании, с целью отмежеваться от Беркли, — они, разумеется, не могли бы считаться для нее существенными; но попытка Шопенгауера, а вслед за ним — некоторых других комментаторов истолковать их в этом смысле не могут быть признаны удачными. Уже в первом издании, как мы видели, ясно выступили те реалистические тенденции мысли Канта, которые впоследствии столь резко сказались во втором издании, в знаменитом „опровержении идеализма“ и в предисловии.
Во втором издании „Критики“ (275—276) Кант утверждает, что наше восприятие материи возможно только через вещь вне меня, но не через одно только представление „вещи вне меня“. Именно в этих словах комментаторы, следующие за Шопенгауером усматривают отречение Канта от точки зрения „трансцендентального идеализма“, выраженной им в первом издании „Критики“ 1). Если мы сопоставим приведенную цитату с утверждением первого издания, что весь телесный мир — не более, как явление в нашем сознании, которое без мыслящего субъекта превращается в ничто, то мы и в самом деле найдем здесь бьющее в глаза противоречие. Но оно целиком содержится уже в первом издании, где, как мы видели, уже с полной ясностью выражено ученье об аффицировании, т.-е. о восприятии, как результате воздействия „трансцендентального предмета“ на наши чувства. Реалистические положения второго издания высказаны Кантом уже в первом издании, притом на первых двух страницах трансцендентальной эстетики, где имеется· вышеприведенное определение ощущения и изречение о действии.
___________
1) См., напр., Kuno Ficher, цит. соч., V B. 2 Aufl., 59—60, 63—64.
125
предмета на нашу чувственность, как условии наглядного представления 1).
Если, таким образом; в первом издании уже ясно выражен реализм второго, то, с другой стороны, во втором издании найдется не мало мест, со всей возможной резкостью выражающих тот исключительный субъективизм первого издания, от которого Кант будто бы отрекся во втором. Здесь достаточно будет напомнить ту приведенную уже выше (стр. 120) характеристику трансцендентального идеализма, общую обоим изданиям, где Кант категорически утверждает исключительную субъективность мира явлений в пространстве и времени. В обоих изданиях фигурирует и то классическое место, которое наиболее ярко выражает идеалистическую тенденцию, будто бы отброшенную Кантом во втором издании: „если бы мы уничтожили наш субъект или только субъективные свойства наших чувств вообще, то все свойства объектов и все их отношения в пространстве и времени, а также само пространство и время исчезли бы“ (59).
Если, таким образом, противоречия „Критики чистого разума“ не могут быть объяснены как случайное разноречие между двумя ее изданиями, то тем более неудачной должна быть признана попытка Когена вовсе устранять их посредством истолкования.
Противоречия в учении о вещи в себе, как мы видели, у Канта тесно связаны с утверждением ее непознаваемости. Понятно, что именно в эту сторону направляются усилия Когена. Он истолковывает кантовское понятие „вещи в себе“ так, что от ее непознаваемости, а вместе с тем и от ее реального существования за пределами человеческого опыта ровно ничего не остается. По Когену, лишены всякого основания поверхностные толки о том, будто Кант „ограничил познание явлениями, но оставил в неприкосновенности непознаваемую вещь в себе“ 2). Вещь в себе у Канта не есть что-либо существующее независимо от человеческой мысли, а только наша методологически необходимая мысль, — именно понятие об опыте
______________
1) См. выше, 124,
2) Hermann Cohien. „Kant's. Theorie der Erfahrung“. II Aufl., 518.
126
как целом, понятие, „совокупности научных познаний“ и в этом смысле — „пограничное понятие», ибо понятие опыта как целого завершает и тем самым ограничивает опыт. Мы не выходим за пределы опыта, поскольку мы самый опыт полагаем как предмет, но мы ограничиваем отдельные предметы опыта, поскольку мы утверждаем опыт как то целое, вне которого нет никакого другого предмета. Этим самым мы утверждаем опыт как то безус-ловное, что содержит в себе возможность всякого предмета: мы проводим знак равенства между ним и природой; но так понимаемый, опыт и есть вещь в себе 2).
Не входя пока в оценку такого понимания „вещи в себе“, как философского воззрения, — мы прежде всего должны исследовать здесь, соответствует ли оно воззрениям исторического Канта. Цитаты, которыми Коген пытается подтвердить правильность своего истолкования, едва-ли говорят в его пользу; так, напр., он ссылается (517) на слова „Критики чистого разума“: „однако мы можем называть только умопостигаемую причину явлений вообще трансцендентальным объектом единственно для того, чтобы иметь нечто, что соответствует чувственности как восприимчивости“ Вопреки Когену, опыт не может быть этим „нечто“, ибо совершенно нельзя себе представить, как он может быть „умопостигаемой причиной“ явлений, т.-е. как он может оказывать причинное воздействие на нашу чувственность.
В приведенном месте Кант совершенно очевидно имеет в виду вещь в себе как то, что аффицирует: только поэтому она и может „соответствовать чувственности как восприимчивости“, т.-е. тому, что подвергается аффицированию.
Необъяснимыми при когеновском истолковании представляются вообще все места „Критики“, где говорится об „аффицировании“, ибо без явной нелепости невозможно допустить, что опыт как целое „аффицирует“ чувственность, которая, по Канту, представляет собою один из элементов того же опыта.
В других цитатах, приводимых Когеном, мы найдем еще более наглядное самоопровержение. Так, напр., он ссылается (518) на слова Канта: „этому трансцендентальному объекту мы можем
____________
1) Там же, 503, 519.
2) Там же 507.
127
приписать весь объем и всю связь наших возможных восприятий и сказать, что он дан сам в себе раньше всякого опыта‘‘. По поводу этого места Коген заявляет: „поскольку мы мыслим всякий объем и всякую связь наших возможных восприятий, которую, однако, мы не можем созерцать в наглядном представлении, для нас возникает вещь в себе, как содержащая и обозначающая этот объем и эту связь“ (ibid). Коген не замечает здесь того, что, если бы для Канта вещь в себе, так понимаемая, была тожественна с опытом как целым, Кант, очевидно, не мог бы утверждать, что она „дана сама в себе раньше всякого опыта“.
Таким образом ошибочность толкования Когена изобличается даже приводимыми им самим текстами „Критики“; а между тем, эти тексты подобраны весьма тенденциозно и односторонне. Из „Критики чистого разума“ можно было бы привести и другие цитаты, где вещи в себе с одной стороны и всякий возможный опыт с другой стороны противополагаются, как понятия, взаимно друг друга исключающие (напр., 315). Но важнее отдельных текстов общий смысл „Критики чистого разума“, согласно которому вещь в себе есть именно то, что лежит за пределами возможного опыта; заключать отсюда, что именно она и есть для Канта возможный опыт как целое — значит подвергать его мысль величайшему насилию. Почти всякий раз, когда заходит речь о вещи в себе, Кант говорит о ней не только как о неизвестном, но и как о непознаваемом, мы видели, что в этом отношении мысль его не чужда противоречий; но, каковы бы ни были эти противоречия, — довольно трудно себе представить, каким образом кантовское „непознаваемое“ может быть истолковано как „совокупность наших научных знаний, их объем и связь“. Какова бы ни была ценность такого понимания „вещи в себе“, очевидно, что мы имеем в нем мысль не кантовскую.
Никакое истолкование не в состоянии внести в кантовскую· точку зрения недостающее ей логическое единство: ее противоречия для нее существенны и необходимы: поэтому они не могут быть ни устранены из нее, ни истолкованы как какой-либо случайный для нее эпизод. Нам предстоит здесь выяснить их смысл , который имеет важное значение не только для понимания Канта, но и для построения теории познания вообще.
128
III. Неизбежность выхода к Безусловному в познании:
предметы, как они нам даны, и предметы, как они есть
в абсолютном сознании.
Прежде всего необходимо отметить тот факт, что противоречия „Критики чистого разума“ относятся не к какому-либо частному ее положению, а к основному ее учению. Противоречие есть в ее ответе на важнейший для нее вопрос — о границах человеческого познания.
Противоречие обнаруживается в том, что проведенная Кантом граница не может быть выдержана: она неизбежно нарушается; и в этом нельзя видеть какой-либо случайной непоследовательности „Критики чистого разума“. Нарушения неизбежны потому, что самая граница проведена неверно.
В соответствии с духом теории познания Канта, это — граница по существу антропологическая. Мы можем познавать только то, что нам людям является, что аффицирует нашу человеческую чувственность и укладывается в наши категориальные формы; явление, которое представляет собою единственно познаваемую область существующего, есть для Канта синоним антропологически обусловленной реальности. Но по самому существу своему познание, как такое, в этих пределах оставаться не может : выход за антропологические границы к действительно Безусловному для него необходим: иначе оно не было бы познанием. Самое наше познание явлений неизбежно претендует на безусловную значимость; но оно не могло бы ею обладать, если бы так или иначе оно не относилось к действительно Безусловному. Этим и обусловливаются противоречия Канта — его постоянные нарушения границ, им самим поставленных: с одной стороны он замыкает познание в тесные границы области явлений, т.-е. того, что существует только для воспринимающего субъекта, а с другой стороны он хочет, чтобы такое познание было действительным безусловно и для всех человеческих субъектов. Но как и в силу чего показания моих чувств могут иметь для всех обязательную силу? Чтобы ответить на этот вопрос, Кант вынужден предположить, что в основе моего восприятия лежит нечто объективное (х), что всеми восприни-
129
мается, всех аффицирует, некоторая вещь, которая не зависит от моих субъективных восприятий и к ним не сводится, — иначе говоря, вещь в себе. Отсюда-то и получается основной парадокс „Критики чистого разума“: с одной стороны мы о вещи в себе ничего не знаем и знать не можем, а с другой стороны все наше познание явлений необходимо к ней относится и представляет собою познание — именно о ней. В противоречивых суждениях Канта о вещи в себе обнаруживается невозможность изгнать из человеческого познания Безусловное: выведенное оттуда через парадные двери оно неизбежно возвращается туда через черное крыльцо и в маске...
Всего яснее обнаруживается этот источник кантовских противоречий в учении о вещи в себе как пограничном понятии человеческого разума. Весь смысл утверждения, что наше познание ограничено пределами области явлений, очевидно, заключается в том, что за этой границей лежит реальный мир вещей, нам неизвестных. В самом деле, допустим, что „вещь в себе“ есть только наше понятие, что ей не соответствует никакой реальности: тогда область явлений становится единственной областью реального, областью безусловного бытия; но в этом случае понятие вещи в себе перестает выражать собою границу познания: если нет иного бытия, кроме бытия явлений, то нет ничего для нас непознаваемого. — В этом случае нет ни реальной границы мира явлений, ни границы познавательной, ибо знать явление — значит знать все.
Таким образом, в самом утверждений вещи в себе как границы человеческого познания уже заключается неизбежный выход за эту границу, и это — потому, что всякая попытка положить познанию какую-либо антропологическую границу — внутренне противоречива. Чтобы сознать границу, нужно так или иначе заглянуть за границу. Сознать, что наше человеческое познание, как такое, ограничено, — уже значит подняться над человеческой точкой зрения: это значит — судить о человеческом познании с точки зрения высшей, безусловной; ибо, если бы мы оставались на условной, человеческой точке зрения, — мы не сознавали бы ее границы: и границы и условность человеческого в познании могут быть нами сознаны лишь через сопоставление человеческого с чем-то безусловным, что границ не имеет. Говорить о гра-
130
нице нашего познавания можно только в том предположении, что эта граница положена безусловно, независимо от нашего Я, т.-е., иначе говоря, что она безусловно отделяет наше Я от какой-то в себе существующей реальности; иначе она вовсе не есть граница. Что получится из учения Канта, если удалить из него это понятие реальной, аффицирующей наше Я вещи в себе, — ясно обнаруживается в системе Фихте: через это для человеческого Я исчезают всякие границы: из Я индивидуального, ограниченного оно превращается в Я абсолютное; но тем самым изгнанное Абсолютное опять-таки возвращается с другого конца в теорию познания. Изгнать его из гносеологии совершенно невозможно, так как оно предполагается всяким решением гносеологического вопроса; признать, что Я не подвергается никакому внешнему воздействию и из себя самого черпает все свое познание — значит возвести в абсолютное познающее Я; признать, что Я получает материал познания вследствие реального прикосновения к нему (аффицирования) вещи в себе — значит предположить Абсолютное как то, в чем происходит это взаимное касание Я и вещи, — как основание, и общую сферу их взаимоотношения; наконец, попытка понять явление как самодовлеющую реальность, за которой не скрывается являющегося, ведет к превращению в Абсолютное самой области явлений. Точнее говоря, явление при этих условиях перестает быть явлением и становится безотносительным „бытием в себе“.
В противоречиях „Критики чистого разума“ обнаруживается невозможность построить теорию познания без метафизики. Всякое наше познавание покоится на определенных онтологических предположениях: поэтому попытка изгнать эти предположения из гносеологии ведет лишь к замене сознательной онтологии онтологией безотчетной, а потому неизбежно несостоятельной; в частности, попытка построить учение о познании без Абсолютного ведет лишь к тому, что на место подлинно Абсолютного подставляется и утверждается как безусловное какая-либо относительная, в действительности обусловленная величина.
Кантово учение о вещи в себе представляет собою как раз яркий пример такой безотчетной и внутренно противоречивой онтологии. Попытка продумать до конца понятие „вещи в себе“ обнаруживает полную его несостоятельность и приводит к тому
131
выводу, что таких „вещей“ нет вовсе. В самом деле, если вещи являются, действуют на, другие вещи, аффицируют сознающих и чувствующих субъектов, входят в соприкосновение с чувственностью этих последних , это значит, что вместе с миром явлений, где они являются и действуют, они образуют единый космос, некоторое ἓν ϰαὶ πᾶν: ибо без реальной связи всеединства нет и не может быть никакого соприкосновения и взаимодействия между вещами. Воздействовать, касаться, аффицировать может лишь то, что пребывает во всеединстве и им объемлется. Но вещь, которая объемлется всеединством, уже не есть „вещь в себе:“ в себе существует только то, что объемлет все другое — само Всеединое или Безусловное: существа же, которые объемлются всеединством, суть во всяком случае не вещи в себе, а вещи в Безусловном.
Этот вывод освобождает нас еще от одной несообразности Кантова учения, — от представления вещи в себе как чего-то абсолютно внесознательного, а вместе с тем — действующего на наше сознание и так или иначе сознаваемого.
В Абсолютном нет ничего внесознательного, ничего неосознанного; сказать, что есть вещи в Безусловном, — значит утверждать, что они объемлются безусловным, или, — что то же, — всеединым сознанием; ибо этому сознанию не может быть ничего потустороннего или внешнего: существовать может только то, что в нем осознано и в нем положено, как сущее. Внесознательной действительности нет вовсе, и вещи могут существовать не как „вещи в себе“, а лишь как вещи в абсолютном сознании.
Все существующее есть в абсолютном сознании: только в этом предположении существующее и для нас, людей, может быть познаваемо. Мы можем познавать только то, что безусловно и от века осознано: то „бытие в себе“, которого нет в сознании абсолютном, потому самому не укладывается в формы сознания вообще: оно не может быть осознано никем; но через это самое оно обнаруживается как небылица: не быть для абсолютного сознания — значит не существовать вообще. Познавать — значит искать те термины сознания, которые составляют безусловно необходимое определение познаваемого предмета. Стало-быть, познание предполагает, что есть некоторое безусловное со-
132
знание, которое выражает собою природу познаваемого предмета. Или есть безусловное сознание о сущем, или никакое познание невозможно,—в этом состоит основной постулат всякого нашего познания.
Продумать до конца этот постулат — значит убедиться в коренной несостоятельности кантовской противоположности „вещи в себе“ и явления. С одной стороны, абсолютно-внесознательной „вещи в себе“, как понимал ее Кант, не существует вовсе: вместо того есть вещи в абсолютном сознании. С другой стороны нет и исключительно антропологического явления в кантовском значении этого последнего слова, т.-е. нет такой объективной предметной реальности, которая существует только в нас — людях, в нашем рассудке и чувственности и только для нас. Ибо и мы — люди, со всем, что мы воспринимаем, сознаем и мыслим, существуем в абсолютном сознании и чрез него; стало-быть то, что нам является, объемлется всеединым сознанием. Объективное познание явлений, как и всякое вообще познание, возможно лишь в том предположении, что его предмет — явление — есть в абсолютном сознании, что, следовательно, явление не есть нечто только субъективное и антропологическое.
Необходимым предположением всякого нашего познания является противоположность предметов, как они нам даны, и предметов, как они есть в абсолютном сознании; но эта противоположность, как мы сейчас увидим, отнюдь не совпадает с противоположностью сущего в себе и явления и даже не находится в каком-либо соответствии с этой последней.
Абсолютное сознание есть не отвлеченное мышление, а конкретное созерцание·, поэтому оно видит каждое данное существо не только в его мыслимом определении (ноумене), но также и во всей полноте его конкретного явления (феномена): все открыто пред очами его — и неизменное определение, умопостигаемый характер каждого существа и его текущая, изменчивая эмпирическая действительность. Отличие абсолютного сознания от нашего, стало-быть, выражается вовсе не в том, будто оно видит только неизменную сущность, а мы — только изменчивое явление каждого данного реального предмета; отличие это выражается в том, что абсолютное сознание о каждом данном предмете есть
133
актуальное всеединство, тогда как для нашего сознания всеединство есть недостигнутый идеал; в действительности, мы им или не обладаем или обладаем лишь отчасти. Всеединое сознание видит каждый данный реальный предмет в его абсолютном ноумене и в его абсолютном феномене, т.-е. во всей полноте его неизменного умопостигаемого характера и во всей полноте его конкретного явления; напротив, наше сознание как в отношении умопостигаемых определений (сущности существующего) 1) так и в отношении явлений существующего, является частичным, дробным. Оно не охватывает ни полноты явлений, ни полноты их смысла. И, так как смысл существующего для него — не данное, а заданное, — оно может заблуждаться в его определении.
Мы видим предметы лишь в их относительном, неполном явлении и в отрыве от их всеединого смысла: в этом заключается отличие предметов, как они нам даны, от предметов, как они есть в абсолютном сознании. В нашем эмпирическом сознании присутствует то или другое относительное явление, которое мы относим к тому или другому предполагаемому сущему. Задача познания заключается в том, чтобы найти как абсолютный ноумен (подлинное сущее), так и абсолютный феномен, соответствующий этой относительной данности. Точнее эта противоположность может быть формулирована так: предметы, как они нам даны, суть предметы в отрыве от всеединства; наоборот, предметы, как они есть в абсолютном сознании, суть предметы во всеединстве. Вся задача познания заключается именно в снятии этой противоположности, в постижении каждого данного предмета познания во всеединстве.
В этом — задача не только философского, но и положительно-научного знания. Воззрение, которое видит задачу науки в том, чтобы познавать вещи, как они нам, людям, являются, должно быть признано глубоко ошибочным. Наука познает явления вовсе не в относительном, антропологическом значении этого слова, — она стремится восстановить безотносительное явление познаваемой нами реальности, как оно есть в системе мироздания:
___________
1) Отличие умопостигаемого характера или „сущности“, как она здесь понимается от субстанции, будет выяснено ниже.
134
явление относительное, — „то, что нам является“, служит не более, как материалом для этой задачи.
То солнце, которое нам является — вращается над нашим горизонтом, всходит и заходит над нашей землею и имеет вид небольшого круглого светлого и плоского пятна, движущегося по небосклону. То, солнце, которым занимается астрономия, есть явление совершенно другого рода, вовсе не похожее на только-что описанное. Не оно движется вокруг земли, а, наоборот, земля движется вокруг него, — размерами своими оно много превосходит землю; равным образом и та земля-планета, ничтожная часть планетной системы, о которой рассуждает космография, не имеет решительно ничего общего с субъективно антропологическим явлением земли, в коем земля заполняет собою вселенную. Разница между точкой зрения обыденного представления и точкой зрения естествознания заключается именно в том, что первая имеет дело с субъективно - антропологическим явлением, тогда как вторая пытается воссоздать и познать безотносительное явление познаваемой вещи. Астрономия интересуется не солнцем или землею, как мы их видим, а солнцем и землею, как они существуют безусловно, независимо от человеческого наблюдателя в объективной системе мироздания. Говорить об этих явлениях, как о предметах нашего возможного опыта — значит впадать в самообман, ибо земля, описывающая элипсис вокруг солнца, солнце, как центр планетной системы, молекулы, атомы, электроны и тому подобные „явления“, о которых судит естествознание, — заведомо никому из людей не являются и являться не могут, а потому не могут быть и предметами опыта. Естествознание имеет дело с явлением, существующим безотносительно к человеку.
Что же такое это безотносительное явление? Или оно не обладает никакою реальностью, или же оно действительно является безусловному сознанию и в таком случае выражает собою некоторую сторону абсолютного явления. Шарообразная форма солнца, его световая и тепловая энергия, движение планет по орбитам, имеющим форму элипсиса, — что такое все эти определения, даваемые астрономией светилам, как не определенные содержания сознания? Приписывая им безусловность, наука тем самым постулирует безусловное сознание: она предполагает,
135
что именно таковым солнце является в безусловном сознании — шарообразным, излучающим энергию, центром других вращающихся вокруг него тел и т. п. Тут нет, разумеется, притязания на исчерпывающее знание абсолютного явления солнца: действительность солнца, как и действительность всего существующего может иметь, — и, несомненно, имеет множество неизвестных нам сторон и граней, множество недоступных нам планов бытия; абсолютное явление солнца, как и абсолютное явление всего существующего есть бесконечно сложная и бесконечно многообразная эмпирия, которая в полноте своей открывается лишь безусловному сознанию. Доступной нашему научному знанию является только небольшая частица этого содержания, ничтожная поверхность абсолютной эмпирии. Но все же наши научные определения или выражают собою некоторую часть абсолютной эмпирии, некоторые стороны абсолютного явления, или же они решительно ничего не выражают и не дают никакого знания. Всякое применение категорий к явлениям уже неизбежно выводит явление за пределы только субъективного восприятия, ибо применение категорий рассматривает явление как нечто общезначимое и тем самым включает его во всеединство, вводит его в „ ἓν ϰαὶ πᾶν “. Самые формы пространства и времени сознаются нами как единое пространство и единое время; по признанию самого Канта, в интуиции пространства и времени целое предшествует своим частям. А это значит, что в нашей интуиции пространство и время включены во всеединство. Стало-быть, без выхода ко всеединству и к абсолютному явлению в нем — нет и не может быть никакого познания явлений.
С одними антропологическими явлениями невозможно построить ни естественно-научного, ни вообще какого бы то ни было знания о реальном мире. Или есть объективное, т.-е., иначе говоря, абсолютное явление, или же все наше знание о реальном мире — пустое, — более того — бессмысленное притязание.
IV. Явление и сущее.
Пересмотр „коперниковой“ точки зрения Канта неизбежно влечет за собой полный переворот не только в понимании явления (феномена), но и в понимании сущего (ноумена).
136
Есть только одно Сущее в себе — Всеединое или Абсолютное; все же прочее, что существует, есть сущее во Всеедином и чрез Всеединое. Отсюда мы уже вывели заключение, что нет внесознательного сущего: Всеединое сознание объемлет как полноту бытия самого Абсолютного, так и все другое, — иначе оно не было бы всееднным. Перед ним открыто не только необозримое многообразие явлений, но и их метафизические корни: то, что является.
С этой точки зрения все кантово понимание противоположности сущего и явления должно подвергнуться полной переработке. Прежде всего упраздняется та пропасть между ноуменом и феноменом, которая утверждается „Критикой чистого разума“. Раз в мире нет ничего внесознательного, раз в нем все явно сознанию всеединому, то может даже возникнуть вопрос: есть ли какая-нибудь разница между ноуменом и абсолютным явлением, — не есть ли то, то мы называем ноуменом или сущим, явление для абсолютного сознания?
Вопрос этот, однако, должен решиться в утвердительном смысле: полного совпадения между являющимся и его явлением не может быть даже и для абсолютного сознания, ибо всякое становящееся во времени сущее не покрывается своими явлениями: оно заключает в себе сверх наличной, явленной действительности возможность многообразных, и даже противоположных, исключающих друг друга явлений, которые одновременно не могут быть явлениями одного и того же субъекта.
Очевидно, что в пределах времени ни о каком равенстве между ноуменом и его явлением речи быть не может: метафизический корень каждого данного существа сверхвременен и неизменен; напротив, его явления во времени сменяют друг друга, при чем эти явления одного и того же существа могут быть и диаметрально противоположны одно другому: добрый может стать злым, а злой·— добрым. Умопостигаемый характер данного существа заключает в себе возможность (потенцию) обеих этих исключающих друг друга противоположностей. Поэтому полное совпадение ноумена и феномена было бы невозможно даже в том случае, если бы течение времени остановилось; и в этом случае феномен мог бы осуществлять в себе лишь одну из двух исключающих друг друга возможностей, т.-е, мог бы быть, напр., или добрым или злым, но не мог бы совмещать в себе то и другое определение.
137
Один и тот же умопостигаемый характер воплощается во всем многообразии явлений каждого данного существа, напр., в детстве человека, как и в зрелом его возрасте и в старости, — в дурных, как и в добрых его влечениях; это различие в явлениях одного и того же субъекта существует не для нашего человеческого сознания только, а безусловно, иначе все временное было бы иллюзией. Как сказано, всеединое сознание объемлет сущее со всех сторон: и в его сверхвременных возможностях, и в его временной действительности, — стало быть, и во всеедином сознании о другом противоположность умопостигаемого характера и явления не упраздняется, а сохраняется. Надо только отдать себе ясно отчет в том, какова природа этой противоположности.
Прежде всего очевидно, что в Абсолютном и для Абсолютного бытие явленное совпадает с бытием вообще, ибо нет бытия, которое бы не было, как такое, явлено абсолютному сознанию. Быть и являться в абсолютном — одно и то же: бытие каждого данного существа именно и есть его абсолютное явление. Из этого следует, что сущее не обладает каким-либо отдельным от своих явлений бытием: сущее и есть являющееся.
С этой точки зрения мы можем исправить чрезвычайно важную ошибку Канта. У него сущее есть другое, отличное от своего явления бытие — вещь в себе; иначе и не может быть, раз вещь в себе — объективна, а явление — только субъективно: ни о каком · единстве между явлением и сущим при этих условиях речи быть не может : это — две не только безусловно различные, но и безусловно чуждые друг другу сферы бытия.
Совершенно иной вывод вытекает из высказанной здесь точки зрения: сущее не есть какое-либо иное бытие за пределами своих явлений в абсолютном значении этого слова: только в них оно есть, и вне их оно не обладает реальностью. Различие сущего и явления с этой точки зрения не есть противоположность двух сфер бытия: оно сводится к противоположности между возможностью (потенцией) и актом. Явление — не что иное, как раскрытая (актуализированная) возможность определенного субъекта, который является; напротив, сущее
138
вне своего явления есть только могущее быть (являться), т.-е., иначе говоря, нераскрытая еще возможность. Несовпадение между сущим и явлением обусловливается тем, что полного совпадания между потенцией и актом вообще быть не может, ибо актуализация одних возможностей исключает актуализацию других, противоположных возможностей. Один и тот же человек — в потенции — и взрослый, и ребенок, и старик, и праведник, и изверг; но в явлении он не может быть одновременно стариком и ребенком, святым и злодеем.
Сущее есть субъект как действительных своих явлений, так и явлений еще не наступивших, а также и отошедших в прошлое. И, если, в отличие от своего явления, меняющегося во времени, сущее впределяется как неизменное, то этот предикат неизменности относится, очевидно, не к его бытию, — иначе говоря, не к его явлению во времени, а к его сверхвременной потенции. Как бы ни менялось данное существо во времени, как бы оно ни совершенствовалось или, наоборот, ни ухудшалось, — в своей сверхвременной потенции оно всегда — одно и то же. Так понимаемая неизменность умопостигаемого характера (ноумена) может быть вполне согласована с изменчивостью явления каждого данного существа. Эмпирически оно может меняться сколько угодно, но в потенции своей оно всегда — одно и то же; и все эмпирические изменения в явлении суть различные стадии в раскрытии этой тождественной в себе сверхвременной потенции. В таком понимании взаимоотношения умопостигаемого характера и явления нет никакого противоречия. Напротив, то воззрение, которое определяет сущее как особое сверхвременное бытие или субстанцию, — в отличие от временного бытия явлений, — неизбежно запутывается в целую сеть безысходных противоречий. Одно из двух: или оно утверждает между явлением и сущим такую пропасть, при которой явление перестает быть явлением своего сущего, — но это значит упразднить самое понятие явления, ибо явление и сущее — понятия соотносительные: нет явления без сущего, которое является; — или же оно утверждает, что „субстанция и совокупность ее явлений не образуют двух отдельных областей действительности“, что „явление это — сама субстанция в данный момент ее развития и в определенном отношении к другим
139
существам, ее ограничивающим“ 1). Но тогда неразрешимые противоречия надвигаются с другой стороны, ибо приходится говорить о сверхвременном бытии, которое меняется во времени, — точнее говоря, об изменчивом неизменном 2),
Возражение против высказанного здесь воззрения, будто оно ведет к феноменализму, т.-е. сводит сущее к одним явлениям без являющегося, — основано на явном недоразумении. Конечно, сущее без явлений перестает быть сущим, потому что тогда оно перестает быть реальностью и сводится к одной чистой потенции. Но потенция, которая раскрывается в явлении, тем самым переходит от небытия к бытию, становится бытием, и потому может быть без всякого противоречия определена как сущее становящееся. И в качестве такового сущее не сводится к явлению; сверх раскрытых в явлении возможностей, ставших действительностью, оно таит в себе возможность идущих ad indefinitum новых рядов явлений. Сущее, которое становится, стало-быть, переходит от явления к явлению во времени, не совпадает ни с одним из них в отдельности, ни с какой-либо их группой или совокупностью, а представляет собою их общую сверхвременную возможность, потенцию.
Сказанное здесь о противоположности между явлением и сущим, разумеется, не относится к Сущему Всеединому или Абсолютному: мы уже видели, что оно одно есть бытие в себе, притом бытие сверхвременное, а потому единственно обладающее субстанциальной природой. Напротив, сущее становящееся именно потому, что оно — становящееся, не есть сверхвременное бытие и, следовательно, не есть субстанция, так как эти два понятия — субстанции и сверхвременного бытия — между собою совпадают. Этим определяется еще одно существенное отличие высказанного здесь понимания сущего от кантовского: по Канту, сущее есть сверхвременная вещь в себе; напротив, мы приходим к заключению, что сущее становящееся не есть ни вещь в себе, ни сверхвременная „вещь“ в каком-либо ином смысле: в
_____________
1) Л. М. Лопатин. „Реальное единство сознания“ („Βοпρ. Филос“. 1899, кн. XLIX, 618.
2) Подробно эти противоречия раскрыты в моей статье „В. С. Соловьев“ и М. Л. Лопатин“ („Βοпρ. Филос.“ за 1914 год).
140
своем сверхвременном метафизическом корне оно — не вещь, а потенция; вещью оно впервые становится через реализацию, этой потенции — во времени, а вещью сверхвременной, или субстанциальной оно может стать лишь в том случае, если прекратится (завершится) процесс становлений во времени, когда он звершится и когда, стало - быть, остановится (закончится) самое течение времени.
Изложенными здесь соображениями вопрос о соотношении между явлением и сущим, разумеется, не исчерпывается. Для полного и всестороннего его рассмотрения необходимо исследовать отношение сущего становящегося к Сущему Всеединому или Абсолютному; но эта задача может быть поставлена лишь в контексте целой метафизической системы: она выходит за пределы настоящей работы, которая ограничивается рассмотрением основных метафизических предположений человеческого познания.
__________
141
ГЛАВА V.
Антиномии.
I. Кант о неизбежной иллюзии чистого разума.
Указывая границы и пределы человеческого познания, Кант вместе с тем отдает себе ясный отчет в том, что выход за эти границы является внутренне необходимым, неизбежным для нашей мысли. В этом он видит злой рок и внутреннее противоречие чистого разума.
По его словам, „на долю человеческого разума выпала странная судьба в одной из областей его познания: его осаждают вопросы, от которых он не может отделаться, так как они задаются ему собственною его природою, но в то же время он не может ответить на них, так как они превосходят его силы” (I изд., VII). Кант указывает и источник этого внутреннего противоречия: „то, что нас необходимо заставляет выходить за пределы опыта и всех явлений, есть Безусловное, которое разум необходимо и с полным правом на то ищет в вещах в себе в дополнение ко всему условному, требуя таким образом законченного ряда условий” (II изд., XX). Именно это стремление—знать что-либо о Безусловном—и ведет к неизбежным логическим противоречиям, ибо Безусловное всецело принадлежит к той области „вещей в себе”, о которой мы ничего не знаем (там же). Тут мы имеем „неизбежную иллюзию”, ряд софизмов, „созданных не людьми, а самим чистым разумом”; вот почему даже „мудрейший из людей не в состоянии отделаться от них и разве только после многих усилий может отречься от заблуждений, но не имеет возможности вполне освободиться от непрестанно обманывающей и дразнящей
142
иллюзии” (397). По Канту, навязчивость иллюзии происходит от того, что весь процесс мышления сводится или к восхождению от обусловленного к его условиям, или же, наоборот, к нисхождению от условий к обусловленному. Требование разума, от которого мы отделаться не можем, есть поэтому искание полноты пли целостности условий. Говоря словами „Критики чистого разума”, „трансцендентальное понятие разума есть не что иное, как понятие полноты условий к данному обусловленному. Но, так как только Безусловное делает полноту условий и, наоборот, полнота условий всегда безусловна, то чистое понятие разума вообще может быть объяснено понятием Безусловного, поскольку оно содержит в себе основание синтеза условного” (379). Мы познаем только условное, обусловленное; но обусловленное и безусловное суть понятия соотносительные; поэтому, познавая первое, мы невольно и неизбежно стремимся познать и второе; но столь же неизбежно оно, как выходящее за пределы возможного опыта, от нас ускользает. Отсюда—та сеть неустранимых противоречий, в которых запутывается человеческий разум в своем искании...
Для правильной критической оценки изложенных только что рассуждений Канта нужно прежде всего выяснить, в каком смысле он считает необходимой и неизбежной ту иллюзию человеческого разума, о которой здесь идет речь. Имеем ли мы тут логическую или только психологическую необходимость?
Простым „да” или „нет” нельзя ответить на этот вопрос, ибо как раз в учении о противоречиях чистого разума у Канта есть характерная для него двойственность. С одной стороны самый термин „чистый” по отношению к разуму как бы указывает на отсутствие у него каких-либо эмпирических и психологических свойств; о том же свидетельствует и самый характер „иллюзии”, о которой идет речь: раз она возникает вследствие искания Безусловного, которое логически связано с подыскиванием условий к обусловленному, т.е. с самой сущностью мышления,—она должна быть признана логически необходимою: не по каким-либо психологическим основаниям, а именно в силу логического закона разум вынужден восходить от условного к Безусловному; что психологически этот выход вовсе не необходим, доказывается хотя бы существованием множества ле-
143
нивых и непоследовательных умов, которые останавливаются на полпути в процессе искания и вопросом о Безусловном вовсе не задаются. Доведенное до конца понятие „чистого разума” должно было бы поэтому заставить Канта признать логическую необходимость искания Безусловного.
Но логически необходимое уже не есть „иллюзия”. Иллюзия, по самому своему понятию, есть некоторый антропологический факт. Поэтому, раз Кант видит здесь иллюзию, неудивительно, что во многих местах „Критики чистого разума” он дает ей психологическое истолкование. По Канту, иллюзия мнимого знания о Безусловном сохраняется даже и тогда, когда она не обманывает нас более: она может быть обезврежена, но не искоренена (449—450). Совершенно так же „нельзя достигнуть того, чтобы море не казалось посредине более высоким, чем у берега, так как середину его мы видим при посредстве более высоких лучей”; так же и „астроному нельзя достигнуть того, чтобы луна не казалась при восходе большею, хотя астроном и не обманывается этой иллюзией" (354).
Иллюзия большого месяца и высокого моря, очевидно, необходима только психологически, а отнюдь не логически, ибо логически мы прекрасно можем мыслить иначе как то, так и другое. Эти сравнения показывают, что в своем объяснении необходимой иллюзии чистого разума Кант сбивается на точку зрения психологическую. Но тем самым он вводит в свое построение очевидное противоречие: с одной стороны он, как мы видели, обосновывает „безусловную значимость” категорий психологическою необходимостью— „своеобразной особенностью” нашего рассудка, в силу коей рассудок должен мыслить именно так, а не иначе; с другой стороны, когда мы сталкиваемся с такою же психологическою особенностью разума, в силу которой ему необходимо навязывается предположение Безусловного в основе всего обусловленного,— эта особенность признается „иллюзией”. Почему же Кант мерит рассудку и разуму не одною мерою? Почему в одном случае субъективно - психологическая необходимость для рассудка мыслить так, а не иначе, признается вполне достаточным обоснованием логически достоверного, объективного знания, а в другом случае оказывается, что та же субъективная необходимость для разума никакого знания не дает и не обосновывает?
144
He очевидно ли, что в своих суждениях о человеческом знании Кант применяет двойственный критерий: один—для положительной науки и другой—для метафизики! Для науки он довольствуется одною субъективно-психологической достоверностью, которая основывается исключительно на доверии к „своеобразным особенностям” человеческого ума; напротив, в метафизике та же субъективно-психологическая достоверность признается недостаточною; Кант отвергает возможность метафизического знания потому, что для этого знания он требует обоснования в каком-то высшем, транссубъективном источнике достоверности. Ясно, что и тут, незаметно для Канта, происходит то самое нарушение поставленных им границ, которое уже было выше отмечено. Поставить разуму пограничный столб, признать его средства недостаточными для познания той области Безусловного, куда он стремится, можно только на основании некоторого проникновения в эту самую запретную область: только по контрасту с безусловной действительностью можно говорить о „субъективной иллюзии”; если бы эта действительность была в самом деле всецело от нас скрыта,—мы не только не могли бы противостоять иллюзии,—мы ее просто напросто не сознавали бы.
Вглядевшись внимательно в природу той „неизбежной иллюзии”, о которой говорит Кант, мы получим новые наглядные доказательства шаткости его ответа на вопрос о границах человеческого познания.
II. Кант об антиномиях чистого разума. Первая и вторая
антиномии.
Для разрешения этого вопроса отдельные части „Трансцендентальной диалектики” имеют далеко не одинаковое значение. Несостоятельность доказательств бытия Божия, даваемых в рациональной теологии, и доказательств существования бессмертной души, даваемых в рациональной психологии,—сама до себе еще не свидетельствует о невозможности метафизики или о невозможности какого-либо иного выхода к Безусловному в познании: выход к Безусловному совершается так или иначе и в атеистических учениях, напр., в материалистических системах, для которых Безусловное — материя, или в учении Шопенгауера,
145
коего мировая воля тоже совершенно подходит под понятие Безусловного, хотя, по признанию ее автора, она—скорее черт, нежели Бог. Поэтому для решения вопроса о познаваемости Безусловного и о возможности метафизики вообще оба названные отдела трансцендентальной диалектики имеют сравнительно второстепенное значение. Центральное значение имеет, несомненно, тот ее отдел, который трактует о рациональной космологии, ибо в нем доказывается невозможность какой бы то ни было метафизической концепции мироздания вследствие неизбежной противоречивости всякой попытки отыскать то Безусловное, которое предполагается познанием всего обусловленного. Соответственно с этим, ближайшая наша задача именно и заключается в рассмотрении этого отдела, т.е. учения Канта об антиномиях чистого разума.
Здесь основная мысль Канта, как известно, заключается в том, что, с одной стороны, космологические проблемы, т.е. вопросы о мире, как целом, для нашего разума неустранимы и неизбежны, а с другой стороны, при разрешении этих проблем, чистый разум впадает в столь же неизбежные внутренние противоречия, или антиномии. Под антиномией, соответственно с этим, Кант разумеет не случайные субъективные противоречия, обусловленные чьей-либо непоследовательностью, а противоречия самого чистого разума; в качестве таковых они навязываются всякому, кто берется за решение определенных космологических проблем. При такой формулировке мысли Канта она ставит перед нами два основных философских вопроса: 1) есть ли вообще антиномии, т.е. необходимые для человеческого разума противоречия, и 2) если такие противоречия есть, то необходимы ли они для человеческого разума вообще, вытекают ли они из неизменных свойств его природы, или же они свойственны лишь некоторым—низшим и средним ступеням его развития и разрешаются на других, более высоких ступенях человеческого ведения? К разрешению первого вопроса нам всего лучше подойти путем разбора конкретного случая — антиномий, формулированных Кантом в „Критике чистого разума”.
Рассматривая первую антиномию, мы убедимся, что в ней тезис и антитезис вовсе не являются в одинаковой мере необходимыми.
146
Рассматривая тезис Канта—„мир имеет начало во времени и ограничен также в пространстве”,—мы без труда заметим натяжку в его доказательствах.
„Если,—говорит Кант,—мы допустим, что мир не имеет начала во времени, то до всякого данного момента времени протекла вечность и, следовательно, протек бесконечный ряд следующих друг за другом состояний вещей в мире. Но бесконечность ряда именно в том и состоит, что он никогда не может быть закончен путем последовательного синтеза. Следовательно, бесконечный протекший ряд в мире невозможен; значит, начало мира есть необходимое условие его существования, что и требовалось доказать” (454).
Очевидная ошибка этого доказательства заключается в том, что от непредставимости бесконечного ряда во времени оно заключает κ его немыслимости. В силу антропологических границ нашего наглядного представления мы и в самом деле не можем представить себе бесконечный ряд: синтезом нашего, человеческого воображения такой ряд (протекшая бесконечность) действительно не объемлется; но из этого не следует, чтобы он был для нас немыслим. Абсолютный синтез, в котором временный ряд фигурирует как законченная бесконечность, не представляет собою ничего противоречивого и, стало быть, ничего немыслимого: мы вполне можем мыслить иное, отличное от нашего сознания, свободное от антропологических границ нашего наглядного представления, которое не только мыслить, но в непосредственной конкретной интуиции видит бесконечный временный ряд и для которого синтез этого ряда, стало быть, от века закончен. Мысль о таком сознании, объемлющем бесконечность и тем самым полагающем ей предел,—не заключает в себе никакого логического противоречия или абсурда. Стало быть, первая часть тезиса первой антиномии Канта имеет доказательную силу только для мысли, еще не возвысившейся в отвлечении над границами нашего наглядного представления.
То же самое верно и по отношению ко второй половине разбираемого тезиса. — Мы можем представить бесконечный в пространстве мир „не иначе, как только посредством синтеза частей и целостность такого количества только посредством закон-
147
ченного синтеза, или посредством повторного присоединения единицы к самой себе. Поэтому, чтобы мыслить как целое мир, наполняющий все пространство, необходимо было бы рассматривать последовательный синтез частей бесконечного мира как законченный, т.е. пришлось бы рассматривать бесконечное время, необходимое для исчисления всех существующих вещей, как протекшее, что невозможно”. Очевидно, что и тут Кант незаконно заключает от нашей человеческой неспособности охватить в законченном синтезе бесконечный в пространстве мир к невозможности такого мира, при чем опять таки субъективная непредставимость этого мира посредством логического скачка превращается в немыслимость. Особенно ясно это выражается в приведенных словах о „бесконечном времени, необходимом для исчисления всех существующих вещей”. Бесконечное время, очевидно, может понадобиться в данном случае для нашей ограниченной способности представления: мы люди, действительно можем представлять предметы в пространстве, только переходя во времени от одного предмета к другому. Но интуиция, свободная от таких антропологических ограничений, может обнять единым взором в единый беспредельный мир в пространстве. Мысль о таком всеедином сознании, как мы видели, не только не представляется логически немыслимою, но даже наоборот — логически необходима, Стало быть, тезис первой антиномии Канта во всем его составе убедителен только для мысли, не возвысившейся над антропологическими границами нашего человеческого представления.
Наоборот, антитезис той же первой антиномии без сомнения обладает характером безусловной логической необходимости: пространство и время по самому своему понятию и в самом деле во-первых формально бесконечны, а во-вторых немыслимы отдельно от реального содержания, для которого они служат формой. Раз положен хотя бы один момент времени, тем самым уже предположено и прошедшее и будущее, т.е. бесконечность в обе стороны, так как каждый момент прошедшего и будущего в свою очередь предполагает прошедшее и будущее и т.д. до бесконечности. Так же точно и каждая точка в пространстве предполагает со всех сторон пространства, ее окружающие. Время может быть ограничено только другими
148
моментами времени, пространство — только другими моментами пространства и т.д. до бесконечности. Предположить какой-либо конец пространства и времени вообще—значит отрицать самое понятие пространства и времени. Но точно так же время мыслимо лишь как форма чего-либо, что совершается или протекает во времени, а пространство—лишь как форма протяженных предметов. Пространство и время предполагают мир, не ограниченный в пространств и времени1). Поэтому совершенно справедливо заявление Канта в примечании к антитезису первой антиномии: „кто допускает существование границы мира в пространстве и времени, тот неизбежно принужден также допускать существование этих двух бессмыслиц—пустого пространства вне мира и пустого времени вне мира” (459).
Обращаясь ко второй антиномии Канта, мы без труда убедимся, что в ней ни тезис ни антитезис не обладают характером логической необходимости.
Тезис ее гласит: „всякая сложная субстанция в мире состоит из простых частей и вообще существует только простое и то, что сложено из простого” (462).
— Простое и сложное суть понятия соотносительные: все сложное должно быть из чего-либо сложено; поэтому, если мы допустим, что есть что-либо сложное, точнее говоря, составное, сложенное (что еще точнее передает термин zusammengesetzt, употребляемый Кантом), то мы неизбежно должны допустить, что оно составлено из каких-либо частей, которые сами не сложены из чего-либо другого и, следовательно, просты. Понятие простого аналитически содержится в понятии сложного. И тем не менее весь тезис второй антиномии Канта лишен доказательной силы: ибо самое предположение существования множества сложных (а, стало быть, и простых) субстанций в мире в нем совершенно произвольно.
Логически множественность субстанций вовсе не есть единственно возможное предположение. Говоря о множественности суб-
_________________________
1) Стало быть, если можно говорить о начал мира (в смысле возникновения), то оно будет не началом во времени, а началом времени; как только творческим актом Абсолютного (будь такой существует) положен один момент становящегося мира, тем самым положен бесконечный ряд предшествующих и последующих моментов.
149
станций, Кант разумеет субстанции материальные, протяженные. Но такое понятие вовсе не необходимо: ничто не вынуждает нас мыслить материальный мир, как составное целое, сложенное из атомов, наподобие постройки, сложенной из кирпичей: такое представление о материальном мире принадлежит к числу самых грубых и ни с какой стороны не навязывается человеческому уму. Нет ничего логически невозможного, например, в предположении, что материальный мир вовсе не есть compositum, а totum, т.е., что в нем не части предшествуют целому, а наоборот, целое предшествует своим частям. В примечании к своему антитезису сам Кант говорит между прочим: „пространство следует, собственно, рассматривать не как compositum, а как totum, потому что его части возможны только в целом, а не целое образуется посредством частей” (466). Спрашивается, из чего же следует, что и материя не есть такое целое, обусловливающее возможность своих частей? Но при этом предположении, которое логически вполне возможно, весь тезис кантовой антиномии обращается в ничто: логически вполне возможно, что вовсе нет множества субстанций в мире, а есть единая субстанция, или что даже мир есть единое сущее становящееся, которое по своей природе вовсе не субстанциально. Вообще весь этот не оправдываемый логически тезис, а с ним вместе и вся вторая антиномия Канта объясняется чисто исторически: только гипнозом Лейбнице-Вольфовской философии может быть объяснен тот факт, что положение о множестве простых субстанций, лежащих в основе материального мира, приобретает в глазах Канта значение логически необходимого тезиса: не даром у Канта этот тезис называется „диалектическим основоположением монадологии”.
Доказательство антитезиса второй антиномии страдает еще большими логическими недостатками, чем доказательство тезиса. В самом деле, чем доказывает Кант, что „ни одна сложная вещь в мире не состоит из простых частей, и вообще в мире нет ничего простого”? Всякое „внешнее отношение” субстанций возможно только в пространстве, пространство же состоит из пространств; значит,—рассуждает Кант, — каждая часть сложной субстанции, а, стало быть, и ее первоначальные части, — субстанции простые — должны занимать простран-
150
ство. Но все протяженное заключает в себе многообразие частей, находящихся вне друг друга, т.е. является сложным „и притом как реальная сложность состоит не из акциденций (так как они не могут находиться вне друг друга без субстанции), а из субстанций”; поэтому „нечто простое должно было бы быть сложною субстанциею, что противоречиво” (463).
В этом длинном рассуждении кантова „антитезиса” есть целых два логических скачка. Во-первых „внешнее” и „пространственное”—не одно и то же, и потому внешнее взаимоотношение субстанций вовсе не должно быть непременно пространственным: чисто духовное взаимодействие существ, непротяженных и тем не менее находящихся „вне друг друга”, вовсе не представляется логически немыслимым предположением. Но допустим, как это утверждает аргументация Канта, что простые субстанции — протяженны: отсюда вовсе не следует, что они — делимы. Ошибка Канта — в том, что от делимости пространственной он заключает к делимости физической. Из того, что то или другое тело занимает место в пространстве, следует только, что идеально оно делимо до бесконечности; но этим не исключается возможность физической, реальной неделимости. Можно вообразить такое тело, которое, представляя собою огромную величину в пространстве, вместе с тем не может быть физически разделено на части никакою силою, а потому представляется безусловно простым телом. Что не встречается тел неделимых (атомов) с быка величиною,—это мы знаем из опыта; но, в качестве логического допущения, такие тела не заключают в себе ничего невозможного или противоречивого. Что каждая протяженная часть какого-либо тела должна быть в свою очередь самостоятельною субстанциею,—это в аргументации к антитезису решительно ничем не доказывается.
Вторая часть антитезиса („вообще в мире нет ничего простого”) доказывается еще слабее. Так как в тезисе утверждается логическая необходимость простого, то аргументация к антитезису, понятное дело, должна была бы доказывать его немыслимость логическую невозможность самого понятия простой субстанции: при отсутствии такого доказательства у нас нет в наличности необходимого противоречия, т.е., говоря иначе,— нет самой антиномии. Что же делает Кант! Вместо того, что-
151
бы доказывать немыслимость „простой субстанции” он ограничивается указанием, „что существование абсолютно простого не может быть установлено никаким опытом или восприятием, ни внешним, ни внутренним, а потому абсолютно простое есть только идея, объективная реальность которой не может быть доказана никаким возможным опытом, следовательно, не имеет никакого применения и никакого объекта при истолковании явлений” (465). Сила этого доказательства тут же разрушается заявлением Канта, что от отсутствия такого объекта в опыте нельзя заключать к его невозможности: Доказанным остается лишь то, что „в чувственном мире не дано ничего простого” (465). Но, раз от небытия нельзя заключать к невозможности, — а non esse ad non posse non valet consequentia, — недоказанным остается именно то, что требуется доказать в антитезисе — немыслимость простого. Раз вся задача трансцендентальной диалектики— доказать невозможность метафизического умозрения за пределами возможного опыта, ссылка на то, что то или другое умозрительное понятие (напр. простой субстанции) не имеет соответствующего себе объекта в опыте, — не может иметь убедительной силы. Заключать от отсутствия объекта в опыте к невозможности умозрения о нем — в данном случае значит впадать в очевидное petitio ргіnсіріі.
Таким образом во второй антиномии ни тезис ни антитезис не обладают логическою необходимостью; необходимого противоречия, которого ищет в ней Кант, здесь вовсе не имеется в наличности; следовательно, вторая антиномия, возникновение коей, как мы видели, объясняется чисто исторически, должна быть вовсе вычеркнута из списка антиномий.
III. Третья и четвертая антиномия Канта.
Несравненно значительнее и глубже по содержанию — третья антиномия. Не предрешая пока вопроса о том, разрешима она или неразрешима в конечном счете, мы во всяком случае должны признать, что она заключает в себе действительное противоречие, с которым, в некоторой плоскости мышления, неизбежно сталкивается человеческий ум.
Тезис ее гласит: „причинность согласно законам природы
152
есть не единственная причинность, из которой могут быть выведены все явления в мире. Для объяснения явлений необходимо еще допустить свободную причинность” (Causalitat durch Freiheit). Напротив, антитезис утверждает: „не существует никакой свободы, но все совершается в мире только согласно законам природы” (472—473).
Тут в самом деле оба противоположных утверждения выражают собою два одинаково необходимых для человеческой мысли предположения. С одной стороны формальная безусловность закона причинности неизбежно приводит к требованию, чтобы весь причинный ряд имел безусловное начало, — иначе он висит в воздухе: лишенный безусловного основания, закон причинности тем самым обращается в ничто, теряет силу. Мы уже имели случай убедиться, что он и в самом деле покоится на предположении Безусловного. Суждение о причинности так или иначе связывает свой предмет с Безусловным — в этом все его притязание; поэтому, если нет Безусловного в основе причинного ряда, то мы имеем здесь пустое притязание; тогда самое понятие причинности есть не более, как иллюзия нашей мысли и как таковая должна быть отброшена. С другой стороны причинность есть априорный закон всего совершающегося во времени, а потому она должна выражать собою общее свойство всего временного — формальную бесконечность.
С одной стороны причинный ряд должен иметь безусловное начало; с другой стороны он должен быть безначален и бесконечен. Таковы два противоположных и вместе с тем одинаково необходимых требования, которые сталкиваются в третьей антиномии Канта. Именно они доказываются в аргументации к тезису и к антитезису: въ аргументации к тезису Кант показывает, что, предполагая причинный ряд бесконечным, мы тем самым лишаем его достаточного основания: „следовательно, утверждение, будто всякая причинность возможна только согласно законам природы, взятое в своей неограниченной всеобщности, противоречит само себе, и потому нельзя допустить, что причинность согласно законам природы есть единственная причинность”. Поэтому Кант считает необходимым допустить „абсолютную произвольность причин, т.е. способность самостоятельно начинать ряд явлений” (474). Аргументация к
153
антитезису возражает на это, что именно такое понимание самопроизвольной причинности уничтожает в корн самый закон причинности, ибо „динамически первое начало действования предполагает состояние, не находящееся ни в какой причинной связи с предшествующим состоянием той же самой причины, т.е. никоим образом не вытекающее из него” (473).
Я оставляю в стороне вопрос, правильно ли высказанное Кантом понимание свободы как независимости от закона природы и закона причинности как отсутствия свободы; я буду рассматривать пока третью антиномию исключительно как антиномию в понятии причинности. В этом виде она ставит перед нами один единственный вопрос — о безусловном основании (начале) всякой причинности и о том, согласно ли оно с представлением причинности как бесконечного ряда.
Нетрудно убедиться, что вокруг этого же вопроса вращаются и все рассуждения четвертой антиномии, которая представляет собою не более и не менее, как дальнейшее развитие третьей.
Ее тезис — „к миру принадлежит или как часть его, или как его причина, безусловно необходимое существо” продолжает в сущности ту же мысль о безусловном начале и основании причинного ряда, которая выражена уже в тезисе третьей антиномии. По Канту — „всякое данное обусловленное предполагает в отношении к своему существованию полный ряд условий вплоть до абсолютно безусловного, которое одно только существует абсолютно необходимо. Следовательно, абсолютно необходимое должно существовать, если существует изменение как его следствие”. Под „безусловно необходимым” существом здесь разумеется, очевидно, существо, ничему не подчиненное, ни от какой другой причины не зависящее, а, стало быть, безусловно начинающее причинный ряд. „Безусловная необходимость” тут выражает собою другую сторону той же идеи, которая в тезисе третьей антиномии определяется как „свобода” — способность самопроизвольно начинать новый ряд: такая способность во полной мере может принадлежать, конечно, только безусловно необходимому, т.е. ни от чего другого не зависящему существу.
Понятно, что и антитезис („нет никакого абсолютно необходимого существа ни в мире, ни вне мира, как его причины”) — продолжает мысль, высказанную в антитезисе третьей антино-
154
мии. А именно, подобно этому последнему, и он утверждает бесконечность причинного ряда: „абсолютно необходимое существо” в нем отвергается совершенно по тем же основаниям, по каким свобода отвергается в антитезисе третьей антиномии: всеобщность закона причинность делает невозможным предположение чего-либо беспричинного, безосновного, иначе говоря — она делает невозможным предположение безусловного начала причинного ряда. „Предположим говорит Кант, „что мир сам есть необходимое существо; в таком случае ряд его изменений или имел бы безусловно необходимое, т.е. не имеющее причины начало, что противоречит динамическому закону определения всех явлений во времени, или же этот ряд не имел бы никакого начала и был бы в целом абсолютно необходимым и безусловным, хотя все его части случайны и обусловлены, что противоречиво, так как существование группы не может быть необходимым, если ни одна часть ее не обладает сама по себе необходимым существованием” (481). Предположение существования необходимой мировой причины вне мира приводит к другой нелепости. Раз эта причина открывает своим действием ряд мировых изменений, она действует во времени, т.е. в мире, что противоречит предположению о ее внемирном существовании. „Итак, ни в мире, ни вне мира (однако в причинной связи с ним) нет безусловно необходимого существа” (483).
Сам Кант замечает, что как тезис, так и антитезис этой антиномии коренятся в одном общем основании, одинаково исходят из безусловности закона причинности. „Сначала”, говорит он, „мы пришли к мысли, что необходимое существо есть, так как все прошедшее время содержит в себе ряд всех условий и вместе с тем, следовательно, также и безусловное (необходимое). Теперь же мы пришли к мысли, что необходимого существа нет именно потому, что все прошедшее время содержит в себе ряд всех условий (которые, следовательно, все обусловлены)” (485). Замечание это должно быть признано безусловно верным; и таким образом мы действительно сталкиваемся здесь со внутренним противоречием человеческого разума, причем это противоречие связано с основным его метафизическим предположением Безусловного. Так
155
как мы имеем здесь необходимое предположение не только познания метафизического, но и всякого познания вообще, то, вопреки Канту, от возможности его разрешения зависит наше отношение не только к метафизике, но и ко всякому знанию вообще. Никакое знание невозможно, если основное его предположение обрекает человеческую мысль на безысходное и неразрешимое противоречие.
Нам предстоит ответить на вопрос о разрешимости антиномий Канта и антиномий вообще; для этого рассмотрим сначала тот ответ на него, который дается самим Кантом.
IV. Разрешение космологического спора у Канта.
Мы уже видели, что две первые антиномии Канта в действительности— вовсе не антиномии, так как необходимого для мысли противоречия они в себе не заключают; стало быть, никакого вопроса о разрешении их для нас не ставится; тем не менее Кантова попытка их разрешения и для нас интересна и поучительна, как яркая иллюстрация его основного заблуждения.
По Канту весь космологический спор в двух первых (математических) антиномиях обусловливается тем, что разум наш выходит за пределы единственно доступной ему области явлений; „кто рассматривает суждения „мир по своей величине бесконечен” и „мир по своей величине конечен” как находящиеся в отношении противоречащей противоположности, тот предполагает, что мир (весь ряд явлений) есть вещь в себе. В самом деле, он остается, хотя бы я отбросил бесконечный или конечный регресс в ряду явлений. Если же я отстраню это предположение или эту трансцендентальную иллюзию и стану отрицать, что мир есть вещь в себе, то противоречащая противоположность обоих утверждений превратится в противоположность только диалектическую; и, так как мир вовсе не существует в себе (независимо от регрессивного ряда моих представлений), то он не существует ни как само по себе бесконечное, ни как само по себе конечное целое. Он существует только в эмпирическом регрессе ряда явлений и сам по себе нигде не может быть найден. Поэтому, если этот ряд всегда обусловлен, он никогда не дан целиком; следовательно
156
мир вовсе не есть безусловное целое и потому он не обладает ни бесконечною, ни конечною величиною” (532 — 533). С этой точки зрения Кант рассматривает две первые космологические антиномии как новое доказательство трансцендентальной идеальности явлений. „Если мир есть само в себе существующее целое, то он или конечен или бесконечен. Но как первое, так и второе положение ложны (согласно приведенным выше доказательствам антитезиса с одной стороны и тезиса с другой стороны). Следовательно, ложно также и то, что мир (совокупность всех явлений) есть само по себе существующее целое. В свою очередь отсюда следует, что явления вообще помимо наших представлений суть ничто, а это именно мы и подразумеваем под трансцендентальной идеальностью явлений” (534 — 535).
Раз сама аргументация двух первых антиномий стоит, как мы видели, на ложной антропологической точке зрения, неудивительно, что на той же точке зрения стоит и попытка их разрешения. 1) Здесь нам нетрудно убедиться, что этот антропологизм, доведенный до конца, столь же разрушителен для естественно научного, как и для метафизического познания. Ибо, вопреки убежденью Канта, он обращает в ничто самый мир явлений. В самом деле, попробуем продумать до конца заявление Канта, что „ряд условий существует только в самом регрессивном синтезе, а не сам по себе в явлении, как самостоятельной, данной до всякого регресса вещи” (533). Очевидно, что „регрессивный синтез в ряду условий”, производимый науками естественными и историческими всецело покоится на том предположении, что независимо от науки, которая регрессирует, в самой природе существует прогрессирующий, ряд причин и следствий. Объясняя какое-нибудь конкретное явление (напр. солнечное затмение или великое переселение народов), наука необходимо предполагает, что в самой действительности
_________________________
1) Об этом антропологизме хорошо говорит Гегель "Wissenschaft d. Logik (Werke, В, III, 218): „единственный результат критического разрешения через так называемую трансцендентальную идеальность воспринимаемого мира сводится к тому, что оно превращает все противоречие в нечто субъективное, где оно остается все той же видимостью, т.е. остается столь же неразрешенным, как и прежде”.
157
те условия, к которым она восходит, предшествуют обусловленному явлению, а не следуют за ним; астрономическое объяснение затмения предполагает, что вращение луны вокруг земли предшествует тому конкретному ее положению, при котором она заслоняет от нас свет солнечный; совершенно так же и историческое объяснение предполагает, что движение гуннов предшествует ряду переселений вытесненных гуннами германских народов. Если же допустить вместе с Кантом, что „ряд условий существует только в самом регрессивном синтезе”,—то все эти умозаключения естественной и исторической науки окажутся сплошным вздором: тогда, наоборот, данная конкретная фаза луны предшествует ее вращению, а переселение германских народов предшествует движению гуннов. Тогда все предположение, на котором покоится наука, будто в мире есть какое то объективное, независящее от нас движение от условий к обусловленному, есть сплошная иллюзия: на самом деле есть вместо этого обратное движение,—чисто субъективное регрессивное движение нашего ума от условия к обусловленному. Не следствие следует за причиной, а наоборот, причина следует за следствием,— вот вывод, к которому должно привести продуманное до конца Кантово решение космологического спора. Наука предполагает объективную, независящую от нее и от человеческого ума связь явлений и независимую от нее их последовательность, историю. Точка зрения, которая утверждает, что вне нашего ума эта история — ничто, тем самым превращает все научное знание в иллюзию. Самое стремление к познанию явлений предполагает, что явления суть нечто вне наших представлений о них—„иначе мы не старались бы исправить эти представления, не допускали бы возможности их ошибочности и не искали бы представления истинного. Кантово утверждение, что „явления помимо наших представлений суть ничто”, делает все это искание беспредметным; мало того, оно превращает в ничто самое понятие явления: ибо, как только явление вне наших представлений — ничто, как только оно перестает выражать собой подлинную, независимую от нас действительность, оно теряет всякое отличие от субъективной галлюцинации; мало того, самое существование его как галлюцинации становится сомнительным, ибо самый бред перестает быть безусловно, действительно
158
существующим фактом, а, стало быть, и действительностью вообще.
Сказать, что весь ряд условий реального явления существует лишь в нашем регрессивном синтезе—значит в конце концов лишить науку ее реального объекта. Наука объясняет нам, что солнце—вовсе не то маленькое светлое пятно на небе, которое мы видим, а огромное (по сравнению с этим пятном) шарообразное тело, которое относится к воспринимаемому нами световому впечатлению как причина к следствию. — Теперь представим себе, что шарообразное солнце — центр планетной системы—существует только в этом „регрессивном синтезе” вашей мысли, восходящем от видимого нами светлого пятна на небе к его условию. Иными словами это будет значить, что солнце, о котором рассуждает астрономия, не существует, что астрономия, как и всякая вообще наука, впервые создает свой объект. До такого вывода, как известно, и в самом деле договорился Герман Коген. Но это лишний раз доказывает, что заблуждения великих мыслителей лучше всего обнаруживаются через изучение творений их учеников, у которых, понятно, они выступают с гораздо большею резкостью. Очевидно, что такой вывод разрушителен для той самой науки, возможность которой он хочет обосновать. Всякая наука покоится на том предположении, что существует реальный, совершенно независимый от нее объект. Признать, что этот объект существует только в нашем регрессивном синтезе или, говоря иначе, только в самой науке,—значит свести науку на нет—объявить ее сплошной иллюзией.
В третьей и четвертой антиномии, как сказано, мы имеем действительное и, в известной плоскости мышления, необходимое для мысли противоречие, а потому и решение Канта здесь представляет гораздо больший интерес по сравнению с его решением первых двух антиномий. Однако же и в нем отражается общая, основная ошибка „Критики чистого разума”.
Прежде всего это решение исходит из того самого учения о вещи в себе и явлении, в котором, как мы видели, ложный антропологизм „Критики чистого разума” достиг высшего своего, законченного выражения. В основе всей попытки Канта—согласовать свободу с необходимостью—лежит предполо-
159
жение, что явления суть только наши представления. „Если,—говорит он,—явления суть вещи в себе, то свободу нельзя спасти. Природа в таком случае составляет полную и достаточно определяющую причину всякого события, условие события всегда содержится только в ряду явлений и вместе со своим действием необходимо подчинено закону природы. Наоборот, если мы считаем явления лишь те, что они суть на самом деле, именно, не вещами в себе, а только представлениями, связанными друг с другом согласно эмпирическим законам, то они сами должны иметь еще основание, не относящееся к числу явлений. Причинность такой умопостигаемой причины не определяется явлениями, хотя действия ее находятся в сфере явлений и могут быть определяемы другими явлениями. Следовательно, она вместе со своею причинностью находится вне ряда, тогда как действие ее находится в ряду эмпирических условий. Поэтому действие в отношении его умопостигаемой причины может быть рассматриваемо как свободное и, несмотря на это, в отношении явлений оно может быть рассматриваемо как результат их, согласный с необходимостью природы” (564 - 565).
Несостоятельность антропологического обоснования познания „Критики чистого разума” наглядно обнаруживается в ряде явных противоречий этих рассуждений о свободе. Во-первых, если явление имеет „основание, не относящееся к числу явлений”, то тем самым обнаруживается метафизическая природа понятия явления. Иными словами, это значит, что „явление” и „сущее”, как являющееся, суть понятия соотносительные. Одно без другого немыслимо; но, если так, если явления суть выражения объективной „вещи в себе”, то о них никак нельзя сказать, что они—только наши представления.
Невозможность выдержать чисто-антропологическую точку зрения на явления обнаруживается как нельзя более ярко в этом невольном выходе теоретического разума в запретную для него область. Другое нарушение поставленной Кантом границы заключается в его понимании „свободы как умопостигаемой причинности”. Учение Канта о категориях, как о чисто субъективных функциях человеческого рассудка, коренящихся в психологии познающего, исключает возможность применения их за пределами нашего возможного опыта, т.е. за пределами наших возможных
160
представлений. И, однако, в Кантоном понятии свободы, как „умопостигаемой причинности”, мы имеем как раз случай такого трансцендентного, т.е. безусловно воспрещенного „Критикою чистого разума” применения категории причинности. Противоречие это нисколько не устраняется тем, что „Критика чистого разума” пытается доказать не действительность свободы, а только возможность мыслить ее без противоречия. Доведенное до конца учение Канта о категориях исключает допустимость даже и этого утверждения. Если категории по самому существу своему—только субъективные формы мысли о том, что нам является, то приложение их к тому, что ни в каком случае не может стать явлением, тем самым формально исключено: тогда само понятие „умопостигаемой причинности” есть логическое противоречие. Но в этом случае не может быть мыслимо без противоречия и кантовское понятие свободы. „Умопостигаемая причинность” вообще мыслима лишь при том условии, если категория причинности выражает собою не субъективное только представление человеческого ума, а объективное определение сущего.
Раз противоречива исходная точка кантова учения о свободе, неудивительно, что противоречиво от начала до конца и само учение. Кант мог бы избежать целого ряда противоречий, если бы он последовательно проводил ту точку зрения, что свобода есть свойство только умопостигаемого характера,—вещи в себе, тогда как в характере эмпирическом, в явлении, господствует неуклонная необходимость закона природы. Эту точку зрения впоследствии и в самом деле довел до конца Шопенгауер, который утверждал, что человек свободен в своем умопостигаемом, недвижимом бытии (esse), но несвободен в своем действии, которое от начала до конца протекает в области явления. Но это позднейшее истолкование кантова учения на самом деле противоречит мысли самого Канта: для него человек свободен не только как сущий, но и как деятель. Отсюда у Канта—то понимание свободы, как умопостигаемой причинности, которое безусловно несогласимо с шопенгауеровым истолкованием свободы как отрицания и отсутствия причинности. Но отсюда же у него и ряд противоречий, которых также нет у Шопенгауера.
Раз Кант хочет понять свободу не только как сверхвременное свойство умопостигаемого характера, но также и как
161
начало нравственной деятельности во времени, свобода и необходимость у него неизбежно сталкиваются в одной и той же плоскости бытия — в области явлений; при этих условиях у него получается неразрешимое противоречие: его допущение, что человек может быть понят как свободная причина своих действий, совершенно несогласимо с его же учением о том, что наш эмпирический характер всецело подчинен естественному механизму причин и следствий. Да будет мне позволено привести здесь то, что было уже высказано мною раньше о том же предмете в другом месте.1)
„По Канту, если бы мы знали все побуждения, действующие в сознании данного лица, и все внешние на него воздействия, мы могли бы предсказывать его действия с той же достоверностью, как какое-нибудь солнечное или лунное затмение. Трудно, однако, согласиться с его утверждением, будто с этим совместимо признание свободы, как умопостигаемой причинности. Если всякий наш поступок предопределен нашим прошедшим и прошедшим мироздания, то наш умопостигаемый характер не в состоянии внести в область явлений ничего нового, чего бы не было в прошлом, а, стало быть, не может начать нового ряда событий; наоборот, если мы возьмем за исходную точку положение того же Канта, что свобода есть способность самопроизвольно начинать ряд действий, мы должны будем признать, что она вносит в эмпирическую область целый новый ряд, которого раньше не было; ибо „новый ряд” может быть понимаем только как ряд во времени; но в таком случае исчезает возможность математическою точностью предсказывать человеческие действия.
Одно из двух.—Или свобода умопостигаемого характера является во времени; в этом случае естественная необходимость даже во времени не имеет над нами непреодолимой власти. Зависимость нашего эмпирического характера от прошлого в таком случае не безусловна, потому что ряд событий, вызванных предшествующими событиями, может быть прерван посредине новым рядом, идущим от умопостигаемой, сверхвременной причины. Или же, наоборот, мы будем последовательно
_________________________
1) Миросозерцание Вл. С. Соловьева, т. I, 140—142.
162
стоять на той точке зрения, что свободы нет в явлениях, что она свойственна только миру сверхвременных сущностей; но в таком случае нам придется признать, что свобода вообще не есть начало деятельное, не есть умопостигаемая причинность, что она есть только в бытии но не в действии”.
Учение Канта о трансцендентальной свободе не примирено с его же учением о необходимости в области эмпирической.—„Прошедшее время”, говорит он, „уже не в моей власти; поэтому каждое мое действие является необходимым последствием оснований, которые уже не в моей власти; иначе говоря, в каждой точке времени, когда я действую, я никогда не бываю свободен”. В каждый момент времени я нахожусь под властью необходимости—определяться к действию тем, что уже не в моей власти; и бесконечный а parte priori ряд событий, который я, согласно предопределенному порядку, могу только продолжать, а не начинать где бы то ни было, есть непрерывная цепь явлений, в которой моя причинность никогда не может быть свободой (Krit. d. prakt. Vernunft, ed. Rosenkranz, 224—225).
Читатель видит, что здесь для свободы в смысле способности начинать новый ряд действий совершенно не остается места. И все попытки Канта согласовать эти две точки зрения не приводят ни к чему. Он утверждает, что с трансцендентальной точки зрения весь ряд моих прошедших действий, определяющих мои поступки в настоящем, может быть рассматриваем как проявление моей умопостигаемой свободы; но этот довод уже потому неубедителен, что тот бесконечный ряд событий, который я продолжаю моими действиями, начался раньше моего рождения. Если я поступаю так, а не иначе, в силу свойств, унаследованных мною от предков, и вследствие условий среды, которые были раньше моего рождения созданы, где же тут место для моей свободы? Моя свобода может иметь реальный смысл только в том случае, если я могу начать во времени нечто безусловно новое, т.е. такой ряд событий, который бы совершенно не имел причин в прошедшем. Но, если так, то я свободен не только во времени, но и в каждый данный момент времени”.
Пока мы остаемся на точке зрения Канта, из этих противоречий нет выхода по той простой причине, что сам вопрос
163
о безусловном основании причинного ряда совершенно не умещается в рамки его теории познания. Если причинность есть только субъективное наше понятие, способ мысли человеческого ума о наших человеческих представлениях, то какой же смысл может иметь вопрос о безусловном основании и об умопостигаемой причин? Разве не очевидно, что сама постановка этого вопроса неправомерна с точки зрения доведенной до конца антропологической теории познания! Если категория причинности приложима только к явлениям, как их понимает Кант, т.е. только к нашим человеческим представлениям, то между областью явлений и абсолютной действительностью существует пропасть, которая ничем не может быть заполнена; и всякая попытка связать их в мысли заранее обречена на неудачу. Ибо в таком случае категории, посредством которых мы связываем наши представления, — не более как субъективные иллюзии. К такому выводу, как известно, и в самом деле пришел Шопенгауер, который отверг понятие „умопостигаемой причинности” и понял категории, как субъективный мираж, не имеющий ничего общего с объективной действительностью вещей. Иное дело — Кант, который в данном случае оказался менее последовательным: только благодаря этому он избежал того иллюзионизма, который, несомненно, вытекал из его посылок.
Те же противоречия могут быть отмечены и в его попытке разрешения четвертой антиномии. По Канту возможный выход из этой антиномии заключается в том, что „оба противоречащих друг другу положения могут быть истинными в различных отношениях, так что все вещи чувственного мира совершенно случайны и, следовательно, имеют всегда только эмпирически обусловленное существование, но для всего ряда существует также неэмпирическое условие, т.е. безусловно необходимое существо (588). Кант думает, что это „допущение умопостигаемого основания явлений, т.е. чувственного мира, именно допущение основания, свободного от случайности чувственного мира, не противоречит неограниченному эмпирическому регрессу в ряду явлений и сплошной случайности их”. По Канту „только это мы и могли сделать для устранения кажущейся антиномии, и только таким образом можно было достигнуть этого. В самом деле, если условие для всего обусловленного (по своему существованию) всегда
164
имеет чувственный характер, и потому входит в состав ряда, то оно само также должно быть обусловленным (как это доказывает тезис четвертой антиномии). Следовательно, или противоречие в отношении к разуму, который требует Безусловного должно оставаться, или Безусловное должно быть помещено вне ряда, в умопостигаемом, необходимость которого не требует и не допускает никакого эмпирического условия и, следовательно, в отношении к явлениям безусловна (592).
Нет сомнения, само по себе допущение бесконечного ряда причин и действий вполне совместимо с предположением безусловного основания всего ряда, которое само находится вне ряда; но само предположение возможности такого „безусловного основания” пли „умопостигаемой причины” представляет собой случай недозволенного Кантом „трансцендентного применения” категорий, следовательно, для него представляется непоследовательностью. Отступление Канта от его учения о категориях здесь выражается еще и в следующем. Читатель помнит, что для Канта понятие „необходимости”, так же, как понятие причинности, есть категория рассудка, приложимая только к явлениям. Между тем, во всей его попытке разрешения четвертой антиномии, явления характеризуются как „сплошь случайное”, а понятие необходимости оказывается применимым только за пределами явлений— к „безусловно необходимому существу”. Тут Кантово учение о познании явно переходит в свое противоположное: начавши с утверждения, что понятие необходимого приложимо только к феноменальному, он кончает выводом, что о необходимом может быть речь только в предположении умопостигаемой основы мира.
И в этом нет ничего удивительного. В самом деле, если весь мир явлений сводится к моим представлениям, то в нем действительно все случайно—и сами представления и их связь,— потому что в основе всего этого лежит случайная психологическая особенность человеческого ума: сама необходимость законов природы имеет в таком случае характер мнимый по отношению к космосу, ибо она сводится к чисто психологической необходимости для человеческого ума—восходить до бесконечности от условия к условию: эта необходимость выражает собою в таком случае не объективное свойство самой природы, а скорее отсутствие всякой опоры у человеческого ума в его сужде-
165
ниях о природе. Тут есть видимость безусловности закона причинности при полной невозможности связать его с чем-либо действительно безусловным. Человеческий ум обречен на бесконечное и беспредельное искание „полноты ряда” условий при полном отсутствии надежды — когда-либо и где-либо найти ее. Это безнадежное странствование, напоминающее трагедию „вечного жида”, должно продолжаться, доколе человеческий ум не найдет точку опоры над собой в действительно безусловном. Тогда и только тогда может быть разрешена антиномия причинности.
V. Путь к разрешению антиномии причинности.
Неудача попытки Канта—разрешить эту антиномию обусловливается тем, что он с одной стороны чувствует требование (постулат) Безусловного, лежащее в основе нашей интуиции всеобщей причинной связи, а с другой стороны решительно утверждает, что причинность, как и все вообще категории мысли,— лишена всякого основания в реальном Безусловном и коренится единственно в необъяснимой особенности человеческого рассудка.
Весь смысл закона причинности заключается именно в утверждении Безусловного, лежащего в основе всего; между тем, в гносеологическом учении Канта этот закон оторван от его смысла. Отсюда—неудовлетворительность Кантова решения антиномии причинности. Чтобы найти ее решение, надо продумать до конца то учение о категориях, которое было формулировано выше (стр. 94—102).
Мы видели, что категория причинности, как и все прочие категории, обоснована в нашей интуиции Безусловного; ее достоверность для нас коренится в нашем априорном убеждении, что все, что есть, что было и что будет, должно иметь свое безусловное почему, т.е. свое необходимое основание в Безусловном. Ведь сам вопрос почему есть вопрос о связи того, о чем мы спрашиваем, со Всеединством, которое все в себе объемлет и которому все подчинено. Если нет этого реального Всеединства, и если господство его в мире не безусловно, — тогда возможны в мире явления и происшествия, вовсе не имеющие никакого почему; тогда нет и единого космоса. Закон причин-
166
ности есть закон всеобщей и безусловной связи всей становящейся действительности, иначе говоря, — формальное выражение Всеединства в порядке генезиса: если нет в мире Всеединства, то могут быть в нем события беспричинные; тогда вопрос о причине вообще бессмыслен.
В этих соображениях заключается и ключ к разрешению антиномии причинности. Вспомним, как формулирует ее Кант в примечании к четвертой антиномии: с одной стороны существование „необходимого существа” доказывается у него в тезисе тем, что „прошедшее время содержит в себе ряд всех условий и вместе с тем, следовательно, также и Безусловное”. С другой стороны в антитезисе отрицание безусловно необходимого существа обосновывается тем, что „все прошедшее время содержит в себе ряд всех условий (которые, следовательно, все обусловлены)” (487).
Сопоставляя эту формулировку с изложенными только что разъяснениями, мы без труда обнаружим ту ошибку, благодаря которой возникла вся эта антиномия в понятии причинности. Тезис Канта предполагает, что время объемлет в себе Безусловное: между тем лежащая в основе наших познавательных суждений о становящемся мире интуиция всеобщей причинной связи предполагает как раз противоположное, что Безусловное как Всеединое объемлет в себе время. Все, что совершается во времени подзаконно Безусловному: только на этом предположении основано наше априорное убеждение, что все не только бывшее, но и будущее имеет свою необходимую причину. Но отсюда следует, что Безусловное, как объемлющее в себе все, ни в коем случае не может быть частью или звеном процесса, членом ряда во времени.
А между тем, именно так понимается в тезисе четвертой антиномии Канта „безусловно необходимое существо”. Весь тезис („к миру принадлежит или как часть его или как его причина безусловно необходимое существо”) рассматривает Безусловное как что-то предшествующее во времени всему обусловленному: точно в определенный момент времени действует ,,безусловно необходимое существо”, а затем идет своим полным ходом мир как самостоятельный, отрешенный от Безусловного механизм.
167
Тут мы имеем не случайную ошибку Канта, а выражение природной наклонности мысли, плененной чувственностью. С одной стороны всякая мысль как такая, подзаконна Безусловному, связана им как основным своим предположением, а потому вынуждена искать его; с другой стороны, не всякая мысль способна подняться в рефлексии над плоскостью временного; отсюда—это противоречивое стремление поверхностных умов — искать Безусловного в плоскости временных причин. Отсюда и та наклонность—представлять себе зависимость от него мира по образу и подобию последовательности доступных нашим чувствам явлений. Пока ум не отрешился от этой пагубной привычки, антиномия (т.е. внутреннее противоречие) для него неизбежна: ибо Безусловное как Всеединое не может быть частью процесса во времени; и именно на этом основано утверждение антитезиса, что „нет никакого необходимого существа ни в мире ни вне мира”. Антитезис, так же как и тезис, выражает собою состояние мысли, которая ничего не видит за пределами плоскости временного; сколько бы она ни подымалась в ряду причин и следствий во времени, она ничего не находит в нем, кроме временного, обусловленного другими причинами, которые сами в свою очередь обусловлены и т. д. до бесконечности. Стало быть, оставаясь в плоскости временного, мысль должна с одной стороны непрерывно искать Безусловного, а с другой—отрицать возможность найти его.
Чтобы преодолеть это внутреннее свое раздвоение, мысль должна прежде всего подняться над временем, понять Безусловное как сверхвременное; но для окончательного разрешения антиномии причинности недостаточно и этого; чтобы снять как тезис, так и антитезис этой антиномии, необходимо кроме того—понять временный процесс, как положенный в Безусловном, им связанный и ему подзаконный: сама причинность должна для этого быть понята не как субъективное представление (категория) человеческого ума, а как объективный закон Безусловного для мысли и для сущего во времени.
Что антиномия причинности может быть разрешена лишь при том условии, если Безусловное будет понято как стоящее вне временного ряда умопостигаемое Сущее, — это было указано уже Кантом. Но мы уже видели, что этим мысль еще не освобо-
168
ждается от своего внутреннего противоречия в понятии причинности: оно только переносится в другую область: у Канта Безусловное и причинный ряд во времени все еще остаются совершенно чуждыми друг другу, ничем не связанными между собою.— Мы имеем тут не единое Безусловное, а как бы два Безусловных, поставленных рядом, — с одной стороны безусловность ноумена, а с другой стороны — формальная безусловность феномена, которая коренится не в умопостигаемом мире, а в посторонних и чуждых ему законах человеческого рассудка. Отсюда у Канта—две причинности—умопостигаемая и эмпирическая, которые, вопреки его усилиям, никак не могут быть согласованы друг с другом.—
Подразделение это глубоко ошибочно; в действительности нет причинности ни только феноменальной, ни только умопостигаемой. Всякая причинность как такая выражает собой связь умопостигаемого, сущего и являемого; только через утверждение единства того и другого возможны какие бы то ни было суждения о причинной зависимости.
Это может быть пояснено на любом примере,—хотя бы на приводимом Кантом суждении „солнце нагревает камень”. Нетрудно убедиться в том, что это суждение, как и всякое другое, выходит за пределы явлений, ибо оно утверждает всеобщую и безусловную необходимость, т.е. такой закон, который действителен для всякого возможного времени и уже по этому одному в своей всеобщности не может быть явлен в пределах какого-либо конкретного времени. Приведенное суждение, как и всякое суждение о причинной зависимости, возможно лишь через отнесение явлений во времени к умопостигаемому, сверхвременному единству, объемлющему все совершающееся.
Ум наш вообще не может связать причину с действием, не поднявшись над временем. В данную минуту на моих глазах светит солнце и нагревается камень. Когда, связывая эти два впечатления вместе, я говорю — „солнце нагревает камень”, я отвлекаюсь от данной минуты, от всякого времени вообще. Я утверждаю, что время здесь не при чем, что в данной связи событий оно ничего изменить не может: суждение солнце нагревает камень” выражает собою то, что было, что есть, и что будет, доколе не потухло солнце над землею. Логи-
169
чески возможно, что когда-нибудь солнце исчезнет, что камней не будет, что само вещество преобразится и, следовательно, явления вещества станут иными,—все равно, закон, выражаемый этим суждением, остается вечно истинным и лишь постольку он есть закон.—Вечно истинным остается то, что если существует тело, обладающее данными определенными свойствами, то оно, при данной определенной совокупности условий, неизбежно нагревает другое определенное тело. Быть может, и время когда-либо остановится в своем течении; и тем не менее закон всеобщей причинной связи остается вечно истинным для всякого возможного времени: вечно истинно то, что, пока время течет, одна и та же причина при прочих равных условиях производит всегда одинаковое действие. Чем обусловливается это наше априорное убеждение? Все тем же основным предположением, содержащим в основе всего априорного, в основе всякого познания— нашей интуицией сверхвременного единства всего или, же, интуицией Всеединства. Если бы не было этого сверхвременного единства, к которому наши познавательные суждения относят все существующее и возможное, то ни о какой закономерности не могло бы быть речи! Тогда не было бы ни познания, ни предмета познания, ни даже самой мысли.
Утверждать всеобщую причинную связь всего, что является,— значит предполагать, что есть Сущее всеединое и что в нем положено все действительное и возможное. — Феноменальное и ноуменальное таким образом тут составляют две стороны одного и того же утверждения: в интуиции всеобщей причинной связи мы имеем синтез того и другого. Тут мы и находим ключ к разрешению антиномии причинности: как только этот двоякий характер закона причинности становится ясе мысли, антиномия эта падает сама собою.
Всеединое Сущее, равно как и всеединая мысль, все объемлет и все в себе вмещает—и конечное и бесконечное; как то, так и другое находят в нем свое безусловное основание и начало; то и другое в нем и чрез него одинаково возможно. При свете этой мысли одинаково возможен как бесконечный ряд причин и следствий, т.е. ряд, не имеющий ни начала ни конца во времени, так и ряд, зачинающийся и кончающийся в определенный момент; если допускается возможность одного, то
170
этим вовсе не исключается возможность другого. Раз начало и конец всякого временного ряда — в сверхвременном Безусловном,—мы можем без всякого противоречия мыслить этот ряд не имеющим предела во времени. Пусть ряд причин последствий тянется без конца, — от этого он не становится безначальным и бесконечным в метафизическом значении этого слова; ибо все таки он подначален и подзаконен всеединому, которое не подавляется бесконечностью, а охватывает ее и вводит ее в свой предел. Но совершенно так же мыслимо и начало нового ряда во времени: раз Безусловное или Всеединое—сверхвременно,— нет надобности искать его в бесконечно отдаленном прошедшем: каждый момент настоящего может быть связан с ним непосредственно; раскрытие в определенный момент мирового процесса каких-либо новых возможностей, не явленных раньше, в предшествующей истории мироздания, не представляет ничего логически невозможного.
Теперь мы подходим к вопросу о свободе воли, который интересует нас здесь не в полном его объеме, а лишь в тех пределах, в каких он поставлен „Критикою чистого разума”: возможно ли мыслить ее без противоречия, совместима ли она логически с законом всеобщей причинной связи? В результате сделанного здесь пересмотра кантова решения, мы можем дать утвердительный ответ на этот вопрос.—
Кант утверждает, что, если бы мы знали все прошедшее каждого данного человека, мы могли бы предсказывать его поступки с такою же достоверностью, с какою мы предсказываем какое-нибудь лунное затмение. Спрашивается, на чем основывается это убеждение? Нетрудно убедиться, что ни малейшей логической необходимости оно в себе не заключает: логически необходимо, чтобы каждый человеческий поступок имел свое достаточное основание. Но из чего следует, что это основание должно заключаться непременно в прошлом данного лица и его среды? Почему недопустима мысль о новом самоопределении, которое имеет свое необходимое основание не в прошедших мотивах, настроениях или поступках данного лица, — а в какой-либо сверхвременной возможности его характера, которая раньше никогда не была явлена,—ни в его предыдущей жизни, ни в предшествующей истории человечества?
171
Раз, согласно справедливому замечанию Канта, прошедшее человека—не в его власти, вопрос о свободе воли есть прежде всего вопрос о том,—действительно ли человек—раб своего прошедшего, которое в свою очередь находится в безусловной зависимости от прошлого всего мироздания? Мы уже видели, что, вопреки Канту, утвердительный ответ на этот вопрос есть вместе с тем и полное отрицание свободы не только в феноменальном, но и в ноуменальном значении этого слова. О свободе воли можно говорить только в том предположении, что наш умопостигаемый характер может начинать во времени новый т.е. безусловно независимый от прошедшего (нашего и космического) ряд действий.
Как сказано, мысль эта не заключает в себе ничего логически невозможного. Смысл закона причинности, сущность того необходимого для нашей мысли предположения, которое в нем выражается, заключается в том, что все должно быть обосновано в Безусловном или Всеедином, а вовсе не в том, что все должно быть обосновано в прошедшем. Безусловное основание нашей становящейся действительности не содержится во времени, а потому не может быть безусловной и власть времени, а в частности и власть прошлого над нами. Раз время не объемлет собою полноты бытия, раз оно во всем своем течении подзаконно сверхвременному Всеединству, — оно не объемлет в себе и полноты условий нашей становящейся действительности. Есть иные плоскости бытия, которые еще не были явлены во времени; в Безусловном и Всеедином таятся бесконечные миры нераскрытых возможностей. Утверждение, что эти еще не явленные нам миры никогда не явятся нам в будущем,- не имеет никаких логических оснований: как раз наоборот, основной закон нашей мысли заставляет нас предполагать, что все плоскости бытия действительного и возможного связаны между собою безусловной связью всеединства, что связь эта есть и там, где она временно, остается скрытою от нашего взора.
Те трудности в учении о свободе, с которыми сталкивается ,,Критика чистого разума”, — коренятся не в самом существе человеческой мысли как такой: они свойственны только определенной ступени ее развития и определенной ее точке зрения. Пока мысль наша — не в состоянии подняться над плоскостью
172
времени, пока действительность во времени есть для нее единственная возможная действительность, она неизбежно должна искать во времени исчерпывающего объяснения наших поступков. При этих условиях о свободе воли не может быть и речи.
Выход из этих затруднений возможен лишь при условии допущения сверхвременной, умопостигаемой области бытия над временем; и с этой точки зрения учение Канта об умопостигаемом характере представляет собою чрезвычайно важный шаг вперед. Отмеченная выше неудовлетворительность Кантова решения вопроса обусловливается тем, что в своем учении о свободе он остается на полдороге. Для удовлетворительного решения задачи недостаточно указать на различие двух плоскостей бытия— ноуменальной и феноменальной, — необходимо кроме того найти безусловную связь между ними,—нужно отыскать то единое и общее, что связывает в одно целое все мировые противоположности, все плоскости действительного и возможного,—то, что делает возможным переход из плоскости в плоскость.
Именно этого объединяющего начала недостает в учении Канта, и этим обусловливается его бессилие—согласовать свободу с необходимостью — его неспособность преодолеть противоречия плоскостного мышления. Оторванный от своего умопостигаемого начала, мир явлений у Канта представляет собою самодовлеющее целое; всякое событие этого мира должно найти исчерпывающее объяснение в нем самом, в пределах явлений: отсюда—те вышеприведенные рассуждения о возможности предсказывать человеческие действия, которые сводят на нет умопостигаемую свободу.
На той точке зрения, на которой мы стоим, эти противоречия разрешаются, потому что доступный нам мир явлений рассматривается уже не как замкнутое в себя, самодовлеющее целое,—а как одна из сфер бытия, рядом с которой и над которой возможно неопределенное количество других, неизвестных нам сфер. И, раз эти сферы, как положенные во всеединстве, тем самым не замкнуты, а, наоборот, связаны друг с другом,— переход из сферы в сферу, из плана в план всегда возможен.
Да будет мне позволено пояснить сказанное на конкретном
173
примере. Положим, что мы хотим объяснить возникновение какого-либо произведения человеческого гения, например, Гамлета Шекспира или Фауста Гёте. Оставаясь на точке зрения Канта, мы должны последовательно утверждать, что в этих произведениях мы имеем явления, которые находят себе исчерпывающее объяснение в других, предшествующих явлениях. Если бы мы могли исчерпывающим образом знать все антецеденты Фауста в жизни Гёте, мы могли бы с точностью предсказать все содержание этой драмы; а знание всего семейного и исторического прошлого, предшествовавшего рождению и воспитанию Гёте, дало бы нам возможность с такой же точностью предсказать малейшие черты эмпирического характера самого Гете.
На той точке зрения, на которой мы стоим, возможность биографического и исторического объяснения человеческих деяний замыкается в более тесные границы. С этой точки зрения, как бы ни было полно это объяснение, оно не может быть исчерпывающим. Знание прошлого великих людей может объяснить нам многое, но оно ни в коем случае не объясняет нам всего в их деяниях. Ибо все таки этими объяснениями не исключена возможность, что появлением Фауста начинается во времени новый причинный ряд что мы имеем здесь творческий акт без прецедентов в истории. И отсутствие прецедента в данном случае не будет означать отсутствия причины: причиной может быть не только предшествующее во времени явление, но и какая-нибудь неявленная раньше, сверхвременная возможность в характере Гёте. Как только мы признаем, что время не есть замкнутая в себя область сущего и возможного, умопостигаемая причинность (т.е. действие сверхвременного во времени), а потому самому и свобода человеческой воли становится логически возможною. Ибо эта свобода определяется прежде всего, как независимость от времени.
VI. Общее значение антиномий.
Сказанное об антиномии причинности бросает свет на происхождение и на значение антиномий вообще. Мы видели, что названная антиномия есть противоречие плоскостного или плоского мышления. Она всецело обусловливается тем, что данная плос-
І74
кость бытия во времени рассматривается как самодовлеющая, замкнутая о себе область, заключающая в себе полноту оснований для всего в ней совершающегося. Как только мысль поднимается над этой областью к действительно Всеединому и Безусловному, в котором утверждается необходимая реальная связь этого плана сущего и мыслимого с другими, над ним лежащими планами,—противоречие тем самым снимается.
По видимому, такова же природа всех антиномий вообще. По крайней мере таково единственное возможное их объяснение, которое может быть мыслимо без противоречий. Предположение о том, что человеческая мысль в самом существе своем противоречива, т.е. что противоречие коренится в самых ее априорных условиях и логических законах, не может быть логически защищаемо уже потому, что оно ведет к ниспровержению всякой логики. Если в основе всякой человеческой мысли лежит логически необходимое и притом неразрешимое противоречие, то в конце концов всякая мысль должна распасться на противоположные утверждения об одном и том же, при чем каждое из этих противоположных утверждений должно считаться истинным. Тот антиномизм, который верит в безусловную и окончательную неразрешимость всех антиномий на всех ступенях человеческой мысли,—тем самым утверждается вне области возможного спора. Одно из двух—или он полагает, что нет вообще единой истины, или он думает, что она есть;— но познание ее для нашей мысли невозможно ни в каких пределах: в обоих случаях мы имеем алогизм, который делает всякий спор занятием не только праздным, но и бессмысленным: ибо в конце концов этим оправдывается притязание древних софистов, которые брались доказывать противоположные утверждения об одном и том же. Такой антиномизм утрачивает возможность сам себя отстаивать; ибо, если противоречие есть свойство самой истины или всяких наших о ней суждений, то должны быть признаны одинаково истинными и противоположные высказывания о самих антиномиях; тогда одинаково истинно и то, что они разрешимы и то, что они—неразрешимы.
Верить в возможность логического познания в каком бы то ни было, хотя бы в самом скромном, размере—значит предполагать, что между человеческой мыслью и единством истины
175
нет безусловной, логической несовместимости, нет пропасти, что, следовательно, все те необходимые противоречия, с которыми сталкивается или может столкнуться наша мысль,—необходимы для нее лишь на определенной стадии ее возвышения, в том или другом плане мысли и должны найти себе разрешение, когда мысль поднимается в иной, высший план.
Такое понимание антиномий может быть пояснено следующим сравнением.—Представим себе мыслящее существо, которое воспринимает всего только два измерения пространства—высоту и ширину, т.е, видит все в одной плоскости и совершенно не воспринимает глубины. Не очевидно ли, что все наши утверждения, предполагающие это третье измерение пространства, будет казаться такому существу непонятными и противоречивыми! Мы будем уверять его, что видим одну лишь поверхность земли, ему будет казаться, что мы видим ее целиком. Когда мы заговорим с ним о массах расплавленной лавы в центре земли,—наши слова покажутся ему противоречивыми вследствие совершенной невозможности совместить в одной плоскости огонь и зеленеющую траву. Как только он отрешится от своей плоскостной точки зрения и интуиция глубины станет ему доступной, данное противоречие тотчас падет само собою: ибо несовместимые в одной плоскости огонь и живая зелень прекрасно совмещаются в различных плоскостях.
Это сравнение дает нам наглядное объяснение не только происхождения (генезиса) антиномий, но также и того значения, которое они должны иметь для нашей мысли. Сам факт их существования с одной стороны напоминает об ограниченности того наличного, данного кругозора нашей мысли, при котором они возможны, а с другой стороны побуждает нас искать выхода за этой границей. Так понимаемые антиномии—факт положительного значения и горе той человеческой мысли, которая их не видит: это—мысль безнадежно плоская, ибо она не только не сознает своих субъективных границ, но не подозревает даже и возможности существования чего-либо за их пределами. Эту ступень развития мысли можно сравнить с психологическим состоянием существа, которое не только не воспринимает глубины в пространстве, но отрицает саму ее возможность, решительно утверждая, что доступные ему два измерения—высота
176
и ширина—суть вообще единственно возможные измерения пространства.
Мысль, сознавшая свои антиномии, тем самым становится на несравненно более высокую ступень развития, этим она показывает, что она сознает границы своего кругозора и ищет выхода из него—в высшем углублении. Но, если противоречие представляется ей безусловно неразрешимым и неустранимым, это значит, что выход из него все еще не найден, что она по прежнему остается бессильной подняться над какой-либо одной плоскостью мыслимого, где она вращается как в заколдованном кругу. Найти выход в глубину—значит найти путь к разрешению антиномии; но само собой разумеется, что, пока мысль человеческая не достигла того высшего и окончательного совершенства, какое ей суждено достигнуть, этот путь не может быть пройден до конца никем из смертных. Пока человеческая мысль пребывает в нынешнем своем состоянии немощи и несовершенства, ей предстоит беспредельное углубление и возвышение из ступени ступень. И, если на какой новой ступени возвышения для нее будут разрешаться или сниматься антиномии предыдущих, нижележащих ступеней, то с другой стороны, благодаря самому факту ее восхождения, перед нею будут открываться новые и новые антиномии, которые в свою очередь найдут себе разрешение на иных, высших ступенях мысли и ведения.
Сводя к одному общему итогу результаты предыдущего рассуждения, мы можем сказать, что антиномии выражают собою состояние мысли, оторванной от всеединства и потому замкнувшейся в порочный круг. Во всеедином сознании их нет, потому что во всеединстве нет места для противоречивых утверждений об одном и том же: там высказывания, которые кажутся нам противоречивыми, не сталкиваются между собою, потому что они отнесены к различным планам сознания. То объединение мировых противоположностей, в котором выражается всеединство истины, не есть утверждение противоречия или механическое сопоставление начал взаимно друг друга исключающих: это—объединение органическое, в котором противоречие изнутри побеждается и снимается как такое.
Поэтому утверждать окончательную разрешимость антиномий— значит утверждать Всеединство. Требовать, чтобы наша чело-
177
веческая мысль стремилась к их разрешению,—значит указывать ей всеединство как норму должного: это значит желать, чтобы и она по приобщению стала всеединым сознанием, чтобы она вышла из своего состояния разрозненности и раздвоенности, дабы стать единою и целостной.
Не требуем ли мы этим от человеческой мысли слишком многого, не возлагаем ли мы на нее задачу непосильную, подчиняя ее абсолютной норме? Не осторожнее ли удовольствоваться для нее чем-либо относительным? Но в чем же заключается это относительное, на чем нам советуют остановиться? Не сводится ли этот на все лады повторяемый совет современного алогизма к предложению—остаться навсегда людьми с двоящимися мыслями во всем, что мы думаем! Цельность, скажут нам, достигается не в ясном сознании, не в мысли, а по ту сторону мысли, в мистической, сверхсознательной области чувства! Но ложь этого мнимого мистицизма здесь ясно обнаруживается в этой попытке отвести всеединству и цельности ограниченное место в человеческом существовании, подчинить ему не всего человека, а всего только одну сторону бытия. Вы утверждаете всеединство как высшую норму жизни? Прекрасно. Почему же вы исключаете из него мысль и подчиняете ему только чувство! На чем основан этот приговор, который требует, чтобы человеческая мысль навсегда оставалась за порогом всеединства? Почему в ответ на обращенный ко всему живому призыв к цельности одна мысль должна оставаться навеки расколотою на двое? Не значит ли это возводит состояние мысли мертвой в окончательную норму для всякой мысли вообще?
Все чаще и чаще приходится слышать в наши дни, что антиномии можно разрешить только жизнью, а не мыслью: их надо „изжить”, и в этом—единственный способ их решения! К подобным призывам можно относиться довольно равнодушно, когда они исходят от чуждых мысли людей практики. Другое дело, когда они повторяются людьми, посвятившими себя умственной жизни! Тут мы имеем отречение от мысли, которое, по странному противоречию, хочет сохранять значение для самой мысли, требует от нее признания и хочет стать для нее нормою: возводимый в принцип алогизм здесь хочет восторжествовать силою логических доводов. Такие явления, когда они ча-
178
сто повторяются, не могут не смущать как грозные симптомы быстро надвигающегося умственного упадка!
Опасность тем более велика, что в наши дни, рядом с этим открытым отрицанием мысли, нередко встречаются другие формы алогизма, где та же сущность является в форме более скрытной и как бы замаскированной. Сущность этой формы алогизма обыкновенно выражается в утверждении, будто разрешение антиномии является делом интуиции, которая выражает собою высшую ступень откровения и венчает собою высокий духовный подвиг, но что оно недоступно рефлексии и не может быть выражено посредством понятий.—В этом воззрении к заблуждению примешивается некоторое зерно истины. Истина заключается в утверждении интуиции, которая действительно представляет собою основу всякого познания—не только философского, но и обыкновенного;—заблуждение заключается в отрицании рефлектирующей мысли, выражающейся в понятиях.
Прежде всего ясно, что „интуитивное решение” антиномии есть решение недоделанное, а потому в сущности и вовсе не решение, Ведь антиномия есть необходимое противоречие в понятиях и суждениях об одном и том же; а потому и решение ее может выразиться только в согласовании понятий и суждений. Пока я только интуитивно схватываю единство свободы и необходимости, причинности умопостигаемой и причинности во времени, но при этом могу выразить мою интуицию лишь в форме противоречивых суждений, — я еще далек от решения антиномии причинности и антиномии свободы. Пусть в интуиции я предугадываю единство, — мысли мои все таки продолжают двоиться и путаться; добросовестное искание Истины не должно мириться с таким раздвоением, а тем более— возводить его в норму. — Оно должно стремиться к тому, чтобы всеединство Истины изобразилось во всем нашем умственном складе, а не только в таинственной внутренней глубине, недоступной словесному выражению.
К тому же и интуиция сама по себе, не проверенная рефлексией дискурсивной мысли, представляет собою сомнительный, далеко не всегда надежный источник знания. Как отличить интуицию истинную от интуиции ложной, подлинное субъективное откровение от субъективной фантазии или даже галлюцинации?
179
Для этого необходимо проверить интуицию каким-либо объективным критерием. Но, станем ли мы при этом на религиозную точку зрения объективного откровения, или же просто будем применять к интуиции объективный логический критерий, во всяком случае дискурсивная мысль, — рефлексия, — является в обоих случаях необходимым орудием. Будет ли наша проверка интуиции только теоретическим исследованием или же больше того—судом совести,—все равно, интуиция должна быть для этого осознана, содержание ее должно быть отделено от всяких посторонних примесей определенными понятиями и затем—сопоставлено с нашим критерием.
Если в вопросах нравственных мы не довольствуемся смутной интуицией добра и, прежде чем принять то или другое ответственное решение, подвергаем нашу „интуицию” всесторонней умственной проверке, то так же должна поступать наша совесть и в области теоретической: „необдуманные решения” одинаково недопустимы и здесь и там. Только после перекрестной проверки всеми доводами за и против, всеми средствами мысли — можно полагаться на интуицию. Только интуиция всесторонне проверенная может послужить нам и для решения антиномий.
А при этом нужно в особенности помнить о той обязанности, которая вытекает из самого факта существования антиномий. Раз этот факт указывает на болезненное состояние нашей мысли, на ее патологическое уклонение от идеала всеединства, ее первая и основная обязанность заключается в том, чтобы стремиться к восстановлению единства и целости. Пусть умственная лень не отвлекает нас от этой возвышенной цели своими суетными предлогами. А при этом не следует забывать, что для исцеления мысли необходимо ее собственное деятельное сотрудничество и что помимо нее ни чувство, ни подвиг добра, ни какая-либо другая сила, ей посторонняя, не освободит ее от ее внутренних противоречий.
ГЛАВА VI.
Конец трансцендентальной диалектики и приговор чистому разуму.
I. Критика рациональной психологии у Канта.
По сравнению с учением Канта об антинемиях прочие части его трансцендентальной диалектики имеют несколько меньше значения: однако, говоря безотносительно, и они представляют большой интерес. В частности его рассуждения о рациональной психологии заслуживают внимательного разбора.
Здесь нет надобности подробно воспроизводить все его опровержения ходячих доказательств субстанциальности и бессмертия души. В общем, ход мысли Канта сводится к следующему. —
Всю свою мудрость рациональная психология развивает единственно из представления или, точнее говоря, суждения — „я мыслю“ — которое служит опорою всех наших понятий. Исходя из совершенно правильного положения, что все наше мышление предполагает единство мыслящего субъекта, рациональная психология в дальнейшем своем развитии выводит отсюда необоснованные заключения и постольку „навязывает нам мнимые знания“: она „выдаст нам постоянный логический субъект мышления за знание о реальном субъекте, которому принадлежит мышление, между тем, как об этом субъекте мы не имеем и не можем иметь никакого знания“ (I изд., 350). „Я“ как мыслящий, должен всегда рассматриваться как субъект мышления; — но это не дает нам права превращать это чисто логическое единство в реальную субстанцию (II изд., 407): „анализ сознания моего Я в мышлении не дает никакого знания обо мне, как объекте. Логическое истолкование мышления вообще ошибочно принимается
181
за метафизическое определение объекта“ (409). Утверждение, что „всякое мыслящее существо, как таковое, есть простая субстанция“, представляет собою пример синтетического суждения, а priori, ибо оно прибавляет к понятию мыслящего субъекта понятие субстанции, которое вовсе в нем не заключалось; синтез здесь — явно незаконный, — так как мыслящий субъект известен нам лишь как начало формального единства нашего сознания и, стало-быть, — формальное условие возможности нашего опыта: мы не имеем права выводить отсюда какие-либо заключения о том, что выходит за пределы нашего опыта,— о метафизической природе нашего субъекта и тем более — всех мыслящих субъектов вообще (410, 420 — 421). Раз мы не уполномочены утверждать „субстанциальность“ мыслящего субъекта, то тем самым неправомерны и дальнейшие определения этой субстанции как простой и неуничтожимой. В итоге заблуждения рациональной психологии по Канту сводятся к следующему. — „Единство сознания, лежащее в основе категорий, принимается здесь за наглядное представление о субъекте, как объекте, и к нему применяется категория субстанции. Между тем это единство сознания есть только единство в мышлении, посредством которого однако вовсе не дан объект; следовательно, субъект категорий не может вследствие того, что он мыслит категории, получить понятие о самом себе, как объекте категорий, так как для того, чтобы мыслить категории, он уже должен положить в основу свое чистое самосознание, которое он намерен объяснить“ (421—422).
Аргументация рациональной психологии, против которой направлены приведенные возражения, действительно не выдерживает критики; но, как будет сейчас показано, опровержения Канта также далеко не безупречны. Прежде всего ошибка рациональной психологии заключается совсем не в том, в чем видит ее „Критика чистого разума“. Ошибка эта выражается не в том, что логический субъект мышления выдается за знание о реальном субъекте, а в том, что рациональная психология утверждает о реальном субъекте мышления гораздо больше, чем она может о нем доказать. Тут мы имеем не простое отсутствие знания о реальном субъекте, а подмену одного знания другим.
182
Мое „я мыслю“ вовсе не есть только логическое единство: как мыслящий я существую; я — реальный субъект всего этого процесса мышления. Поэтому и заблуждение рациональной психологии заключается вовсе не в том, что она предполагает реальное существование этого субъекта, а единственно в том, что она принимает знание о временной действительности этого субъекта за свидетельство о его вечной жизни.
„Я мыслю“; в этом акте мышления наше я является нам как субъект непрерывно текущих, подвижных и изменчивых состояний сознания; в мышлении я узнаю себя как источник бесчисленного множества мыслей, из коих каждая в отдельности возникает и уничтожается. Все состояния мыслящего я, все явления его во времени — преходящи; откуда же я знаю, что оно само — непреходящая, вечно сохраняющаяся мыслящая субстанция? Ведь опыт, в котором я узнаю себя, как мыслящий, есть опыт о временном моем существовании — и только: рациональная психология совершенно незаконно превращает его в опыт о вечной жизни. Утверждение, что я есть мыслящая субстанция, значит именно, что оно — вечное сверхвременное бытие. „Неуничтожимость“ есть один из необходимых логических признаков самого понятия субстанции; а потому утверждение, „что мыслящая субстанция неуничтожимая или „бессмертна“, — есть простое аналитическое суждение. — Весь вопрос, следовательно, — в том, есть ли на самом деле наше я—субстанция или нет? Слишком недостаточные доказательства рациональной психологии не уполномочивают нас дать утвердительный ответ на этот вопрос. Для решения его, очевидно, необходимо какое-то другое, высшее, знание: такое знание не может быть выведено из понятия „мыслящего существа“, ибо логически вполне возможно, что „мыслящее существо“ так же смертно, как и те преходящие мысли, коих оно является источником; чтобы доказать бессмертие, нужно удостоверить, что это существо обладает бытием за пределами непрерывно изменяющегося гераклитова тока мысли: можно ли это доказать самым фактом нашего мышления? Ведь наша смертная мысль погружена в ту действительность, которая, говоря словами Платона, „вечно нарождается и погибает, но подлинным бытием никогда не обладает“. Есть ли у нас достаточные доказательства ее причастности к иной,
183
не умирающей действительности? Может ли такая мысль служить документом бессмертия? С тонки зрения рациональной психологии таким документом является наше …???….которое сохраняет свое тождество во всем, что оно мыслит; но никакого знания о субстанциональности или бессмертии нашего я этим еще не приобретается. Из того, что мое я является мне как центр исчезающих и изменчивых мыслей, ни в каком случае не следует; чтобы оно обладало бытием за пределами этих исчезающих мыслей: из того, что оно пребывает неизменным в процессе мышления, отнюдь не следует, что процесс этот будет продолжаться бесконечно и что мое я сохранится и после остановки последнего. Говоря словами В. С. Соловьева, ,,я сознаю себя всегда как только субъекта своих психических состояний и никогда как их субстанцию“ (Теоретич. философия, 220, П. С. I-е изд.).
Впрочем, отсюда еще не следует, чтобы в моем самосознании не заключалось никакого онтологического элемента: в отрицании этого последнего, как мы сейчас увидим, заключается важнейшая ошибка Канта.
В его учении в особенности поражает одна странная черта: с одной стороны для него трансцендентальная апперцепция, наше „я есмь“ есть последнее, высшее условие нашего познания, более того, — условие возможности самой природы, …по мира явле… по его словам „вместе с устранением мыслящего субъекта должен исчезнуть весь материальный мир, потому что он есть не более, как явление в чувственности нашего субъекта и один из видов его представлений“ (I изд., 383): казалось бы, это обусловливающее бытие явлений тем самым превращается в онтологическое начало: и, однако, Кант считает неправомерными всякие его онтологические определения. В этом, как уже было выше показано, заключается основная ошибка всего его учения о трансцендентальной апперцепции. Мы уже видели, что этот акт есть не что иное, как интуиция … Безуслов... в качестве такового он всецело утверждается на онтологических предположениях.
Мы уже видели (см. выше, стр. 86 и след.), что трансцендентальная апперцепция не есть простой, а сложный, тройственный акт, в котором во-первых, предполагается: безусловное, во-вторых по-
184
лагается наше я как другое и в-третьих — это я связывается с Безусловным. Mы имеем здесь не одно, а целых три необходимых для нашей мысли положения или предположения. — Прежде всего, как уже было неоднократно показано, безусловная значимость положения „я мыслю“ как всякого вообще положения, предполагает Безусловное или Абсолютное не как методологическое понятие, а как реальное сущее. Безусловное воистину есть, и лишь постольку я могу утверждать существование чего бы то ни было, в том числе и мыслящего субъекта, моего я. Далее, в той же трансцендентальной апперцепции мое я противополагается реальному Безусловному как реальное другое, не-безусловное. — В акте познания, более того, — во всяком акте сознания Безусловное предполагается как истинное, не могущее быть иначе. Истинное есть на самом деле не более как аспект Безусловного. Между тем мои мысли, мои представления, мои состояния сознания сами по себе такою безусловностью (истинностью) не обладают: они могут оказаться необходимыми или случайными, истинными или ложными.
Тем самым мое я отделяется от Безусловного границею не только логической но и реальной. Моя ложь, мои заблуждения, мои фантазии — чужды Безусловному, как такому, ибо в нем нет лжи: по отношению к нему они представляют собою не только иную область мысли, но вместе с тем и другую реальность. Стало быть, другую реальность по отношению к нему представляю собою и я мыслящий, ищущий и заблуждающийся субъект сознания. Самые препятствия, которые мешают мне овладеть истиной свидетельствуют о том, что по отношению к Безусловному мое я представляет собою иную область бытия: если бы не это мое реальное отличие от Безусловного, самая возможность заблуждений для меня бы не существовала.
Но это еще не все: как мы видели, в трансцендентальной апперцепции наше я определяется не только как другое по отношению к Безусловному, но вместе с тем и как связанное с Безусловным начало. Здесь также мы имеем не только логическое, но и реальное, онтологическое определение нашего я. Мы уже видели, что самое наше знание о себе как и всякое вообще знание, возможно лишь в меру синтеза нашего я с безусловным, ибо познавать — значит связывать в мысли познаваемое со все-
185
единством. „Я знаю, что я есмь“: Это мое утверждение лишь в том случае получает значение объективного знания, если мое бытие не есть только моя галлюцинация, а объективное определение обо мне мысли безусловной.
Мое я положено в Безусловном и определено им: лишь постольку оно есть но этого мало. — Поскольку мое я утверждается как познающее, тем самым предполагается возможность более глубокой, внутренней связи моей мысли с Безусловным; моя мысль, которая в действительности часто заблуждается и постольку пребывает в отчуждении от Безусловного, — приобщается к нему в познании и постольку сама становится безусловною. Предполагать возможность познания — значит допускать возможность действительного осуществления всеединства и безусловности в мысли познающего, иначе говоря, — возможность соединения моей мысли с мыслью безусловной. Реальность заблуждения, отделяющая мою мысль от мысли безусловной может быть устранена, снята, и для моей мысли может открыться иная реальность, реальность в истине. Все это, разумеется, определения не только логические, но и онтологические: ибо освободиться от заблуждения и утвердиться в истине — для мысли — значит изменить самый способ своего бытия.
Таким образом, в той интуиции нашего я в безусловном, которая получает у Канта название „трансцендентальной апперцепции“, даны некоторые онтологические определения мыслящего субъекта; однако не следует забывать, что то познание о нем, которое мы можем извлечь отсюда, — весьма скромно. Мыслящий субъект как такой обладает реальностью в Безусловном; но ни в самом факте его мысли, ни в потенциальной безусловности или истинности этой мысли мы еще не имеем доказательства субстанциальности мыслящего и его вечного существования. Та ограниченная возможность мысленного проникновения в Безусловное, которая открывается нам в познании, сама по себе еще не свидетельствует о возможности совершенного с ним соединения и вечной в нем жизни для мыслящего существа. Для удостоверения этой возможности необходимо другое, более полное и глубокое знание, которое не заключается в положении „я мыслю“ и не может быть выведено из него.
186
II. Кант о доказательствах бытия Божия.
Чтобы покончить с „Трансцендентальной диалектикой“ Канта, нам остается рассмотреть здесь его критику доказательств бытия Божия.
До сих пор эти опровержения считались классическими; но в связи с данной здесь оценкой „Критики чистого разума“ они подлежат пересмотру. Прежде всего естественно возникает вопрос, сохраняют ли они силу помимо Кантовой теории познания, роковые недостатки которой были здесь обнаружены? Раз падают возражения Канта против всякой метафизики, и самая возможность познания оказывается обусловленной онтологическими предпосылками, не теряют ли тем самым силу его доводы против онтологии богословской?
Относительно онтологического доказательства, несмотря на новейшие попытки его реабилитации 1), вопрос этот, как мне кажется, должен быть решен в отрицательном смысле. С. Л. Франк, в защиту этого доказательства ссылается на онтологические предположения мысли: бытие предполагается мыслью и, следовательно, не может быть мыслимо иначе как существующим; на этом основании С. Д. Франк признает правильность онтологического доказательства — не в применении к понятию Бога, но в применении к понятию бытия.
Я вполне разделяю мысль С. Д. Франка о наличности онтологических предположений всякой мысли как такой, ибо, как обнаружено в предыдущем, наша мысль необходимо предполагает Всеединое как безусловно Сущее. Едва ли, однако, вскрытие этого предложения может рассматриваться как онтологическое доказательство бытия Абсолютного: ибо то, что необходимо предполагается или постулируется мыслью, — то не доказуется ею: все доказанное есть знание опосредствованное: между тем достоверность Абсолютного или Всеединого для человеческой мысли ничем другим не опосредствована: во всяких своих доказательствах мысль из нее исходит. Поэтому роковой недостаток онтологического доказательства заключается в том, что в нем уже предположено заранее достоверность того, что дока-
___________
1) См., напр., С. Л, Франк. Предмет знания, стр. 102 и след.
187
зуется. Кант совершенно прав в том, что из понятия всереального Существа или Всеединого Сущего нельзя вывести его бытие, ибо бытие Всеединого или Безусловного не выводится, а предполагается.
Другой недостаток онтологического доказательства бытия Божия, Кантом не отмеченный, — заключается в недозволительном логическом скачке от понятия „всереального Существа“ к понятию Бога. Именно то, что прежде всего нуждается в доказательстве, что всереальнейшее Существо есть Бог, — остается здесь совершенно недоказанным. Достоверность безусловно Сущего — отнюдь еще не есть достоверность бытия Божия, ибо остается неустранен- ной логическая возможность, что безусловная реальность не есть безусловный смысл, а безусловная бессмыслица.
Аналогично решается вопрос о доказательстве космологическом. Оценка его у Канта неразрывно связана с его теорией познания, а потому не может быть принята целиком, если мы отвергнем основные начала этой теории.
В этом доказательстве есть две части, которые вызывают далеко не одинаковое к себе отношение. Это, во-первых, … — заключение от бытия обусловленного к бытию …. …..самого существа и, во-вторых, умозаключение, … которым выводятся божественные свойства этого безусловно необходимого существа.
По Канту первое умозаключение „выражается следующим образом: если что-либо существует, то должно существовать также и безусловно необходимое существо. Но, по крайней мере, я сам существую; следовательно, существует и безусловно необходимое существо“ (632). В этом умозаключении „от случайного к причине“ (637) Кант видит образец недозволенного трансцен-дентного применения категорий рассудка; однако, на основании данного выше разбора кантова учения о категориях мы должны признать такое суждение, весьма поверхностным. Реальное Безусловное, как мы видели, необходимо предполагается всеми нашими категориями и, стало-быть, выход к нему неизбежно совершается при всяком их применении. Совершается он, как мы неоднократно указывали, и во всяком экзистенциальном суждении. Категорическое утверждение какого-либо существования есть всегда утверждение бытия чего-либо в Безусловном; что бы ни полагалось существующим, бытие Безусловного, в чем есть все то,
188
что есть, при этом предполагается. С этой точки зрения должно быть признано совершенно правильным утверждение космологического доказательства: „если что-либо существует, то должно существовать и безусловно необходимое существо“. Если я существую, то и оно существует. — Однако, как уже было отмечено Бри разборе онтологического доказательства, едва ли правильно называть это рассуждение доказательством; на самом деле оно ничего не доказывает, а только раскрывает недоказуемое, но необходимое предположение мысли. В действительности мы, конечно, не выводим существования Безусловного из существования обусловленного, а поступаем как раз наоборот: мы утверждаем обусловленное только потому, что мы заранее (а priori) уверены в Безусловном. Мнимое „космологическое доказательство“ не дает нам какого-либо нового знания, а только раскрывает эту изначальную нашу уверенность или веру в Безусловное. — В точном значении слова эта вера не может быть доказана, потому что она составляет логическое prius всякого доказательства: самый процесс доказательства уже предполагает веру в Безусловное, как основу всякого доказательства: только в нем и чрез него что-либо может быть вообще истинным и достоверным.
Во всяком случае, в качестве необходимого постулата познания (а не в качестве истины доказанной дискурсивным мышлением), вера в Безусловное обладает для нас логической необходимостью; и в этом заключается единственное зерно космологического доказательства. — Напротив, вторая часть этого доказательства, — та, где выводятся божественные свойства безусловно необходимого существа, — представляет собою сплошное заблуждение.
Кант правильно указывает, что само по себе „космологическое доказательство“, т.-е. заключение от обусловленного к безусловному — не дает нам никаких сведений относительно свойств безусловно необходимого существа; поэтому эти сведения добываются путем подмены космологического доказательства онтологическим: первое удостоверяет, что безусловно необходимое существо есть; второе — находит его свойства, доказывая, что только всереальнейшее существо обладает признаком „необходимости существования“; стало быть, мы имеем здесь в скрытом виде
189
все то же умозаключение от понятия всереальнейшего существа к его существованию, несостоятельность которого уже была доказана „Критикою чистого разума“ (634—635) при разборе онтологического доказательства.
В действительности космологическое доказательство заключает в себе не только указанный Кантом скачек (к доказательству онтологическому), но также и тот, который был отмечен выше — в самом онтологическом доказательстве. Божественные свойства — разумность, благость и т. п. и в самом деле не могут быть выведены ни из понятия безусловно необходимого существа, ни из понятия существа всереального; под то и другое понятие может быть с одинаковым успехом подведено и Божество в христианском смысле и вечно творящая природа монистических систем, и материя материалистов, и мировая воля Шопенгауера, относительно которой этот последний утверждал, что она — скорее чёрт, нежели Бог. Понятие „безусловно необходимого“ и даже „всереального“ существа может быть безо всякого противоречия положено в основу системы атеистической; космологическое доказательство бессильно вложить в это понятие какое-либо религиозное содержание.
Точно так же религиозное содержание не заключается и в том постулате Безусловного, как истины всего, который, как мы знаем, составляет логически необходимое условие всякого познания. Мы уже видели, что этот постулат заключает в себе некоторое интуитивное знание о Безусловном или Абсолютном как о Всеедином, которое обладает полнотою бытия и все держит в своем сознании. Но выше уже было показано, почему это познание об Абсолютном, формальное и внешнее по своей природе, лишено религиозного содержания и не может претендовать на значение доказательства бытия Божия. — Постулат всеединого сознания, логически обусловливающий наше знание, не дает никакого ответа на основной вопрос религиозного сознания — о смысле всего существующего: он оставляет нас в полном неведении относительно того, является ли всеединое Сущее злым или добрым, — заключает ли в себе всеединое сознание какую-либо норму для существующего, или же оно пребывает „по ту сторону добра и зла“ и представляет собою лишь безразличную всеобъемлющую форму, которой подзаконно все, что совершается
190
в мире. Из логических условий нашего самосознания не может быть выведена в частности такая существенная для всякого Богосознания черта, как представление о Боге-Промыслителе. Абсолютное по своему понятию не совпадает с Божественным; и именно этим объясняется с одной стороны существование множества философских учений, в которых Абсолютное — не божественно, а с другой стороны учений религиозных, в которых Божество — не абсолютно (религии политеистические и дуалистические). Оно и понятно: понятие Абсолютного есть чисто априорная, умозрительная схема; напротив, представление Божества, как бы оно ни различалось у различных людей и народов, всегда заключает в себе богатое эмпирическое содержание: поэтому и связывание Абсолютного с Божественным, т.-е. утверждение Абсолютного как Божества или Божества как Абсолютного всегда предполагает те или другие данные опыта, то или другое переживание Божественного. Я оставляю пока в стороне вопрос о том, насколько правомерно связывание этих двух представлений, так как вопросы собственно религиозные вообще выходят за пределы настоящего исследования: для меня важно констатировать здесь, что элемент эмпирический во всяком случае необходимо предполагается всяким утверждением существования Божия; и этим в особенности объясняется полная несостоятельность всех тех априорных доводов, коими это существование обыкновенно доказывается 1).
Чувствуя недостаточность априорных доказательств, рациональная теология искала опоры в данных опыта. Этим было вызвано к жизни так называемое физикотеологическое доказа-
_______________
1) Именно на произвольном отождествлении понятий Абсолютного и Бога основана новейшая попытка Л. М. Лопатина отстоять против Канта космологическое доказательство. Он думает, что доказательство бытия Божия заключается в положении: „если условное и случайное с неизбежностью подразумевает безусловное и внутренне необходимое, то от конечной действительности можно умозаключать к ее абсолютному идеалу“. По Л. М. Лопатину Кант не хотел заметить, что в онтологическом и космологическом доказательствах бытие выводится из идеи об ens realissimum в двух разных смыслах: в первом оно утверждается как реальное, во втором — как „реально неизбежное“. (Положит, задачи философии, II, 257) Л. М. Лопатин не замечает здесь, что идеально неизбежным является лишь предположение Безусловного, а вовсе не почитание его как божественного.
191
тельство, которое доказывает бытие Божие целесообразным устройством мироздания. Кант показывает, что и оно не достигает цели. Его роковой недостаток заключается в том, что никакой человеческий опыт не в состоянии удостоверить полноты совершенства и всемогущества Божества.
Наблюдения наши ограничены; поэтому, говорит Кант, „перешагнуть к абсолютной цельности путем эмпирическим совершенно невозможно. Между тем физикотеологическое доказательство делает этот шаг“ (656—657). Само собою разумеется, что мы имеем здесь логический скачок; по Канту, целесообразность мироздания может в лучшем случае доказать „существование мирового зодчего, во всяком случае сильно ограниченного пригодностью обрабатываемого им материала, а вовсе не Творца мира, идее которого подчинено все“ (655); для того, чтобы доказать большее, сторонники этого доказательства вынуждены покинуть эмпирическую почву и аргументировать от случайности мира к существованию безусловно необходимого существа как первой причины. — Иначе говоря, они перескакивают от физико-теологического к космологическому, а через него и к онтологическому доказательству, несостоятельность коих уже была обнаружена в вышеприведенном разборе „Критики чистого разума“.
Кант, впрочем, относится „с уважением“ (651) к физико-теологическому доказательству и даже готов признать за ним некоторую относительную ценность, лишь бы только оно не претендовало на аподиктическую достоверность. Оно не в силах доказать бытия Высочайшего существа, но оно может служить источником веры „хотя и не требующей безусловного подчинения, но достаточной, чтобы дать успокоение“ (652 — 653). Нетрудно убедиться, что здесь Кант относится к физикотеологическому доказательству слишком снисходительно; на самом деле оно не только не дает успокоения, но служит одним из важнейших источников тревожных сомнений в вере. И это в особенности — вследствие его внутренней неправдивости: оно от начала до конца построено на фальсификации опытных данных. — В аргументах физикотеологического доказательства, приводимых Кантом, указывается „на явные признаки порядка“ мироздания, „установленного с определенной целью, выполненного с вели-
192
кою мудростью и образующего целое с неописуемым многообразием содержания, а также безграничною широтою объема“.
Физикотеологическое доказательство заключает к единству мировой причины от „единства взаимного отношения частей мира“ (653—665). Но как раз в той низшей плоскости бытия, которая одна доступна повседневному наблюдению обыденного человека, такого „единства взаимного отношения частей мира“ не замечается. Наоборот та „целесообразность“, которую мы замечаем во внешней природе, всецело рассчитана на беспощадную борьбу за существование и на всеобщее взаимное пожирание существ. Органы взаимного истребления устроены, без сомнения, чрезвычайно целесообразно; целесообразно устроены и микробы и паразиты, коих все жизненные функции сводятся к причинению страданий и болезней другим существам, но эта „целесообразность“ может служить скорее источником сомнений, чем доказательством существования премудрого и благого Творца мира; неудивительно, что на этих данных опыта построено множество физикотеологических доказательств небытия Божия, такие доказательства имеются, например, в „Биологии“ Спенсера и во многих рассуждениях Шопенгауера; В. С. Соловьев признает, что именно такими аргументами были вызваны в его молодые годы его первые сомнения в вере. И в этом нет ничего удивительного: в той плоскости „природного бытия“, в которой рациональное богословие ищет доказательств бытия Божия, их найти невозможно. Верить в Бога можно только вопреки той целесообразности, которая замечается во внешней природе, а не благодаря ей. Верить в Бога — значит предполагать, что есть другой план бытия, всецело отличный от наблюдаемой нами внешней природы; там, а не здесь открывается во всей полноте своей предвечный божественный замысел и преодолевается окончательно та злая целесообразность смерти и разрушения, которую мы здесь наблюдаем. Пошлость физикотеологического доказательства заключается в том, что оно ищет доказательств Божественной Мудрости именно там, где отклонение от нее твари наиболее очевидно и наглядно.
В доказательствах бытия Божия, как и в рациональной
_____________
1) См. его открытoe письмо и Н. Я. Гроту, соч., VI, 247—248.
193
космологии, мы имеем одно из типических заблуждений плоскостного или плоского мышления — того самого, которое не видит глубины и не различает множества планов бытия. Общая черта всех этих доказательств заключается в том, что они смешивают в одно экзотерический план абсолютного сознания и эзотерический. Только этим объясняются рассмотренные выше попытки вывести знание о Божественном из отвлеченных, априорных представлений нашей мысли об Абсолютном и из несовершенных наших понятий о явлениях его другого. Только путем подъема в эзотерическую сферу Абсолютного возможно это познание: но там кончается область чистого рационального мышления и начинается область откровения. Попытка овладеть познанием Божества без такого возвышения — по самому существу своему антирелигиозна. Поэтому неудивительно, что в рассмотренных только что доказательствах бытия Божия есть что-то отталкивающее: кто пользуется такими доказательствами, тот, очевидно, не чувствует глубины того, что он доказывает: в них есть антирелигиозный дух, который сам себя принимает за благочестие.
III. Приговор чистому разуму
На основании вышеизложенных рассуждений „трансцендентальной диалектики“ Кант произносит свой приговор чистому разуму. Как известно, по Канту, „специфическое основоположение разума вообще (в логическом применении его) состоит в подыскивании Безусловного к обусловленному знанию рассудка, чтобы завершить единство знаний рассудка“ (364). Вся трансцендентальная диалектика трактует только об этой специфической функции разума и ни о чем другом. Вся ее задача сводится к тому, чтобы решить вопрос: прав ли разум в своем искании Безусловного, имеет ли только что упомянутое его основоположение объективную правильность, или, быть может, оно вовсе лишено объективного значения (365). Мы видели, — какой ответ дается на этот вопрос трансцендентальной диалектикой: в общем он сводится к тому, что искание Безусловного терпит крушение по всей линии — и в рациональной космологии, и в рациональной психологии и в рациональной теологии.
194
Казалось бы, мы имеем здесь уничтожающий приговор чистому теоретическому разуму. Отказаться от основной своей функции по-видимому значит для него — признать полное свое ничтожество. Если отличие трансцендентальных идей чистого разума от категорий рассудка заключается в том, что „последние ведут к истине, т.-е. к согласию наших понятий с объектом, тогда как первые производят лишь непреодолимую иллюзию“ (670), то не теряют ли для нас тем самым эти идеи всякую ценность? Кант, однако, пугается чрезмерного радикализма этого вывода, вытекающего из его посылок. Он хочет сохранить за чистым разумом и его идеями, если не конститутивное, то регулятивное значение в познании. Нам предстоит рассмотреть здесь, что мы имеем в этой попытке „Критики чистого разума“.
Припомним ход мысли Канта. — Он полагает, что не идея чистого разума сама по себе, а только злоупотребление ею т.-е. трансцендентное ее применение является источником обмана и иллюзии. Напротив, имманентное применение идей, т.-е. применение их в пределах опыта, полезно и даже необходимо. Идеи чистого разума, как доказала трансцендентальная диалектика, не дают нам никакого дознания относительно вещей, как они существуют сами по себе. А в опыте нет соответствующего идеям предмета, вследствие чего они вообще не дают знания о предметах. В этом смысле Кант и говорит, что они не могут иметь конститутивного значения; но рядом с этим они могут иметь по отношению к опыту руководящее или регулятивное значение. По Канту это регулятивное применение идей состоит „в том, что они устремляют рассудок к известной цели, в виду которой линии направления всех его правил сходятся в одной точке, и, хотя эта точка есть только идея (focus imagiuarius), т.-е. точка, из которой понятие рассудка вовсе не исходит, так как она находится совершенно вне границ возможного опыта, тем не менее она служит для того, чтобы сообщить им величайшее единство на ряду с величайшим расширением“ (672).
Специальная задача, которую стремится осуществить разум, есть, с этой точки зрения, „систематичность знания, т.-е, связь его на основании одного принципа“. К этой цели он и ведет рассудок, который должен подчиняться его руководству. — По
195
Канту, непосредственным предметом для разума служит рассудок, а не чувственные впечатления. „Задача разума состоит в том, чтобы сделать систематическим единство всех возможных эмпирических актов рассудка подобно тому, как рассудок связывает посредством понятий многообразие явлений и подводит его под эмпирические законы“ (692).
Как достигается это связывание познания идеями разума? По Канту это достигается тем, что идея разума получает значение схемы, „для которой не дан прямо никакой предмет, даже и гипотетически, и которая служит только для того, чтобы представлять нам другие предметы в их систематическом единстве посредством отношения к идее, т.-е. косвенным образом“. Идея тут получает значение евристического понятия: она не указывает нам свойств предметов, а научает нас, как нам искать этих свойств. Идеи космологическая, психологическая и теологическая сами по себе не дают нам знания о каком-либо предмете, но они могут расширить наше эмпирическое познание, если мы будем применять их в качестве методических правил для искания (697—699).
Кант следующим образом поясняет эту мысль — „Следуя этим идеям, как принципам, мы должны, во-первых, (в психологии) связывать все явления, акты и восприятия нашей души под руководством внутреннего опыта так, как если бы душа была простою субстанциею“. В космологии „мы должны просле-живать условия как внутренних, так и внешних явлений природы — так, как если бы цепь причин в природе была бесконечным рядом, хотя при этом мы не должны отвергать умопостигаемых первых оснований явлений. Наконец, в отношении теологии „все, что только принадлежит к связи возможного опыта, должно рассматриваться так, как если бы опыт составлял абсолютное, но везде зависимое и внутри самого чувственного мира всегда обусловленное единство и тем не менее в то же самое время, как если бы совокупность явлений (сам чувственный мир) имела вне своего объема одно единственное высшee и вседостаточное основание, именно как бы первоначальный творческий разум, в отношении к которому мы направляем все эмпирическое применение нашего разума“. „Иными словами, мы не выводим внутренние явления души из простой мыслящей
196
субстанции, но мы должны выводить их друг из друга соответственно идее простого существа; мы не выводим мировой порядок и систематическое единство его из высшей интеллигенции, но мы должны заимствовать из идеи высшей причины правило, сообразно которому следует наилучшим образом применять разум для его собственного удовлетворения при связывании причин и действий в мире“ (700).
Все это рассуждение о регулятивном значении идей принадлежим к числу самых слабых в „Критике чистого разума“. Совершенно непонятно, почему мы должны рассматривать все явления душевной жизни соответственно идее простой субстанции, если мы не уверены в том, что и на самом деле есть такая субстанция. Равным образом не видно, почему во всем нашем опыте мы должны искать единство, если мы не убеждены, что мир в самом деле представляет собою единое целое, или почему мы должны искать во всех явлениях действия творческого разума, если мы не убеждены в господстве единого творческого разума над вселенной? Если эти принципы не имеют для нас никакого конститутивного значения, то тем самым они негодны и для регулятивного применения: странно требовать от мысли, чтобы она подчинялась руководству начал, которые не могут иметь для нее никакой достоверности!
Что могут значить эти начала в смысле „эвристических гипотез“? Из подлинных слов Канта видно, что это — гипотезы не в обыкновенном смысле слова. Речь идет вовсе не о предположении реального существования души или реального существования Бога. Такие „гипотезы“ не мирятся с духом „Критики чистого разума“, уже потому, что они представляют собою догадки или предположения о трансцендентном, т.-е. о том, что, по Канту, выходит за пределы компетенции человеческого разума. Поэтому неудивительно, что Кант заранее устраняет возможность подобного истолкования его мысли.
Он категорически заявляет, что „предположение разума о высочайшем существе как о высшей причине мыслится только относительно, для систематического единства чувственного мира (707). „Значение этой идеи истолковывается ложно, если ее принимают за утверждение или хотя бы только за допущение действительной вещи, которой приписывалось бы основание система-
197
тического строя мира" (709). Мы имеем здесь не более как методическое предписание: мы должны „рассматривать все связи в мире согласно принципам систематического единства, т.-е. так как, если бы все они возникали из единого всеохватывающего существа, как высшей всеохватывающей причины“. Равным образом и „простота субстанции“ в качестве регулятивного принципа не должна быть понимаема в смысле предположения относительно реальных свойств души. Она означает лишь, что мы должны рассматривать все душевные явления так, как если бы они были проявлениями единой душевной субстанции (710— 712).
Как раз эти рассуждения о методическом значения идей представляют собою самое непонятное в занимающем нас отделе „Критики чистого разума“. Понятия о Боге и о душе лишь в том случае могут иметь для нас методическую ценность, если мы уверены в существовании того или другого. Если наука ничего не знает и не может знать о Боге, то во имя чего же ей рекомендуется искать Его действий в явлениях? И, если психология лишена возможности знать что-либо о душе, то ради чего же она должна во всех проявлениях сознания, мысли и чувства искать следов этой абсолютно ей недоступной души?
Учение о „регулятивном применении“ идей в конце концов сообщает научному исследованию предвзятое направление, что сопряжено с весьма существенным для него ущербом. Требование, чтобы естествознание искало во всей природе единство цели и разумного плана, представляет собой ничем не оправдываемое насилие над наукой, и это — во всяком случае, каково бы ни было наше отношение к вопросу о существовании Бога. С точки зрения религиозной соответствующие страницы „Критики чистого разума“ должны вызывать еще более строгое осуждение, чем с точки зрения чисто философской. Философу, какого бы он ни держался направления, должен показаться странным этот своеобразный методический догматизм без догмата в устах основателя критической философии; он отнесется со справедливым возмущением к требованию — искать единства творческого плана там, где всякий добросовестный исследователь должен отметить всеобщую рознь и борьбу за существование, т.-е. стало быть, не единую телеологию, а множество противоречащих
198
друг другу телеологий (напр., с одной стороны — зубы хищника, а с другой — быстрые ноги, спасающие от него его жертву), к человеку, верующему в Бога, должна показаться кощунственною попытка искать явления творческого плана именно в той доступной естествознанию, низшей, плоскости бытия, где в явлениях царствует раздор, а единство еще не явлено. Интересы науки, философии и религии, таким образом, сходятся здесь против „Критики чистого разума“; ее антифилософское по существу покушение на свободу науки оказывается вместе с тем несоответствующим достоинству и смыслу религии.—
При разборе основоположного труда критической философии в особенности важно отметить несоответствие кантова учения о значении идей с чисто философскими требованиями. Из них первое заключается в том, чтобы каждая идея трактовалась соответственно ее действительному содержанию и смыслу и чтобы в применении идея не подменялась какими-либо другими отличными от нее и даже вовсе чуждыми ей представлениями. Не то мы видим у Канта. — С одной стороны действительное содержание идей чистого разума признается им за иллюзию и в качестве таковой отбрасывается; с другой стороны у него каждая идея превращается в руководство для методического изучения чего-то другого, что не есть она. Тем самым, незаметно для Канта, у него подменивается самое содержание идей, о которых идет речь. Идея вечной и неизменной душевной субстанции не имеет решительно ничего общего с требованием, чтобы все душевные явления каждого данного субъекта рассматривались как одно психическое целое: в первом случае мы имеем определенное умопостигаемое единство, во-втором — единство чисто эмпири-ческое; и сам же Кант прекрасно показал, что первое вовсе не составляет логически необходимую предпосылку второго. Чтобы искать единства в психических явлениях каждого данного субъекта, идея простой душевной субстанции мне вовсе не нужна.
Точно так же и идея Бога по самому существу своему отлична от требования, чтобы все доступные нашему наблюдению явления рассматривались как единое целесообразное космическое целое. На вопрос, — имеем ли мы право рассматривать целесообразность природы как преднамеренную и выводить ее из Бо-
199
жественной воли, Кант отвечает: „да, вы можете делать и это, однако так, чтобы для вас было все равно, утверждает ли кто-либо, что божественная мудрость все так устроила дли своих высших целей, или же, что идея высочайшей мудрости есть регулятив в исследовании природы и принцип систематического и целесообразного единства ее согласно общим законам природы даже и там, где мы не замечаем этого единства; иными словами там, где вы это единство воспринимаете, для вас должны быть совершенно равнозначными утверждения, что Бог так мудро пожелал этого, или что природа так мудро устроила это‘‘ (727).
Вывод отсюда может быть только один: если нам должно быть решительно все равно, — Бог или творящая природа является причиной наблюдаемой нами целесообразности, то очевидно, что идея Бога вовсе не есть для нас регулятивная норма естествознания: нам нет надобности исходить из нее, чтобы утверждать и искать единство в мироздании или признавать целесообразность отдельных его явлений. В пояснение своей мысли о регулятивном применении идеи Бога Кант прямо говорит, что здесь „предположение разума о высочайшем существе мыслится лишь относительно, для систематического единства чувственного мира, и есть лишь какое-то нечто в идее, о котором мы не имеем никакого понятия, что оно представляет собою само по себе“ (707). Совершенно очевидно, что здесь идея Бога подменена чем-то другим. Можно верить или не верить в Бога, утверждать или отрицать Его, но относительное Его утверждение есть явная и совершенно не нужная бессмыслица. „Мыслить предположение высочайшего существа лишь относительно, “, как это делает здесь Кант — значит утверждать, что идея эта для естествознания вовсе не необходима, — что единство космоса мыслимо и без Бога; но тем самым упраздняется и значение этой идеи как регулятивной нормы: совершенно не видно, зачем она нужна, для чего и почему естествознание должно руководствоваться ею.
Вообще говоря, в самой идее Бога и душевной субстанции есть transcensus, — необходимый выход за пределы всякого возможного опыта. Поэтому, утверждая эти идеи только для имманентного употребления, только как руководящие начала для опыта, Кант впадает во внутреннее противоречие. В действительности
200
и имманентное употребление этих идей возможно лишь в том предположении, что им соответствует за пределами опыта нечто реальное. Или и в самом деле есть Бог и бессмертная душа, или же идеи Бога и души должны быть отброшены целиком — и в качестве конститутивных и в качестве регулятивных принципов знания.
Между конститутивными и регулятивными принципами знания вовсе не существует той противоположности, которую предполагает Кант: на самом деле регулятивным или руководящим началом знания может быть только такой принцип, который сам по себе обладает безусловной достоверностью и, стало-быть, обладает значением конститутивным.
IV. Регулятивный и конститутивный принцип знания.
Из всего предшествующего ясно, в чем заключается это высшее руководящее и вместе с тем конститутивное начало всякого знания. — Мы видели, что познавать — значит так или иначе относить познаваемое к Всеединству, что к этому отнесению так или иначе сводятся все функции мысли и что самые категории рассудка — не более и не менее как способы такого отнесения.
Раз весь процесс познавания направляется к Всеединству как к конечной своей цели, раз во всяком искании нашей мысли именно отношение к нему познаваемого есть искомое,— для нас совершенно очевидно, что именно Всеединое или, что то же, Безусловное — есть верховный руководящий принцип нашего познания. Но такое руководящее или регулятивное значение принадлежит ему единственно и исключительно в качестве принципа конститутивного. Всякое наше познание исходит из того необходимого для нас предположения, что Всеединое или Безусловное есть. И только в силу этой логической необходимости Всеединое или Безусловное является руководящим началом нашего познания. Мы можем им руководствоваться именно потому, что в нем мы имеем не какую-либо произвольную гипотезу,— а неустранимое и постольку абсолютно достоверное предположение нашего познания.
Руководящим началом рационального знания может быть не
201
что-либо только условное или гипотетическое, не что-либо, что может быть или не быть, а только то, что навязывается мысли как логическое необходимое. Здесь мы имеем критерий, которым мы можем распознать истинное от ложного в учении Канта. Предположение простой и неизменной душевной субстанций отнюдь не принадлежит к числу необходимых условий нашего познания о явлениях нашей жизни. Также и предположение бытия Божия вовсе не есть необходимое условие нашего познания о существующем. Поэтому эти предположения не имеют значения руководящих начал чистого рационального познания; нам нет надобности руководствоваться мыслью о душе, как о простой субстанции, чтобы изучать душевные явления; и так же мало нам нужно руководствоваться идеей бытия Божия, чтобы изучать физику или химию. Напротив, без идеи Всеединства мы не могли бы сделать ни шага в названных областях знания — по той простой причине, что эта идея есть необходимый логический prius всякого возможного знания. Без нее, как уже было выше показано, самый вопрос почему был бы бессмыслен и вопрос о причинной зависимости каких бы то ни было явлений не мог бы даже быть поставлен. Кто не допускает возможности беспричинных явлений, тот уже тем самым предполагает единство мирового порядка, т.-е., стало быть, — Всеединство. Освободиться от руководства этой идеи разума — значит просто перестать познавать.
Из этого видно, что, вопреки Канту, рассудок и разум представляют собою не две различные способности человеческого ума, а две различные функции одной и той же способности мысли. Категории рассудка по самому существу своему неотделимы от той верховной идеи разума, которую они отражают в дискурсивной мысли, — именно от идеи Всеединого или Безусловного. Или эта идея выражает собою сущую истину, или же все наши категории — сплошной обман и иллюзия: нельзя относить — что- либо к Всеединому или Безусловному, если Безусловного нет. Рассудок наш не может судить о чем-либо без этой идеи разума, ибо в конце концов именно ею он судит все то, о чем он судит; чтобы рассуждать о чем бы то ни было, он должен исходить из нее, предполагать ее как несомненную и достоверную.
202
Из этого следует, что рассудок, который применяет эту идею в категориальном мышлении, и разум, который ее рефлектирует, приводит в сознание, — представляют собою низшую и высшую потенции одного и того же. Рассудок есть на самом деле не сознавший себя разум, а разум — осознавший себя рассудок.
Раз эти две способности тожественны в самом существе своем, — они должны быть связаны общею судьбой: философская критика должна произнести им совершенно одинаковый приговор. Обе должны считаться совершенно одинаково достоверными: если достоверны категории рассудка, то достоверна и та идея разума, которая обусловливает возможность их употребления; наоборот, если эта идея — идея Всеединого или Безусловного — недостоверна, то категории представляют собою чистую иллюзию. Если предмет этой идеи — реальное Всеединое или Безусловное — находится всецело за пределами нашей компетенции, если мы не можем знать о нем даже того, что оно есть, то мы вообще ни в чем не компетентны: тогда рушится вообще все наше знание.
Одна из важнейших ошибок „Критики чистого разума“ заключается именно в искусственном раздвоении рассудка и разума в применении к этим двум способностям неодинакового критерия и масштаба; этим обусловливается то по существу противоречивое кантово решение гносеологического вопроса, которое оправдывает рассудок и в то же время осуждает разум, разрешает „имманентное применение“ категорий и в то же время воспрещает тот выход к трансцендентному, без коего самое движение мысли в имманентной сфере опыта становится невозможным.
Мы уже имели случай убедиться, что Кант мерит рассудку и разуму не одной и той же мерой. Он признает, что для разума „трансцендентальные идеи так же естественны, как для рассудка — категории“ (670). Казалось бы, отсюда следует, что, раз категории и идеи обладают для мысли совершенно одинаковой необходимостью, то они должны обладать для нее и совершенно одинаковою достоверностью. Между тем, как мы видели, Кант делает здесь диаметрально противоположный вывод, что категории „ведут к истине“, между тем, как идея „производят лишь непреодолимую иллюзию“.—
203
Чем объясняется столь очевидная непоследовательность? — Нетрудно убедиться, что она коренится все в той же основной ошибке „Критики чистого разума“, на которую здесь уже было столько раз указано. Если бы Кант отдавал себе отчет в том, что категории и идеи суть логически необходимые предпосылки всякой мысли, — у него не могло бы быть никаких сомнений в одинаковой достоверности тех и других: тогда он стоял бы перед альтернативой — или отказаться от мысли или принять без дальнейших рассуждений ее необходимые условия.
Мы знаем однако, что по отношению к идеям Кант стал на иную точку зрения: признать, что идеи „ведут к непреодолимой иллюзии“, можно лишь в том предположении, что они обладают лишь психологическою, точнее говоря, антропологическою необходимостью для человеческого разума. ,,Психологи- чески необходимая идея“, конечно, может корениться в каком-либо психологическом недостатке мыслящего и в качестве таковой — иметь не больше достоверности, чем иллюзии поврежденного зрения. Но ведь такою же только субъективно-психологическою необходимостью „для нас людей“, по признанию Канта, обладают и категории: почему же они должны считаться не иллюзиями, а условиями или формами достоверного знания?
Вопрос этот в „Критике чистого разума“ не находит себе ответа; и в этом обнаруживается роковая несостоятельность ее решения вопроса о познании. Вопрос этот вообще не допускает решения субъективно-психологического. Обосновать возможность познания — значить найти его незыблемую, логически необходимую основу. Основание достоверности форм мысли заключается вовсе не в том, что „мы — люди“ в силу необходимых условий „нашего умственного склада“ можем мыслить только так или иначе, а в том, что есть нечто Безусловное, что предопределяет условия всякой мысли как такой независимо от субъективно-психических особенностей мыслящего.
Мысль наша безусловна и всеедина по форме: она может быть истинною лишь в том предположении, если есть реальное Безусловное или Всеединое, объемлющее все мыслимое и возможное, которое может наполнить эту форму содержанием. В этом состоит основное метафизическое предположение всякого познания
204
и основное начало всякой гносеологии. Пытаться построить гносеологию вне этого метафизического основания — значит лишить ее всякого основания. Таков тот вывод, к которому неизбежно приводит беспристрастный разбор „Критики чистого разума“ Канта.
205
ЧАСТЬ II.
ПОПЫТКИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПСИХОЛОГИЗМА И
КРУШЕНИЕ АНТИМЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
ПОЗНАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КАНТИАНСТВЕ.
206
ГЛАВА VII.
Борьба с психологизмом в теории познания
Когена.
I Основной принцип „Логики первоначала“.
В германской философии после Канта было немало попыток — преодолеть антропологизм его учений. Мы можем здесь оставить в стороне те из этих попыток, которые носят явно метафизический характер. Но для проверки высказанных здесь мыслей о метафизических предположениях познания необходимо посчитаться с теми чистыми, правоверными кантианцами, которые пытаются освободить учение Канта от присущего ему психологизма, но вместе с тем отрицают необходимость выхода теории знания в метафизику.
Нам нет надобности рассматривать здесь всю необозримую литературу кантианства прошлого и современного. — Для окончательного решения вопроса о возможности „чистой гносеологии“ без метафизики достаточно проследить тезис чистого гноселогизма в наиболее совершенном и законченном его выражении. Поэтому ли оставим в стороне тех кантианцев как напр. Риль или Фолькельт, коих произведения еще содержат в себе некоторые явно метафизические элементы и ограничимся разбором точки зрения Когена, Риккерта и Ласка, т.-е. тех именно кантианцев, которые являются наиболее решительными противниками включения каких либо метафизических начал в теорию познания. Это — именно те писатели, которые ведут наиболее решительную борьбу против психологизма и вместе с тем доводят чистый, антиметафизичеекий гносеологизм до конца,
209
Наиболее ярким и интересным выразителем этих тенденций является без сомнения Герман Коген. Именно в борьбе против психологизма заключается руководящий мотив всего его учения о познании, более того, — всей его философии. И с этим связана существенная его заслуга. Он совершенно правильно и последовательно настаивает на том, что вопрос о возможности познания есть вопрос не о психологических его условиях, а единственно вопрос о его необходимых логических предположениях или предпосылках. По Когену речь идет не о том, как возможно познание для психологического субъекта, какими его представлениями или способностями оно обусловливается, а о том, как возможно познание для науки 1), т.-е., иначе говоря, — что именно логически предполагается научным познанием. И в такой постановке вопроса заключается существенная разница между Когеном и Кантом.
Кант постоянно смешивает логическое с психологическим, вследствие чего в его изложении является двусмысленным ответ на вопрос о возможности познания. Мы уже знаем, например, что трехмерное пространство у него — не то логически необходимое предположение геометрии, не то психологическое ее условие („наше представление“), необходимое для геометрии лишь в качестве такового. Иное дело — Коген. Он везде, где только может, настаивает на том, что как трансцендентальный вопрос, так и даваемые на него ответы — должны иметь исключительно логический, а не психологический смысл. Вопрос идет о том, как возможно познание логически, т.-е. каковы необходимые предположения научного знания безотносительно к психике познающего субъекта.
Вторая характеристическая черта Когена заключается в том, что, в своем ответе на этот вопрос, он категорически отрицает наличность каких-либо онтологических или метафизических предположений научного познания: он считает нужным самым решительным образом отмежевать свой собственный идеализм от всякой метафизики 2). Для него необходимые предположения, обусловливающие логическую возможность познания,
_____________
1) Kants Theorie der Erfahrung, 216-217.
2) См., напр., Ethik d. reinen Willens, 330-333.
210
выражают собою не какое-либо познание о сущем, а обладают исключительно методическим значением. Пространство, время и категории с этой точки зрения — не более, как наши методические понятия, необходимо обусловливающие всякое познавание 1).
Выхода из психологизма или антропологизма Коген ищете не в осознании метафизических предположений мысли, а в доведенном до конца рационализме, в утверждении чистой мысли, которая ничего не черпает извне, а сама из себя производит познание во всей его полноте, служит единственным его источником, как по форме, так и по содержанию.
По Канту „существуют два ствола человеческого познания, происходящие, быть может, из общего, но неизвестного нам корня, именно — чувственность и рассудок. Посредством чувственности предметы нам даются, а посредством рассудка они мыслятся“ 2). Именно здесь от Канта отделяется Коген, который решительно восстает против понятия „данности“ в том виде, как оно формулируется Кантом. По Когену — мысль не зависит от чего-либо внешнего; чувства не могут служить ей восполнением; ей ничего не может быть дано, кроме того, что она сама из себя производит 3).
В самой чистой мысли заключается первоначало (Ursprung) всякого познания. Она сама не только оформливает, но целиком производит свой предмет, — в этом заключается основное положение всей логики Когена, т.-е. всего его учения о познании. По Канту мысль вносит единство в познание; а множество ей дано извне; но именно в этом Коген видит ту слабую сторону точки зрения Канта, которая объясняется его зависимостью от английской эмпирической философии 4).
Все то, что мыслится, есть мысль: выход мысли из самой себя к чему-либо немысленному представляется абсолютно невозможным; но поэтому самому и всякий предмет мысли создается ею самою, имеет в ней единственное свое первоначало; поэтому и всякое бытие, поскольку оно познается нами, есть бытие мысленное или бытие мысли. На этом основании Коген видит основ-
___________
1) Logik, 129.
2) Критика чист. разума, 29.
3) Logik, 67.
4) Logik, 24.
211
нoe начало истинной философии в положении древнего — Парменида:
Одно и тоже есть мысль
И то, о чем она мыслит 1).
В этом по Когену состоит основное предположение реального познания. Мы ничего не могли бы познавать о бытии, мы не могли бы выражать его в терминах мысли, если бы бытие не было бытием мысли. Всякое познание бытия — по самому существу своему есть сведение его к мысли, отыскание какого-либо мысленного предбытия (Vorsein). Познавая бытие, мы стремимся обосновать его в чем-то мысленном, найти для него мысленное условие; но это именно и предполагает, что мысль заключает в себе основание всякого бытия: основной вопрос познания есть Сократово τί ἐστι, — что есть данный предмет познания. И ответом на этот вопрос является понятие о предмете, которое выражает собою то, чем он от начала было для мысли. Познавание, очевидно, предполагает, что в мысли заключается первоначало или prius всего познаваемого, а, следовательно, — и всякого бытия. „Бытие утверждается не в самом себе: впервые в мысли оно возникает и зачинается“ 2).
Познавать — значить искать для познаваемого начала в мысли. В этом смысле Коген и говорит, что „мысль есть мысль первоначала“ 3). В искании первоначала заключается основной мотив всего познавания. Поэтому, по Когену, и вся логика от начала до конца есть логика первоначала.
Это свойство нашей мысли означает, что для нее ничего не дано извне. Всякий ее предмет, как имеющий в ней свое первоначало, ей самой производится; поэтому данным мысли должно признаваться только то, что может быть отыскано ею самою 4). Составляя необходимое prius всякой мысли, — первоначало, которого она ищет, по своему основноположному значению есть нечто
_____________
1) Ibid., 14, 18.
2) Logik, 27-28.
3) Ibid. 33. Сам Коген переводит греческий термит ἀρχὴ словом Ursprung (стр. 65): следовательно, у него она означает „начало“ или еще точнее – первоначало.
4) Logik, 70.
212
большее, чем категория: это — закон мысли, более того, — закон законов мысли1).
Таким образом, мысль, как имеющая сама в себе свое первоначало и вместе с тем первоначало всякого бытия, — не связана какими-либо извне данными „представлениями“: не представления служат ее источниками, а она сама. Именно в усвоении этого положения Коген видит путь к преодолению психологизма в учении о познании, а потому мы должны остановить на нем наше внимание.
Прежде всего, может показаться, что все это учение о принципе первоначала имеет решительно метафизический привкус. Что это за мысль, которая „производит всякий свой предмет“ и имеет в себе начало, источник всякого бытия? Что значит, что она заключает в себе „предбытие“? И, наконец, в каком смысле понимает и усвояет Коген положение Парменида о тождестве мысли и бытия?
Все эти изречения как будто превращают мысль в абсолютно сущее, в космическое начало: читателю, мало знакомому с Когеном, только что изложенные его рассуждения могли бы показаться современным выражением гегелева панлогизма. И, однако, вся эта метафизическая окраска „Логики чистой мысли“ — не более, как обманчивая видимость. Коген с самого начала устраняет возможность какого-либо метафизического истолкования его мыслей. Положения, звучащие для непривычного уха как метафизические, на самом деле имеют у него лишь методическое значение. Так, напр., он как будто усвояет учение об идее Платона, соглашается с тем положением последнего, что идеи суть основы истинного бытия; истину Платонова учения он видит в том, что основы бытия положены и созданы мыслью. На этом основании он признает, что в идее Платона философская мысль достигает зрелости 2). Но тут же этот платонизм получает у него безусловно чуждое Платону, определенно антиметафизическое истолкование. По его мнению тот факт, что с идеей связалась метафизика, доказывает глубокое непонимание идеи, при чем это извращение ее смысла произошло не без вины
_____________
1) Logik, 100.
2) Logik, 18.
213
со стороны самого Платона 1). Смысл идеи по Когену — не онтологический, а чисто методический: он раскрывается единственно в математическом естествознании; поэтому и непонимание „идеи“ обусловливается единственно непониманием физикоматематической науки и тех способов, которыми располагает последняя для исследования природы. 2) Идея, согласно такому толкованию, есть не более и не менее как метод, совокупность всех методов математического естествознания: это — та гипотеза, которую мы кладем в основу физикоматематической науки.
Все знание покоится на гипотетическом основании, — на том предположении, что познаваемое должно найти себе объяснение и обоснование в чем-то мысленном, иначе говоря, в идее. Идея стало быть, и есть та гипотеза, на которой утверждается вся физикоматематическая наука. Именно в этом, а не в каком- либо другом смысле Коген считает себя продолжателем Платона. По его мнению термин „гипотеза“ — „единственно удовлетворительная характеристика и обозначение для идеи. Что она означает субстанцию, истинное бытие, — это не то значение, которое составляет особенность Платона: оно заимствовано им от Пифагора и Парменида. Даже и определение ее как, понятия ни в каком случае не является последним у Платона: оно скорее заимствовано им у Сократа. Оригинальность Платона заключается единственно в характеристике идеи как гипотезы“ (курсив мой) 3).
Смысл этого текста станет нам понятным, если мы примем во внимание, что Коген ставит знак равенства между „идеей“ и „регулятивным принципом“ в кантовском значении этого слова 4). Иными словами это значит, что мы должны утверждать идею не как конститутивный принцип нашего знания, а единственно как руководящее начало нашего научного исследования; т.-е. мы не должны признавать идею как истинно сущее в метафизическом значении этого слова, а должны строить всю систему нашего знания, начиная с физикоматематической науки, так, как если бы в основе всего сущего лежала мысль —
______________
1) Logik, 12.
2) Logik, 18.
3) Ethik d. reinenWillens, 97.
4) Kants Theoried. Frfahrung, 516.
214
идея. В этом смысле должно быть истолковано и положение о тожестве мысли и бытия: его смысл — вовсе не в том, что бытие само в себе тожественно с мыслью, а в том, что наука должна искать первоначала всякого бытия в мысли, т.-е. она должна рассматривать свой предмет так, как если бы между мыслью и бытием существовало метафизическое тождество. По объяснению Когена положение Парменида на веки вечные предопределило весь смысл логики: смысл этот заключается в том, что „нет той проблемы в бытии, для разрешения которой нельзя было бы найти задатка в мысли, иначе это не была бы проблема мысли, а, следовательно, и проблема бытия “ 1).
Что мысль полагает основы бытия, это положение в учении Когена вовсе не значит, что абсолютная мысль есть космическое творческое начало. Основы бытия по Когену полагаются наукой; это значит, что научное познание обосновывает в мысли познаваемое бытие. В этом смысле Коген учит, что основы (т.-е. основы бытия) суть основоположения. „Деятельность полагания основания предполагает объект, под который подкладывается основание. Этот объект не есть просто природа, а природа естествознания“ 2). Яснее нельзя сказать, что положение тожества мысли и бытия не касается природы, как она есть независимо от нас и нашей науки: оно касается только природы, построяемой наукой, и постольку представляет собою основной методический принцип природоведения. Это — гипотеза, коей вся ценность и все оправдание заключается в том, что она приводит к научному познанию.
Значение идеи — гипотезы, как ее понимает Коген, выступает особенно рельефно в его рассуждениях о понятии атома, которое он считает классическим „образцом гипотезы“. Демокрит понимал атом как истинно сущее или как субстанцию. В естествознании нового времени отпал этот метафизический интерес к атому, и „атом“ сохранился лишь в качестве рабочей гипотезы для обоснования и научного объяснения элементов вещества и их соединений. Существует или не существует в действительности атом как единичный предмет, это, по Когену,
____________
1) Logik, 502.
2) Ethik, 85.
214
не касается возможности атомистической гипотезы. Бытие атома интересует науку не само но себе, а лишь „в отношении к иному бытию, которое становится производимым через его посредство“ 1). Иначе говоря, атом — не более, как условный гипотетический термин, ценный лишь как орудие мысли и лишенный онтологического значения. На примере этом мы ясно видим, как должно быть понимаемо учение Когена о том, что мысль (не абсолютная, а человеческая, научная) полагает основы природы она полагает их не в самой природе (в себе) а в нашем знании.
Здесь, в области знания, идея — гипотеза есть основа всякой достоверности: без нее мы не могли бы знать чего бы то ни было. По Когену идея не есть какая-либо загадка, а основа, которая, как в геометрии, приводит к результатам, которые тем не менее удостоверены лишь в гипотезе. Таким образом, гипотеза объемлет в себе самые аксиомы. Так математика учит нас познавать ту плодотворную достоверность, которая заключается для научного мышления в им самим избранном начале, в им самим положенной основе 2).
С этой точки зрения на гипотезе утверждается вся вообще наука в ее целом. По Когену „вера в силу и ценность науки покоится на гипотезе особенных элементов и свойств познающего духовного сознания, в коих заключается обоснование и ручательство науки“ 3). Настоящая задача трансцендентального метода, соответственно с этим, заключается именно в том, чтобы вскрыть эти гипотетические основания знания. — По Когену принцип и норма трансцендентального метода „заключается в следующей простой мысли: элементами познающего сознания являются такие элементы сознания, которые достаточны и необходимы, чтобы обосновать и утвердить факт науки“ 4). Иначе говоря, вся наука от начала до конца покоится на предположении или гипотезе мысленного первоначала. Трансцендентальный метод вскрывает эту гипотезу и тем самым обосновывает возможность науки.
______________
1) Logik, 380-381.
2) Kants Erfahrungstheorie, 15.
3) Ibid., 76.
4) Ibid., 77
216
II. Учение Когена о времени, пространстве и чувственности.
Принцип первоначала выражает собою логический смысл всего априоризма, как понимает его Коген. Мысль сама в себе имеет свое безусловное начало; она ничего не черпает извне; но именно потому все познаваемое имеет в мысли свое prius. Познаваемое обусловлено ею не только по форме, но и по содержанию; точнее говоря, как содержание, так и форма познания создаются ею.
В этом положении выражается основное отличие Когена от Канта: последний считал априорною лишь форму познания и представлял себе самое познание как применение категорий мысли к чувственным данным; напротив, Коген, как мы видели, доводит до конца принцип автономий мысли, утверждая, что она сама из себя создает всю ту данность, из которой она затем производит познание.
Отсюда — другое важное отличие между Когеном и Кантом, в самом учении о формальных условиях нашего познания. Кант, как известно, признавал за таковые, во-первых — чистые воззрения пространства и времени, а во-вторых — категории рассудка. Между тем, у Когена весь интуитивный элемент априорного знания отпадает: он отказывается от самого понятия „чистого воззрения“ сводит все априорные начала знания к одной чистой мысли, — к ее категориям и законам: соответственно с этим, пространство и время у него превращаются из „чистых воззрений“ в категории.
По Когену самым фактом выделения „трансцендентальной эстетики“ в особую и при том первую часть „Критики чистого разума“ Кант причинил мысли внутренний ущерб. Тем самым Кант утвердил воззрение, как что-то предшествующее мысли. Воззрение, о котором идет здесь речь, также чисто; стало быть, оно — сродно мысли. Но тем самым, мысль получает свое начало в чем-то вне ее самой. В этом заключается слабость обоснования Канта. Пытаясь довести до конца основное начало „Критики чистого разума“, Коген считает недозволительным предпосылать логике учение о чувственности. Он начинает с мысли и к учению о мысли сводит все содержание
217
учения о познании 1): в кантовом учении о „чистых воззрениях“ он видит содержание, „извне данное“ мысли; в качестве такового, оно должно быть отвергнуто; Коген находит, что в частности кантово учение о времени изображает временный ряд как некоторую психологическую последовательность: через это дело получает вид, как будто последовательность дана сама в себе и по себе; на самом деде она становится данностью, прообразом объекта, лишь поскольку она производится мыслью. Так же как последовательность, производится мыслью и сосуществование. Затруднения в учении о времени преодолеваются лишь в том случае, если мы признаем время за категорию. Тогда ничто не помешает нам признать его за данное нашего знания 2).
Такой же ход мысли приводит Когена к признанию за категорию пространства. Если бы пространство не было функцией мысли, парменидово положение о тождестве мысли и бытия тем самым не были бы действительно; тогда вся наша мысль о внешней природе имела бы свое первоначало не в ней самой, а в чем-то другом, — в данном ей извне пространстве. На самом деле, однако, — пространство выражает собою способность мысли противопоставлять нечто внешнее всей внутренней области мысли. Именно эта функция выражается словом „проицировать во вне“. Без этого „внешнего“ не существовала бы природа. „Бытие должно стать внешней областью для мысли. И в этом нет нарушения тожества: ибо сама мысль производит это внешнее; и только лишь через это произведение внешнего мысль становится впервые мыслью природы, стало быть, — бытием. Пространство есть категория“ 3). По Когену через пространство впервые становится возможным сосуществование, ибо сосуществование именно и означает пространственное, внешнее; когда говорят об „одновременном существовании“, как о модусе времени, то это на самом деле — не более, как перенесение пространства в понятие времени. По Когену во времени существует лишь непрерывное течение и перемена, а не сосуществование: мы
_____________
1) Logik, 11—12.
2) Logik, 129.
3) Logik, 161—162.
218
приходим к понятию одновременного бытия лишь через пространство 1).
Последовательное проведение тех же начал приводит Когена и к отрицанию „чувственной данности“, иначе говоря, к отрицанию чувственности как самостоятельного источника познания. При этом ход его мысли в общем — следующий: исходя из факта данной физико-математической науки, он, путем анализа этого факта, приходит к выводу, что действительное содержание (материя) нашего знания дается не ощущениями, а категориями 2). Мысль сама создает свой материал, а не обрабатывает материал, извне данный чувствами 3).
Обыкновенно ощущение считается непосредственным источником нашего познания о единичных предметах. Когену представляется непонятною самая психологическая возможность такого воззрения: раз наша чувственность раздроблена на пять чувств, очевидно, что именно она сама по себе не дает нам познания чего-либо единичного; это познание является всецело делом мысли 4). В самом восприятии единичного предмета действует мысль. В новейшие времена Гельмгольц, продолжая ход мыслей Шопенгауера, повторяет давно известную истину, что наше чувственное зрение собственно говоря, не может видеть дома в его целом: чтобы „видеть дом“ мы должны произвести мыслью синтез отдельных его частей, — ибо только части этого целого могут быть одновременно ощущаемы нами. Стало быть, в восприятие дома Гельмгольц включает не только категории (причинность и т. п.); он вынужден внести туда мысль в наиболее ее сложной форме умозаключения. Таким образом, самая физиология заставляет усумниться в самостоятельной ценности ощущения: „ибо то, что верно относительно дома, должно почитаться верным и относительно элементарнейшего содержания самого элементарного процесса зрительного восприятия 5).
Из бесчисленного множества примеров в этом роде обнаруживается, что ощущение не есть действительность, а показа-
________________
1)Logik, 168.
2)Logik, 49—56.
3)Logik, 129—130.
4)Logik, 376.
5)Logik, 402—403.
219
тель действительности 1), но показатель весьма несовершенный, который очень многого не показывает вовсе, а о многом дает безусловно ложные показания: о том, что наши чувства нас обманывают, — неустанно твердят идеалисты всех веков. Уже Декарт иллюстрирует этот обман тем чувством боли, которое люди продолжают испытывать в ампутированных членах своего тела. А к старым аргументам физиологии патология в новейшие времена прибавила много новых2). Теперь недостоверность ощущения может считаться общим местом физиологического образования 3).
Подлинной выразительницей действительности, бытия является мысль, а не ощущение: мы только тогда находим действительность, когда от ощущения восходим к мысленному первоначалу. — К этому и только к этому сводятся все изыскания физико-математической науки. Все ее объяснения выражаются в том, что для существующего она находит начало в чем-нибудь нечувственном. И при этом каждый раз обнаруживается несовершенство показательной силы ощущения. Для электричества и магнетизма вовсе не существует специфического ощущения. А между тем „современная физика стремится обосновать в электричестве всю действительность “ 4). Совершенно так же отвлекаются от ощущения и утверждают недоступную ощущению действительности все основные понятия физики: все явления вещества она объясняет движениями бесконечно малых, а потому чувственно не воспринимаемых тел — атомов, и молекул, волнообразными колебаниями невесомого, а потому также недоступного чувствам эфира. В конце концов, та материя, с которой имеет дело физика, есть не ощущаемая действительность, а идея, гипотеза. Эта гипотеза принимает во внимание притязание ощущения, но удовлетворяет его не на почве психологической иллюзии ощущения, а способами математики, которые исправляют иллюзию 5). В конце концов, ощущение — не более как
________________
1) Kants Erfahrungstheorie, 594.
2) Logik, 401.
3) Logik, 400.
4) Logik, 400-401.
5) Logik, 379-380.
220
знак вопроса 1), ответ на который дается мыслью, или, говоря иначе, — категориями. Смысл всех категорий — в том, что они берут на себя притязание ощущения 2), т.-е. выполняют ту задачу, которую оно ставит. Вообще ощущение не может поставить никакой такой загадки, которая бы не разрешалась посредством категорий 3).
Доступ к реальности, изучаемой физикой, открывается нам не ощущением, а математическим понятием бесконечно малого; по Когену это последнее и есть настоящая категория реальности 4), ибо именно в бесконечно малой реальности — в движении бесконечно малых величин математическое естествознание находит первоначало всех физических процессов и их измерение. В понятии бесконечно малого заключается самая основа всех законов природы; без него они не поддавались бы ни формулировке, ни обоснованию; не будь у нас бесконечно малых чисел, не было бы и физики: самое движение не могло бы быть определено как реальное 5),· ибо оно предполагает непрерывность, следовательно, — бесконечное множество бесконечно малых моментов пространства и времени. Стало быть, в физике, чрез понятие бесконечно малого мы совершенно освобождаемся от опоры ощущения и от его обманчивого угла зрения 6).
Именно в этом Коген видит окончательное преодоление антропологизма в теории познания. Благодаря математике и математической физике, по его мнению, „исчезает последний остаток подозрения, будто действительность, опирающаяся на субъективность ощущения, может обосновать самое себя лишь как нечто субъективное“. Многообразие содержаний ощущения, „как бы оно ни казалось субъективированным в соответствующих органах чувств, — объективируется через непрерывность бесконечно малых движений и отношений их измерений “ 7). Такие субъективные ощущения, как свет, звук, тепло и т. п. — объек-
_________________
1) Logik, 389.
2) Logik, 376.
3) Logik, 377—378.
4) Logik, 377.
5) Logik, 113.
6) Logik, 113.
7) Lcgik, 422.
221
тивируются в волнообразных движениях эфира. Содержание, на которое указует ощущение, таким образом, сводится к мысли — к математическим величинам. Самое ощущение подвергается объективному измерению. При этом заслуживает внимание, что те инструменты, которыми измеряются ощущение, всегда отвлекаются от самых ощущений, подлежащих исследованию: ощущение тепла измеряется растяжением ртути, ощущения звука — растяжением струны и т. д 1). Вообще в современной физике мы находим ряд примеров того, как частная проблема ощущения превращается в общую проблему движения. В особенности поучительным в этом отношении оказалось формулированное в XIX веке учение о тепле, доказавшее превратимость тепла в механическое движение: таким образом была завоевана независимость физики от ощущения, и в этом — величайшее методическое значение учения о тепле для обоснования научного идеализма 2).
Таким путем Коген приходит к выводу, что все содержание физико-математической науки сводится к категориям. Вся она покоится на математических понятиях меры и числа; все ее методы утверждаются на инфинитезимальном исчислении, без коего не может быть конструировано самое движение. Так понимаемая физика превращается для Когена в свидетельство о неограниченной творческой самостоятельности чистой мысли.
Все ошибки „Критики чистого разума“ для него объясняются тем, что Кант остался на полпути в своей попытке ориентироваться в математическом естествознании. — „Если бы принцип бесконечно малого нашел подобающее себе место в „Критике“ — чувственность не могла бы предшествовать в ней мысли, и чистая мысль не была бы ослаблена в своей самостоятельности. “ 3). Вообще „весь идеализм современной науки коренится в бесконечно малой реальности“ 4).
Для Когена основное положение этого идеализма выражается в том, что чистая мысль сама производит свой предмет, т.-е. предмет познания. С этой точки зрения он усвояет
_______________
1) Logik, 424.
2) Logik, 425.
3) Logik, 30—32.
4) Logik, 509.
222
и оправдывает учение Пифагора о числе как о первоначале сущего, с той, конечно, разницей, что для Пифагора число есть реальная творческая причина — сущность, а для Когена — первоначало методическое· — В качестве категории число для· него „методическое, незаменимое средство для произведения предмета“; „только для ненаучного эмпиризма число есть нечто субъективное, тогда как в действительности оно означает тот фундамент, в котором предмет получает свою реальность. Поэтому реальность и число состоят между собою в соотношении, обусловленном предметом. Предмет имеет свою основу в реальности. И эта реальность — не что иное, как число. Если бы она была чем-либо другим, она не была бы реальностью. Реальный предмет как предмет математической науки имеет свою методическую основу в математике, стало быть, — в числе. Все прочие предположения и прочие виды реальности происходят от лукавого — от предрассудка. Всех их породил и их поддерживает предрассудок ощущения как собственного и даже единственного источника познания. Поэтому число как категория может осуществить свое значение лишь в качестве реальности, лишь в качестве бесконечно малого числа“ 1).
Здесь положение тождества мысли и бытия, как понимает его Коген, получает высшее свое выражение и подтверждение — „Только сама мысль может произвести то, что должно почитаться за бытие“ 2) В ее понятии бесконечно малого заключается та абсолютность, которая обосновывает происхождение существующего. Чтобы понять это положение, необходимо все время помнить, что мысль, производящее бытие, о которой здесь идет речь, не есть мысль абсолютная в метафизическом или онтологическом значении этого термина, а наша человеческая, научная мысль. По Когену „всякое чистое познание состоит из категорий, но всякий предмет состоит единственно в чистом познании“ (курсив мой). 4). Иными словами, наше познание и предмет нашего познания — одно и то же: именно в этом смысле должны быть понимаемы странные на первый взгляд положения
________________
1)Logik, 117, стр. 143.
2)Logik, 67.
3)Logik, 116, 120.
4) Logik, 201.
223
Когена, что Галилей создал материю потому, что он ее впервые определил 1), что воля не могла существовать раньше Платона, потому что Платон впервые создал этику 2), что, нравственности как таковой не было, пока она не была познана как таковая, 3) что, наконец, пророки измыслили человечество и Бога 4). Все это — отдельные развития знакомой уже нам мысли Когена, что вся действительность покоится на нашем основоположении, гипотезе 5) или, что то же, — на нашем методе.
В метод испаряется у Когена самый предмет познания: предмет для него есть методическое понятие; это „всеобщее методическое значение предмета и есть оружие против предрассудка, будто, как говорится, предмет нам дан“ 6). Наше познание вещей, как оно дано в науке, предшествует самим вещам, поэтому исследование вещей должно начинаться не с самых вещей, а с нашего о них познания 7). Если все законы физики сводятся в конце концов к законам движения, то для Когена это значит, что движение обозначает ,,единство всех методов“ физико-математической науки 8). Оно возникает не независимо от нас, а в самой нашей мысли „как род суждения или категории“ 9). Как уже было мною показано в другом месте 10), „напрасно было бы с этой точки зрения искать в действительности или над действительностью чего-либо отличного от мысли и ее методов“: для Когена действительность сводится к категории единичного и представляет собою продукт другой, творческой категории величины 11). Самое „Абсолютное“ сводится для него к гипотезе чистой мысли“, т.-е., попросту говоря, — к методу подкладывания чего-то необусловленного под обусловленное
____________
1)Ethik 125.
2)Logik, 20.
3)Ethik, 112.
4) Ethik, 146, 87.
5) Ethik, 437.
6)Logik, 276.
7)Ethik, 93.
8) Logik, 196.
9) Ethik, 130.
10) Панметодизм в Этике, см. Вопросы Психол, кн., стр. 128.
11) Logik, 505.
224
бытие 1). Также и идея Бога с этой точки зрения — не более, как методическое понятие: в пространном рассуждении Коген доказывает, что методика исчерпывает ее содержание. 2)
Обыкновенно под „методом “ разумеется наш человеческий способ достижения чего-либо; в частности, под методом научным подразумевается способ исследования, способ отыскания истины. Иное дело у Когена: у него истина и метод — одно и то же: он не знает истины, отличной от нашего способа ее отыскания. В конце концов, истина для него отождествляется с „суммой категорий“ 3), а категории — со „способами действия суждения“ 4), иначе говоря — с методами нашей основополагающей мысли. 5). Коген категорически заявляет, что „истина заключается в едином методе логики и этики. Она не может быть обнаружена как данное. Она не может быть принята как факт природы или истории, который лежит перед нами или может быть раскрыт. Она не есть сокровище, но копатель сокровищ. Она есть метод (курсив мой), но не изолированный и не поддающийся изолированию метод, а такой, который приводит в гармонию основное различие разумных интересов“. С этой точки зрения истина перестает быть для Когена отличным от науки искомым: он отождествляет ее с самым процессом исследования. Он категорически заявляет, что „истина состоит единственно в искании истины“ 6).
Отличие учения Когена от всякого метафизического рационализма и в особенности от учения Гегеля выражено здесь как нельзя более резко. Как уже было много показано в другом месте — „если учение Гегеля есть панлогизм, то точка зрения Когена может быть охарактеризована как панметодизм. Для Гегеля истина — сам объективный процесс раскрытия Сущего Разума; напротив, для Когена она — только правильный способ мысли человеческой, научной“.
_________________
1)Ethik, 429.
2)Ethik, 446—447.
3)Logik, 344.
4) Logik, 43.
5)Kants Erfahrungstheorie, 585.
6) Ethik, 97.
7) Cм. цитиров. выше статью „Панметодизм в этике, 127. “
225
III. Ложный антропологизм учения о познании Когена.
Все вышеизложенное достаточно подготовило нас для критической оценки основного начала учения Когена. Достигло ли оно удовлетворительного разрешения своей собственной задачи; выяснило ли оно логически необходимые предположения человеческого познания, условия и основания его достоверности?
Прежде всего вызывает сомнения когеновское преодоление кантона антропологизма в теории познания. — Он отвергает чувственность как источник познания и провозглашает единодержавие „научной“ мысли в познании. Но перестает ли от этого наша мысль быть субъективной? Приобретает ли ее достоверность объективные или, что то же, — безусловные основания? В конце концов, логика Когена вращается в том же заколдованном кругу; как и „Критика“ Канта. Вся она от начала до конца представляет собою попытку обосновать достоверность научного познания в антропологических его условиях.
Ложный антропологизм лежит в самом существе точки зрения Когена. Раз никакой высшей истины над человеческой мыслью нет, раз истина — не более как наш метод, — очевидно, что наша мысль сама себе служит и безусловным критерием. Единственным источником достоверности нашего знания служит гипотеза нашей мысли 1), в силу которой мысль утверждает сама себя как первоначало (Ursprung) всего, что есть. Но мы уже видели, что это первоначало всего сущего, утверждаемое мыслью, не есть что-либо независящее от нас: это — наша, человеческая точка зрения, не обладающая никакой онтологической значимостью — наш метод и больше ничего. Коген настойчиво повторяет кантовское изречение; „мы можем знать а priori относительно вещей только то, что мы сами в них, вкладываем“ 2). Отличие его от Канта в данном случае заключается лишь в том, что для Когена истина вообще есть сумма наших категорий; и с этой точки зрения не видно, чем априорное познание отличается от познания вообще; последовательно
______________
1)Kants Erfahrungstheorie, 15.
2)Kants Erfahrungstheorie, 142, 180.
226
проведенная точка зрения Когена должна была бы привести к отрицанию самой возможности неаприорного познания. Точный смысл его учения несомненно — тот, что мы вообще познаем относительно вещей только то, что мы в них вкладываем, — иначе не может быть истолкован его принцип первоначала. А на вопрос, откуда же мы берем то, что мы вкладываем в вещи, он отвечает: „из сознания“, подразумевая под сознанием „совокупность всех средств и методов, коими совершается это вкладывание“ 1).
Нетрудно убедиться, что такой ответ на вопрос о возможности познания игнорирует самую сущность основного вопроса гносеологии. Вопрос предполагает существование независимой от познающего и ищущего человеческого субъекта истины, и соответственно с этим спрашивается, — как возможно познание этой истины; иначе говоря, — как возможно овладение ею; а между тем ответ Когена утверждает, что такого независимого от нас искомого нет вовсе. „Истина состоит единственно в искании истины“. Не очевидно ли, что этот ответ разом делает все наше искание беспредметным?
Тем самым основная задача Когена остается без разрешения. Задача его, как мы видели, заключается в том, чтобы вскрыть логически необходимые предположения, обусловливающие и обосновывающие возможность „данной науки“. Но когеновское решение этой задача находится в коренном противоречии с необходимыми предположениями всякой науки, всякого человеческого познавания. Наука предполагает существование независимого от нее предмета познания; напр., физика предполагает существование независимой от нее природы; соответственно с этим все научные методы рассматриваются как средства, способы для познания этого предмета. Между тем, с точки зрения Когена все это предположение превращается в иллюзию. Никакого независимого от науки предмета изучения у нас нет: мы познаем не объективную, независимую от нас природу, а „природу естествознания“, не просто материю, а „материю, созданную Галилеем“. Наука познает не объективную, независимую от нее действительность, а только свои мысли о действительности, свои
___________
1) Kants Erfahrungstheorie, 142.
227
методы, свои приемы и способы познавания действительности. Во всем, что она познает, она знает только самое себя! Не ясно ли, что таким решением гносеологического вопроса возможность объективного знания не только не обосновывается, а, напротив, упраздняется, превращается в ничто! Наука предполагает (постулирует) возможность transcensus’a — выхода от шатких и колеблющихся человеческих мыслей к безусловной истине; но именно возможность такого выхода Коген отрицает: он не признает никакой другой истины кроме человечески обусловленной: в этом и есть суть его сведения истины к нашему, человеческому методу. В этом и заключается антропологизм его теории познания!
Несостоятельность этой точки зрения особенно наглядно обнаруживается в ее неспособности дать сколько-нибудь удовлетворительное объяснение априорных элементов нашего мышления и познания.
С одной стороны, как мы видели, учение Когена хочет быть чистым априоризмом. Все познание для него является актом мысли чистой, т.-е. свободной от всякой эмпирической примеси; и с этим связывается отмеченная уже выше тенденция. Когена — стремление свести все человеческое знание к априорному или чистому знанию: едва ли с его точки зрения возможно говорить о знании нечистом. И, тем не менее, — в силу отмеченного здесь антропологизма Когена, — его априоризм, незаметно для него самого, подчиняется эмпирическому условию: его „чистая“ мысль есть в конце концов мысль человечески обусловленная, факт данной, нашей человеческой природы. То безусловное мысленное priusвсякого бытия, в котором он полагает перво-
начало всего познаваемого, обладает для него значимостью единственно в качестве нашей человеческой гипотезы, нашего метода; примение этого метода оправдывается утилитарным и, стало быть, чисто эмпирическим соображением: он расширяет наше знание; на нем покоится чисто эмпирический факт данной, человеческой науки 1).
Отсюда — безысходное противоречие, которое красною нитью проходит через все построения Когена. — Сводить значимость
_______________
1) Этим утилитарным оправданием методов познавания Коген, сам того не замечая, подает руку злейшему врагу всякого априоризма — прагматизму.
228
априорных элементов мысли к значимости человеческой „гипотезы“ — значит утверждать, что априорное — эмпирически обусловлено. Тем самым „априорное“ сводится на нет. В самом деле, априорное есть прежде всего безусловное и всеобщее; названия априорных заслуживают лишь такие положения, значимость коих не зависит ни от каких условий вообще и, следовательно, — ни от каких человеческих условий. Истина, что дважды два равно четырем, была бы истиною и в том случае, если бы человеческого рода не существовало; и только потому она может признаваться априорною. Если мы признаем, что это — истина только для нас, людей, что это — только человечески необходимая гипотеза, мы тем самым превратим ее из априорной в эмпирически обусловленное положение: признать, что она обладает значимостью лишь в качестве нашей гипотезы — значит предположить, что, если бы мы — люди были устроены иначе, то и положение дважды два четыре не обладало бы логической необходимостью, и дважды два могло бы быть пятью. Что из того, что действительность априорных положений коренится не в чувственных данных, а в мысли; все-таки сама эта мысль действительна единственно в качестве нашей человеческой мысли, — это значит, что действительность ее зависит от эмпирического условия. В качестве только человеческой она может сообщить всем своим „точкам зрения“, „идеям“, „методам“ и „гипотезам“ лишь условную значимость!
Понятно, что априоризм в учении Когена не выдержан по всей линии. Внутреннее противоречие между требованием „чистоты“ и отмеченным только что безотчетным эмпиризмом проходит через всю его логику; этот эмпиризм в особенности ясно сказывается в попытке „ориентировать“ логику в физико-математической науке. С одной стороны вся наука обусловлена а priori системой категорий — понятий чистой мысли; с другой стороны вся система категорий обусловлена рядом эмпирических данных — фактом данной науки данным ее состоянием, фактом существования рода человеческого и данным состоянием его культуры. У Канта, как известно, в „Критике чистого разума“ выведена неподвижная система категорий, которые носят на себе печать всеобщности и необходимости. У Канта категории — независимы от эмпирических фактов именно потому, что они
229
обусловливают собою возможность познания вообще, возможность опыта вообще. Совершенно другое мы видим у Когена: у него бытие категорий зависит от существования данной науки, т.-е. в конце концов от частного и при том изменчивого факта.
Кант определяет априорное, как „безусловно всеобщее‘‘ и строго „необходимое“, и это определение приводится Когеном 1). Спрашивается, соответствуют ли ему категории в когеновском их понимании? Тут нам бросается в глаза разница между Кантом и Когеном: у последнего категории подвижны и изменчивы, ибо для него они — не более, как предположения, гипотезы изменчивого человеческого знания. „Прогрессирующая наука ищет и, сообразно с своим фактическим прогрессом, находит более глубокие и точные основания; поэтому она должна вновь формулировать свои начала и, сообразно с этим, менять свои основные понятия (курсив мой). Поэтому о неизменных основах науки не может быть и речи“ 2). Под „основными понятиями“, которые меняются, могут подразумеваться только категории, так как никакие другие понятия, очевидно, не были бы признаны Когеном за основные для науки. К тому же в другом месте Коген говорит прямо об обновлении категорий соответственно возникновению новых видов суждений: „категории не втиснуты насильственно в способы суждений: они из них вырастают и в них молодеют“3). Поэтому никакая таблица категорий не может претендовать на исчерпывающую полноту. Наоборот, из самой сущности понятия как категории вытекает, что „такая полнота для логики была бы не богатством, а открытой раной; новые проблемы потребуют и новых предположений. Необходимая мысль о прогрессе науки не только сопровождается мыслью о прогрессе чистых познаний, но необходимо ее предполагает“ 4).
Тут уже мы видим отступление не от буквы, а от самого духа кантовского учения, — прямое отречение от безусловности его априоризма, Коген говорит прямо: „требование полноты категорий коренится в воззрении, которое должно быть преодолено в
________________
1) Logik, 432.
2) Logik, 499.
3) Logik, 134.
4) Logik, 342.
230
логике чистого познания, согласно которому а priori есть абсолютное prius в аристотелевском смысле; как мы теперь можем сказать, это — абсолютная цель, которая в творческом Провидении образует человеческую мысль“ 1). Яснее нельзя сказать, что а priori есть не безусловное, а только относительное prius по отношению к „данной науке“. Но этим признанием Коген, сам того не замечая, наносит сокрушительный удар всему априоризму. Ибо относительное prius есть а priori, зависящее от меняющегося факта: это — явно противоречивое понятие, — нечто вроде „деревянного железа“ или „трехугольного квадрата“. Отказаться от признака безусловности априорных понятий — значит отречься от самой сущности априоризма.
Подчинение всего априорного факту данной науки сообщает учению Когена явно релятивистическую окраску. Этим самым „чистая мысль“ подчиняется внешней ей норме и, стало-быть, перестает быть чистой. Коген и когенианцы, конечно, могут сказать в свое оправдание, что „данная наука“, в которой чистая мысль ориентирует свои категории, — не есть внешнее данное для последней, — ибо наука в конце концов — продукт самой чистой мысли. Однако, несостоятельность этого возражения обнаруживается без труда! Что „данная наука“ не есть создание одной чистой мысли, видно хотя бы из вышеприведенного признания самого Когена. Если, как он говорит,· „прогрессирующая наука ищет, и сообразно с своим фактическим прогрессом находит более глубокие и точные основания“, это значит, что в „данной науке“ в каждый определенный исторический момент может быть и несовершенство и недостаточная глубина и неточность, словом, — элементы, из „чистой мысли“ не вытекающие и объясняющиеся действием чисто психологического фактора. „Данная наука“ есть частное проявление общей культуры той или другой исторической эпохи. Поэтому подчинять логику „факту данной науки“ — значит открывать дверь тому самому ложному психологизму, против которого хочет бороться современное кантианство. Чтобы преодолеть психологизм, — мысль должна возвыситься над всякой данностью вообще, в том числе и над „данною наукою“; но для этого она должна признать некоторое
_______________
1) Ibid.
231
безусловное prius надо всем, что дано, над всякой эмпирической действительностью.
Раз Коген этого не делает, — все трансцендентальное исследование у него останавливается на полдороге и потому, конечно, не достигает цели. Для него „принцип и норма трансцендентального метода заключается в следующей простой мысли: элементами познающего сознания являются такие элементы сознания, которые достаточны и необходимы для того, чтобы обосновать и упрочить факт науки. Определенность априорных элементов таким образом сообразуется с этим их соотношением и компетенцией, по отношению к фактам научного познания, которые через них подлежат обоснованию“ 1).
Что значит „обосновать и упрочить факт науки“? Очевидно, обосновать можно только, связав условную достоверность научного знания с какою-то безусловной и высшей достоверностью, которая возвышается над меняющимися требованиями несовершенной науки. Но именно этой высшей достоверности над наукой у Когена и нет; априорные элементы знания у него не возвышаются над наукой, а подчиняются ее изменчивым требованиям: вместо того, чтобы получать обоснование в чем-то высшем, самый факт данной науки превращается в высшее, не подлежащее обоснованию.
Крушение „логики чистой мысли“ сказывается не только в этой ее зависимости от исторического факта, но и в неудаче ее попытки освободить чистую мысль от „тираннии ощущения“. Несмотря на все старания Когена ему так-таки в конце концов и не удается доказать, что чистая мысль является единственным источником знания, и что знание наше не получает никаких данных от ощущения.
Прежде всего все его доказательства независимости знания от ощущения односторонне „ориентируются“ в физико-математической науке! Все они исходят из того совершенно ни на чем не основанного предположения, будто логика есть исключительно или преимущественно логика физико-математической науки 2). Поэтому он совершенно произвольно оставляет в стороне все
_________________
1) Kants Erfahrungstheorie 77.
2) Logik, 48, 31.
232
наши познания, касающиеся фактов психологических, — между тем как логический анализ этого рода познаний безусловно необходим для того, чтобы наше понятие о познании вообще было полным и всесторонним.
Если физика в своих исследованиях свойств вещества отвлекается от наших ощущений и так или иначе сводит все свои проблемы к одной единственной проблеме движения, то ведь физические свойства тел не исчерпывают собою свойств сущего. Допустим, даже, что Коген совершенно прав в своем утверждении, будто физика не получает от ощущения никаких данных и что все содержание ее создается исключительно чистой мыслью, — ощущение и в этом случае остается реальным психическим фактом и, в качестве такового, является чрезвычайно важным источником нашего знания о нас самих. Из некоторых обмолвок Когена видно, что для него наше ощущение есть иллюзия 1). Пусть так; в качестве моего переживания, ощущение во всяком случае — не иллюзия, а безусловно достоверный факт. Допустим даже, что подлинная реальность данного предмета выражается не в красном его цвете, который я вижу а в волнообразных колебаниях эфира, обусловливающих мое ощущение красного, все-таки тот факт, что я ощущаю, я вижу, красное, остается безусловно достоверным даже в том случае, если это мое виденье красного есть галлюцинация. И, раз я знаю об этом моем ощущении, неужели не очевидно, что ощущение доставляет мысли такой познавательный материал, который не может быть создан ею самой! Без ощущения красного чистая мысль о красном ничего бы не знала и знать не могла бы. А между тем, каково бы ни было отношение наших ощущений к „вещам“, — нет сомнения, что они уже сами по себе в качестве психического явления служат предметом познания: и этого одного уже достаточно, чтобы опровергнуть положение Когена, будто всякий предмет познания как такой создается чистой мыслью.
Предвидя это возражение, Коген отвечает, что мы не знаем ощущения как единичного явления: „мы знаем только логическое выражение ощущения“ 2); но несостоятельность этого ответа
_____________
1) См. напр., Logik, 379-380.
2) Logik, 390.
233
бросается в глаза. Если бы Коген не знал ощущение как что-то другое по отношению к чистой мысли, всецело от нее отличное, то вся его полемика по вопросу об ощущении была бы беспредметной; если бы он знал только логическое выражение ощущения, — ощущение было бы для него одной из функций чистой мысли; но тогда все его попытки исключить ощущение из числа источников познания были бы бессмысленны.
Разумеется, всякое познание должно быть опосредствовано мыслью: всякий предмет познания, в том числе и ощущение, должен получить логическое выражение, чтобы быть познан; само по себе ощущение красного есть единичное переживание; напротив, наше познание имеет дело с тем же переживанием как с единичным случаем красного вообще, и в этой форме всеобщности выражается оформливающая деятельность мысли. Но, если верно, что без этой логической формы познание невозможно, то в такой же степени верно, что в данном познавательном акте есть содержание, которое чистою мыслью создано быть не может: если бы теория Когена была верна, то слепорожденный и зрячий имели бы совершенно одинаковое понятие о красках, а глухой от рождения и человек с нормальным слухом — совершенно одинаковое понятие о звуке. Таким образом, малейшей попытки „ориентировать‘‘ логику в психических явлениях достаточно, чтобы убедить нас в существовании такого знания, которое не сводится к категориям, а получает тот или другой материал от ощущения.
Внимательное исследование убеждает нас в том, что и физика не получает в логике Когена удовлетворительного объяснения: и в ней есть элемент воззрительный, интуитивный, который не создается чистой мыслью, а только оформливается ею.
Прежде всего Коген едва ли правильно понимает отношение физики к ощущению: здесь его мысли недостает необходимой в логических исследованиях ясности и точности. О независимости физики от ощущения можно было бы говорить лишь в том случае, если бы физика совершенно отвлекалась от ощущения, совершенно исключала его из своих познавательных суждений. — Ничего подобного, однако, мы на самом деде не видим. Нельзя не согласиться с Когеном в том, что для всего чувственно воспринимаемого, — для света, звука и. т. п. физика ищет
234
мысленного первоначала; но это доказывает отнюдь не то, что хочет доказать Коген, а как раз противоположное, — что чувственно воспринимаемая действительность играет роль необходимого термина в познавательных суждениях физики. —
Физика отнюдь не говорит, что наши ощущения света, звука и т. п. суть иллюзии и что подлинное, истинное бытие материи суть бесконечно малые величины — атомы, молекулы и т. п., ибо подобные суждения, как явно онтологические, по своему содержанию выходят из предела ее компетенции. Физика отнюдь не пытается свести к движению все свойства вещества: она только утверждает, что между движением волн эфира и светом, между движением молекул и теплом существует причинная связь. Очевидно, что ощущение, в качестве последствия здесь не только не исключается из познавания, а, напротив, вводится как необходимое звено в суждение о причинной зависимости.
Что это — так, — видно из собственных признаний Когена, трудно согласимых с его основною мыслью. Что значит, например, что чистая мысль признает притязание ощущения и удовлетворяет его собственными силами 1), или что загадки, которые ставятся ощущением, все без исключения разрешаются категориями 2)? Как понять провозглашаемый Когеном лозунг „против самостоятельности ощущения, но за притязание ощущения“ 3)? Или ощущение является элементом, материалом познания, или все эти изречения вовсе лишены смысла! Все, что действительно удается доказать Когену, сводится к той давно известной истине, что нет познания без мысли и что, следовательно, ощущение само по себе, не прошедшее через горнило мысли, не может быть самостоятельным источником знания. По Когену нужно доказать гораздо большее, — что оно вовсе не является источником знания. Этот тезис не только не может быть доказан, но не может быть и выдержан без противоречия: в самом деле, если ощущение ничего не дает знанию, то во имя чего же чистая мысль должна признавать „притязание“ ощущения? Ведь все это притязание сводится единственно к тому, что ощущение
_______________
1) Logik, 376.
2) Logik, 377—378, 379.
3) Logik, 406.
235
нечто открывает мысли, является для нее некоторым показателем действительности. В конце концов жалобы Когена на „недостаточную показательную силу ощущения“ только подчеркивают противоречие: ибо ощущение может обладать показательной силой, хотя бы и „недостаточной“, единственно в качестве источника познания. То же самое подтверждается следующими изречениями: „ощущение лепечет; впервые мысль создает слово. Ощущение обозначает смутное стремление: впервые мысль может осветить ему то направление, куда оно стремится; впервые мысль дает этому стремлению направление к цели“ 2). Слова эти могут быть поняты только в том смысле, что, при содействии мысли, познание становится целью, которой служит и ощущение. А в другом месте Коген делает еще более ясное признание: „в ощущении есть моменты, сродные разуму; они подлежат исследованию“ 3). О „сродстве“ элементов ощущения с разумом, разумеется, не могло бы быть и речи, если бы ощущение ни в какой мере и ни в каком отношении не могло служить элементом познания. Положительная сторона учения Когена выражается в указании на творчество разума в познании; но это творчество выражается в переработке данных ощущения и вообще воззрительных данных, а отнюдь не в создании данных познания из одних категорий чистой мысли. В познании все данные ощущения оформливаются категориями, и только в этом смысле можно согласиться с мыслью Когена, что загадки, которые ставятся ощущением, разрешаются категориями.
Что чистая мысль не есть единственный источник познания, доказывается также неудачей попытки Когена понять пространство и время как категории.
В споре Когена против Канта здесь обнаруживается роковая, для кантианства непреодолимая антимония: читатель поражается тем, что обе стороны располагают аргументами одинаково сильными. Тезис Канта, что пространство и время суть „чистые воззрения“ доказывается столь же убедительно, как и антитезиз Когена, что пространство и время обладают природой мысленной.
________________
1) Logik, 400.
2) Logik, 404.
3) Kants Erfahrungstheorie, 45.
236
Главные аргументы Канта остаются не только не поколебленными, но даже и не затронутыми в возражениях Когена. Пространство и время действительно являются формами нашего чувственного воззрения, чего не могло бы быть, если бы они были только понятиями — категориями. В форме времени протекают не одни наши мысли, а все вообще наши переживания; в форме, пространства размещены не мысли наши о внешнем мире, а самые воспринимаемые нами явления внешнего мира. С этим связаны и те наглядные доказательства воззрительного характера пространства и времени, которыми располагает Кант. Если бы пространство не было воззрением, мы совершенно не могли бы иметь никакого представления о различии между правым и левым: различие это не поддается каким-либо определениям посредством понятий. Так же убедительно и нижеследующее указание Канта: „все геометрические основоположения, напр., что в треугольнике сумма двух сторон, взятых вместе, больше третьей стороны, всегда выводятся из наглядного представления и при том а priori с аподиктическою достоверностью, а вовсе не из общих понятий линии и треугольника“ (39). Очевидно, что здесь воззрение предшествует понятию. Наконец, едва ли можно что-либо возразить и против аналогичных указаний Канта относительно времени. — „Положение, что различные времена не могут существовать вместе, не может быть выведено из общего понятия. Это положение имеет синтетический характер и не может возникнуть из одних только понятий. Следовательно, оно непосредственно содержится в наглядном представлении времени“ (47).
Всех этих доказательств воззрительного характера пространства и времени Коген вовсе не касается. Все вышеприведенные его возражения против Канта сводятся единственно к указанию, что „чистой мысли не должно быть дано ничего и ни с какой стороны“; что даже через чистую данность „ослабляется понятие чистой мысли“ 1). Этот аргумент игнорирует, а потому, разумеется, и не устраняет ту правду, которая заключается в только что приведенных соображениях Канта. Но с другой стороны и в нем есть своя правда, которая не может быть
_______________
1) Logik, 165.
237
без дальнейших околичностей отброшена теорией познания. Правда эта заключается в том, что только мысленное может стать мыслью. Действительность, безусловно внешняя и чуждая мысли, не может и войти в мысль; а потому и данным мысли может быть только предмет мысленный по самой своей природе, т.-е. такой, коего самая основа н сущность положена мыслью. Поэтому, если бы, в частности, пространство и время обладали на мысленной природой, они по тому самому и не могли бы быть даны мысли, т.-е. были бы просто-на-просто немыслимы.
Таким образом, убедительно доказанному кантовскому тезису: „пространство и время суть воззрения“ противополагается столь же убедительно, по-видимому, доказанный когеновский антитезис: пространство и время могут быть даны мысли только самою мыслью. Если бы мысль исключала воззрение, т.-е., если бы мысль не могла быть интуитивною, а интуиция — мысленною, — мы имели бы здесь неразрешимую антиномию, которая делала бы всякое учение о познании внутренне противоречивым и, стало быть, — невозможным.
К счастью, однако, из этой антиномии есть выход, который уже был намечен выше, во второй главе настоящего исследования 1) — в указании на умосозерцательный характер воззрений пространства и времени. Интуитивный характер пространства и времени доказывается тем, что в этих формах мы не только мыслим: в них мы действительно переживаем и видим целый мир бесконечно многообразных явлений. С другой стороны мысленный характер пространства и времени доказывается тем, что за пределами воспринимаемых нами реальных явлений в пространстве и времени мы видим умом бесконечное продолжение как пространства так и времени; мало того, как уже было показано выше, без этого мысленного воззрения единого бесконечного времени не было бы возможно никакое сознание предметов в пространстве и времени: ибо в нашем сознании пространство как целое и время как целое предшествуют своим частям. Если бы мы не видели в мысли форм пространства и времени, мы не сознавали бы их вовсе, не сознавали бы ни протяжения, ни длительности: сознавать что-либо во времени значит при-
___________
1) См. выше, стр. 49—54.
238
мысливать к сознаваемому бесконечный ряд „прежде и после“; также сознавать что-либо в пространстве — значит мыслить предмет охваченным со всех сторон бесконечными рядами моментов пространства. Одним словом, в формах пространства и времени мы имеем мысленную интуицию бесконечности, — такое созерцание, которое возможно лишь как функция мысли: ибо только мыслью можно видеть бесконечное.
Таким образом есть правда в когеновском утверждении мысленной природы пространства и времени: ошибка его заключается лишь в противоположении мысленного воззрительному и в утверждении пространства и времени как категорий, — т.-е. как наших методических понятий и способов наших суждений.
Категории, как мы имели случай в том убедиться, суть способы отнесения всякого мысленного содержания к Безусловному; напротив, в пространстве и времени мы имеем не способ суждения о каком-либо ином предмете, а некоторое самостоятельное содержание мысли, о котором мы судим. Ошибка Когена наглядно обнаружится перед нами, если мы доведем до конца хотя бы его собственную попытку ориентировать логику в математике. Вся геометрия покоится на том предположении, что пространство не есть только способ наших суждений, а некоторый безусловно от нас независимый предмет наших суждений. Геометрические теоремы не могли бы обладать для нас безусловною необходимостью, если бы не эта безусловная независимость пространства от наших суждений и от нашей мысли. Достоверность в данном случае не могла бы быть безусловною, если бы она была обусловлена антропологически. Ели этой достоверности нет вовсе, и геометрические теоремы — не более как шаткие человеческие гипотезы, или же их значимость утверждается на незыблемом основании мысли безусловной; именно такое основание предполагается геометрией и составляет искомое условие ее возможности.
IV. Истинный смысл гипотезы первоначала.
Для полного преодоления той или другой философской точки зрения недостаточно изобличить ее односторонность и ложь; нужно сверх того еще признать и усвоить ту относительную истину,.
239
которая составляет источник ее силы: иначе в споре с ее сторонниками мы всегда рискуем оказаться в чем-нибудь неправыми и тем самым дадим им возможность успешно продолжать спор.
На той точке, на которой мы стоим, — нетрудно выполнить это требование по отношению к Когену.
Мы уже отметили его заслугу в более правильной по сравнению с Кантом формулировке задачи трансцендентального исследования. Коген безусловно прав в том, что задача эта заключается не в выяснении психологических условий знания, а во вскрытии его необходимых логических предположений или предпосылок. Так понимаемый трансцендентальный метод есть истинный метод теории познания; и ошибка Когена заключается единственно в недоведении его до конца·. Ибо доведенное до конца исследование условий возможности знания неизбежно обнаруживает ту по существу метафизическую предпосылку, на которой оно покоится.
Недоведение до конца правильной мысли сказывается в самом существе ответа Когена на трансцендентальный вопрос. Основное положение его логики может быть признано в известном смысле верным. — Коген безусловно прав в том, что все человеческое знание покоится на предположении мысленного первоначала всего познаваемого. Мы ничего не могли бы познавать без этой уверенности в том, что в мысли мы найдем искомое почему для познаваемого и его истинное определение; мы не могли бы в частности познавать какое-либо бытие, т.-е. выражать истину бытия в терминах мысли, если бы мы не предполагали, что мысль есть первоначало бытия, что мысленные определения лежат в самой основе сущего.
В этом — правда основоположения, или, если угодно, — „гипотезы“ первоначала. Но, если мы присмотримся внимательно к существу этого необходимого предположения знания, мы убедимся, что Коген не только не раскрыл всей его глубины, но едва коснулся его поверхности.
Мысль есть воистину первоначало всего действительного и возможного: иначе задача познания и не ставилась бы и была бы просто невозможною: познавать можно только то, что можно выразить в терминах мысли, только то, что в самом существе
240
своем определено и положено мыслью. Но спрашивается, о какой мысли здесь идет речь? Коген, очевидно, не заметил, что первоначалом всего действительного и возможного может быть только мысль безусловная, только такая мысль, которая сама в себе имеет свое безусловное начало и ни в чем другом не зачинается, ни от какого другого начала не зависит. — Вместо того у Когена в роли „первоначала“ оказалась мысль антропологически обусловленная, наше методическое понятие, наша категория, наши изменчивые приемы исследования, — стало быть, мысль, зависящая от множества других начал, и прежде всего — от изменчивой человеческой стихии. — Бьющие в глаза противоречия „Логики первоначала“ объясняются именно этим поразительным смешением предикатов безусловного и обусловленного в определениях человеческой мысли. Распутать их — значит выяснить истинный смысл „гипотезы первоначала.
Первоначалом всего действительного и возможного может быть только мысль актуально всеединая, т.-е. такая мысль, которая все в себя объемлет не в возможности только, а в действительности; и именно такая мысль предполагается всем нашим познаванием и исканием. Тем самым, что мы ищем мысленного первоначала познаваемого, мы предполагаем, что наша ищущая мысль им не обладает: оно содержится в иной мысли, которая не ищет, но обладает, — в той мысли, которая сама есть полнота истины и ведения. Всякое познавание есть не что иное, как искание той безусловной мысли, которая выражает собою сущность познаваемого. Или такая мысль есть в действительности, и безусловная мысль в самом деле от века предшествует нашей ищущей мысли, — или же все наше искание бессмысленно и все наше познавание — пустая претензия. Коген совершенно прав в том, что всякое дознание бытия есть отыскание какого-либо мысленного „предбытия“. Но он забыл, что это мысленное prius всякого бытия не может содержаться в той мысли, которая его ищет. Действительное prius всякого бытия может заключаться только в той мысли, в которой от века все осмыслено и осознано, — в той мысли, которая составляет не гипотетическое только, а реальное метафизическое начало всего, что есть. Коген прав и в том, что, в качестве необ-
241
ходимого prius всякой мысли, — первоначало, которого она ищет, есть нечто большее, чем категория: это в самом деле — закон мысли, более того — закон законов мысли; жаль только, что в этом различении „первоначала“ от категорий Коген опять-таки остается на полдороге. Отличие заключается на самом деле в том, что первоначало всего действительного и возможного не есть метод нашего ищущего сознания, а то реальное его метафизическое предположение, которое определяет собою задачу и цель всякого метода. „Первоначало“ не есть какой-либо прием или способ искания, а та самая идея или истина всего, которую требуется отыскать. „Гипотеза первоначала,“ из которой исходит всякое познавание, сводятся к предположению, что прежде всякого другого конкретного предмета познания есть безусловная мысль, в которой все, что есть, находит свое истинное определение и обоснование. Наоборот, категории суть методические понятия, способы отнесения всякого мыслимого содержания к мысли безусловной; стало-быть, в качестве методов искания они действительны лишь в предположении действительного существования искомого; категории могут быть действительными средствами познания лишь в том случае, если на самом деле есть та безусловная мысль — первоначало, к которой они относят всякий предмет познания.
К сожалению, Коген сам стирает им же намеченную грань между первоначалом и категориями: мы видели, что „гипотеза первоначала“ у него сама в свою очередь превращается в „метод“, — в регулятивный принцип научного искания. Отвергая всякое метафизическое ее истолкование, он сводит ее к требованию, чтобы мы мыслили так, как будто в мысли заключается действительное начало всего познаваемого.
Тем самым все знание превращается в фикцию и становится мнимым: мысленное „почему“ вещей перестает быть их действительным почему; и наше понятие, вместо того, чтобы быть способом познания о предмете, становится единственно доступным нам предметом познания: во всем, что мы познаем, мы знаем не самые предметы, а только наши о них понятия, наши о них мысли — и, стало быть, если идет речь о реальных предметах, — не подлинную действительность, а действительность, созданную человеческой мыслью. Все познаваемое таким
242
образом превращается у Когена в мир призраков, — потому что он отвергает самую основу объективной реальности — ту абсолютную мысль, которая есть действительное, метафизическое первоначало сущего.
Только с точки зрения данного здесь метафизического истолкования мысленного первоначала всего познаваемого можно говорить об объективном, реальном знании; только благодаря ему разрешаются те иначе неразрешимые трудности гноселогии, которые тщетно пытается разрешить Коген в своей „Логике“. Прежде всего это истолкование дает нам в руки единственно возможное решение вопроса о содержании познания, который всегда служил, да и доселе служит камнем преткновения для исследователей. Трудность этого вопроса заключается в той самой антиномии, которую мы уже отметили, говоря о пространстве и времени. Тезис, защищаемый Кантом, заключается в том, что содержание познания извне дано нашей мысли — чувствами и интуициями; напротив антитезис Когена утверждает, что мысли ничего не может быть дано извне, что она может познавать только то содержание, которое дается или, точнее говоря, создается ею самою. Примем ли мы тезис или антитезис, — во всяком случае нас ждут затруднения, на первый взгляд неразрешимые. — Все усилия Когена — доказать, что наши чувства и интуиции не дают нашему познанию никакого содержания, — разбиваются, как мы видели, о то простое возражение, что ведь и ощущения наши могут быть предметом познания, притом такого познания, которое совершенно недоступно существам, лишенным этих ощущений (напр. слепым и глухим). Стало быть, в чувствах мы имеем содержание, данное познающей мысли.
Однако, приняв этот тезис, мы рискуем остаться без ответа на возражение Когена: ведь познать — значит найти мысленное первоначало и мысленную сущность познаваемого! Как же возможно найти мысленную сущность ощущения, как можно выразить содержание его в мыслях, когда это содержание заведомо чуждо мысли и представляет собою для нее бессмысленное внешнее данное?
Пока теория познания остается на антропологической точке зрения, т.-е. пока она видит в познании только комбинацию человеческих мыслей о познаваемом, антиномия эта остается
243
безусловно неразрешимой, и попытка решения ее должна привести к признанию невозможности познания. Разве не безумна мечта — найти мысль в наших ощущениях, когда заранее известно, что они — бессмысленны и что наша отвлеченная мысль безусловно от них отрешена? Пока мы знаем только отвлеченную мысль и безмысленную чувственность, — пропасть между этими двумя элементами никогда и ни чем не может быть заполнена: соединение чувственности и мысли в познании должно представляться невозможным и даже немыслимым. А тот факт, что мы на самом деле знаем о наших ощущениях, — должен представляться необъяснимым и неразрешимым парадоксом.
Парадокс разрешается лишь с того момента, когда мы поймем, что наше познание предполагает всеединую мысль и пытается воспроизвести это всеединство в наших человеческих мыслях. Моя попытка выразить данные ощущения в мыслях предполагает, что безмыслие ощущения есть только кажущееся: где-то, — в истине, которой я покуда не знаю, — эти данные ощущения насквозь пронизаны мыслью; только этим оправдывается то дерзновение, с которым я ищу эту мысль об ощущении, это знание о нем.
Познавать — значит предполагать всеединую мысль, — мысль, охватывающую и проникающую собою до дна все познаваемое, — мысль, для которой нет ничего скрытого, — мысль, в которой и чрез которую — все явно. Это — мысль всецело отличная от моей. — Моя человеческая мысль — по существу отвлеченна и постольку не полна, не всеедина: чтобы мыслить общее, я должен отвлекаться от индивидуальных свойств предметов, от индивидуального их многообразия: я должен это делать — не в силу логического закона, а просто в силу психологической невозможности разом вместить в моем сознании конкретное „все“ со всею полнотою его содержания. Чтобы мыслить „все“, я — в силу моего человеческого несовершенства — должен отвлекаться от его полноты. Представление „всего“ для меня остается поневоле отвлеченным. Но отвлеченность эта есть свойство моей мысли, а не самого Всеединого. Всеединая мысль по самому существу своему конкретна, а не отвлеченна. Мои мысли выражаются в бескрасочных, бесцветных и беззвучных понятиях. Напротив,
244
мысль всеединая — есть мысль присущая всему, лежащая в основе всего, что есть, а потому самому — мысль бесконечно образная и красочная, объемлющая всю полноту беспредельного многообразия вселенной. Это — мысль, в которой самая противоположность мысленного и чувственного упразднена или снята, — такая мысль, которая есть вместе с тем и виденье, ибо перед ней одновременно раскрыто до дна, до мельчайших подробностей и каждое конкретное явление и общий его смысл.
Только в этой идее всеединой мысли мы имеем разрешение отмеченной выше антиномии познания. Ибо в ней с одной стороны оправдывается стремление нашего познания найти мысль в многообразии чувственных, для поверхностного взгляда безмысленных данных; а с другой стороны, раз в истине эти данные не безмысленны, а, наоборот, до дна озарены и освещены всеединою мыслью, они в ней перестают быть внешними данными: они составляют мысленное содержание всеединой мысли. Требование Когена, чтобы содержание познающей мысли давалось только мыслью, — таким образом исполняется в мысли всеединой и чрез нее: ошибка Когена заключается лишь в том, что он предъявляет к нашей человеческой мысли то требование, которое может предъявляться только к мысли всеединой. Поскольку наша мысль, как отвлеченная и неполная, не охватывает в своем пониманий всей полноты чувственного материала, — он остается для нее материалом внешним: он перестает быть таковым, лишь поскольку наша мысль в познании приобщается к мысли абсолютной и в меру этого приобщения сама становится всеединой, конкретной. Тогда внешние данные чувственности становятся для нее данными мысленными; тогда „тирания ощущения“ преодолевается ее творческим актом, который преображает ощущение в мысль и воплощает мысль в ощущении.
Предположение всеединой мысли составляет необходимую опору всего нашего познавания. Мы не имели бы никакого права связывать нашими категориями многообразие опытных данных, находить обшее в индивидуальном и индивидуальное в общем, если бы мы не были уверены, что связь эта есть в истине, — что истина есть некоторое ἕν καὶ πᾶν, в котором все действительное
245
и возможное образует реальное и вместе мысленное целое. Всеединство есть подлинное первоначало всякого познания. И та логика, которая отвергает это свое метафизическое предположение и опору, — тем самым перестает быть логикой первоначала.... и становится логикой безопорной мысли.
__________
246
ГЛАВА VIII.
Борьба против психологизма в учении Риккерта.
I. Первый путь теории познания.
Попытка Когена — преодолеть психологизм в теории познания без выхода в метафизику — в наши дни вовсе не есть изолированное явление. Наоборот, в этой борьбе на два фронта — против психологизма с одной стороны и против метафизики с другой стороны — выражается основные тенденции современного кантианства — весь его пафос. Поэтому для разрешения поставленной здесь задачи — рассчитаться с Кантом и кантианством — невозможно ограничиться одним критическим разбором учения Когена.
Последнее представляет собою одностороннюю попытку „ориентировать“ логику в математике и естествознании; односторонность эта прекрасно сознается многими из современных продолжателей Канта, и уже по этому одному преодоление Когена еще не есть преодоление современного кантианства. Может возникнуть сомнение, не есть ли неудача Когена последствие именно этой односторонности? Не могут ли недостатки его учения быть устранены на почве самого учения Канта — путем „ориентировки“ теорий познания в других областях научного знания, не принятых во внимание Когеном? Для разрешения этого вопроса представляется совершенно необходимым посчитаться с учением другого корифея современного кантианства — Риккерта. От Когена он выгодно отличается тем, что отдает себе ясный отчет в границах
247
„естественно-научного образования понятий“ 1), и пытается ориентировать свою идеалистическую философию в истории 2).
Отличие это касается не задачи, которую ставят себе оба писатели, а лишь способа ее разрешения, так как задача у обоих — одна и та же. Так же, как и Коген, Риккерт видит ее прежде всего в борьбе против чуждых духу Канта психологических и метафизических течений современной философии вообще и теории познания в особенности. В предисловии к основному своему гносеологическому труду — „Предмет познания“ он решительно заявляет: — „Моя работа хочет дать только теорию познания, а не психологию или метафизику; иначе говоря, она хочет развить то, что является предположением также и для психологии и для метафизики, а потому не может быть подходящим предметом для психологических или метафизических исследований“ 3). Поэтому для Риккерта в особенности важно выяснить, почему логический смысл акта познания может и должен быть понят независимо от ответа на вопрос о его психическом бытии“ 4). Не менее необходимо для него — отгородить себя от всякой метафизики. И это он делает везде, где только может, во всех своих сочинениях, посвященных теории познания и логике; при этом под „метафизикой“ он разумеет всякое воззрение, которое расщепляет действительность на „мир явлений“ и на лежащую „за ним“ абсолютную реальность, а затем, если эта реальность должна быть познаваемой, — вынуждено допускать для этого некоторые „рационалистические“ способности5). Риккерт подчеркивает, что так понимаемая метафизика, как наука, уже не может существовать рядом с трансцендентальной философией6). Иначе говоря, Риккерт — типический представитель того чистого гносеологизма современной философии, ко-
______________
1) Выяснению этих границ, как известно, посвящено наиболее объемистое его произведение – Die Grenzen der naturwissenschaftlichen Begriffsbildung (Tūbingenu. Leipzig, 1902).
2) Цит. соч., IV.
3) Der Gegenstand d. Erkentniss, VI.
4) Ibid., IV – V.
5) Zwei Weged. Erkenntnisstheorie, 171. (Kantstudien, B. XIV, Heft 2 u. 3), cp. Die Grenzen, 648 – 650, 667.
6) Der Gegenstand, 244.
248
торый надеется спасти учение Канта, очистив его от всякого психологизма и от всякой метафизики. Как мы уже знаем, в этом стремлении он сходится с Когеном; поэтому здесь прежде всего необходимо подробно выяснить его отличие от автора „Логики чистого познания“.
Преимущество Риккерта, которое должно быть здесь прежде всего отмечено, заключается в том, что он яснее Когена сознает основную трудность вопроса о познании, притом именно ту трудность, которая для всего современного кантианства представляет собою камень преткновения. Как пройти между Сциллой и Харибдой психологизма и метафизики? С одной стороны приходится подчеркивать сверхпсихический характер истинной мысли т.-е. ее независимость от психологического субъекта познания; и точно, по Риккерту, „мышление, чтобы быть истинным, должно представлять собою нечто большее, чем психический процесс, стало быть, — содержать в себе что-то, что не есть опять-таки только мышление“1). Это приводит к выводу, что предмет познания независим от мысли, более того, трансцендентен ей как психологическому процессу; а потому не предмет познания должен сообразоваться с нашей мыслью, а, наоборот, наша мысль должна сообразоваться с этим трансцендентным ей предметом2). На этом основании Риккерт категорически заявляет, что „основная проблема теории познания есть проблема трансцендентности“3). Но с другой стороны, признав неизбежный выход мысли к чему-то ей безусловно потустороннему или запредельному, Риккерт пытается истолковать этот transcensus так, чтобы отнять у него какое-либо онтологическое значение. Для этого ему нужно уничтожить всякое онтологическое истолкование самого предмета познания. Основное положение его учения заключается в том, что предмет познания вовсе не есть бытие, а ценность; поэтому и выход познающего субъекта к этому предмету вовсе не есть transcensus в онтологическом смысле: это — не выход нашего человеческого сознания к реальному бытию вне сознания, а только осуществление в нашем человеческом,
____________
1) Zwei Wege, 170.
2) Zwei Wege, 170 – 171.
3) Der Gegenstand, 16.
249
т.-е. в психологическом процессе сознания некоторого сверхпсихического содержания, — ценности.
Чтобы выяснить, как именно Раккерт приходит к этому выводу, — удобнее всего последовать ходу мысли наиболее зрелого и вместе, с тем — наиболее краткого его гносеологического произведения — „Два пути теории познания“. Первый из тех „двух путей“, которые здесь указываются, есть путь „трансцендентально-психологический“1). Он „исходит из действительного познания и старается постепенно дойти до трансцендентального его предмета“2). Напротив, второй путь — отвлекается ото всяких психических актов мышления и понимания: он исходит из истинного предложения (Satz)3), а затем пытается вскрыть природу того предмета познания, который им предполагается. Нетрудно убедиться, что оба эти намеченные Риккертом пути представляют собою логические продолжения единого кантовского пути теории познания4); ибо в конце концов оба исследуют логические предпосылки познания, как психического процесса и как суждения: оба отправляются или от факта нашего процесса познавания или от факта данного познания и пытаются выяснить логические условия возможности этого факта.
Приступая к этой задаче, Риккерт начинает с выяснения самого понятия познания. Он прежде всего устанавливает, что познание есть род мышленя, — именно тот род, который содержит в себе истину. Соответственно с этим и теория познания определяется у него как „наука о мышлении, поскольку оно истинно“5). Из этого определения исходят оба пути Риккертова гносеологического исследования.
Уже на первом пути, который ставит себе задачей подробное исследование психического акта познавания, необходимо рассмотрение „двух факторов, — акта познания, через который пости-
______________
1) ZweiWege 190.
2) Ibid., 181.
3) Ibid., 197 – 198.
4) Риккерт полагает, что метод Канта – в общем трансцендентально-психологический (Ibid, 226), но было бы правильнее сказать, что у Канта оба метода не различены и в применении беспрестанно переплетаются один с другим.
5) Zwei Wege, 169.
250
гается предмет и той составной части мышления, которая гарантирует (verbürgt) истину“1). Так как акт познания совершается в форме суждений, то, по Риккерту, теория познания должна прежде всего заняться суждением и „рассмотреть его в отношении к тому его элементу, ради которого его можно называть истинным или ложным“2).
Отвечая на этот вопрос, Риккерт прежде всего, указывает, что· все те элементы суждения, которые обыкновенно называются „представлениями“, сами по себе ни истинны, ни ложны: истина или ложь начинается лишь с того момента, когда мы говорим да или нет нашим представлениям, т.-е. когда мы что-либо утверждаем или отрицаем. Красное или зеленое, например, само по себе не истинно и не ложно; но утверждение „здесь есть красное“ — или утверждение — „здесь нет зеленого“ уже могут быть истинными или ложными. Стало быть, акт утверждения или отрицания с одной стороны противоположен представлениям, а с другой стороны представляет собою именно тот элемент суждения, посредством которого мы можем овладеть истиною или, что то же, — предметом познания: „познавать с точки зрения истины, значит утверждать или отрицать“3). Это доказывает, что основной вопрос теории познания касается не содержания, а формы познания: содержание сводится к представлениям и, следовательно, само по себе не составляет познания: значение познания может быть ему сообщено только утверждением или отрицанием, следовательно, — некоторою формою суждения.
Отсюда Риккерт делает существенный для его учения вывод, относительно предмета познания. — Если формой познания является утверждение, то предметом его должно быть то, что утверждается. Если так, то предмет познания „должен противостоять познающему субъекту как требование, т.-е. как нечто, требующее согласия. Только с требованием мы можем сообразоваться, утверждая, и только с требованием мы можем соглашаться. А это приводит нас к более широкому понятию для предмета познания. То, что познается, т.-е. то, что утверждается.
____________
1) Ibid., 181.
2) Ibid., 181.
3) Ibid., - 181 – 182; ср. DerGegenstand, 48 – 103.
251
или отрицается в суждении, должно лежать в сфере долженствования “1). В познании истина связывает познающего, как императив: он непосредственно чувствует, что он должен судить именно так, а не иначе. По Риккерту именно „признание долженствования сообщает суждениям то, что мы называем их истиною“2). Этот элемент долженствования есть во всяком суждении, претендующем на истинность, в том числе и в чисто фактических суждениях. Признаем ли мы за истину, что 2х2 равно четырем, что Кант жил в Кёнигсберге, или что данный предмет — красен, — мы неизбежно предполагаем, что суждения эти должны признаваться всяким познающим субъектом, что всякий судящий должен говорить им „да“.
Именно в этом долженствовании судить так или иначе, а не в каком-либо „бытии“, отличном от познающего, Риккерт видит подлинный предмет познания — Есть ходячее воззрение, которое полагает, что подлинный предмет познания есть какое- либо бытие, не зависящее от познающего, при чем самый акт познания представляет собою воспроизведение или копию с этого бытия. — Риккерт опровергает этот взгляд уничтожающими доводами. Основное его возражение сводится к тому, что мы вообще не знаем какого-либо бытия за пределами сознания, а потому и не можем его копировать. Теория познания как копии предполагает, что мы познаем и затем воспроизводим в нашем сознании какой либо независимый от сознания и запредельный ему предмет; но в этом утверждении заключается внутреннее противоречие: абсолютно внесознательное не может быть познано или сознано: мы ничего не можем сознавать кроме содержаний сознания; поэтому и бытие доступно познанию лишь в качестве содержания сознания. Мы не можем копировать того, чего мы не только не сознаем, но и не можем сознавать ни при каких условиях. Так же неверен и тот вариант теории воспроизведения, который утверждает, что наше познание „воспроизводит“ данные опыта. Риккерт указывает что, как раз наоборот, „всякое познание скорее выбирает незначительную часть данного, что, конечно, не есть воспроизведение (Nachbilden) и распреде-
_____________
1) Ibid., 184.
2) Der Gegenstand, 115—116.
252
ляет его таким способом, который не всегда согласуется с данным в восприятии порядком, если о таковом мы вообще считаем нужным говорить“ 1).
Познание наше не может сообразоваться ни с „бытием в себе“, потому что такого бытия мы не знаем, ни с воспринимаемым нами бытием, потому что мысленный логический порядок, установляемый в познании, не имеет ничего общего с чувственно воспринимаемым; познание не может быть воспроизведением бытия также и потому, что наиболее существенные его элементы — утверждение или отрицание, не имеют ничего общего с каким-либо бытием, о котором мы судим, и не представляют с ним ни малейшего сходства. „Напротив, долженствование, которое сознается нами как безусловная ценность, прекрасно может служить руководящею нитью нашим актам суждения, утверждающим или отрицающим“ 2).
Это утверждение Риккерта не должно быть понимаемо в том смысле, что „долженствование“ признавать ту или другую истину обусловливается для нас каким-либо реальным предметом познания, бытием, и из него вытекает. Для нашего автора — самое долженствование как такое, а вовсе не какое-либо отличное от него „бытие“ есть единственный предмет познания. Он поясняет это в полемике против Липпса. — По Липпсу „факт есть то, что я должен мыслить, или то, что от меня требуется, чтобы я мыслил“. С первого взгляда может показаться, что это утверждение совершенно тожественно с основным воззрением Риккерта, и, однако, между обоими писателями есть не совпадение в воззрениях, а, напротив, — полная противоположность. — Липпс полагает, что указанное долженствование или требование исходит от предмета, который существует: данный предмет — красен, и именно потому я должен утверждать, что он красен. Для Липпса предмет познания не есть долженствование, а бытие: и требование, относящееся к познающему субъекту, состоит именно в том, что мысли должны согласоваться с бытием —.
Риккерт держится диаметрально противоположного воззрения. Он указывает, что в учении Липпса есть petitio principii. Рас-
_____________
1) Dег Gegenstand, 1—3, 18—20; Zwei Wege, 175; Die Grenzen, 681—682
2) Die Grenzen, 682.
253
суждение Липпса заранее предполагает нам известным некоторый реальный предмет, который от нас требует определенных о себе суждений; но именно этого-то знания нам и недостает: до суждения мы им не обладаем. По Риккерту „для нас важен также предмет того познания, что нечто есть, а при этом уже не может идти речь о требовании, которое ставит нам бытие. Таким образом, под предметом познания мы разумеем такое долженствование, которое есть долженствование и ничего больше“. — При этом под долженствованием Риккерт понимает „нечто такое, что не есть или не существует“1). В применении к приведенному только что примеру это значит, что в суждении „этот предмет красен“ предметом познания служит не то или другое бытие (красный шкаф или стул), а требование, чтобы этот шкаф или стул признавали красным.—
Тут Риккерт предвидит возражение, которое напрашивается само собою. Ведь акт познания, как мы видели уже, предполагает некоторый предмет познания, безусловно независимый от познающего психологического субъекта и постольку ему потусторонний, трансцендентный. Соответствует ли такому определению только что указанный предмет познания? Разве долженствование, требование не есть известное психическое переживанье и, стало быть, психическое бытие познающего? Я должен признавать, что это дерево зелено! Не есть ли это „я должен“, это требование, ко мне обращенное, мое психическое состояние? Но если так, то где же сверхпсихический элемент истины, где „трансцендентный“ предмет познания; и может ли долженствование почитаться за таковой? Не окажется ли в этом случае самый предмет познания лишь субъективным чувством долженствования или требования?
Риккерт отвечает на это указанием, что долженствование и психическое переживание долженствования вовсе не совпадают между собою. Если я чувствую долженствование, оно, конечно, постольку становится моим психическим процессом, но совпадения между долженствованием и субъективным чувством долженствования все-таки нет даже и в этом случае. Я должен признавать, что это дерево зелено: это долженствование будет иметь
_______________
1) Zwei Wege, 184—185
254
место совершенно независимо от того, чувствую я это или не чувствую.
В вопросе о предмете познания идет речь только об этом объективном долженствовании а не о субъективном чувстве долга: предметом познания является лишь первое, а не второе. В самом деле, ведь субъективное чувство может обманывать; оно может быть в свою очередь истинным или ложным: дальтонист может искренно чувствовать себя обязанным признавать, что это дерево — красно, между тем, как на самом деле оно должно признаваться зеленым. Всякое познание должно быть признанием долженствования, но не всякое чувство долженствования должно быть непременно познанием, чтобы годиться в качестве познания, долженствование должно обладать необходимостью или, что то же, — безусловной значимостью. Под предметом познания Риккерт разумеет не такое случайное требование, которое зависит от существования одного или нескольких индивидов, а такое требование, для действительности которого совершенно безразлично, выставляется ли оно кем-нибудь. Предметом познания может быть лишь „чистое долженствование, т.-е. долженствование, не исходящее от какого-либо бытия и безусловное по форме: так как оно безусловно не зависит от какого-либо индивидуального, психологического субъекта, оно может называться „трансцендентным долженствованием“. Только при условии допущения такого „трансцендентного долженствования“ Риккерт считает возможным провести различие между истинными мыслями и мыслями вообще, которые суть простые психические акты, не имеющие сверхпсихического значения 1).
С этим связывается дальнейший вопрос: как трансцендентное долженствование становится имманентным? Как может оно связываться с действительными переживаниями и мыслями психологического субъекта? По каким признакам я могу узнать, что те или другие из этих переживаний и мыслей имеют и сверхпсихическое значение истины? Что гарантирует им эту истину? Это различие сверхпсихического и просто психического, истинного и неистинного указуется нам некоторым чувством очевидности: будучи имманентным, оно указывает нам на
_______________
1) Zwei Wege, 185—187.
255
трансцендентное долженствование: „трансцендентный предмет познания делается таким образом имманентным через признание требования, связанного с чувством очевидности“. Конечно, чувство очевидности может обманывать и не исключает заблуждения. Но, вообще говоря, познание овладевает своим предметом всегда через это чувство.
В итоге „первого пути“ для Риккерта становится достоверным, что трансцендентное долженствование составляет предпосылку истинного суждения; суждения ложные суть те, которым недостает этого трансцендентного предмета1).
II. Второй путь теории познания.
Риккерт отдает себе отчет в том, что этот переход от „чувства очевидности“, т.-е. от психологического факта к трансцендентному предмету познания представляет собою „скачок через пропасть“. И в этом скачке, — в этом необоснованном переходе — обнажаются существенные недостатки первого пути познания.
Риккерт указывает их сам. Он отмечает некоторое petitio principii, заключающееся в первом пути. Очевидно, что, чувство очевидности может указывать на трансцендентное только потому, что мы заранее влагаем его в это чувство: „если бы трансцендентный предмет не был для нас несомненным уже до анализа чувства, то мы никогда бы не могли прийти к тому, чтобы видеть в чувстве нечто большее, нежели чувство. Путем одного анализа чувства „трансцендентный предмет“ не мог быть добыт; и в данном случае он получился только потому, что анализ чувства был заменен конструкцией его смысла. Годный для теории познания результат таким образом был получен лишь благодаря petitio principii. По собственному признанию Риккерта, „мы должны были предположить трансцендентное, чтобы иметь возможность вообще говорить о познании“. В конце концов, первый путь теории познания не может сделать ни шага, не предполагая объективной истины над нашими психическими переживаниями; а это предположение чего-то лежащего над пси-
___________
1) Zwei Wege, 187—189.
256
хическим бытием, очевидно, не может быть добыто путем анализа психического бытия, — это логическая предпосылка познания. В итоге Риккерт так „характеризует пройденный им „первый путь“: „когда дело касалось психических процессов, речь всегда шла собственно не о них самих, а о присущем им смысле; и мы могли истолковывать этот имманентный им смысл только на основании понятий, происходящих не из самого исследования, а привнесенных нами с самого начала в работу“ Таким образом с точки зрения самого Риккерта „трансцендентально-психологический метод“ его первого пути „представляется весьма сомнительным. Этот метод не выдвигает с должною ясностью те основания, которые имеют решающее значение для его вывода, если только этот вывод верен“. Поэтому „первый путь“ еще не представляет собою необходимого для теории познания шага от акта познания к его предмету. Отсюда — „потребность другого пути, на котором можно было бы действительно продвинуться к трансцендентному предмету“1).
Второй путь, предлагаемый Риккертом, стремится исправить все указанные только что недостатки первого. Он исходит не из истинного суждения, как первый путь, а из истинного предложения: ибо он отвлекается от всяких актов мысли, которая судит: „если при этом и всплывают психические акты думанья и понимания, она (мысль) может оставить их в стороне как несущественные“ и тотчас обратиться к тому элементу предложения, который всецело отличен от всякого понимания: к этому элементу гносеолог относится совершенно так же, как физик к цветам. „Тот и другой игнорируют психические процессы, которые не имеют значения, хотя никогда не могут отсутствовать, и считаются только с предметом (die „Sache“), который они понимают и воспринимают, но который сам не есть нечто психическое“2).
Есть ли такой элемент в предложении? По Риккерту таковым является его „истинная мысль“ или, что то же, его „истинное значение“, „истинный смысл“. Самое слово „мысль“ может иметь двоякое значение — психическое и не психическое: под
____________
1) Zwei Wege, 189—193.
2) Zwei Wege, 197.
257
мыслью можно разуметь и психический акт мышления и сверхпсихическое содержание этого акта. Закон тяготенья, например, есть „истинная мысль“ вовсе не в качестве акта мышления Ньютона, хотя он впервые был продуман Ньютоном, а в качестве неизменного, всегда тождественного значения некоторого истинного предложения.
Риккерт тут же указывает дальнейшие различия между „мыслью“ в том и в другом значении. Акт мышления всегда начинается и прекращается во времени; напротив, „истинная мысль“ отличается от всяких психических актов именно тем, что она сверхвременна: закон тяготения всегда, неизменно — истинная мысль, и никакие психические акты мышления во времени не могут ничего прибавить к его истинности1).
Этот непреходящий, непсихический элемент мысли есть ее логический состав. Риккерт указывает, что именно этот логический состав представляет наибольший интерес для теории познания. Второй путь сосредоточивается на нем одном: от психического акта он совершенно отвлекается. Риккерт называет такую постановку вопроса „трансцендентально-логическою“ в противоположность трансцендентально психологической 2).
Основным здесь является вопрос о смысле истинного предложения. Мы уже видели, что этот „смысл“ не есть эмпирическое бытие, что он сверхвременен. Может ли он быть причислен вообще к бытию? Риккерт дает на это безусловно отрицательный, ответ. Он утверждает, что „смысл лежит „над“ или „до“ всякого бытия. Это следует уже из того, что познание, что нечто есть, всегда предполагает смысл, связанный с предложением, что нечто есть, все равно, идет ли речь о реальном или идеальном, чувственном или сверхчувственном, о данном или умопостигаемом бытии. Если этот смысл не истинен, тогда вообще ничто не „есть“. Следовательно, смысл не .может быть причислен к бытию, но должен ему логически предшествовать“ 3).
Несмотря на свою кажущуюся трудность, построение Риккерта
_____________
1) Ibid., 195—197.
2) Zwei Wege, 201.
3) Zvei Wege, 201.
258
здесь в сущности довольно просто и ясно. Оно сводится к утверждению, что истинная мысль о каком-либо бытии не совладает с самим бытием: мысль, что есть солнце, очевидно, — не то же самое, что бытие солнца: говоря языком Когена можно было бы выразить то же самое в утверждении, что всякое экзи- cтенциальное предложение относит то или другое бытие к его мысленному первоначалу — предбытию. „Смысл“ у Риккерта в данном случае есть также мысленное „пребытие“. Мы сейчас увидим, чем он отличается от „первоначала“ Когена. —
Риккерт тут же поясняет, в чем заключается отличие „смысла“ от „бытия“. — Смысл, лежащий над всяким бытием, относится.... к сфере ценности и может быть понят только как ценность1). Это доказывается следующим образом. —
Понятия бытия отличаются от понятий ценности тем, что отрицание бытия всегда имеет одно значение, тогда как отрицание ценности может иметь два значения. Отрицание бытия всегда означает только небытие, отсутствие бытия, тогда как отрицание ценности может означать и отсутствие ценности и отрицательную ценность. Применяя этот критерий к понятию „смысла, выраженного в предложении“, Риккерт находит, что и здесь отрицание дает „не только его уничтожение, т.-е. отсутствие смысла или безразличное к смыслу, но также и понятие отрицательного смысла, бессмыслицы или нелепости, которому в таком случае противополагается понятие положительного смысла“2).
Под „истинным смыслом“ предложения может подразумеваться только смысл положительный и, следовательно, положительная ценность в противоположность бессмыслице как ценности отрицательной. Мы видели, что истинный смысл — независим от акта мышления: соответственно с этим Риккерт определяет его как трансцендентную ценность а, так как проблема смысла составляет основное содержание теории познания, то последняя в свою очередь определяется как наука о теоретических ценностях и этим резко отделяется от всех наук, трактующих о бытии. Эта наука касается того, что по
_____________
1) Ibid., 203.
2) Ibid., 204—205.
259
своему понятию предшествует всем наукам, их материалу, признаваемому истинным или действительным. Ее проблема — это единственно те ценности, которые должны обладать значимостью, если ответы на вопросы о том, что есть вообще, должны иметь смысл, если имеет смысл то, что говорят о бытии математика и различные эмпирические науки. Словом, ценности, изучаемые теорией познания, представляют собою apriori наук. Таким образом, a priori по Риккерту „не есть ни психическое бытие, ни „достоверность“, ни „способность“ ни „сила“, ни вообще что-либо подобное, чем вызывается познание; оно вообще — не· реальное, а также и не идеальное бытие, а только форма смысла, теоретическая ценность, имеющая трансцендентную значимость, без которой смысл всякого положения о бытии перестал бы быть смыслом, без которой не было бы вообще истины, не было бы не только опыта, но даже и восприятия или какого бы то ни было познания а posteriori1).
Все предшествующее, по Риккерту, дает ответ на вопрос о предмете познания. Раз может считаться доказанным, что формы действительного знания должны соответствовать „трансцендентному смыслу“ или, что то же, - „трансцендентным ценностям“, очевидно, что эти „трансцендентные ценности“ и составляют подлинный трансцендентный предмет познания. Сравнивая результат первого пути теории познания с добытым только что результатом второго пути, Риккерт указывает важные преимущества последнего. — „Трансцендентная ценность“ выражает собою понятие предмета познания гораздо точнее, нежели понятие „трансцендентного долженствования“2). — В качестве веления долженствование всегда предполагает психологического субъекта, к которому оно обращается. Этим затушевывается подлинный, непсихический характер предмета познания. Последний несравненно точнее выражается понятием ценности самодовлеющей, совершенно независимой от какого-либо отношения к какому-нибудь бытию или субъекту: „сущность трансцендентного вполне исчерпывается его безусловной значимостью: оно не спрашивает, для кого оно значит. Трансцендентность ценности состоит именно в том, что
______________
1) Zwei Wege, 206—208.
2) Ibid., 209.
260
она сама в себе утверждается“: поэтому понимать эту ценность как долженствование для признающих ее субъектов — значит затемнять ее понятие1). Ибо истинный предмет познания — „смысл“ лежит высоко над всем человеческим, стало быть, также и надо всеми суждениями и актами признания2).
III Предмет познания и теоретико-познавательный субъект.
Все изложенные здесь воззрения Риккерта о предмете и о путях познания тесно связаны с его же учением о теоретико-познавательном субъекте.
Единственный трансцендентный предмет познания, с его точки зрения, есть, как мы уже видели, долженствование или ценность. Трансцендентного или запредельного „бытия“ Риккерт не признает вовсе, потому что „бытие“ для него сводится всецело к. содержаниям сознания; так понимаемое „бытие“ от начала до конца имманентно сознанию.
Это положение может быть правильно понято только в связи с учением Риккерта о сверхиндивидуальном сознании.
Он указывает, что противоположность субъекта и объекта может быть понимаема в трояком смысле, — 1) в смысле противоположности между психофизическим субъектом, („моим я“), состоящим из души и тела, с одной стороны и внешним пространственным миром, 2) с другой стороны в смысле противоположности между сознанием психологического субъекта (моего я) и миром предметов, существующим „в себе“, 3) в смысле противоположности между сознанием субъекта (я) и всею совокупностью содержаний этого сознания3).
Бытие предметов в первом и третьем смысле, как пространственного мира вне меня и как совокупности содержаний моего сознания — не вызывает сомнений. Пока я не затрагиваю вопроса о независимом от меня „бытии в себе“ пространственного мира, для сомнений в его существовании нет места. Равным образом непосредственно очевидно и существование содержаний сознания как таких. Можно сомневаться в том, напри-
_____________
1) Ibid., 209-210.
2) Ibid., 211.
3) Der Gegenstand, 13.
261
мер, соответствует ли данному моему зрительному впечатлению объективное дерево или трава; но в том, что в данный момент я вижу зеленое, — сомневаться невозможно.
Таким образом, единственным возможным предметом теоретико-познавательного сомнения является бытие трансцендентное, независимое от сознания. Но и это сомнение у Риккерта разрешается, хотя и в безусловно отрицательном смысле: такого бытия (в себе) он не признает вовсе: он не допускает никакой запредельной сознанию реальности, никакого другого бытия, кроме имманентного. Это „положение имманентности“ для нашего автора является истиной непосредственно очевидной, при чем очевидность ее для него больше той, какою располагает любая естественно-научная теория1). Всякую попытку — отрицать эту очевидность он объясняет лишь недоразумением или недомыслием: сторонники „трансцендентного бытия“ просто на-просто принимают за таковое какое-либо из имманентных содержаний сознания. Ярким и наглядным примером этого заблуждения по Риккерту представляет собою Локково учение о „первичных и вторичных качествах“. Теперь мнение Локка, будто первичные качества, в отличие от вторичных, суть свойства вещей в себе, — представляет лишь исторический интерес: „наделённая одними первичными качествами вещь, если бы она существовала, была бы во всяком случае вещью в имманентном пространстве, а поэтому была бы и сама имманентна“2).
Учение о трансцендентном бытии как о причине наших восприятий незаконным образом пользуется понятием причинности; ибо причинность никоим образом не может вывести нас из области имманентной. Понятие „действия“ возникает из изменений, наблюдаемых нами в чувственном мире: причина и действие выражают собою связь предшествующего и последующего в имманентном времени. Причинность выражает собою или ничего, или связь двух имманентных содержаний сознания. Для того, чтобы связать имманентное происшествие в сознании с каким-либо другим запредельным сознанию бытием, причинность совершенно негодна.
______________
1) Ibid., 40.
2) Ibid., 40.
262
Добытое таким образом положение „нет бытия вне сознания“ у Риккерта поясняется в связи с установленной им троякой противоположностью сознающего субъекта и сознаваемого объекта: вне моего тела есть множество других предметов в пространстве; главным образом, вне моего индивидуального, психологического я есть множество других объектов сознания (не я); стало быть, положение „нет бытия вне сознания“ должно быть понимаемо не в том смысле, что нет бытия вне переживаний индивидуального психофизического или просто психологического субъекта - сознания. Смысл его заключается единственно в том, что нет бытия вне сознания вообще.
Изложенная точка зрения не хочет иметь ничего общего с солипсизмом и решительно от него отмежевывается. — По Риккерту, „мир отнюдь не есть состояние моего сознания. Сознание вообще в противоположность со своим содержанием, субъект в противоположность всем объектам не есть индивидуальное я“. Это объемлющее все бытие сознание не есть ограниченная самость, вследствие чего самое выражение солипсизм (от solus ipse) к нему неприложимо. Это сознание есть для всех индивидуальных я „один и тот же сверхиндивидуальный субъект, та же теоретико-познавательная форма имманентного бытия“1). По Риккерту, смешение точки зрения трансцендентального идеализма с солипсизмом возможно единственно благодаря неразличению вышеуказанных различных смыслов субъекта сознания; субъект теоретико-познавательный вульгарной мыслью принимается за субъекта индивидуального, психологического; только благодаря этому возникает против трансцендентального идеализма странное обвинение, будто он сводит весь мир к „состояниям сознания“ человеческого индивида.
Чтобы положить конец подобным обвинениям, Рпккерт пытается провести строжайшую разграничительную линию между областью психическою и областью теоретико-познавательною. Раз сознание теоретико-познавательного субъекта, —то „сознание вообще“, которое объемлет в себе все бытие, — не заключает в себе ничего индивидуального, — ясно, что оно не содержит в себе и ничего психического. Этот субъект не есть ни индивидуальная
_______________
1) Der Gegenstand, 57—58.
263
душа, ни общий мировой дух в смысле метафизической сущности: это — не более, как „теоретико-познавательное понятие — субъект в противоположность всем вообще объектам“.
Соответственно с этим Риккерт настаивает на необходимости строжайшего различения между психическим бытием и содержанием сознания, т.-е. имманентным бытием вообще: „мир не есть психический процесс, хотя он и представляет собою содержание сознания“. Спиритуализм, все превращающий в психическое, для Риккерта — столь же неприемлемая метафизическая гипотеза, как и материализм, все сводящий к физическому1). Он протестует против всякого метафизического истолкования теоретико-познавательного субъекта и „сознания вообще“, в частности, стало быть, и против всякого воззрения, которое противополагает явление и сущность и рассматривает чувственно воспринимаемый мир как явление иного, неизвестного нам „умопостигаемого мира“.
Решительно восставая против такого раздвоения феноменального и ноуменального, Риккерт категорически заявляет, что воспринимаемая нами в пространстве и времени действительность — единственная, о которой мы имеем право говорить. В этом заключается точка соприкосновения между идеализмом и наивным реализмом: оба считают воспринимаемую нами действительность за безусловно истинную и подлинную: все различие между обоими воззрениями заключается единственно в следующей прибавке, вносимой идеализмом к тезису наивного реализма: „бытие этой действительности должно рассматриваться как бытие в сознании“2).
Будучи таким образом необходимым условием возможности бытия, теоретико-познавательный субъект есть вместе с тем для Риккерта условие возможности познания.
Это прямо вытекает из всего вышеизложенного его учения о познании. В самом деле, мы уже видели, что для Риккерта познавание есть прежде всего акт сверхпсихический и сверхиндивидуальный. Истина для него сводится к ценности сверхвременной, и потому самому — „независимой от всякого индивидуаль-
_______________
1) Der Gegenstand, 68—71.
2) Derг Gegenstand, 73—74.
264
ного содержания сознания“. В познавательном суждении познающий чувствует себя связанным некоторой сверхиндивидуальной силой, которой он вынужден подчиняться 1). Познание теряет всякий смысл, если над познающим нет такого от него независимого и его связывающего порядка представлений 2). Совершенно очевидно, что этот независящий от познающего субъекта и вместе для него обязательный порядок представлений может проникнуть в нашу мысль лишь чрез сверхиндивидуальное сознание.
Истинное суждение есть несомненно сверхиндивидуальный акт, потому что в нем отметаются все заблуждения и иллюзии индивида; по существу сверхиндивидуальна та необходимость, которая присуща истинному суждению. Если мы откинем все индивидуальное, психологическое, то эта необходимость суждения у нас все таки останется, а потому останется и сверхиндиви-дуальный судящий субъект, — субъект, который все может сделать объектом своего рассмотрения или суждения, но сам никогда не может стать объектом. Собственно, это „судящее сознание вообще“ и есть теоретико-познавательный субъект в подлинном значении этого слова. Чистый представляющий субъект сам в свою очередь предполагает судящего субъекта, ибо он есть понятие, образуемое этим последним: поэтому последним звеном в ряду субъектов, а, стало быть, и настоящим теоретикопознавательным субъектом может быть лишь судящее сознание вообще. Нетрудно убедиться в том, что этот судящий субъект вообще есть необходимое логическое предположение всякого бытия, т.-е. всякого имманентного объекта. В самом деле, „бытие“ чего бы то ни было имеет смысл только в контексте экзистенциального суждения „нечто есть“; поэтому самое понятие „содержания сознания“ совпадает с понятием присужденного или утверждаемого бытия; имманентное бытие есть не что иное, как бытие, утверждаемое как существующее 3).
Бытие чего-нибудь может быть истинным лишь поскольку суждение „нечто есть“ обладает трансцендентною значимостью.
_______________
1) Der Gegenstand, 113.
2) Ibid., 124.
3) Ibid., 142—148.
265
На этом основании Риккерт утверждает, что „вершина пирамиды понятий, подчиняющих себе мир, не есть понятие бытия в смысле неопределенного представления о чем-то существующем: она заключается в истинном суждении: нечто есть. Это суждение, разумеется, не индивидуально, но оно все же — суждение, и оно признает как таковое некоторое долженствование, такое долженствование, которое должно быть признано, чтобы нечто вообще существовало и которое поэтому должно быть совершенно независимым от сознания и, стало быть, трансцендентным“. Долженствование таким образом превращается у Риккерта в некоторого рода предбытие, в логическое условие всякого бытия, всякой действительности. Суждение „это дерево есть“ имеет смысл лишь в том предположении, что это дерево должно признаваться существующим. В этом именно смысле Риккерт утверждает, что „трансцендентное долженствование и его признание по своему понятию предшествует имманентному бытию“1). Для него „бытие“ имеет смысл лишь как „составная часть суждения“2). Поэтому, наперекор общераспространенному мнению, он учит, что не суждения наши должны сообразоваться с действительностью, а, наоборот, действительным является только то, о чем должно судить как о существующем: логически первоначальное есть долженствование, и не бытие3). С точки зрения теории познания, так понимаемой, „форма действительности получает свое обоснование в форме суждения: логически она представляет собою продукт суждения“4).
IV. Учение Риккерта о сверхиндивидуальном сознании и метафизический вопрос теории познания.
На пути к освобождению от психологизма в теории познания изложенное только что учение о сверхиндивидуальном сознании представляется важным шагом вперед. Изо всей философии Риккерта относящиеся сюда страницы представляются наиболее
____________
1) Ibid., 150—152.
2) Ibid., 156.
3) Ibid. 157.
4) Ibid., 170.
266
интересными и поучительными. Поэтому с них именно и должна начинаться критика.
Последняя должна прежде всего отметить ту важную положительную истину, которая заключается в разбираемом учении. — Риккерт совершенно прав в том, что всякое познание необходимо предполагает сознание сверхиндивидуальное, сверхпсихическое, т.-е. такое сознание, в котором нет ничего „моего“ или „твоего“ которое совершенно не зависит от чьих-либо· психических переживаний и состояний. — Или такое сознание в самом деле есть, или же никакое познание невозможно за отсутствием истины, которая могла бы послужить для него содержанием и предметом.
Поэтому изложенное учение могло бы быть признано важным открытием в теории познания, если бы оно было доведено Риккертом до конца, если бы в нем самом не было элементов, сводящих на нет его результаты.
Прежде всего Риккерт, как мы видели, стремится освободить свое учение ото всякой метафизической примеси, оградить его против всякого возможного вторжения какой-либо онтологии. На осуществление этой попытки дается ему ценою внутренних противоречий. Противоречия эти неустранимы, так как вся ценность понятия „сверхиндивидуального сознания“ для гносеологии заключается единственно в том, что оно выражает собою необходимое онтологическое предположение познания. Вопреки намерениям Риккерта это обнаруживается в его собственных рассуждениях. С одной стороны эти рассуждения имеют смысл лишь в том предположении, что сверхиндивидуальное сознание реально за пределом всякого возможного индивидуального, психологического сознания; с другой стороны во многих местах своих произведений наш автор решительно заявляет, что сверхиндиви-дуальное сознание никакой реальностью не обладает и представляет собою лишь методически необходимое понятие теории познания. Внимательное изучение сочинений Риккерта не оставляет сомнений в том, что одно из этих двух несовместимых между собою пониманий сверхиндивидуального сознания, необходимо предполагается его рассуждениями, а другое прямо им высказывается.
Реалистическое понимание сверхиндивидуального сознания
267
выдвигается Риккертом всякий раз, когда ему приходится защищаться против упреков в „иллюзионизме“ и отмежевываться от солипсизма. Оно и понятно: по Риккерту „солипсизм может быть опровергнут только с помощью понятия безличного сознания и теоретико-познавательного субъекта. Кто хочет признавать только индивидуальное сознание и при этом не желает допускать никакого независимого от этого сознания бытия, тот этим просто на просто утверждает солипсизм и теряет возможность когда-либо из него выйти“ 1). Антитезис Риккерта против солипсизма здесь заключается, очевидно, в том, что „реальность“ не исчерпывается „моим“ индивидуальным сознанием; она есть и за его пределами, как содержание сознания вообще. Таким образом, сам того не замечая, Риккерт предполагает здесь сверхиндивидуальное сознание как реальность за пределами моего сознания.
Предложение это выступает как нельзя более ясно в его ответе на целый ряд банальных упреков с точки зрения „здравого смысла“, которые обычно делаются трансцендентальному идеализму. Ходячее обывательское возражение пытается сразить идеалиста вопросом, „признает ли он существование мира до его рождения и после его смерти“? Ответ Риккерта на этот вопрос сводится к следующему. — „Пространственно-временный мир был до моего рождения таким же, каков он есть теперь и каким он по всей вероятности будет после моей смерти. Мое рождение и предвидимая моя смерть суть события в пространственно-временном мире и так же, как этот мир, представляют собою не что иное, как факты сознания. Но, если бы мы захотели спросить идеалиста, признает ли он существование мира также и до или после сознания, то он может на это сказать, что он так же мало понимает этот вопрос, как вопрос о том, существует ли мир также и до и после времени: ибо его утверждение именно в том н заключается, что нет никакого времени вне факта сознания. В каждое отдельное мгновение сознание объемлет мир в пространстве, как бы велик он ни был, и точно так же — мир во времени: прошедшее, настоящее и будущее. Но сознание не есть какая-либо временная вещь,
_____________
1) Der Gegenstand, 57.
268
до или после которой что-либо могло бы существовать пли относительно которой можно было бы утверждать, что она подвергается перерывам“ 1).
Очевидно, что все это рассуждение имеет смысл лишь до тех пор, пока в нем предполагается некоторое реальное всеединое сознание, объемлющее весь мир в пространстве и времени. В самом деле, бесконечное пространство и бесконечное время до возникновения сознающих индивидов или же после их уничтожения могут быть реальными фактами сознания лишь постольку, поскольку реально само сверхиндивидуальное сознание. Точно так же только в предположении реальности универсального сознания можно говорить, что в нем „нет перерывов“, и что в каждый данный миг оно охватывает собою весь необозримый пространственный мир: все это не имело бы никакого смысла, если бы сверхиндивидуальное сознание было только понятием. Вообще, если оно представляет собою только „понятие“, а не реальность, то тем самым испаряется в „понятие“ и все его содержание во всем его объеме. Тогда и все события до возникновения и после исчезновения сознающих индивидов перестают быть реальными происшествиями и превращаются в „понятия“. Но при этом условии, что же остается от различия между трансцендентальным идеализмом и иллюзионизмом? Не ясно ли, что оно может быть сохранено лишь постольку, поскольку „сверхиндивидуальное сознание“ мыслится как реальный носитель реальных происшествий и реальных фактов сознания!
Когда Риккерт утверждает, что „сознание вообще вовсе не есть реальность, ни трансцендентная, ни имманентная, а только понятие“ 2) он этим самым окончательно сводит на нет только что проведенную им же грань между его учением и грезящим идеализмом: ибо в таком случае реальными „фактами сознания“ остаются только психические переживания сознающих индивидов: Раз сверхиндивидуальное сознание есть только понятие, то как же возможно говорить о „содержании“ этого сознания как о реальности? Не то ли же это самое, что признать
___________
1) Der Gegenstand, 56.
2) Der Gegenstand, 29, 49, 143, 146, 149, 202.
269
данный дом существующим только в понятии и вместе с тем продолжать говорить о его комнатах как о реальных помещениях, заключающих в себе множество реальных предметов!
Риккерт именно так и поступает: в пояснение к утверждению, что сознание вообще есть „только понятие“, он заявляет: „это понятие построяется нами не иначе, как с привлечением относящегося сюда содержания сознания, и действительность присуща только этому содержанию, именно — действительность имманентного бытия“1).
Едва ли внутреннее противоречие всего учения может выразиться нагляднее чем здесь: ведь наименование „имманентного бытия“ приложимо к вещам и к прочим „содержаниям сознания“ единственно потому, что они реальны в сознании и только в сознании. Едва ли кто-нибудь до сих пор понимал „имманентное бытие“ в смысле имманентного понятию сознания! Но вдруг Риккерт договаривается до утверждения, что „содержания сознания обладают реальностью, независимою от самого сознания. Не очевидно ли, что при этом условии они перестают быть „имманентным бытием“? Реальность мира не зависит от реальности сознания! Не тому ли же самому учат догматики? Не имеем ли мы в вышеприведенных словах Риккерта замаскированного возвращения к их учению о „вещи в себе“? Избежать этого печального конца можно только одним способом: для этого нужно признать, что нет бытия вне абсолютного сознания и мыслить последнее не как фикцию, а как реальность.
Этого именно недостает учению Риккерта. Отвергая реальность теоретико-познавательного субъекта и сверхиндивидуального сознания, он пытается истолковать последнее, как идеал чистого разума, как регулятивную норму теории познания; соответственно с этим для него „с теоретико-познавательной точки зрения категориально оформленное содержание сознания, мыслимое как целое, не есть мировое целое как готовая действительность, но только идея целого, мысль о задаче — составить из совокупности данного единую, замкнутую в себе действительность“2).
_____________
1) Der Gegenstand, 29.
2) Der Gegenstand, 202.
270
На это можно сказать то же самое, что уже было высказано выше, по поводу учения Канта о регулятивном применении идей. Сверхиндивидуальное сознание о мире как целом может послужить для нас регулятивным принципом лишь при том условии, если оно является вместе с тем для нас конститутивным принципом. Задача — составить мыслью из совокупности данного единую, замкнутую в себе действительность — есть для нас в самом деле задача лишь при том условии, если мир доподлинно есть целое, связанное независимо от нас людей — всеединой мыслью: задача — воспроизводить всеединство в нашем человеческом познании ставится перед нами лишь в том предположении, что всеединство воистину есть! Или в самом деле есть всеединое сознание, обусловливающее возможность всякого дознания, или же учение Риккерта о сверхиндивидуальном сознании и о теоретико-познавательном субъекте лишено всякого значения а, стало-быть, и значения регулятивного!
Такое решение основного вопроса теории познания неприемлемо для Риккерта в качестве учения метафизического. Но все его возражения против возможности какого-бы то ни было метафизического учения о познании основаны на явном недоразумении. Из них обнаруживается только, что он не подозревает о возможности того решения, которое в данном случае представляется единственно возможным.
Главное из этих возражений сводится к тому, что всякое метафизическое решение в действительности не разрешает задачу познания, а ненужным образом удвояет ее, осложняет единственную задачу познания другой неразрешимой задачей. Всякое метафизическое решение, притязающее на значение метафизического познания, по Риккерту, тотчас выдвигает вопрос, чем может быть оправдано такое метафизическое знание1). Теория познания задается вопросом о логических предположениях познания действительности, поэтому ее понятия, которые выражают собою эти предположения, не могут быть понятиями о действительности; ибо в этом последнем случае следовало бы вновь поставить вопрос о логических предположениях этих понятий, и мы тем самым попали бы в бесконечный
______________
1) Der Gegenstand, 152.
271
ряд. Рйккерт считает возможным избежать этого затруднения лишь путем совершенного отрешения гносеологических понятий от всякой примеси чего-либо реального, действительного1).
Главный недостаток всех этих рассуждений заключается в непонимании основного вопроса теории познания. Вопрос об оправдании и возможности знания есть на самом деле вопрос о безусловном основании и начале знания. Оправдать знание — значит связать его с безусловным началом всякой достоверности. Поскольку же мы спрашиваем о возможности реального познания, т.-е. о возможности познания бытия, мы предполагаем, что безусловное начало и основание достоверного знания, которого мы ищем, есть и безусловное начало всякого бытия. Иначе говоря, онтологическая предпосылка, — предположение реального Безусловного заключается не в том или другом решении основного вопроса теории познания, а в самом вопросе. Самый этот вопрос или вовсе лишен содержания и смысла, или представляется вопросом о реальном Безусловном. Спрашивать — как возможно познание — значит стремиться выяснять, — как именно утверждается познание в Безусловном, как оно связывается с безусловным началом всякой мысли и бытия.
Кто отдает себе отчет в том, что основной вопрос теории познания ставится именно так, а не иначе, тот, разумеется, отрешится от суетного страха, будто метафизическое решение задачи влечет за собою ее удвоение. Раз самая задача по существу метафизична, — понятно, что и решение ее не может не быть метафизическим. Вместе с тем падают опасения, будто метафизическое решение теоретико-познавательного вопроса может поставить нас перед „дурною бесконечностью“, т.-е. превратиться в бесконечный ряд вопросов и ответов, не дающих окончательного решения. — Надо отдать себе ясный отчет в том, что вопрос о возможности познания есть в конце концов вопрос о связи познания с таким безусловным и безосновным началом знания, которое ничем другим обосновано и обусловлено быть не может. Это значит, что вопросы в теории познания именно при указанном выше решении не могут составлять бесконечной серии. Эта серия вопросов кончается тотчас, как
_______________
1) Ibid., 154—155.
272
только мы связываем познание с безусловным началом мысли и бытия.
Это Безусловное предполагается всем процессом нашего познавания как нечто непосредственно достоверное, что всему служит основанием и оправданием, но что само не может быть в свою очередь обосновано. Здесь, следовательно, все вопросы нашего знания а, стало быть, и вопросы теории познания находят свой естественный конец и предел. Выяснив, что все наше познание покоится на предположении реального Безусловного, уже нельзя дальше спрашивать. Задаваться вопросом о логических предположениях безусловного начала знания — значит просто напросто впадать в очевидное противоречие.
Изо всего вышеизложенного ясно, в какой мере и в каком смысле учение Риккерта о сверхиндивидуальном сознании может рассматриваться как шаг к преодолению психологизма. Очевидно, что о преодолении психологизма можно говорить лишь в том предположении, что над нашим человеческим психо-логическим сознанием есть иное сверхпсихологическое, безусловное и тем самым истинное сознание. Психологизм может быть побежден только при том условии, если это сознание реально. Напротив, если оно — не более как методологическое понятие, оно не может оказать нам никакой существенной помощи в теории познания: на почве фикции, преодоление психологизма может быть не действительным, а только фиктивным.
V. „Два пути“ и метафизические предположения познания.
Аналогичное впечатление производят рассуждения Риккерта о предмете познания и о двух путях теории познания. Здесь точно так же мы имеем довольно проблематический шаг к преодолению психологизма в теории познания. Он является действительным шагом вперед... лишь поскольку Риккерт, сам того не замечая, вдается в ту метафизическую область, которой он во что бы то ни стало хочет избежать.
Заслуга разбираемого учения, которая должна быть здесь прежде всего отмечена, заключается в ясном сознании той истины, что всякое человеческое познание, как такое, есть выход познающей мысли к запредельному, трансцендентному, и что, следовательно,
273
основной вопрос теории познания есть вопрос о трансцендентном. Нельзя не согласиться с Риккертом и в том, что именно то трансцендентное, к чему выходит мысль, познавая, и составляет сверхпсихический элемент познания, что именно в ясном сознании этого выхода к трансцендентному и заключается преодоление психологизма. Весь вопрос заключается единственно в том, что такое это трансцендентное: точно ли оно не содержит в себе ничего онтологического? Действительно ли за пределами познающей мысли нет сущего, а есть только долженствование и ценность?
Мы оставим пока в стороне вопрос, верно ли учение Риккерта, будто к долженствованию или ценности сводится вся сущность предмета познания. Нам нужно сначала сосредоточить наше внимание на важном предварительном вопросе, соответствует ли это учение своему основному притязанию, действительно ли оно не содержит в себе никакой онтологической примеси?
Учение это заключает в себе два тезиса, — отрицательный и положительный: с одной стороны нет трансцендентного бытия, т.-е. бытия запредельного сознанию; а с другой стороны есть подлинно запредельное сверхсущее — долженствование или ценность, которое составляет единственный истинный предмет познания.
Не трудно доказать, что, вопреки стараниям Риккерта, онтология врывается в его учение с обоих этих концов; она содержится в обоих только что упомянутых его тезисах — отрицательном и положительном.
В самом деле, что значит, что нет бытия запредельного сознанию? По Риккерту это значит, что нет в мире того раздвоения между сущим в себе и явлением, о котором учила старая метафизика. Вывод отсюда — тот, что наша действительность в пространстве и времени, в которой старый идеализм видел „только явление“, должна быть рассматриваема как подлинно сущее. Риккерт отказывается видеть в ней „бытие второго разряда“: он утверждает, что переживаемое нами содержание сознания есть вообще единственная действительность и кроме ее нет никакой другой1). Эта действительность может рассматриваться как „явление“ лишь постольку, поскольку она
_______________
1) Der Gegenstand, 45—46.
274
воспринимается психологическим субъектом; но в качестве содержания сознания вообще она должна рассматриваться как „абсолютное бытие“1).
Риккерт часто жалуется на несовершенство философского языка, вынуждающее пользоваться в теории познания метафизическими терминами; поэтому мы могли бы и в данном случае не останавливать нашего внимания на термине „абсолютное бытие“, если бы в нем можно было видеть только неадекватное выражение, неточно передающее мысль нашею автора. К сожалению, однако, такое истолкование представляется невозможным. Если в самом деле нет иной действительности, кроме действительности в пространстве и времени, составляющей содержание „сознания вообще“, термин „абсолютное бытие“ в применении к ней представляется вполне точным. — Нужно ли доказывать, что это — термин — по существу онтологический и что мысль, им выражаемая, представляет собою яркий образец чистейшей онтологии?
Логическою противоположностью онтологии и онтологизма является, очевидно, не какое-либо учение об „абсолютном бытии“ или об „истинно сущем“, а тот позитивистический агностицизм, который утверждает, что о подлинно сущем мы ничего не знаем и знать не можем, вследствие чего мы должны воздержаться от всяких о нем суждений.
Именно такого воздержания от суждений мы у Риккерта не находим. Как раз наоборот, он утверждает, что истинно сущее ему доподлинно известно, и что, кроме известного ему, имманентного сознанию бытия, никакого другого нет. Если это — не онтология, то трудно себе представить, какое другое учение заслуживает название онтологического. Онтологическим, впрочем, в данном случае должно быть признано не что-либо специфическое в учении Риккерта, а тезис, общий ему со всеми учениями, носящими название „имманентизма“: тезис этот заключается в том, что нет бытия вне сознания. 2) Спор этого имманентизма против старой метафизики, утверждавшей противоположность явления и сущего, — не есть отрицание онтологии, а просто на просто — противопоставление одной онтологии другой.
______________
1) Ueber die Grenzen, 667.
2) Раз в этом заключается основная черта всякой „имманентистской“ те-
275
К столь же интересным выводам приводит нас разбор положительного тезиса Риккерта — его учения о долженствовании и ценности как о предмете познания и единственном трансцендентном элементе познания. Казалось бы, именно этот тезис должен нанести онтологии окончательный, смертельный удар. „Трансцендентное“ есть именно та дверь, через которую в познание всегда вторгалась и вторгается метафизика; и Риккерт понял, что этой опасности нельзя избежать, закрывая на нее глаза. В отличие от многих других исследователей, он смело взял быка за рога и попытался доказать, что то трансцендентное, которое предполагается познанием, вовсе не есть бытие: понятие „трансцендентного долженствования“ и „трансцендентной ценности“ именно для того и предназначается, чтобы отнять у трансцендентного всякий онтологический смысл и таким образом преодолеть онтологию в самом ее источнике. Нам предстоит здесь выяснить, удалось ли это Риккерту.
Для разрешения этого вопроса следует принять во внимание, что оба тезиса Риккерта — отрицательный и положительный — составляют одно целое и органически дополняют друг друга. Утверждение нашего автора, что „трансцендентный предмет" познания не есть бытие, а „ценность“ или „долженствование“, может быть понято только в связи с его имманентизмом, т.-е. с его же утверждением, что переживаемая нами действительность (содержание познания) есть единственная действительность или „абсолютное бытие“.
В этом контексте самое учение о „предмете познания“ неизбежно получает онтологический характер вопреки намерениям нашего автора — освободиться от онтологии. —
В самом деле, хотя „трансцендентное долженствование“ или „трансцендентная ценность“ у Риккерта не есть бытие, она вместе с тем не есть просто небытие. Мы имеем в ней положительное начало, положительный смысл всякого бытия. Этот положительный смысл возвышается над всяким бытием и ему предшествует, как его логический prius1). Что бы мы ни позна-
____________
ории познания, подробный разбор учение Шуппе и других представителей· этого направления тем самым становится излишним.
1) Zwei Wege, 203.
276
вали о бытии, что бы ни высказывали о нем, — содержанием нашего познания, его подлинным предметом является „трансцендентная ценность “
Не ясно ли, что тем самым эта последняя приобретает онтологическое значение? Тот мир в пространстве и времени, который мы знаем, есть „абсолютное бытие‘‘ Но вот, оказывается, что даже и „абсолютное бытие“ не есть высшее в мире! Над ним есть другое, высшее начало, которому все действительное подчинено, всякое бытие как такое — подзаконно. Это начало у Риккерта получает название „долженствования“, „ценности“, оно же — трансцендентный смысл всего, что существует.
Как же должно быть понимаемо подчинение бытия долженствованию? Риккерт, разумеется, подчеркивает мысль, что это — первенство логическое; ценность или долженствование есть логически первоначальное 1) по отношению к бытию. Но как в данном случае отделить логическое от реального, когда вне логического реальное не существует, и всякое бытие как такое существует лишь через ценность, лишь поскольку оно в ценности находит свое утверждение и смысл! Разве мы не знаем, что для Риккерта „бытие“ — не более и не менее как „предикат суждения“2), ибо бытия неимманентного Риккерт не знает! Значит, для нашего автора, всякое бытие как такое существует не иначе как через отнесение его к долженствованию или ценности. По Риккерту через признание трансцендентных норм возникают нормы данности и формы действительности3).
Логическое в данном отношении неотделимо от реального: необходимо помнить, что с точки зрения Риккертова имманентизма вне „судящего сознания вообще“ никакого бытия и никакой реальности не существует. Но при этом условии „трансцендентная ценность“ представляет собою уже нечто большее, чем простое „логическое условие“ бытия: вопреки намерениям Риккерта она получает значение метафизического начала. И таким образом, согласно пословице — „гони природу в дверь, она влетит в окно“, онтология врывается в ту область, куда Риккерт всего менее склонен ее допустить.
_____________
1) Der Gegenstand, 157
2) Der Gegenstand, 158.
3) Ibid., 201.
277
Нужно отдать себе отчет в том, как произошел этот невольный уклон в метафизику в учении одного из самых решительных противников всякой метафизики. Уклон этот является результатом необходимости, лежащей в самом существе теории познания. Хочет или не хочет того Риккерт, — основной вопрос всякой теории познания есть вопрос о Безусловном, как о начале всякого знания и всякоаго бытия. Стало-быть, поскольку Риккерт спрашивает как возможно познание, — он тем самым ставит вопрос о Безусловном.
Неудивительно поэтому, что „трансцендентная ценность“, утверждаемая Риккертом как верховное начало всякого познания, наделяется у него предикатами Безусловного, при том Безусловного не только в смысле логически необусловленного, абсолютно достоверного, но и в смысле реальном, метафизическом. Ведь знать что-либо о бытии возможно лишь через отнесение познаваемого бытия к его безусловному началу. Стало быть, вопрос, — как возможно познание, — есть всегда вопрос о Безусловном не только в логическом, но и в реальном значении этого слова. И теория познания, отрицающая этот метафизический смысл своего основного вопроса, — тем самым обречена на безысходное внутреннее противоречие.
Противоречие это как нельзя более наглядно изобличается тем знаменитым текстом „республики“ Платона о сверхсущем благе, который служит эпиграфом для главнейшего гносеологического сочинения Риккерта — „Не только познаваемость доставляется познаваемым предметам благом, но также и бытие и сущность сообщается им от него; самое же благо не есть сущность, но пребывает по ту сторону сущности, превосходя ее значением и силой“
На внутреннее противоречие в разбираемом учении указывает тот поистине изумительный факт, что, в пояснение к своему „антиметафизическому“ учению о ценности, Риккерт избирает именно этот — самый метафизический из метафизических текстов Платона. О какой-либо аналогии тут может идти речь лишь постольку, поскольку учение Риккерта содержит в себе онтологические элементы. В самом деле, в чем заключается сходство в данном случае? Во-первых, в том, что, подобно идее блага Платона, „трансцендентная ценность“ Риккерта есть
278
сверхсущее: она лежит по ту сторону бытия; во-вторых — в том, что это сверхсущее у Риккерта, как и у Платона, не есть только верховное начало познания, но и начало всякого бытия: „не только познаваемость“ доставляется им предметам, „но также бытие и сущность сообщается им от него“. Таким образом то, что Риккерт считает высшим выражением гносеологии, оказывается на самом деле классическим произведением метафизики. — И вся правда учения Риккерта заключается единственно в этом сближении его с учением Платона. Если мы скажем, что познание всего, что есть, возможно лишь через отнесение познаваемого к некоторой сверхсущей ценности, то такой ответ может быть правилен лишь при одном условии: если всякое бытие как такое доподлинно и действительно подчинено этой сверхсущей ценности, если эта ценность не есть только „понятие“ а реальное метафизическое начало, господствующее надо всей областью бытия. Одно из двух: или учение Риккерта должно решительно заявить себя новой онтологией долженствования и ценности, понять „трансцендентную ценность“ как некоторый всеединый порядок, объемлющий в себе весь мир действительного и возможного, или же, оно должно признать, что „трансцендентная ценность“ не имеет к бытию совершенно никакого отношения и, стало быть, не выражает его смысла, ничего не может дать для познания о нем. Или решительный выход в метафизику, или отказ от собственного решения гносеологической задачи, более того, — от всякого ее решения, такова та дилемма, которая ставится перед Риккертом.
Вследствие упорного отрицания единственного выхода, который мог бы быть для него спасительным, учение Риккерта остается созданием половинчатым и двусмысленным, какой-то странной, не сознавшей себя метафизикой. Поэтому важнейшее из тех затруднений, с которыми сталкивается теория познания, оказывается для вашего автора — непреодолимым.
Затруднение это в общем сводится к следующему; с одной стороны всякое познание есть выход к трансцендентному; с другой стороны тот материал, над которым оно оперирует, сводится к многообразным содержаниям сознания и, следовательно, — от начала до конца имманентен: наше знание хочет быть прежде всего знанием о бытии, т.-е. об имманентном.
280
Спрашивается, как же связываются между собою эти две чуждые друг другу сферы, чем заполняется пропасть, лежащая между ними? Теория познания должна показать единство имманентного бытия и его трансцендентного смысла: иначе она не выполняет своей задачи. Как же разрешается эта задача у Риккерта?
Самая ее постановка приводит нашего автора в полное замешательство. Один за другим оба его „пути“ теории познания оказываются недостаточными для ее решения, вследствие чего он вынужден испробовать еще третий способ — взаимного восполнения двух методов, заведомо неудовлетворительных. В результате этих попыток — все соединительные мосты между трансцендентным и имманентным оказываются построениями чисто бумажными и рушатся. Этот конец приводит Риккерта к заключению, что самое единство трансцендентного и имманентного в познании есть не более и не менее как чудо, которое можно только констатировать, но не объяснить. И таким образом вся попытка построить теорию познания оканчивается простым отказом — ответить на основной теоретико-познавательный вопрос.
Чтобы убедиться в том, что я в данном случае не преувеличиваю, достаточно проследить внимательно последнюю главу трактата Риккерта — „Два пути теории познания“.
Читатель помнит, что „первый путь“ представляется Риккерту неудовлетворительным, потому что на самом деле он не выводит нас от психологического факта к трансцендентному предмету познания. Вместо логического перехода от одного к другому мы имеем здесь на самом деле „скачок через пропасть“. И это — по той простой причине, что никакой психологический анализ не в состоянии вскрыть сверхпсихического смысла познания1).
Но далее оказывается, что и второй трансцендентально-логический путь страдает недостатком не менее важным. Он утверждает ту же пропасть между трансцендентным и имманентным, но только с другой стороны. Он обнаруживает, что акт познания предполагает некоторый трансцендентный предмет. Но спрашивается, как же это трансцендентное может войти в имманентную область сознания? Как безусловно непсихическое может
___________
1) См. выше, стр. 256—257.
280
стать психологическим фактом? „У нас имеется предмет, но мы не знаем, как этот предмет познается. Как чистая ценность трансцендентное отделено от всякого познания непроходимой пропастью. Истина восседает тогда на потусторонней высоте. Смысл истинных предложений обладает вневременною значимостью, но он ни для кого не значит“. Второй путь указывает нам, в чем заключается предмет познания, но он не в состоянии ответить на вопрос, в чем заключается познание предмета; постольку, однако, его ответ на основной вопрос теории познания вовсе не есть ответ: ведь на самом деле мы не можем знать, что такое предмет познания, если мы не знаем, как этот предмет познается: „без понятия познания понятие предмета познания утрачивает свой смысл“ 1). Все значение „второго пути“ заключается именно в отделении психического бытия от его смысла, в разграничении между действительностью и ценностью. Но разграничив, отделив эти два мира, „трансцендентально-логический“ метод не в состоянии найти обратного пути от трансцендентного предмета к имманентной области познания. Он утрачивает самую связь между предметом и его познанием 2).
Тут Риккерт попадает в совершенно безвыходное положение. — Оба „пути“ его теории познания оказываются неудовлетворительными по одной и той же причине: оба оказываются бессильны совершить „скачок через пропасть“ — первый от психического акта познавания — к предмету познания, второй же — в обратном направлении — от предмета к познанию. Стало быть, оба метода оказываются несостоятельными именно в разрешении основной задачи теории познания: раз переход от психического к сверхпсихическому и обратно — от сверхпсихического к психическому — не найден, — психологизм в теории познания остается непобежденным, процесс усвоения нами сверхпсихической истины остается непонятым: но при этих условиях вся попытка Риккерта дать новую теорию познания рискует остаться бесплодным топтанием на месте!
Тот выход из затруднения, который находит здесь наш автор, только доказывает, что никакого действительного выхода
_______________
1) Zwei Wege, 217.
2) Ibid., 218.
281
в его распоряжении не имеется. — Он предлагает восполнить второй путь первым и это — на том основании, что „мы не можем все время игнорировать акта познания“1). Что же получится в результате такого „восполнения“? Первый путь утверждает акт познания, второй — предмет познания, но связать познания с его предметом все-таки ни тот ни другой не могут: в конце концов пропасть так и остается пропастью и перескочить через нее риккертовым методам не удается ни порознь, ни вместе. „Трансцендентная ценность“ соединяется с актом познания лишь поскольку она „претворяется для мышления в долженствование, признаваемое через утверждение“2). Но тогда она перестает быть „трансцендентною“ и становится „имманентным смыслом“ акта познания3). В конце концов мост между двумя мирами перекидывает у Риккерта „трансцендентальная психология“4) — та самая наука, которая по его же собственному признанию может перейти к трансцендентному лишь посредством скачка!
Чувствуя неудовлетворительность такого решения, Риккерт завершает свое исследование признанием невозможности для мысли — „соединить оба мира — бытия и смысла“. Он признает, что наша неспособность понять единство „двух царств“ — бытия и ценности — может навести на мысль, что это единство есть „чудо, не допускающее никакого объяснения“5). Но остановиться на признании познания „чудом" ‘Риккерт не может, потому что это было бы равнозначително простому отказу от теории познания. Поэтому он изобретает здесь другой выход. — Дуализм бытия и смысла, познания и ценности в действительности не существует: он — не более, как продукт нашей человеческой рефлексии, которая может понимать только разъединяя то, что первоначально связано. На самом деле познание и ценность непосредственно между собою связаны и, познавая, мы „переживаем“ эту связь. Однако, по Риккерту, рефлексия этой связи понять не может: она неизбежно раскалывает на-двое непосред-
______________
1) Zwei Wege, 218.
2) Zwei Wege, 221.
3) Ibid., 220.
4) Ibid., 221.
5) Ibid., 222.
282
ственное единство познания и его предмета и не в состоянии вновь связать расколотое воедино. „Познавать — значит различать, и постольку мышлению, значит, действительно невозможно снова соединить оба мира бытия и смысла“1).
Окончательный вывод Риккерта сводится к тому, что „единство есть первоначальное, мы могли бы сказать, что оно — наиболее знакомое нам, если бы слово „знать“ не делало уже из единства раздвоения и если бы мы не должны были поэтому избегать говорить о нем. Достаточно сказать, что оно, конечно, непонятно, но не в качестве превышающего понимание, а в качестве предшествующего понятиям“2).
В этом заключительном выводе Риккерт дает замечательно правдивую оценку собственной теории познания. С одной стороны он непосредственно чувствует единство трансцендентного и имманентного в познании; мало того, он видит, что в этом чувстве выражается важнейшая истина и смысл всякого акта познания. Но с другой стороны он вынужден признать, что его теория познания не в состоянии найти адекватного выражения для этой истины; иными словами, оказывается, что эта теория познания бессильна осознать основной принцип и основное предположение всякого познания. Нам остается здесь признать справедливость этого приговора и попытаться понять источник этого бессилия.
VI. Положительное и отрицательное в учении о познании Риккерта.
Приступая к выполнению этой важнейшей задачи настоящей главы, мы должны еще раз вспомнить, что для нас дело идет не об одном только изобличении недостатков учения Риккерта. Самая ложь этого учения может быть правильно понята и освещена только через сопоставление с его истиною, и только путем усвоения последней можно окончательно преодолеть первую.
Я уже говорил, что истина учения Риккерта заключается прежде всего в правильной постановке основного вопроса теории
________________
1) Ibid., 223-224.
2) Ibid., 224.
283
познания. Риккерт совершенно прав в том, что это — вопрос о трансцендентном начале имманентного процесса познавания, иначе говоря, — вопрос о единстве трансцендентного и имманентного в акте познания. Заслуга Риккерта не ограничивается одною правильною постановкою задачи: он сделал первый и чрезвычайно важный шаг для ее разрешения. Ему удалось доказать, что в каждом нашем познавательном суждении, как бы элементарно и просто оно ни было, неизбежно присутствует некоторый элемент трансцендентного, без которого не может быть познания. Когда мы говорим „да“ любому содержанию нашего сознания, — мы тем самым утверждаем его в истине; а истина и есть трансцендентное по отношению ко всем нашим психическим состояниям, ибо истинное есть сверхпсихическое. Мало того, всякое мое психическое состояние тотчас приобретает сверхпсихическое значение и смысл, как только я отношу его к истине чрез познавательное суждение. Даже в так называемых „суждениях восприятия“ мы можем наблюдать это единство имманентного и трансцендентного, психического и сверхпсихического. — Мое восприятие красного цвета представляет собою психическое мое состояние и ничего более: но, как только я произношу суждение — „я вижу красное“, — это имманентное мое переживание тотчас приобретает трансцендентный смысл, ибо оно утверждается в истине; я могу тотчас после произнесения этого суждения умереть, прекратить навеки мое психическое существование, — суждение мое остается все-таки навеки истинным, истинным за пределами моей исчезающей психики. Я исчезну, и все-таки утверждение, что в данный момент я вижу или видел красное, — никогда не утратит своей истинности.
Необъяснимое для Риккерта „чудо познания“ заключается именно в этом непосредственном тожестве трансцендентного и имманентного, именно в том, что любое содержание сознания, не исключая и самого субъективного из субъективных ощущений, через отнесение к истине становится трансцендентным, сверхпсихическим. Спрашивается, почему же Риккерт не понял тайны этого превращения? Очевидно, что для этого ему недостает какого-нибудь необходимого, более того, — важнейшего для теории познания понятия. Посмотрим, что же это за понятие. —
Очевидно, что, если противоположность трансцендентного и
284
имманентного имеет абсолютное значение, т.-е. значение одинаково необходимое для всех ступеней мысли и сознания, — основной вопрос теории познания должен быть признан просто-напросто неразрешимым, и нам следует окончательно отказаться от его постановки. Мы можем надеяться на его разрешение лишь при одном условии, если противоположность трансцендентного и имманентного есть противоположность какого-либо или каких-либо планов сознания, которая разрешается или, говоря точнее, снимается в ином, высшем плане сознания. Только при этом условии мы можем выполнить основное требование теории познания: найти такую точку зрения, где тожество нашего субъективного сознания трансцендентной истины становится достоверным и вразумительным.
Эта точка зрения уже указана в предшествующем изложении. Нам остается только ее подтвердить и напомнить, что противоположность трансцендентного и имманентного может быть снята только в понятии абсолютного сознания. Необходимо здесь несколько остановиться на этой мысли.
Противоположность трансцендентного и имманентного сохраняет свою силу для нашего, как и для всякого другого сознания лишь постольку, поскольку некоторое возможное содержание сознания остается ему запредельным, т.-е. поскольку оно не охватывает собою полноту всего мыслимого. Иначе говоря, противоположность трансцендентного и имманентного сохраняет свою силу только для сознания невсеединого и неабсолютного. Напротив, в сознании абсолютном или всеедином эта противоположность снимается: ибо это сознание охватывает собою все действительное и возможное; для него нет ничего запредельного, ничего им не осознанного; следовательно, для него — все имманентно. Поскольку мое сознание не охватывает в себе абсолютного сознания во всей полноте его содержания, поскольку мои собственные переживания и состояния сознаются мною вне контекста сознания абсолютного или всеединого, постольку последнее для меня трансцендентно. Напротив, в моем сознании нет ничего трансцендентного для абсолютного сознания, ибо последнее есть сознание всеединое: поэтому перед ним обнажено все содержание моего сознания, не исключая и самых субъективных моих переживаний. Поскольку я пребываю во лжи, — абсолютное·
285
сознание мне трансцендентно но для него даже моя ложь не превращает моего сознания в трансцендентную ему сферу. Ибо самая моя ложь им осознана в абсолютном ее контексте и постольку снята в нем, как ложь. В истине его абсолютного синтеза все явно, все осознано и постольку — имманентно.
В этом и заключается ключ к разрешению той основной трудности теории познания — которая представляет собою камень преткновения для Риккерта. Изложенное здесь понимание абсолютного сознания дает ответ и на основной вопрос гносеологии, — как возможно наше, человеческое познание: как может оно, оставаясь человечески-психическим, в то же время вмещать в себе сверхпсихическое содержание и смысл, — как может самое наше сознание стать сверхпсихическим по своему значению.
Ответ на этот вопрос заключается в том, что и для нас — людей противоположность трансцендентного и имманентного снимается, поскольку мы утверждаем наши психические переживания в контексте абсолютного сознания или, что то же, — в контексте всеединого сознания. Вернемся к предыдущему примеру: когда я выражаю мои подлинные переживания словами „я вижу красное“ или „я вижу зеленое, “ — в этих суждениях, если они правдивы, — противоположность трансцендентного и имманентного — снята. Если я в данном случае говорю правду, это значит, что не только „я вижу зеленое“, но и абсолютное сознание видит меня видящим зеленое. Стало быть, оно в данном отношении имманентно моему сознанию. Но допустим, что я ошибочно истолковал мое восприятие: я вижу облако и принимаю его за отдаленную горную вершину: в этом случае абсолютное сознание не имманентно моему: ибо оно сознает меня видящим облако, тогда как я (ошибочно) сознаю себя видящим гору. Всякое устранение лжи, заблуждения и неведения в акте познания есть тем самым снятие противоположности трансцендентного и имманентного. Ибо истинное суждение утверждает то содержание нашего сознания, о котором оно судит, именно так, как оно осознано в сознании абсолютном. Тут, в меру нашего познания, между нашим и абсолютным сознанием достигается тождество в содержании. Разумеется, в виду ограниченности нашего познания, это тождество простирается на весьма незначительную область; но, как бы она ни была незначительна, о на-
286
шем познании можно говорить лишь постольку, поскольку наше сознание совпадает с сознанием абсолютным. Через абсолютное сознание мы знаем все, что мы знаем; и вне его мы не можем знать ничего, даже того, что мы существуем, чувствуем, сознаем. Ибо все эти факты и переживания получают значение знания лишь в том предположении, что мое сознание о них есть вместе с тем абсолютное сознание.
Теперь нам ясно, почему основная трудность теории познания остается для Риккерта неразрешимой: все его рассуждение пребывает всецело и исключительно в той плоскости сознания, где грань между трансцендентным и имманентным сохраняет значение непреодолимой преграды, исключающей возможность какою- либо перехода от одного к другому: эта грань снимается лишь в той области, которая остается у Риккерта несознанной — в плоскости сознания абсолютного.
Этим дается нам критерий для оценки учения нашего автора о „трансцендентном долженствовании“ и о „трансцендентной ценности‘‘ как о подлинном предмете познания. На той точке, на которой мы стоим, мы без труда можем отделить в этом учении зерно от мякины.
Правда этого учения заключается в том, что всякое познавательное суждение действительно утверждает некоторое долженствование и ценность, которая служит для познания руководящей нормой; напротив, его неправда заключается в том, что это долженствование и ценность получают в нем значение безусловного начала познания. Нетрудно убедиться в том, что всякое познавательное суждение заключает в себе некоторую положительную оценку того содержания сознания, которое утверждается в данном суждении. Мы несомненно ценим суждения „прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками“ или „русско-турецкая война началась в 1877 году“; мы находим, что все так должны судить. Но Риккерт глубоко ошибается, когда он принимает это долженствование и эту ценность за то безусловное в познании, что составляет его предмет и гарантирует его истинность.
Не истина в данном случае сводится к долженствованию или ценности, а как раз наоборот: только в качестве истинных познавательные суждения для нас ценны и утверждаются
287
нами как должное. Суждение „Наполеон был в Москве в 1812 году“ выражает для нас истину не потому, что „так судить должно“; как раз наоборот, мы считаем, что „так должно судить“ только потому, что считаем данное положение истинным.
Таким образом, вопреки Риккерту, в акте познания не сознание истинности следует долженствованию или ценности, а наоборот, долженствование и ценность следует за сознанием истинности. Но что такое это сознание истинности какого-либо суждения? Мы видели, что оно сводится к признанию безусловности того или другого содержания сознания. Положения: „сумма углов треугольника равна двум прямым, или „все люди смертны“ — истинны, потому что они выражают не мое или чье-либо индивидуальное сознание, а безусловную мысль и безусловное сознание. И только потому они ценны. — В итоге Риккерт прав, что истина есть ценность и долженствование; но это не есть „ценность потусторонняя сознанию“, а как раз наоборот — ценность абсолютного сознания.
Абсолютное сознание и есть то подлинно трансцендентное, с чем должен сообразоваться процесс нашего познавания, но, поскольку наше познание сообразуется с абсолютным сознанием и ему следует, последнее тем самым из трансцендентного становится нам имманентным; постольку сверхпсихическое становится смыслом психического, а психическое приобретает значение безусловного. В этом и заключается разрешение основного вопроса теории познания. Наше человеческое сознание может получить свое руководство и норму не от чего-либо потустороннего сознанию, а только от безусловного или всеединого сознания.
288
ГЛАВА IX.
Кризис кантианства в учении Ласка.
I. Борьба с психологизмом и новое истолкование ,,коперникова деяния “ у Ласка.
Попытка кантианства провести теорию познания между Сциллой и Харибдой психологизма и метафизики есть предприятие по самому существу своему безнадежное и противоречивое. И это — по той простой причине, что самое отрицание метафизики у Канта — всецело покоится на его психологизме или, что то же, — на его антропологизме.
„Психологистично“ по существу прежде всего противоположение „феномена и ноумена“ в кантовском значении этих терминов; поэтому психологизм составляет неизбежную предпосылку всего построенного на этом противоположении учения о границах познания. Границы эти у Канта отождествляются с психологическими границами воспринимающего, психофизического субъекта. „Мы“ люди можем познавать вещи лишь как они нам являются, т.-е. лишь поскольку они с нами соприкасаются, воздействуют на наши органы чувств. „Феномен“ или „явление“, т.-е. именно та область, за пределами которой мы ничего знать не можем, по Канту, есть синоним бытия психологически доступного; наоборот, ноумен для него — синоним психологи-чески недоступного: это — то, что мы можем только мыслить, но не воспринимать, и о чем только в силу этой невозможности воспринимать нам недозволительны никакие суждения. Именно в качестве психологического субъекта человек не может ничего знать о „вещах в себе“. Кант прекрасно представляет себе возможность иного, Божественного ума, познающего вещи в себе
289
путем непосредственной „интеллектуальной интуиции“. Но таковой мы люди не обладаем: вещь в себе остается недоступной нашему познанию единственно вследствие нашей психологической ограниченности.
К тому, что было выше сказано о противоречивости такой точки зрения, здесь остается прибавить лишь весьма немногое.
Противоречиво уже самое отождествление трансцендентного с „ноуменальным“, т.-е. мысленным; в этом отождествлении проглядывает сознание того, что для мысли, как такой, нет ничего трансцендентного. Пусть вещь в себе утверждается как „непознаваемое“, — мысль все-таки о ней знает: она не может не перейти этой искусственно ей положенной границы, потому что для нее нет ничего безусловно трансцендентного: всякий акт мысли по самой природе своей есть transcensus. И, так как мышление как такое есть выход к Безусловному или Всеединому, то в конце концов истинным предметом мысли является „все“ и, следовательно, для нее нет ничего безусловно (навеки) трансцендентного.
Учение, отрицающее возможность знать что-либо за пределами явлений, не может быть выдержано, потому что всякое познание по самой природе своей сверхфеноменально: самое познание явления есть отнесение его к сверхфеноменальной и сверхпсихологической истине. Этим и обусловливается безвыходное положение современного кантианства. Когда оно отрицает возможность какого-либо метафизического знания, оно тем самым неизбежно впадает в психологизм Канта. И наоборот, чем больше оно отрешается от психологизма, — тем более оно становится метафизическим или онтологическим.
Усиленная борьба современного кантианства против психологизма по этому самому делает для него неизбежным — внутренний кризис: в результате этой борьбы, с кантианством должно повториться то же, что некогда случилось с самим Кантом, который против воли стал отцом новой метафизики.
Этот кризис ясно намечается в интересном сочинении Ласка — „Логика философии“; здесь именно новый шаг на пути к отрешению от психологизма приводит автора к отступлению от старого, правоверно-кантианского взгляда на метафизику. —
Так как Ласк не дает какой-либо новой теории познания,
290
a только обогащает современную кантианскую литературу исследованием частного вопроса, — нам незачем вдаваться здесь в подробное изложение его точки зрения: вместо того мы можем удовольствоваться краткой характеристикой тех результатов, к которым он пришел. —
Основная тенденция разбираемой книги заключается во-первых в указании на неполноту „коперникова деяния“ Канта, а во-вторых — в попытке его завершения. Сущность „коперникова деяния“ по Ласку заключается в устранении металогического, т.-е. трансцендентного мысли и ее категориальным формам1), в утверждении той истины, что нет вообще независимой от логической формы предметности, что категория или логическая форма есть именно то, что соделывает предмет предметом. Предметность предметов есть именно их логическая значимость2). Отсюда следует, что логическая форма универсальна ибо нет предмета действительного или возможного, который бы не подчинялся ей, который бы не определялся ею. С этой точки зрения Ласк характеризует основное начало правильно понятого кантова учения как панархию логоса в отличие от панлогизма мысли3). Это значит, что, с точки зрения Ласка, логос или мысль не есть все (в гегелевском метафизическом смысле), но она все оформливает, соделывает предметность всего, что является предметом познания. Трансцендентально-логический фор-мализм Канта должен прийти к сознанию своего универсального значения. Но именно при свете этого логического универсализма неизбежно должна обнаружиться неполнота, несовершенство коперникова деяния у Канта и произвольность границ, поставленных, категориальному знанию Кантом и его продолжателями4).
По Канту область законного применения категорий рассудка и, следовательно, — область теоретического познания в собственном смысле слова совпадает с областью чувственно-воспринимаемого. По Ласку в этом именно и заключается „односторонность“ Канта и правоверного кантианства 5). Ласк восстает против
_______________
1) Die Logik der Philosophie, 27.
2) Ibid. 28—29.
3) Ibid. 134.
4) Ibid.
5) Ibid, 23.
291
того „теоретико-познавательного реализма“ Канта, который сводит все категории рассудка к категориям бытия и притом — бытия чувственного. Он настаивает на том, что категории приложимы точно так же и к нечувственному, к должному, ко всему вообще значимому, хотя бы и не сущему; есть даже „категории категорий“, потому что в категориальную форму облекается самое наше познание о категориях. Именно в этом смысле должен быть расширен объем „коперникова открытия“ Канта. Сущность этого открытия заключается именно в том, что формам мысли, категориям, подчинено все вообще, что может быть предметом познания, т.-е. все не только сущее, но и мыслимое1). Вытекающее отсюда „расширение проблемы категорий за пределы чувственного покоится в конце концов на основной мысли о неограниченности истины, о всеобъемлющей широте области логики, на убеждении, что решительно все, поскольку оно есть нечто, а не ничто, соприкасается с категорией, пребывает в логической форме“2). Иначе говоря, по Ласку, категории, в своей совокупности, образуют некоторого рода логическое всеединство, вне которого не может быть вообще ничего — ни бытия, ни долженствования, ни значимости.
Ласк указывает, что, в своем учении о применении категорий только к чувственному, Кант игнорирует свою собственную „Критику чистого разума“; последняя, без сомнения, есть некоторое познание о нечувственном и, следовательно, представляет собою применение категорий к области нечувственного. — В самом деле, „Критика чистого разума“, как и вообще всякая теория познания, есть знание не о бытии, а о значимости. Если бы Кант принял это во внимание, он понял бы, что· ему не подобает отрицать познание нечувственного3).
Всевластие логоса выражается, между прочим, в том, что логике, наравне со всеми прочими отраслями знания, подчинена и философия: она, одинаково с ними, вынуждена мыслить и познавать в форме категорий. Ласк предвидит и формулирует напрашивающееся против этой точки зрения возражение. — Теория
_____________
1) Ibid., 109, 111—113, 121.
2) Ibid., 126.
3) Ibid., 132.
292
познания, как учение о категориях, исследует формы мысли. Поскольку она размышляет о них, она тем самым применяет категории к категориям, облекает формы мысли в новые формы; в ней, следовательно, мы имеем форму формы; в размышлениях о теории познания, мы уже имеем „форму формы формы“ и т. д. до бесконечности. Стало быть, рассуждение Ласка ставит нас перед перспективой бесконечного помножения форм или регресса в бесконечность. Вполне признавая правильность этого указания, Ласк доказывает, что оно не может служить возражением против его учения. Он не оспаривает, что здесь открывается возможность бесконечного регресса для мысли, рефлектирующей об условиях возможности мышления, но он доказывает, что для мысли вовсе нет необходимости в действительности пройти весь этот бесконечный ряд. Конечно, категория может до бесконечности становиться материалом для категорий; но в бесконечном продолжении такой рефлексии нет ни интереса, ни надобности, так как ничего, кроме бесконечного повторения одного и того же (категории значимости в применении к категории значимости и т. д.), такое исследование нам дать не может. Возможность бесконечного регресса, таким образом, по Ласку, нисколько не служит возражением против его учения, а только дает ему правильное освещение, ибо оно подчеркивает безграничность возможной сферы применения логики, а, стало быть, и категории1).
Словом, как видно отсюда, в книге Ласка мы имеем попытку „еще раз применить кантианство к самому себе“2). Попытка эта, как сказано, представляет собою несомненный шаг по пути к отрешению от психологизма: ибо она доказывает, что чувственное восприятие психофизического, человеческого субъекта, вовсе не есть непременное условие всякого знания. Есть знание, этим восприятием не обусловленное, — знание о нечувственном, мысленном. Замечательно, что этот новый успех в борьбе с психологизмом влечет за собою у Ласка пересмотр и изменение старо-кантианского воззрения на метафизику.
Между Ласком и охарактеризованными в предшествовавшем
_______________
1) Ibid., 90, 112—113, 212.
2) Ibid.
293
изложении кантианцами — Когеном и Риккертом — есть в этом отношении весьма существенная разница. В отличие от двух названных мыслителей, Ласк не только не считает метафизику поконченною, — он прямо отрицает возможность покончить с нею путем какого-либо теоретико-познавательного исследования. Теория познания, конечно, должна убедить нас в несостоя-тельности той метафизики, которая гипостазирует категории, превращая их в метафизические сущности и смешивая сущее со значащим. Но, по Ласку, это смешение вовсе не есть черта всякой метафизики как такой; у метафизики есть свои самостоятельные проблемы, которые не могут быть сведены к проблемам значимости или теории познания; поэтому мечта о замене метафизики гносеологией должна быть оставлена1). „Пусть даже всякая метафизика будет обманом и иллюзией, никакое теоретико-познавательное или логическое осознание не может нас в этом убедить. Теория познания, логика, учение о категориях — вовсе не та инстанция, которая могла бы решить этот вопрос. Только там, где метафизика пытается присвоить себе задачу учения о категориях, и, стало-быть, узурпирует проблемы значимости, — учение о категориях может возражать, восставать против такого в самом деле недозволительного гипостазирования“2).
Такое новое для кантианства отношение к метафизике у Ласка неразрывно связано с его более широким, по сравнению с его предшественниками, истолкованием „коперникова деяния“. Раз он допускает возможность „познания нечувственного“, он не может считать убедительными те доводы Канта, которые предполагают, что только чувственное познаваемо. По Ласку, Кант положил конец не всякой метафизике, а только натурфилосо-фии поскольку она хочет быть чем-то отличным от учения, о категориях: ибо в природе нет ничего кроме чувственно-воспринимаемого материала, который сам по себе чужд значимости, и категориальной формы, которая сообщает этому материалу значимость3). Считая аргументы Канта действительными против метафизики, созданной из антропологического материала
_______________
1) Ibid., 6, 126—127.
2) Ibid., 129.
3) Ibid., 127—128.
294
нашей чувственности, Ласк отказывается признавать их силу против метафизики нечувственного. У такой метафизики есть свой сверхчувственный материал, который не уничтожается „Критикой чистого разума“, а потому представляет собою вполне законную область для применения категорий1). Но при этом, конечно, метафизика должна помнить, что и в ней логическая форма, а, стало быть, и самая „предметность“ дается категориями, при чем учение о формах или категориях для нечувственного может быть дано не метафизикой, а только логикой2).
С этой точки зрения метафизика, утверждающая существование „двух миров“, вполне совместима с „коперниковым“ открытием Канта. — Логическая форма совершенно одинаково обусловливает предметность чувственного и нечувственного; поэтому, если вообще существуют вещи в себе, их предметность с „коперниковской“ точки зрения совпадает с логической формой, объемлющей сверхчувственный материал. Самая „вещность“ вещей в себе не есть что-либо металогическое, т.-е. трансцендентное логическому. Ласк решительно заявляет, что у Канта не может быть речи о трансцендентности сверхчувственного по отношению к Логосу3). Пропасть, отделяющая вещь в себе от явления, даже вовсе не затрагивает вопроса о соотношении между логическим и предметным; всеобемлющее значение логического сохраняется и по ту сторону этой пропасти: даже предметность вещи в себе есть нечто имманентное логическим формам в коперниковско-кантовом смысле. Кант защищал не алогизм, а агностицизм по отношению к вещам в себе. Смысл его учения заключается в том, что вещь в себе для нас непознаваема, а не в том, будто она не подчинена логическим формам. Она трансцендентна нашему познанию, а не всякому познанию, как носителю логического вообще: Кант „не хочет допустить смешения доступных нам логических форм с трансцендентной логичностью“4).
Здесь уже мы имеем нечто большее, чем простое допущение „возможности“ метафизики. Раз Ласк настаивает на том,
______________
1) Ibid., 129.
2) Ibid., 126-127.
3) Ibid., 247.
4) Ibid., 247—249.
295
что логическим формам подчинено все действительное и все возможное даже за пределами доступного человеку знания, он тем самым, очевидно, вступает в область метафизики. Вся его теория познания явно утверждается на метафизическом постулате универсальности логического. „Панархия“ логоса, утверждаемая Ласком, во всяком случае не менее метафизична, чем тот гегелевский „панлогизм“, против которого он восстает. В пределах кантианства это, разумеется, чрезвычайно важный шаг вперед.
Мы видели, что уже учения Когена и Риккерта насыщены метафизикою, причем метафизические начала навязываются им самым фактом их борьбы против психологизма. Чем определеннее утверждается „сверхпсихологический“ характер „истины“ и „истинной мысли“, тем яснее раскрываются необходимые метафизические предположения теории познания. Однако, у Когена и у Риккерта эта метафизика еще не осознана: она вторгается в их произведения вопреки их сознанию и воле. Ласк выгодно отличается от них тем, что он уже сознательно отказывается от принципиальной борьбы против метафизики как такой. Неосознанным у него остается только метафизический характер необходимых предпосылок самой теории познания. По пути от чистого гносеологизма кантовской школы к ясно осознанному метафизическому оправданию познания учение Ласка, таким образом, представляет собою посредствующую, переходную ступень. Допуская возможность метафизики, он все-таки еще считает возможным обойтись без всяких метафизических предположений в гносеологии. Поэтому решение основного гносеологического вопроса остается у него глубоко неудовлетворительным. —
II. Противоречия Ласка в учении о форме и материи.
Вопрос этот есть именно вопрос о праве познавательных суждений. Какое право я имею утверждать что-либо в истине? По какому праву я приписываю моим суждениям безусловную значимость? Очевидно, что все это — вопросы о трансцендентном и безусловном, которые предполагают реальность Абсолютного. Предположение трансцендентной истины, объемлющей все действительное и возможное за пределами моего сознания, как основа-
296
ние значимости всех моих суждений, — по существу метафизично. Отсюда вытекает следующая альтернатива. — Или мое притязание — судить об истине не имеет решительно никакого оправдания, или же оно имеет оправдание метафизическое.
Поэтому всякая попытка — решить теоретико-познавательный вопрос помимо метафизики — сталкивается с неразрешимыми затруднениями. В этом отношении учение Ласка не составляет исключения. —
Для него „значимое“ (geltendes) и категориальное — одно и то же как предметность, так и значимость истины сообщается всему познаваемому категориями; в нем „значимое“ есть форма и только форма 1). Рядом с этим, однако. Ласк признает, что смысл логической формы — не в ней самой: она не есть что-то в себе самой утверждающееся, не есть мир в себе и для себя: форма всегда есть“ форма чего-нибудь другого, — значащее о чем-то другом, что не есть она сама. Нет самодовлеющей значимости; поэтому значимость всегда есть форма чего-либо, чему значимость сообщается. Самостоятельного значения форма как таковая иметь не может. Только в применении к какому-либо материалу она вообще может что-либо значить. Категория тожества непременно предполагает нечто тожественное. „Различие“ опять-таки предполагает нечто, что отличается от другого, „причинность“ — тоже „нечто“, что отличается от причиняемого или последствия. „Царство истины“ или, что то же, „царство смысла“, — не есть ни только материя (содержание), ни только форма, а сложное целое составленное из материи и формы. Однако же все значение или значимость, которое принадлежит этому целому и его составным элементам, обусловливается исключительно формою; алогический материал привлекается в царство смысла лишь в качестве оформленного категорией.
Учение об истине, которое вытекает отсюда, сводится к следующему. — Всякая истина как такая — сверхвременна, ибо истинное как такое значимо безотносительно к времени. Но вместе с тем сверхвременна или безвременна в истине только ее форма, а не содержание; поэтому истинное не есть просто сверхвременное, а сверхвременное относительно некоторого временного
_____________
1) Ibid., 31.
297
содержания, которого это сверхвременное касается. Когда мы утверждаем, что „красное отлично от зеленого“ сверхвременен не изменчивый чувственный материал сам по себе: ореол сверхвременной истины привносится здесь в материал логической формой. Истина относительно голубого, красного или зеленого не есть голубая, красная или зеленая истина; поэтому голубое, красное или зеленое сами по себе ничего не значат. Значимость сообщается этому алогическому материалу в истине сверхвременной формой: благодаря ей он как бы окружается значимостью 1). Ласк настаивает на том, что алогический материал может только подпадать под логическую форму, но никогда не превращается в логическое; всегдашняя ошибка рационализма по его мнению заключается именно в забвении этой истины.
Как мы уже знаем, по Ласку логическая форма не есть только форма истины: она есть вместе с тем и необходимое условие всякой предметности: лишь через логическую форму или категорию алогический материал превращается в предмет. — Исходя из этого положения, Ласк утверждает, что истина о предмете не есть нечто отличное от самого предмета. Раздвоение предмета и истины о нем недопустимо потому, что и предметность и истинность сообщается алогическому материалу одними и теми же категориями, одними и теми же формами мысли.
Словом, то понимание „коперникова деяния“, которое проводится у Ласка, не допускает возможности существования какого-либо неоформленного мыслью предмета и, следовательно, окончательно упраздняет дуализм форм мысли и „вещей“. Вместо· того оно утверждает противоположность категориальной формы и категориального материала внутри самого царства истины или, что то же, внутри области предметов 2).
Роковое логическое затруднение, о которое разбиваются все эти рассуждения Ласка об истине, бросается в глаза. —
Прежде всего вопрос о правомерности применения категорий к алогическому материалу остается у него безо всякого ответа, или, точнее говоря, получает ответ противоречивый. С одной стороны логическая форма у него — единственный источник вся-
______________
1) Ibid., 36-35.
2) Ibid., 40—41.
298
кой значимости; с другой стороны сама по себе, безотносительно, категория ничего не значит: она может „значить“ что-либо лишь в применении к „алогическому материалу“. Спрашивается, как же может категория сообщить материалу ту значимость, которой она сама не имеет? Вообще предлагаемое Ласком решение теоретико-познавательного вопроса заключает в себе величайший курьез, напоминающий известный вопрос Козьмы Пруткова, — „что к чему привешено, — хвост к собаке или собака к хвосту“. С одной стороны алогический материал для него — безусловно незначащее: с другой стороны категория сама по себе не имеет безотносительного значения и может получить его лишь в связи с материалом. А, наконец, с третьей стороны, из сочетания этих двух элементов, из которых ни один сам по себе не имеет безусловной значимости, получается знание, имеющее всеобщее и безусловное значение.
Всякая попытка дать какой-либо ответ на теоретико-познавательный вопрос, исходя из посылок Ласка, неизбежно приводит к логическому абсурду: ибо в конце концов это — попытка — соединить логически несоединимые элементы. С одной стороны, по Ласку, — алогический материал всех наших суждений по самой природе своей бесформен и незначащ. С другой стороны все наши познавательные суждения именно в том и заключаются, что этому бесформенному и незначащему мы приписываем форму и безусловную значимость. По какому праву? Мы говорим: красное есть, зеленое есть, синее отлично от желтого. Но в свойствах материала, о котором идет речь, эти суждения, по Ласку, совершенно не обоснованы: ибо как „бытие“ так и „отличие“ вовсе не суть свойства материала: само по себе красное и зеленое не есть и не отличается от другого: „бытие“ и „отличие“ — не более, как категории, привносимые извне. По какому же праву мы их привносим? По какому праву мы называем „сущим“ то, что на самом деле не есть, и „отличным“ то, что на самом деле ни от чего не отличается?
Очевидно, что, пока мы остаемся на точке зрения Ласка, мы никакого ответа на эти вопросы получить не можем. Всякий, кто утверждает непроходимую пропасть между алогическим материалом и логическою формой, а затем пытается через нее перескочить, неизбежно обречен на усилия бесплодные и траги-
299
комические. Именно такие прыжки мы видим у Ласка; и посторонний наблюдатель следит за ними не без некоторого эстетического наслаждения, смешанного с состраданием. Таковы, например, вышеприведенные рассуждения о вечности истины. По Ласку, всякая истина, даже истина чиста фактическая, обладает свойством безвременности или вечности; и с этим, разумеется, нельзя не согласиться. Но, когда рядом с этим Ласк утверждает, что „вечность“ или „сверхвременность“ истины есть только ореол, которым категория „окружает“ „невечное“, „несверхвременное“ и „незначащее“, то — предыдущее утверждение об истине превращается в ничто; мало того, сама „истина“ испаряется у него в мираж, оказывается в самом существе своем иллюзией нашей мысли. —
Вернемся к приведенному примеру: красное отлично от зеленого: мы имеем здесь в самом деле пример сверхвременной или вечной истины, потому что действительность ее не зависит от времени: когда бы и где бы ни встречались эти два цвета, они отличны. Что же получится из этой истины, если мы скажем вместе с Ласком, что вечного в ней — только „категория отличия“? Не очевидно ли, что при этих условиях наша „вечная истина“ испарится в ничто? Вечно — не данное специфическое отличие двух цветов, а отличие вообще: утверждение же вечности данного отличия есть просто обманчивый ореол вечного вокруг временного: иначе говоря, это уже не истина, а иллюзия, ложь. Тогда применение „сверхвременной“ категории „отличия“ к текущей; временной действительности просто на просто неправомерно и, следовательно, должно быть отброшено.
Существование вечных истин о временной, текущей действительности совершенно бесспорно. Вечными, как уже было указано выше, представляются даже чисто фактические истины. Вечно истинным, напр., остается тот факт, что Ласк родился в Германии и что в 1815 году немецкие войска вступили в Варшаву. Но для Ласка, как и для всего кантианства, возможность этих вечных истин о временном представляет неразрешимую задачу. Уже при изложении учения Канта о схематизме мы видели, насколько невозможно, оставаясь на почве „Критики чистого разума“ преодолеть роковое раздвоение между категориями
300
рассудка и многообразием данного материала, к которому эти категории применяются. У Ласка эта пропасть еще более углубляется, а потому основная нелепость кантианства становится еще более наглядною. Вечные истины оказываются у него суждениями о заведомо незначащем, о том, что ни в каком отношении не причастно ни к сверхвременному, ни к значащему.
Прибавим к этому, что у Ласка выходит наружу еще следующее замечательное противоречие кантовской точки зрения. С одной стороны он еще настойчивее, чем Кант, утверждает, что категории суть форма и условие всякого знания, что помимо· категорий мы ничего не знаем и знать не можем. С другой стороны он знает о существовании акатегориального, бесформенного материала всякого знания, т.-е. стало быть знает о нем помимо категорий. Самая гносеология Ласка, таким образом, представляет собою сплошное нарушение тех самых условий знания, которые он, вслед за Кантом, считает необходимыми. Раз категория есть форма всякого знания, мы ни о чем акатегориальном знать не можем: „акатегориальный материал“ нашего знания, если бы даже таковой существовал, — был бы нам совершенно неизвестен, более того, — был бы совершенно недоступен нашему знанию.
Словом сказать, понятие „акатегориального материала“ у Ласка незаконно по тем же основаниям, как и понятие „вещи в себе“· у Канта. В обоих случаях мы имеем совершенно одно и то же противоречие: и Кант и Ласк, отрицая в принципе возможность акатегориального знания, непоследовательно допускают его, однако, в применении к частному случаю: один — в применении к „вещи в себе“, другой — в применении к „алогическому материалу“. У Ласка эта непоследовательность подчеркивается еще одним штрихом. По его учению „категория“ представляет, собою необходимое условие всякой предметности, так что помимо ее не может быть речи ни о каком предмете знания. И, однако, рядом с этим, у него акатегориальное вводится именно как предмет знания в гносеологию.
Есть только один возможный способ разрешить все эти противоречия и трудности: для этого нужно в самом деле пройти до конца тот путь, на который вступил Ласк, — дать „коперникову открытию“ Канта его необходимое логическое завершение. —
301
Понятие „акатегориального“, „алогического“ или „логически бесформенного“ должно быть окончательно отброшено. Мы должны признать, что во всем мире сущего, должного, возможного и мыслимого нет такого „нечто“, которое не имело бы своей категории или своего а priori. Иначе говоря, мы должны довести до конца принцип универсальности логической формы, мы должны признать то логическое всеединство, которое представляет собою мысленный аспект всеединства реального. Мыслить — значит относить к всеединству. Если есть какое-либо „нечто“, которое не объемлется категорией, это значит, что есть „нечто вне всеединства“ или, говоря иначе, что самого всеединства нет. Но в таком случае превращается в ничто самое наше мышление; всякое познание отпадает как пустая претензия, ибо всеединство есть необходимое предположение всякой мысли и тем более — всякого познания.
Нет ничего алогического и акатегориального! Это значит, что „категория“ есть нечто большее, чем „наше понятие“, или наше субъективное, человеческое условие знания. Конечно, есть так называемые „рефлексивные понятия“, которые представляют собою лишь вспомогательные способы нашего человеческого понимания и суждения. Не о них я говорю, и не их следует разуметь под названием „категории“. Категория есть такое понятие, которое обладает необходимостью логическою, а не психологическою только для нас людей. Категориальное есть необходимое для мысли вообще, для мысли как такой, а не для мысли несовершенной. Иными словами, категория — или ничто или необходимое отношение чего-либо к мысли абсолютной; именно в качестве объективно необходимых категории навязываются и нашему уму. —
Только в качестве определения абсолютной мысли категория может притязать на всеобщее, безусловное значение; только в этом качестве она может быть определяющим (конститутивным) элементом познания. Все неразрешимые трудности кантианского учения о категориях проистекают единственно из непонимания этой истины. Если категория — только наше понятие, то она не может быть орудием объективного знания; и употребление ее в познавательных суждениях решительно ничем не может быть оправдано.
302
В самом деле, какое право я имею произносить причинные суждения о становящемся мире, если в объективно совершающемся нет ни причины ни следствия? Как я могу говорить о совершающемся, становящемся, если в объективном материале, о котором я сужу, нет не совершения, ни становления? Как я могу говорить об „объективном тожестве“ вещей, если понятие тожества — только субъективно? У Канта, как мы помним, ответом на все эти трудности было утверждение „субъективности явления“: именно в этом он видел основание нашего права применять к „явлениям“ субъективные категории. Но это, как мы уже видели, — не разрешение вопроса, потому что настоящим предметом нашего научного познания служит вовсе не „субъективное явление“ в антропологическом значении этого слова, а явление безотносительное или абсолютное, которое человеком не воспринимается и даже воспринято быть не может, а может быть только восстановлено усилиями нашей мысли. К тому, что сказано по этому предмету в главе IV, мне здесь нечего прибавить. Остается только еще раз подчеркнуть, что, вместе с субъективно-антропологическим пониманием явления, падает и субъективно-антропологическое оправдание применения категорий в познании. —
Всякое познание есть утверждение какого-либо положения как безотносительно значащего, сверхантропологического. Поэтому только доведенный до конца разрыв с антропологизмом может нас привести к методологически правильному обоснованию учения о познании. Пока категории остаются для нас только понятиями человеческого рассудка, которые извне накладываются человеком на материал, до человеческого сознания акатегориальный, т.-е. категориям непричастный, — до тех пор тщетны все попытки оправдать познание. Если материал наших суждений не связан категориями безусловно т.-е. до нас и независимо от нас — людей, то все наши попытки наложить на него „наши“ категории, иначе говоря, все наши о нем суждения представляют собою акты абсолютного произвола. Одно из двух: или между солнцем и теплом существует причинная связь в абсолютном, или же мое суждение „солнце есть причина тепла“ представляет собою чистейший вздор: предположение, будто причинная связь между солнцем и теплом до человеческого познания
303
не существовала и впервые внесена в акатегориальный материал нашим суждением, превращает данное наше познание о солнце, как и всякое наше познание — в ничто!
Познание наше покоится на том предположении, что все вообще познаваемое до всякого нашего познавания и суждения связано категориями, подчинено логической форме; и наше суждение только вскрывает эту связь, существующую и действительную безусловно, независимо от нас.
Иначе говоря, всякое наше познавание предполагает как необходимое свое условие и предпосылку некоторый абсолютный синтез, в котором все познаваемое заранее связано логической формой или категорией. Это и значит, что алогического, бесформенного, акатегориального материала нет вовсе. То, что кажется нам алогическим и бесформенным, — на самом деле от века оформлено, ибо всякое „нечто“ непременно предполагает всеединство как свое априорное условие и, следовательно, подзаконно всеединству.
Это значит, что в мире действительного, возможного и мыслимого нет и не может быть ничего „незначащего“. „Значимость“ не привносится впервые нами людьми в познаваемый нами материал. Она есть безусловно и всякое „нечто“, как бы ничтожным и незначительным оно нам ни казалось, имеет свою значимость в безусловном.
Всеединое есть, — такова предпосылка всякого познания и всякой мысли; но, раз оно есть, не может быть ничего ему неподзаконного, ничего такого, что не носило бы на себе форму всеединства, — безусловной значимости. Нет того мимолетного ощущения, пустой мысли, преходящего впечатления, которое бы не обладало этой формальной значимостью, этим логически необходимым местом во Всеедином.
И здесь еще раз вскрывается необходимость того именно аспекта Всеединого, который составляет необходимое предположение всякого познания. Всякое наше человеческое познавание предполагает, что во Всеедином всякое возможное содержание нашего сознания а priori, заранее связано необходимыми формами мысли. Иначе, говоря, познавать — значит предполагать абсолютное сознание и абсолютную мысль во Всеедином.
Таким пониманием основной предпосылки знания преодоле-
304
ваются противоречия и трудности гносеологии Канта и кантианства. Ибо им раз навсегда упраздняется кантов дуализм формы и материи. Форма и материя перестают быть двумя оторванными друг от друга началами. Они могут отделяться друг от друга в нашем искусственном отвлечении, поскольку мы — люди рассматриваем форму отдельно от материала, который ею офор- мливается и связывается.
Но в абсолютном синтезе всеединого сознания содержание и логическая форма связаны между собою безусловно, необходимо и неразрывно. —
_____________
Здесь мы можем закончить обзор кантианских попыток — преодолеть антропологизм „Критики чистого разума“ на почве антиметафизической гносеологии. Исследования Гуссерля, как бы они ни были интересны сами по себе, могут быть здесь оставлены в стороне как потому, что Гуссерль не принадлежит, да и не причисляет себя к числу кантианцев, так и потому, что построяемая им „феноменология“ в его собственных глазах — не гносеология, а скорее — необходимая для последней подготовительная дисциплина. —
В результате вышеизложенного оказалась несостоятельною последняя позиция кантианства. Коген и Риккерт, как мы видели, еще отрицают всякую метафизику как такую. Ласк уже допускает возможность метафизики, но хочет оградить от нее теорию познания, освободить гносеологию от всякой метафи-ческой примеси. И в результате обнаруживается, что только в метафизическом предположении Всеединого мы получаем ответ на основной вопрос всякой гносеологии — вопрос о правомерности категориального знания.
_____________
305
Заключение.
I. Итоги предыдущего.
Основной результат настоящего исследования может быть выражен замечательными словами В. С. Соловьева. — «Следует провести далее и тем самым смирить горделивую аналогию, которую Кант проводил между Коперником и собою: он, Кант, как некий Коперник философии, показал, что земля эмпирической реальности, как зависимая планета, вращается около идеального солнца — познающего ума. Однако астрономия не остановилась на Копернике, и теперь мы знаем, что центральность солнца есть лишь относительная, и что наше светило имеет свой настоящий центр где-то в бесконечном пространстве. Также и кантовское солнце — познающий субъект — должно быть лишено неподобающего ему значения. Наше я, хотя бы трансцендентально раздвинутое, не может быть средоточием и положительною исходною точкой истинного познания, причем философия имеет перед астрономией то преимущество, что центр истины, находящийся не в «дурной», а в хорошей бесконечности, может быть всегда и везде достигнут — извнутри»1).
Изложенные здесь мысли находятся в прямой преемственной связи с «Теоретической философией» Соловьева и стремятся к точному выполнению программы, высказанной в только что приведенных его словах. — Для меня, как и для Соловьева, первая задача в борьбе с Кантом заключается в том, чтобы лишить познающего субъекта неподобающего ему значения центрального светила в познании. Возвеличение человеческого субъекта и есть то, что я назвал ложным антропологизмом кантовой теории познания.
________________________
1) Теоретическая философия, т. VIII 212 (И-е изд.).
306
Трудность задачи увеличивается тем, что «возвеличение, о котором идет речь, в «Критике чистого разума», прикрыто благовидной личиной смирения. — С первого взгляда может показаться, словно весь пафос «Критики чистого разума» заключается в отказе от познания Безусловного и в отречении от горделивых притязаний метафизики. На самом деле, однако, для Канта центр тяжести — вовсе не в этом самоограничении человеческой мысли, а в объявлении безусловной независимости познающего субъекта в отведенной его познанию сфере. В этой сфере субъект не зависит ни от какого другого высшего начала: он себе довлеет, он — самостоятельный источник своих априорных представлений и понятий, своих познавательных принципов. Иными словами, в познании он автономен. Неудивительно, что это провозглашение неограниченной автономии познающего человеческого субъекта у Канта и у кантианцев переходит в безотчетное перенесение предикатов мысли безусловной на «автономную» мысль человеческую. Уже у Канта рассудок утверждается как законодатель природы. А в метафизике, вышедшей из Канта, этот человеческий, антропологический элемент гипостазируется в реальное Абсолютное. Трансцендентальная апперцепция Канта превращается в «Я» Фихте. Потом в «абсолютной мысли» Гегеля мы также узнаем отвлеченность мысли человеческой, чересчур человеческой; мировая эволюция развертывается из нее наподобие цепи силлогизмов.
В этой послекантовской метафизике вскрывается внутреннее противоречие самого Канта и кантианства; в нем видимость отречения от Безусловного на самом деле только прикрывает замену одного Безусловного другим.
В настоящем исследовании я пытался обнаружить внутреннюю несостоятельность такой теоретико-познавательной точки зрения. Я стремился показать, что «кантово солнце — познающий субъект» не есть самодовлеющий и независимый источник познания, что даже в низшей области рационального познания он заимствует свой свет от высшего над ним, центрального светила: от высших и до низших ступеней познания все озарено светом Всеединого или Безусловного сознания; без этого объективного света и условия никакое наше субъективное познание не было бы возможно. Ибо всякое познавательное суждение
307
есть утверждение какого-либо содержания сознания в Безусловном и, следовательно, свидетельство о безусловном сознании.
Эта зависимость человеческого «познающего субъекта» от Безусловного была обнаружена путем имманентной критики теории познания Канта и тех современных кантианцев, которые последовательно, до конца отрицают участие метафизических предположений в теории познания. Мы видели, что и их построения не в состоянии освободиться от основного предположения всякого познания — от предположения Безусловного и Всеединого. Мы убедились в том, что это предположение есть а priori всякого знания, логическое prius всех наших априорных понятий. Для кантианцев, — категории чистой мысли суть последнее, ничем другим не обусловленное условие всякого знания: для Канта чистые представления и чистые понятия, а для некоторых современных его последователей — одни чистые понятия представляют собою последний и окончательный ответ на вопрос «как возможно дознание». Раз эти понятия найдены, дальше спрашивать нельзя.
Настоящее исследование не отбросило ни чистых предоставлений, ни чистых понятий; оно не только не отвергло «трансцендентального метода», но признало его необходимость и впервые довело его до конца. В результате оказалось, что над самыми чистыми представлениями и категориями есть одно общее априорное условие их возможности — интуиция Всеединого или Безусловного; она составляет общее предположение всех наших представлений и понятий; в частности, чистые понятия или категории представляют собою не больше и не меньше как объективно-необходимые способы отнесения мыслимого содержания к Всеединому или Безусловному.
Таким образом «коперников путь» Канта должен привести к открытию транссубъективного источника света, чрез который и посредством которого человек знает все, что он знает. Оказывается, что наше человеческое познание есть в некотором роде как бы солярный процесс —процесс приобщения человеческого сознания к солнечной энергии Всеединого и Безусловного. Всеединое предполагается нашей познающей мыслью так же необходимо, как солнце предполагается жизнью растения. Поэтому гносеологическое учение, которое хочет понять нашу
308
познающую мысль исключительно из нее самой, в ней самой и ни в чем другом обосновать возможность познания, совершает ту самую ошибку, в какую впал бы ботаник, если бы он захотел объяснить возможность растительного процесса без солнца — одними силами и способностями самого растения. Оттого и отрицание Безусловного, равно как и попытки удалить его в область непознаваемого и построить учение о познании без него, — неизбежно противоречивы. Движение мысли к Безусловному так же естественно и неотвратимо, как поворот цветка к солнцу. — Когда Безусловное скрыто от человека, — его мысль все-таки неизбежно к нему тянется, теми или другими, нередко кривыми и незаконными путями.
Углубляясь далее в анализ той интуиции Безусловного или Всеединого, которая составляет необходимое условие нашего познания, мы убедились, что всякий наш познавательный акт как такой предполагает всеединое или безусловное сознание.
В самом деле, всякое наше познавательное суждение выражается в том, что некоторое содержание сознания мы относим к Безусловному и утверждаем в нем как истину. Самое предположение истины, которое делается неизбежно каждым познающим субъектом, есть ни что иное, как предположение безусловного сознания.
Было бы неправильно определять истину как Сущее или отождествлять ее с бытием. В самом деле, есть истина о давно прошедшем, прежде бывшем, ныне же не существующем. Есть истина и о никогда не бывшем, но будущем. Есть истины о ценностях, напр., «трусость постыдна» или «должно любить ближнего». Все истины в этом роде, очевидно, не суть бытие. Но и этого мало! Истины о бытии (напр. Иван — умен или Петр —виноват) —также не суть бытие, а только мысль о бытии или сознание о бытии. Истина о каком-либо бытии никогда и ни в каком случае не совпадает с самим бытием: ибо она есть истина не только о том, что оно есть, но и о том, что оно не есть, и о том, чего оно стоит (о его ценности). Истина о чем бы то ни было, есть всегда то или другое содержание сознания, которое носит на себе печать безусловности и необходимости. Истина есть то содержание сознания, которое не может быть иначе: если истинно, что дважды два четыре, то не может быть
309
истиною «дважды два пять». Выражение «не может быть иначе» здесь обозначает, разумеется, необходимость сверхпсихологическую: ибо психологически «дважды два» может быть и пятью и чем угодно. В истине мы имеем содержание сознания антропологически необусловленное, не зависящее вообще ни от каких конкретных особенностей или состояний чьей-либо психики. Если бы даже это никем из людей или человекоподобных существ не сознавалось, если бы даже таких существ на свете вовсе не было, все-таки остается верным, что дважды два — четыре, а не пять. Иначе говоря, в этой истине мы имеем сознание сверхпсихологическое или безусловное. Да и всякая истина как такая есть безусловное сознание о чем-либо.
Это безусловное сознание не должно быть понимаемо как только «возможное переживание» познающего субъекта, — ибо в таком случае истина все-таки была бы обусловлена психикою какого-либо человеческого или человекообразного существа, могущего ее переживать. Истина не только возможна, — она есть безусловно. Она предполагается нами не как что-то, что только может быть сознано, а как определение самого Безусловного, как такой акт, который обусловливает действительность самой действительности; она не может быть чем-либо обусловлена, потому что она сама служит условием или первоначалом всего, что есть и может быть. Все что есть, есть в истине.
В нашем познавании истина предполагается как безусловное сознание о познаваемом. Если нет такого сознания, то безнадежна наша попытка отыскать истину среди содержаний сознания; в таком случае всякий спор должен прекратиться, всякое искание должно остановиться; тогда должно испариться в ничто не только познание, но и самая мысль: ибо всякая мысль есть отнесение чего-либо сознаваемого к чему-то безусловному в сознании. Самая попытка выразить безусловное в сознании (а познание есть по самому существу своему такая попытка) предполагает, что есть безусловное сознание.
В нашем познании оно предполагается как сознание всеединое. — Есть истина обо всем — о сущем и несущем, о возможном и действительном. Нет того ничтожного события, впечатления, мысли или фантазии, которые не находили бы своего определения в истине. Есть истина о самом заблуждении и обо
310
лжи. Истина всеобъемлюща, и вот почему познавать ее — всегда значит применять форму всеединства к познаваемому. От сознания неистинного истина отличается как сознание всеединое. Найти всеединое сознание и значит — найти истину.
II. Точка зрения всеединого сознания и антропологизм.
Точно выразить точку зрения всеединого сознания — значит вместе с тем ответить на те упреки в «психологизме» или в «антропологизме», которые могут быть сделаны предшествовавшему изложению. — Мы говорим о безусловном сознании! Не значит ли это — переносить нашу человеческую или человекообразную психологию в Абсолютное?
Ответ на этот вопрос заключается в самом понятии Безусловного и Всеединого. В качестве Всеединого оно не должно исключать из себя сознания как такого. Сознание должно иметь в нем свое средоточие и утверждение, иначе Всеединое не было бы Всеединым. Абсолютное внесознательное исключающее из себя сознание, было бы тем самым ограниченным. Абсолютное, по отношению к которому сознание человека было бы безусловно внешней, потусторонней и непроницаемой сферой, по тому самому не было бы Абсолютным. Исключение сознания из Абсолютного было бы равнозначительно уничтожению последнего, ибо тем самым сознание превращалось бы во второе Абсолютное, не связанное с первым, в нем не обоснованное и им не обусловленное. Мы имели бы в этом случае два Абсолютных; иначе говоря, мы на самом деле не имели бы ни одного.
Стало быть, утверждение сознания в Абсолютном не только не заключает в себе чего-либо недопустимого, но представляется безусловно необходимым. Упрек в антропологизме был бы справедлив лишь в том случае, если бы самому абсолютному сознанию мы приписывали какие-либо свойства ограниченного человекообразного сознания, или, если бы наоборот, мы приписали сознанию человеческому полноту или самостоятельность безусловного первоначала. Между тем, в предшествующем изложении были указаны именно такие черты отличия, которые устанавливают непроходимую грань.
Отличия эти определяются прежде всего рядом отрицатель-
311
ных признаков, которые исключают из Безусловного всякую неполноту, несовершенство, ограниченность. От сознания безусловного или всеединого наше человеческое сознание отличается прежде всего как обусловленное, т.е. не имеющее в себе всецелого начала самого себя. Говоря словами Соловьева, «условия его действительности не могут быть выведены из него одного»1). Как мы уже видели, это обусловливается тем, что оно предполагает другое, безусловное сознание, как свое начало. Далее наше сознание само по себе не есть всеединое, или говоря точнее, оно может быть всеединым лишь по приобщению. Оно всеедино, лишь поскольку оно истинно; оно — не всеедино, поскольку оно не вмещает в себе истины или отклоняется от нее.
Отсюда вытекают и все прочие отличия. Наше неполное, несовершенное, невсеединое, но потому самому стремящееся к полноте и всеединству сознание есть по самому существу своему психологический процесс во времени, т.е. непрерывный переход от одного состояния к другому. Напротив, сознание безусловное есть по самому существу своему сверхвременное: оно не «становится», не изменяется во времени, и переход из одного состояния в другое для него безусловно исключен. В этом и заключается наиболее резкое и очевидное отличие безусловного сознания от всего психологического.
В предыдущем изложении мы уже отметили форму вечности, присущую всякой истине как такой, каково бы ни было ее содержание. Вечной представляется не только истина о вечном, но и истина о любом событии во времени, как бы мимолетно и скоропреходяще оно ни было. Тот факт, что Брут убил Цезаря, или что сейчас я вижу заходящее солнце, — остается навеки общезначимым, хотя бы исчезло с лица земли человечество или погасло солнце. Вечность истины о временном есть самое парадоксальное, что только есть в познании. Между тем на той точке зрения, на которой мы стоим, и этот парадокс получает объяснение.
Парадоксальным, более того, противоречивым кажется самое понятие сверхвременного, вечного сознания о временном. Тут мы имеем несомненную антиномию в понятии абсолютного созна-
____________________
1) Теоретич. философия, 197.
312
ния. Тезис ее заключается в том, что абсолютное сознание должно охватывать до мельчайших подробностей все текущее во времени; ибо, если бы от него сокрылась хотя бы самая ничтожная перемена, оно по тому самому было бы ограниченным, т.е. не-всеединым, не-абсолютным. Напротив, антитезис той же антиномии гласит, что абсолютное сознание о временном невозможно, потому что сознание или восприятие изменений во времени как будто предполагает смену состояний в самом абсолютном сознании. Раз в нем никакой смены состояний не происходит, оно не может и сознавать смены состояний.
Однако, при большем углублении в понятие или, говоря точнее, в интуицию абсолютного сознания, мы найдем решение этой антиномии: ибо прежде всего мы увидим, что ее антитезис исходит из ошибочного предположения. Утверждение, будто восприятие или сознание временной действительности предполагает смену состояний сознания, грешит безотчетным антропологизмом: оно верно лишь относительно такого сознания как наше, человеческое, которое может воспринимать время и временное лишь последовательно переходя от момента к моменту. Но такой переход вовсе не представляется логически необходимым. Можно не только мыслить без противоречия, можно себе представить такое сознание (а сознание абсолютное только таким и может быть), которое от века, или что то же,— в единый миг охватывает взглядом весь бесконечный временный ряд, более того, бесконечное множество бесконечных временных рядов. — Оно разом видит все те моменты времени, которые нами воспринимаются лишь в последовательности наших переживаний. И таким образом оно пропускает через себя бесконечную смену, но само не подвергается никакому изменению: ибо от века и до века вся эта смена всегда перед ним. Оно видит от начала до конца, до малейших подробностей всю эту нескончаемую летопись мироздания. И, какие бы бури ни совершались в мире, оно пребывает в своем вечном покое и не вовлекается в движение: ибо этот бурный поток и это вихревое движение нашего настоящего, прошедшего и будущего — у него вечно перед глазами. Оно не может увидеть вновь что-либо такое, чего оно не видало от века.
Возможность представить себе такое сознание облегчается для
313
вас тем, что и в нашем собственном сознании мы можем найти его ослабленный, побледневший образ и подобие. В самом деле, и в нашем сознании не все протекает, не все уносится гераклитовым током; иначе в нашем восприятии не было бы ничего кроме исчезающего настоящего мига; и мы были бы не в силах связать этот миг с прошедшим и будущим, т.е., говоря иначе, не могли бы сознать ни себя, ни окружающего. Чтобы сознавать проносящийся перед нами временный поток, мы должны удерживать в памяти прошедшее и предвосхищать будущее: иначе говоря, мы должны подняться на сверхвременную высоту и пропускать мимо себя и под собой Гераклитов ток; и в этом заключается непременное условие самого нашего сознания. Говоря словами Соловьева, «логическое мышление как такое обусловлено тем относительным упразднением времени, которое называется памятью. Говоря образно, то, что помнится или вспоминается, тем самым отнято у времени, и только этими отнятыми жертвами времени питается логическая мысль»1). И не только логическая мысль, — самое самосознание наше принадлежит к числу отвоеванного у времени: ибо, если бы я воспринимал только текущий миг и не помнил себя в прошедшем, самое мое самосознание было бы невозможно, самое мое я было бы ничем.
Всякое сознание для нас возможно лишь через подъем над временем; вот почему мы в самих себе можем найти образ того всеединого сознания и той созерцаемой им от века летописи мироздания, которая была написана до начала истории вселенной и переживет ее конец. Ослабленным образом этой вечной памяти Всеединого может послужить, как сказано, хотя бы наша собственная память. — Я помню наизусть «Полтаву» Пушкина и девятую симфонию Бетховена. Это значит, что я в любой момент могу воспроизвести в моей мысли сложный временный ряд событий, поэтических образов или звуков. Но это значит также, что, протекая передо мной, этот временный ряд не исчезает для меня, но сохраняется в моем сознании: он всегда целиком присутствует в моем уме, и вот почему я могу в любой момент его развернуть: я могу это сделать только
_____________________________
1) Теоретич. философия, 198.
314
потому, что на данный временный ряд я смотрю с сверхвременной высоты. Как бы быстро он ни протекал, мое сознание о нем не протекает.
Удалите из этого образа все то, что свидетельствует о неполноте, немощи и несовершенстве нашего сознания, которое сохраняет проходящие перед ним временные ряды в виде ослабленных и разжиженных воспоминаний. Представьте себе такое сознание, которое вечно созерцает не ослабленный образ прошедшего, а само прошедшее как оно есть, во всей его беспредельной яркости; представьте себе, что это сознание совершенно так же, с той же безусловной яркостью и силой видит будущее — т.е. не образ будущего, а самое будущее как оно есть, до мелочей, до дна: и вы получите образ абсолютного или всеединого сознания — не всеединого сознания во всей полноте его эзотерического содержания, а всеединого сознания о временном. Тем самым для вас разрешится и антиномия сверхвременного, вечного сознания о временном, — того сознания, которое созерцает Гераклитов ток, но не погружается в него, видит непрестанную смену, но само не подвергается ей.
Этот образ всеединого сознания и есть ответ на основной гносеологический вопрос — как возможно познание, ибо чрез него и только чрез него удостоверяется для нас возможность как истинного восприятия, так и истинного знания. Как могут мои ощущения быть материалом истинного знания? Предположение всеединого, безусловного сознания разом сообщает им достоверность безусловно действительных происшествий. Возможно сомневаться в них, как показателях объективной, независимой от меня действительности, но нельзя сомневаться в том, что они есть как мои ощущения. В качестве таковых они входят в те бесконечные временные ряды, которые от века развертываются в абсолютном сознании. Они есть в абсолютной истине, а потому и я могу извлечь из них познание, если я прочту их в контексте абсолютного синтеза всеединого сознания.
Также и понятия чистого рассудка приобретают в идее всеединого сознания ту достоверность, которой не могли сообщить им никакие рассуждения Канта и кантианства. Пока категории понимаются лишь как субъективные особенности и формы нашего ума, возможность применения их в познании — не более как
315
предрассудок, слепая прихоть ума, которая ничем не может быть оправдана логически, как бы она ни была необходима психологически. Напротив, в качестве необходимых способов отнесения мыслимого содержания к Безусловному, в качестве логических аспектов всеединства, категории оправдываются логически. Раз всеединое сознание объемлет в себе и наше сознание, — весь наш внутренний мир, чувственный и мысленный, озаряется им насквозь; и чрез это озарение для нашего познавания открываются беспредельные возможности. Истина недалеко от нас, она открывается нам: и нам не нужно отрешиться от нашей мысли и от нашего сознания, чтобы овладеть ей, а нужно только отрешиться от нашего несовершенства. Ибо истина сама есть сознание, которое объемлет собою наше сознание и проникает внутрь его; поэтому в нашем сознании мы найдем и материал, и форму для восстановления сознания всеединого, т.е. истинного.
Иными словами, наше познание возможно, потому что для него есть точка опоры в сознании безусловном; с одной стороны, это сознание насквозь пронизывает нас; а с другой стороны и мы можем найти к нему путь через самоуглубление и утвердиться в нем, осуществляя тем самым и присущую нам как людям энергию нашего сознания и мысли. Наше познание возможно как нераздельное и неслиянное единство мысли человеческой и абсолютной.
Материал, из коего слагается наше познание истины, весь во времени, но сама истина — вся βδ вечности; вот основная трудность (апория) познания. Чтобы познать, нам недостаточно освободить наш ум от власти времени: нам нужно поднять в вечность самые слагаемые познания — быстро текущий материал наших ощущений, впечатлений, переживаний. Это предприятие было бы совершенно безнадежным, если бы у нас не было уверенности, что в истине некоторым образом все сохраняется, даже самое мимолетное, исчезающее. И не только сохраняется, но и предваряется, ибо истина о будущем предваряет будущее. Мы не имели бы права накладывать на временное форму вечной истины, если бы оно и в самом деле так или иначе не пре- «бывало в вечности.
В каком смысле в истине сохраняется прошедшее? Оче-
316
видно, не как бытие, ибо временное бытие как такое исчезает; а потому не одно бытие служит содержанием истины о временном, но также и исчезновение и гибель. Чтобы найти истину о временном, достаточно найти абсолютное сознание о временном. И вот, для того, чтобы мы могли знать что бы то ни было, нужно, чтобы такое сознание существовало. Необходимое предположение и необходимый prius нашего познавания о временном есть всеединое сознание как синтез вечной памяти и абсолютного предвидения.
Другое необходимое предположение заключается в субъективной возможности для нас людей — приобщиться к этому вселенскому предвидению и памяти. Начаток истинной теории познания, как уже было выше сказано, есть уже в учении Платона, который понимал наше познавание как воспоминание человеческой души о чем-то забытом ею в вечности. Познание и в самом деле таково; но та вечная память, которую мы в себе восстановляем, когда познаем, есть в существе своем не наша, а всеединая память; нашей она становится лишь в акте познания; ибо в этом акте мы вспоминаем в форме вечности и относим к действительной вечности пережитое нами во времени. Сюда же нужно присоединить еще одну необходимую поправку к учению Платона. — Не одну вечную идею вспоминаем мы в истине, но все виденное, слышанное и воспринятое нами; вспоминаем не одно сверхчувственное, но вместе с ним и всю полноту чувственного явления. Ибо истина все в себе объемлет и ничего от себя не отсекает. Как есть истина мысленного, так есть и истина чувственного. Во всеединстве истины находит себе место как то, так и другое.
III. Абсолютное и чувственная достоверность.
Здесь нам предстоит подвергнуть пересмотру тот суровый приговор достоверности чувственного, который был вынесен древними, а вслед за ними и многими новыми философами, в особенности Гегелем. В древности две противоположные крайности-последователя Гераклита и элейцы — сходились в том общем выводе, что наши чувства нас обманывают, ибо вечно текущий чувственный мир не. заключает в себе пребывающей
317
истины. — Гераклит и его последователи исходили из того наблюдения, что «все течет», при чем на этом основании Кратил отрицал самый закон тождества, самую возможность судить о чем-либо, так как всякое подлежащее наших суждений изменяется, пока мы о нем судим: по Кратилу мы не только дважды, но и однажды не можем войти в одну и ту же реку, ибо «одной и той» же реки не существует; не успели мы ее назвать, как она уже стала другою. Элейцы приходят к тому же выводу, исходя из противоположной точки зрения: истинное бытие есть пребывающее; поэтому чувственный мир, где ничто не пребывает, есть мир призрачный. Платон, который в своих выводах о чувственном мире дает синтез учений элеатов и Гераклита, приходит к тому заключению, что область чувственного есть область мнимого. Истина — только в мысленном мире: чувственный же мир — мир призрачный, который «вечно нарождается и погибает, но никогда не есть воистину». Эта платоновская формула вполне приложима и к философии Гегеля, для которого истинно сущее и истинное — только понятие, чувственное же само по себе — и не сущее и не истинное.
Критика чувственной достоверности в «Феноменологии» Гегеля должна быть здесь принята во внимание, как самое яркое и типическое, что было сказано по данному предмету за всю историю философии.
Скептический аргумент по отношению к чувственности здесь — в общем — тот же, как и у Кратила и у Платона. Из того, что в чувственном мире «все течет», делается вывод, что в нем нет пребывающей истины. Но этот скептицизм по отношению к чувственности у Гегеля является вместе с тем подходом к рационалистической точке зрения. Из того, что среди всеобщего течения чувственного мира сохраняются неизменными понятия, посредством которых мы судим о вещах, Гегель выводит заключение, что пребывающая истина — и есть понятие.
Что такое предмет чувственного восприятия, то конкретное «это», которое воспринимается нашими чувствами? Это — то, что мы видим «теперь» и «здесь». Но что такое «теперь»? На этот вопрос мы ответим примерно: «теперь — ночь». По Гегелю, чтобы исследовать истину этой чувственной достоверности, достаточно
318
простого опыта. Запомним эту истину и посмотрим «теперь» в полдень; окажется, что наша «истина» исчезла. «Теперь, которое есть «ночь», сохраняется, т.-е. оно трактуется как то, за что выдается, как существующее; но оно оказывается несуществующим. Само «теперь» вполне сохраняется, но как такое, которое уже не является ночью; выступая под формой дня, оно сохраняется также и по отношению к нему, как нечто, что не является также днем, т.-е. как отри дательное вообще»1).
Такими аргументами Гегель доказывает, что истина чувственной достоверности — не индивидуальное, а всеобщее. Пребывающее и, стало-быть, истинное выражаются в таких понятиях, как «здесь», «это», «теперь» и т. п.; но то индивидуально-чувственное, что подставляется под это всеобщее, — беспрерывно меняется! оно — то день, то ночь и т. п. Мы говорим «здесь дерево»; но оглянемся кругом, и окажется, что «здесь дом». Положим, я говорю о дереве, которое вижу я — «этот»; но та же самая диалектика разбивает истину и этого утверждения: «я, этот вижу дерево и утверждаю дерево как здесь; но другое я видит дом и утверждает, что здесь не дерево, а дом. «Достоверность обеих истин — одна и та же, именно она покоится на непосредственности видения и на ручательстве и уверении обеих относительно их знания, но одна пропадает в другой».
Такими и подобными этому аргументами Гегель обосновывает свой рационалистический тезис, что истинное в чувственной достоверности не есть непосредственное видение, а пребывающее в движении чувственного всеобщее или понятие. На самом деле из его посылок вытекает как раз обратный вывод. Если такие понятия как «этот», «здесь», «теперь» и т, п. — приложимы к любому содержанию, если они могут быть и домом, и деревом, и Петром и Иваном и днем и ночью, это доказывает только, что данные понятия сами по себе никакой истины не выражают; если мы к ним сведем истину чувственного восприятия, то мы тем самым превратим эту истину в нуль. Истина чувственного может быть выражаема не абстрактными «здесь» или «теперь», а единственно синтезом этих «здесь»
______________________
1) Гегель, Феноменология духа. Русск. перев. под редакцией Э. Л. Радлова. Петроград, 1913, стр. 44.
319
или «теперь» с такими данными чувственного восприятия, как свет дня, тьма ночи или зелень дерева. Словом, доводы Гегеля доказывают вовсе не то, что отвлеченные понятия суть истина чувственного воззрения, а как раз наоборот, что чистое отвлечение, в отрыве от данных интуитивного воззрения, — бессильно выразить истину и постольку — неистинно. —
На самом деле истина, что «я – этот вижу здесь дерево», очевидно, не уничтожает истины что другое я в другом «здесь» видит вовсе не дерево, а дом. Также и истина, выражаемая словами — «теперь — ночь», — очевидно, не уничтожает той истины, которую я завтра выражу словами — «теперь полдень». Но, как, бы ни было несомненно заблуждение этой гераклитовской аргументации, корни его доселе остаются необнаруженными. А между тем их выяснение представляет большой интерес для философии: пока они остаются скрытыми от мысли, мы не застрахованы против возможного повторения того же заблуждения в будущем.
Не трудно убедиться в том, что общая его причина — во все времена — одна и та же. Повторяющаяся из века в век ошибка критики чувственного восприятия заключается прежде всего в неумении мыслителей отличать истину от бытия. Именно отсюда происходит неспособность названных философов найти истину непрерывно текущего и изменчивого чувственного явления.
Из того, что в чувственном мире они не находят пребывающего бытия, они выводят заключение, что чувственное есть всецело ложное и мнимое, что, стало быть, истина есть «сверхчувственное бытие», которое ничего чувственного в себе не содержит. Для Гераклита эта пребывающая истина есть самый закон всеобщего изменения, для элейцев — «единое», для Платона — родовая «идея», для Гегеля — понятие; стало быть, для всех она одинаково — нечто отвлеченное, из чего чувственное как такое исключается. Если довести эту точку зрения до конца, то чувственность не только превратится в «мнимое бытие» или призрак, но придется признать, что и самого призрака не существует: ибо, если остановиться на том, что чувственно воспринимаемое «есть как призрак», то все-таки придется допустить, что, хотя бы в этом качестве, — как призрак — оно истинно существует.
320
Все эти затруднения разрешаются, как только мы остановимся на высказанной здесь точке зрения, что истина есть всеединое сознание, а не всеединое сущее: ибо сознание объемлет в себе и бытие и небытие — и ночь, которая есть теперь, и день которого уже нет или еще нет. Только при таком понимании становится возможной истина о возникновении и уничтожении, — т.-е. о переходе от бытия к небытию и обратно, истина о таком двойственном мире как наш, который отчасти есть, а отчасти не есть и, наконец, истина о том, чего вовсе нет, напр. о хлебе в осажденном городе или об «открытиях» той иди другой плохой философии!
И прежде всего, при таком понимании истины, — в ней находится место для всего необозримого многообразия чувственно воспринимаемого. На той точке зрения, на которой мы стоим, мы неизбежно приходим к реабилитации чувственности как источника познания: ибо, если истина есть всеединое сознание, то она объемлет в себе и полноту чувственного. Отдельное чувственное впечатление как такое с этой точки зрения — не истина и не ложь; оно истинно в контексте всеединого сознания и ложно вне этого контекста. Но во всяком случае мы можем быть уверены в том, что в истине оно введено в этот контекст. А потому нет того ничтожного и преходящего чувственного впечатления, которое не могло бы послужить показателем какого-либо истинного, а, стало быть, всеединого и вечного содержания!
К отмеченному выше заблуждению отрицателей чувственной достоверности примешивается ж другое — гипостазирование отвлечения, т.-е. в конце концов опять-таки — возведение антропологического в безусловное, отождествление с истиною нашего человеческого понятия. Тот факт, что для нас людей отвлечение является необходимым способом постижения истины, вводит в обман философа; и он переносит наше отвлечение — в саму истину.
Эту ошибку мы найдем и у элейцев, отождествивших истину с отвлеченным единством, в котором нет множества, и у Гераклита, для которого истина — не в конкретном явлении, а только в отвлеченной схеме всеобщего бывания, и у Платона, который представляет истину — идею — в схеме отвлеченного родового понятия; от той же ошибки не свободен и Гегель, для
321
котораго истинное есть понятие, отрешенное от чувственного, и, стало быть, вопреки его уверениям и добрым намерениям, — тоже отвлеченное. —
Нетрудно убедиться, что такое понимание истины переносит в нее образ нашего человеческого раздвоенного сознания, которому истина не дана, а задана.
В самом деле, истина не есть непосредственная данность нашего чувственного опыта. Там мы первоначально находим единичное без всеобщего, беспредельное многообразие явлений, при чем единство и порядок этих явлений, их общее понятие и их общий закон остаются от нас скрытыми. Истина всех этих явлений носится перед нами как неосуществленный идеал, как не наполненная еще схема всеединства. Чтобы так или иначе ее наполнить, чтобы связать мыслью чувственно воспринимаемый мир со всеединством истины, мы должны первоначально отвлечься от подавляющего нас многообразия чувственной данности. Мы — люди действительно постигаем всеобщее через отвлечение от единичного и, только совершив этот акт отвлечения от бессмысленной данности, потом снова нисходим к единичному с высоты всеобщего и таким образом его осмысливаем. Все эти приемы постижения вынуждены несовершенством нашего человеческого ума, который не охватывает разом полноты всеединства, а потому вынужден переходить от многого к единому и от единого — опять ко многому.
Ничего подобного этим переходам нет и не может быть в истине. Там нет места ни для отвлеченно частного, ни для отвлеченно всеобщего, потому что там вовсе нет места для какого-либо несовершенства. Во всеединстве абсолютного сознания всякое отвлечение с самого начала преодолено и побеждено. Та всеединая мысль, которая есть вместе с тем и истина всего, — не переходит от частного к всеобщему и от многого к единому или обратно, на наш человеческий образец: ибо беспредельное множество в ней от начала охвачено абсолютным единством, и единство от начала созерцается ею в конкретном множестве. В ней нет ни пустого понятия, ни бессмысленной данности. Мысль всеединая в самом начале и исходе своем есть конкретная интуиция, а не отвлеченное понятие.
Здесь необходимо резко подчеркнуть отличие только что выска-
322
занного понимания всеединства от гегелевского, тем более, что, при поверхностном знакомстве с мыслью настоящего исследования, это отличие затмевается внешним, чисто словесным сходством. По определению Гегеля мысль абсолютная есть также, как у нас, — мысль конкретная. Но это кажущееся сходство не должно вводить нас в заблуждение. Конкретное в абсолютной мысли по Гегелю — не начальная точка, а конец — результат ее эволюции. Она исходит из абсолютного отвлечения (ничто равное небытию) с тем, чтобы в процессе логического развития преодолеть свою отвлеченность и перейти к конкретному всеединству.
Именно в этом перенесении схемы эволюции, движения и перехода в абсолютную мысль выражается антропологизм учения Гегеля и его основное заблуждение. На самом деле никакого перехода от отвлеченного к конкретному в абсолютной мысли не совершается и никакой эволюции, никакого развития в ней вообще не происходит, потому что полнота конкретного всеединства в ней от начала положена и ею дана. Если можно говорить о преодолении отвлечения в абсолютной мысли, то только как о совершившемся от века, данном безо всякого перехода, до всякой эволюции. Отвлеченность, переход, развитие, эволюция, — все это определения, свойственные тому, что не-абсолютно, не-всеедино, не-совершенно; в учении Гегеля применение этих определений к мысли абсолютной является последствием смешения Абсолютного и его другого, — того другого, которое действительно развивается, совершенствуется и стремится преодолеть, но еще не преодолело отвлеченность, свойственную мысли несовершенной. Раз становление, движение у Гегеля есть основное определение мысли абсолютной, — пустота или отвлеченность первоначального ее состояния неизбежно является ея исходным, изначальным термином; эта якобы «абсолютная» мысль движется именно потому, что в ней нет от начала полноты конкретного всеединства.. Эта полнота для нее — terminus ad quem — тот конец и предел, к которому она стремится именно потому, что пустота и отвлеченность для нее — terminus а quo. Напротив, абсолютная мысль, как мы ее понимаем, заключает в себе полноту с самого начала, а не переходит, не движется к ней. Ибо абсолютная мысль не есть движение, а вечный покой,
323
С этим связано другое важное отличие выраженной здесь точки зрения от гегелевской. Для Гегеля абсолютная мысль как такал не есть сознание. Сознание — не начало совершающегося в Абсолютном процесса, а его результат. Абсолютное, развиваясь, приходит к сознанию себя в человеке. Наоборот, предшествующее исследование привело нас к убеждению, что сознание в Абсолютном — не результат и не конец или ступень развития, а изначальный и предвечный акт; ибо никакому «развитию» Абсолютное не подвергается; переход от небытия к бытию, — в котором Гегель видит существенное определение абсолютной мысли, на самом деле ей безусловно чужд. И вся полнота ее содержания в ней от века раскрыта, притом, не для какого-либо «возможного наблюдателя» со стороны, который мог бы открыть эту полноту в Абсолютном, а для самого Абсолютного. Сознание человека или какого-либо другого существа не может привнести в Абсолютное что-либо такое, чего бы не содержалось в нем от века. Напротив, само человеческое сознание было бы невозможно, если бы над ним не было абсолютного и всеединого сознания. Я не мог бы сознавать ни себя, ни окружающего, если бы то и другое не было от века осознано в Абсолютном.
Именно выраженное здесь понимание истины как всеединого и притом — абсолютно конкретного сознания делает возможною, более того, — необходимою — полную переоценку чувственности и чувственного. Отвлечение — по самой природе своей есть отрицание чувственности, ибо чувственность есть то, от чего мысль прежде всего отвлекается или отталкивается. Поэтому, доколе истина мыслится по образу и подобию отвлеченной человеческой мысли или понятия, она представляется отрицанием чувственного; все чувственное из нее исключается как мнимое, призрачное. Напротив, раз истина понимается как абсолютное или всеединое сознание, отвлечение тем самым определяется как что-то низшее по отношению к ней, что в ней преодолевается. Абсолютное сознание не есть отвлеченная мысль, а духовно чувственное созерцание или видение. Чувственное из него не исключено, а наоборот, в нем положено и насквозь пронизано мыслью. Оно не есть ни только мысль, ни только чувственность, но абсолютный синтез того и другого. Оба эти элемента, кото-
324
рые в нашем раздвоенном, расколотом надвое сознании разделены между собою, — в истине или в сознании абсолютном составляют нераздельное и неслиянное единство. — Сознание всеединое видит всеобщее не в отвлечении от частного — а непосредственно в самом частном — в беспредельном многообразии действительного и возможного. Абсолютная мысль по существу своему — не отвлеченное единство, а единство во множестве — τὸ ἐν ἐπι πολλῶν.
Мысль о том, что в истине нет ни образов, ни звуков, ни красок, должна быть, соответственно с этим, окончательно оставлена, как и тот нелепый рационалистический предрассудок, будто для Абсолютного должны оставаться сокрытыми те созерцания, которые для нас людей в нашей данной стадии существования обусловлены нашими органами чувств. В действительности Безусловному сознанию как такому открыты не только слабые и бледные краски нашей несовершенной действительности и нашего немощного созерцания; перед ним обнажена и вся та необозримая и бесконечно богатая гамма цветов и звуков, которая в условиях нашей действительности и нашего сознания, каково оно есть теперь, раскрыться не может. Ибо Абсолютное не есть темная бездна, которая с течением времени озаряется и наполняется внезапно нарождающимся и неизвестно откуда идущим светом. В нем есть от начала веков яркое полуденное сияние всеединого сознания. И, как бы ни были слабы те отблески этого сияния, которые достигают нашего мысленного зрения, при свете его мы видим все, что мы видим. —
IV. Отвлеченное знание и его ценность.
Здесь нам уясняется значение и ценность человеческого познания — того познания, которое в известном нам плане сознания и жизни является единственно доступным мысли. В этом плане мы не видим «лицом к лицу» всеединой истины, мы видим ее лишь «зерцалом в гадании», т.-е. в виде несовершенных, неясных и разрозненных образов. Подъем к ней должен быть опосредствован мыслью, которая должна для этого совершить трудное восхождение из ступени в ступень, подни-
325
маться над хаосом, шаг за шагом отвоевывая у времени откровения вечности. —
От начала до конца весь этот подъем мысли опосредствован отвлечением; ибо для того, чтобы подняться к всеединству истины, нужно сначала оттолкнуться (отвлечься) от хаоса, где его нет, оторваться мыслью от гераклитова тока, беспрерывно уносящего в своем стремительном течении бессвязные обрывки наших впечатлений, переживаний и чувств. Без отвлечения наша мысль в свою очередь была бы унесена всеобщим течением; мы не могли бы собрать ее в одно целое, не могли бы отвоевать у времени не только нашего знания, но самого нашего восприятия действительности. Я вижу дом; пока я обхожу его с востока, западная его сторона для меня уже протекла, исчезла из моего поля зрения. И, если бы не память, которая отвлекает и сохраняет над временем протекшие впечатления, я просто на просто не видел бы дома, а видел бы только мелькающие передо мною отдельные стены, двери и окна; я не имел бы восприятия дома как целого.
Без отвлечения мы не имели бы не только знания, но и самого сознания: ибо для того, чтобы сознать наши впечатления, объединить и осмыслить их, нужно отвлечься от их непосредственной данности, от случайного и субъективного их порядка и восстановить абсолютный их синтез — тот необходимый и объективный порядок, который объединяет их в истине.
Во свете абсолютного синтеза мы знаем все, что мы знаем, я сознаем все, что мы сознаем; но с другой стороны этот синтез нам не дан, а задан; в непосредственном восприятии его нет, и для овладения им необходим franscensus, — выход к запредельному. Отвлечение от непосредственной данности составляет необходимое предварительное условие этого выхода: чтобы пристать к одному берегу, нужно сначала оттолкнуться от другого; и вот почему все наше знание в условиях настоящей нашей действительности, опосредствовано отвлечением. Само собою разумеется, что познание отвлеченное есть потому самому познание весьма несовершенное, ибо оно видит предмет свой издали. Если бы наше чувственное восприятие совпадало со всеединой истиной, — отвлечение было бы тем самым побеждено и упразднено как излишнее. Но, поскольку наше сознание еще не есть сознание истинное, поскольку сознание всеединое и безу-
326
словное нам трансцендентно, отвлечение является неизбежным посредством всякого нашего подъема к истине. Постольку и отвлеченное познание является для нас необходимым не только в смысле неустранимости отвлечения, но и в смысле его ценности. Пока мы не видим истину лицом к лицу, мы без него обойтись не можем. Тот односторонний философский интуитивизм, который верит в возможность немедленно отвлеченное знание в философии и заменить его интуицией, просто напросто не отдает себе отчета в слабости и несовершенстве нашего поврежденного зрения и в степени удаления нашей человеческой интуиции от интуиции всеединой и безусловной.
Наиболее справедливая оценка отвлечения и отвлеченного знания дана еще Платоном — в его знаменитом сравнении земной жизни с глубокой пещерой, где томятся от рождения узники, прикованные спиной к свету, светящему сверху сквозь узкое отверстие. Узники эти никогда не видали ни самого источника света, ни ярко освещенной им подлинной действительности предметов; они видят только тени предметов, проносимых сзади них. Чтобы увидеть истинный свет и познать освещенную им подлинную действительность, пленники должны разорвать оковы, повернуться назад и пройти весь трудный скалистый путь из пещеры. Но они не могут сразу пройти его целиком. — Нужна привычка, постепенное воспитание, чтобы сделать узника способным смотреть вверх. Сначала ему всего легче распознавать тени, потом отражения, подобия (εἴδωλα) людей и других предметов в воде; потом он уже может обратиться к самым предметам; засим он устремит свой взор к тому, что на небе, рассматривая самое небо ночью, созерцая месяц и звезды. Наконец, он будет в состоянии видеть уже не отражение, солнца в воде, не изображение его в чем-либо другом а самое солнце, само в себе и на своем месте. Тогда ему откроется, что от солнца идут смены времен дня и года, что солнце в видимом мире всем управляет, будучи некоторым образом всему причиною. И, вспомнив о прежнем жилище, о товарищах по узам и о тамошней мудрости, он почтет себя блаженным, а к тем почувствует жалость1).
______________________
1) Civitas, VII, 514-517.
327
Тут мы имеем ясное изображение того мысленного подъема, который составляет задачу человеческого познания. Каждый шаг этого подъема есть новое усилие отвлекающей мысли; ей нужно отвлечься от внутренности пещеры, от наполняющих ее теней, потом от отражений предметов в воде, наконец, — от самых предметов... И только в самом конце этого восхождения преодолевается отвлечение. Когда умственное око видит «солнце само в себе и на своем месте», — тогда и только тогда ему уже не от чего отвлекаться. Тогда отвлеченное знание становится ненужным. Но, кто возомнит себя в силах миновать все эти низшие и средние ступени ведения, тот рискует или ослепнуть, или принять какое-либо промежуточное явление света за высший и последний его источник.
Отвлечение как необходимое орудие человеческого познания тем самым оправдано, но велико заблуждение тех, кто забывает об относительном, подчиненном его значении и принимает этот наш человеческий способ восхождения к истине за самую истину. Отвлечение есть чисто отрицательный акт мышления: сосредоточиваясь на каком-либо одном содержании мысли, — мыслитель отвлекается от всякого другого, для данного содержания несущественного. Так, сосредоточивая наше внимание на общем представлении «человек», мы отвлекаемся мыслью от всех тех индивидуальных особенностей человеческих особей, которые не всем людям свойственны. Но само по себе отвлечение не в состоянии дать мысли никакого содержания. Содержание наших понятий, хотя бы самых отвлеченных, всегда дается, интуицией. Относительно понятий эмпирических это не требует дальнейших пояснений ввиду интуитивного характера всякого опыта: мы не могли бы составить себе никакого отвлеченного понятия о человеке, если бы человек не был предметом нашего непосредственного воззрения. Что же касается априорных понятий иди категорий, то, как мы уже видели, и они обусловлены той интеллектуальной интуицией всеединства, которая составляет prius всякого знания. Нетрудно убедиться, что эта интуиция не обусловлена отвлечением, а, как раз наоборот, всякий акт отвлекающей мысли ею обусловлен. Мы только для этого и отвлекаемся от всего хаотичного, бессвязного, нецельного и дробного, чтобы найти всеединое и всецелое, т.-е. истину. Раньше
328
всякого мысленного искания, а потому и раньше всякого отвлечения мы предполагаем, что есть истина, иначе говоря, есть всеединство! Убеждение это — ничем не обусловлено и не опосредствовано: оно — по существу интуитивно!
Идея всеединства, которую мы в себе носим, не может быть отвлеченною, потому что она — идеальный стимул всякого отвлечения и в качестве такового — ему предшествует. Отвлеченной представляется рефлексия мыслителя о всеединстве, то понятие о нем, которое вскрывает его значение в мысли и познании. Но сама идея всеединства, как она живет в моей мысли до рефлексии о ней, как она предполагается всяким актом нашей мысли, — абсолютно конкретна. Ибо она, в качестве трансцендентального акта сознания, все охватывает, что мы сознаем, и чувственное и мысленное, и наше понимание и всякое наше переживание, как бы ни было оно незначительно и ничтожно. Ею мы сознаем все, что мы сознаем: ибо сознавать именно и значит видеть что-либо умом в единстве всего. Когда мы ставим вопрос — относительно какого-либо явления, мы отвлекаемся от непосредственной данности и ищем основание, которое нам не дано. Но самое возникновение этого вопроса обусловлено тем, что раньше его постановки мы уже видели, точнее говоря, мы предварили умом некоторое конкретное ἔν κα πᾶν в котором все, что есть, имеет свое необходимое почему. Конкретность этого видения всеединства именно и доказывается тем, что мы его видим во всем, что мы видим: в каждом конкретном акте сознания оно — на лицо до всякого отвлечения, ибо каждое наше переживание, со всеми его подробностями, заранее отнесено нами ко всеединой истине: мы заранее уверены, что найдем его в ней. Поэтому всеединство — не только форма нашего познавания, оно предполагается нашей мыслью и как материальная правда всего, как синтез формы и содержания. Таким оно предполагается нами до всякой рефлексии, следовательно, до самого различения формы и содержания.
С одной стороны, истина универсальна и потому самому превышает всякую нашу данность; с другой стороны, именно в силу ее универсальности, мы заранее уверены что найдем в ней все, что нам дано, со всеми относящимися к этому данными «что» и «почему».
329
И свет, который в эту минуту меня слепит, заполняя мое поле зрения, п яркая зелень, меня окружающая, и многообразие радостных весенних звуков, несущихся отовсюду, все это есть в истине; объективная быль или галлюцинация, — все равно, — все это истинно не в отвлечении, а во всей своей конкретности. Если же я отвлекаюсь от всего этого, когда задаюсь вопросом, почему лес шумит, почему солнце светит и почему поют птицы, то я делаю это не потому, что отвлеченна истина, а потому что от меня в силу ограниченности моего восприятия скрыты бесчисленные «почему», дающие ответы на мои вопросы. В истине «почему» птичьего пенья столь же конкретно, как и самое пенье. Но я должен на время забыть пенье этого зяблика или этой иволги, чтобы вспомнить те общие, но даже и в общности своей бесконечно конкретные мотивы птичьей любви, которые по-разному вдохновляют всех птиц и наполняют радостью все леса. Я должен в познавании отвлечься от пенья данной птицы; но самое отвлечение нужно мне для того, чтобы охватить одним взглядом конкретное все птичьего царства. Там я вспомню в конце концов и ту иволгу, от которой я на время намеренно отвлек мое внимание.
Мы отвлекаемся от конкретного множества для того, чтобы в конце концов к нему вернуться, чтобы найти единое во многом. Поэтому отвлечение в познании — не цель, а только средство и ступень: цель его — конкретное высшего порядка — конкретное всеединство, в котором весь мир возможного и действительного составляет целое.
Я отвлекаюсь мыслью от частных особенностей треугольников, чтобы вывести общую геометрическую теорему, — от частного физического явления, чтобы найти общий физический закон, — от частного исторического факта, чтобы восстановить связь времен, найти единство связующих события общих начал. Во всех этих случаях отвлечение наводит меня на интуицию всеединства: единство всех пространств, единство всех времен, единство закона, которому подчиняется вещество, — все это — различные аспекты одной и той же общей и вместе — бесконечно конкретной интуиции всеединства: пробуждать ее в себе, связывать с ней всякую конкретную данность моего сознания — и значит познавать. Но, если средством для того является отвле-
330
чение, то это — лишь начальная стадия познания; отвлечение в познании играет ту же роль, как леса при постройке. Леса принимаются, когда постройка окончена; так и отвлечете перестает быть нужным сознанию, достигшему совершенного знания и в этой конечной стадии упраздняется. Конец или цель знания заключается в том, чтобы вспомнить во всеедином все то конкретное, от чего познающая мысль пока отвлекается. Мне нет надобности прибавлять, что конец этот, если он вообще может быть достигнут человеком, открывается лишь в ином, пока недоступном плане сознания. В нашем человеческом плане сознания т.-е. в том плане, который открыт нам в данной стадии нашего существования, отвлечение нам необходимо. Однако и тут оно имеет лишь подчиненное значение орудия; цель его и здесь — заставит нас вспомнить в вечности то конкретное многообразие, которое по методическим соображениям забывается нами во времени. Искомое познания, — его конец во всякой его стадии—та самая интуиция всеединства, которая предваряет его как начало и как его духовный стимул.
V. Познание и откровение.
Основной результат предыдущего исследования сводится к положению, что всякое познание как такое есть некоторое откровение абсолютного сознания, Познавание возможно лишь в том предположении, что есть область абсолютного сознания, открытая для познающего человеческого ума. Как широка эта область?
Как уже было выше указано, всякое материальное познание временной действительности, равно как и формальное познание ее априорных условиях, есть познание экзотерическое: оно проникает в абсолютное сознание о дpyгoм, ибо время есть форма другого не—совершенного, не—абсолютного; но сознание Абсолютного о самом себе составляет высший эзотерический план абсолютного сознания, который в нашем познании о временном не открывается.
Вопрос о том, может ли человек проникнуть в этот высший, эзотерический план, есть вопрос об откровении в собственном смысле слова. В большей и важнейшей своей части он подлежит ведению метафизики, а не теории познания. Ибо
331
последняя исследует лишь те необходимые предположения познания, которыми последнее формально обусловлено; она не задается вопросом о том, имеются ли на лицо те жизненные, материальные, точнее говоря, психологические условия, без коих данное познание невозможно.
Теoрия пoзнaния пo дaннoму вoпрocу мoжет cкaзaть нaм лишь кaкoвы фoрмaльные уcлoвия эзoтеричеcкoгo пoзнaния oб aбcoлютнoм; oнa не мoжет oтветить нaм нa вoпрoc, имеетcя ли тaкoе пoзнaние нa caмoм деле. Прoникнoвение в эзoтеричеcкий плaн вcеединoгo coзнaния для нac лoгичеcки вoзмoжнo не инaче кaк в фoрмaх вcеединcтвa и при тoм лишь в тoм cлучaе, еcли Вcеединoе в caмoм cебе, вo внутренней cфере cвoегo бытия cтaнет нaшей интуицией, нaшей эмпирией. Тут нет ничегo фoрмaльнo или лoгичеcки невoзмoжнoгo. Дaльше признaния фoрмaльнoй вoзмoжнocти oткрoвения кaк тaкoгo л выяcнения укaзaнных тoлькo чтo фoрмaльных егo уcлoвий теoрия пoзнaния кaк тaкaя идти не мoжет. Вoпрoc o тoм, oблaдaет или не oблaдaет челoвек эмпирией aбcoлютнoгo, явленo или не явленo Вcеединoе челoвечеcтву нa caмoм деле, еcть ужo кoнкретный oнтoлoгичеcкий вoпрoc, кoтoрый мoжет быть пocтaвлен и рaзрешен лишь в кoнтекcте метaфизики aбcoлютнoгo в ее целoм.
В конце кондов это — вопрос не только о взаимоотношении двух планов сознания, но вместе с тем — и о взаимоотношении двух планов бытия; это вопрос, — есть или нет между человеком и Абсолютным жизненное соприкосновение, жизненное отношение, — притом отношение интимное, внутреннее; ибо сознание Абсолютного о самом себе может открыться человеку лишь в том случае, если Абсолютное или Всеединое станет для него жизнью, если человеческое сочетается с Абсолютным в одно неразрывное, органическое целое. Этот вопрос о жизненном отношении человека к Абсолютному представляется лишь частью другого, более общего метафизического вопроса о взаимоотношении Абсолютного и его другого. В качестве такового он. не может быть рассматриваем здесь и должен составить предмет другого исследования.
332
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
