13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Кант Иммануил
Кант И. Антропология

Иммануил Кант
АНТРОПОЛОГИЯ
Содержание
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ДИДАКТИКА.
О способе познавать как внутреннее, так и внешнее в человеке.
О познавательной способности.
О самосознании. § 1. 4
Об эгоизме. § 2. 5
О произвольном сознании своих представлений. § 3. 8
О самонаблюдении. § 4. 8
О представлениях, которые мы имеем, не сознавая их. § 5. 11
Об отчетливости и неотчетливости в сознании своих представлений. § 6. 13
О чувственности в противоположности рассудку. § 7. 15
Апология чувственности. § 8. 18
Оправдание чувственности по первому обвинению. § 9. 19
Оправдание чувственности по второму обвинению. § 10. 19
Оправдание чувственности по третьему обвинению. 20
О возможности по отношению к познавательной способности вообще. § 10 а. 21
Об искусственной игре с чувственной иллюзией. § 11. 23
О дозволительном искусстве казаться в области морали. § 12. 25
О пяти внешних чувствах. § 13. 26
О пяти внешних чувствах. § 14. 27
О чувстве осязания. § 15. 28
О слухе. § 16. 28
О чувстве зрения. § 17. 29
О чувствах вкуса и обоняния. § 18. 30
Общее замечание о внешних чувствах. § 19. 30
Вопросы. § 20-21. 31
О внутреннем чувстве. § 22. 33
О причинах повышения или понижения чувственных ощущений по степени. § 23. 34
О затрудненности, ослаблении и полной потере чувственной способности. § 24-25. 37
О воображении. § 26-28. 39
О чувственной творческой способности в ее различных видах. § 29-31. 45
О способности представлять в настоящем прошедшее и будущее посредством воображения. § 32-34. 52
О непроизвольном, творчестве в здоровом состоянии, т.е. о cнoвидении. § 35. 58
Об описательной способности. (Facullas signatrix). §36-37. 59
О познавательной способности, поскольку она основывается на рассудке. Деление. § 38. 64
Антропологическое сравнение трех высших познавательных способностей друг с другом. § 39-42. 65
О немощах и болезнях души в отношении познавательной способности.
А. Общее деление. § 43. 69
В. О душевной немощи познавательной способности. § 44-47. 71
С. О душевных болезнях. § 48. 78
Отдельные заметки. § 51. 83
О талантах познавательной способности. § 52. 85
О специфическом различии сравнивающего и обобщающего остроумия.
А. О продуктивном остроумии. § 53. 86
В. О чуткости или способности исследования. § 54. 88
С. Об оригинальности познавательной способности или о гениальности. § 55. 88
Чувство удовольствия и неудовольствия.
Деление. 94
О чувственном удовольствии.
А. О чувстве приятного или чувственном удовольствии в ощущении от предмета. § 58. 94
О скуке и развлечениях. § 59-64. 96
В. О чувстве прекрасного, т. е. отчасти o чувственном, отчасти об интеллектуальном удовольствии в рефлектирующем созерцании, или o вкусе. § 65. 103
Вкус имеет тенденцию внешним образом содействовать моральности. § 67-68. 106
Антропологические заметки о вкусе.
А. О модном вкусе. § 69. 107
В. О художественном вкусе. 108
О роскоши. § 70. 111
О желательной способности. § 71. 113
Об аффектах и их отличии от страстей. § 72. 113
Об аффектах в частности.
А. О власти души по отношению к аффектам. § 73. 115
В. О различных аффектах. § 74. 116
О боязливости и храбрости. § 75. 117
Об аффектах, которые сами ослабляются в своем стремлении к цели. (Impotentes animi motus). § 76. 120
Об аффектах, посредством которых природа механически содействует нашему здоровью. § 77. 122
О страстях. § 78-79. 125
Деление страстей. 127
А. О жажде свободы, как страсти. § 80. 128
В. О мстительности, как страсти. § 81. 129
С. О склонности иметь возможность оказывать на других людей влияние вообще. § 82. 130
А. Честолюбие. § 83. 131
В. Властолюбие. 132
С. Корыстолюбие. 133
О мечтательности, как страсти. § 84. 133
О высшем физическом благе. § 85. 134
О высшем морально-физическом благе. § 86. 135
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.
О способе познавать внутреннее содержание человека из внешности. 141
А. Характер личности. § 87. 141
I. Об естественных задатках. 141
II. О темпераменте. 142
III. О характере, как образе мышления. 147
IV. О свойствах, которые следуют, только из того, имеет ли человек характер, или не имеет его. 148
B. Характер пола. 157
С. Характер народа. 164
D. Характер расы. 172
Е. Характер породы. 173
ПРЕДИСЛОВИЕ.
Все успехи в культуре, которые являются школою для человека, имеют своею целью применять к жизни приобретенные познания и навыки. Но самый главный предмет в мире, к которому эти познания могут быть применены, это человек, ибо он для себя своя последняя цель. В виду этого понятие «мироведения» особенно применимо к познанию человека в его родовых признаках, как существа, обитающего на земле и одаренного разумом, хотя он и представляет из себя только часть всех земных созданий.
Учение о познании человека, изложенное в систематическом виде (антропология), может быть представлено или в физиологическом или в прагматическом отношении. — Физиологическое познание человека сводится к исследованию того, что делает из человека природа, а прагматическое исследует то, что он, как свободно действующее существо, делает, или может и должен делать из себя сам. — Кто размышляет о физических причинах,— например, задумывается над вопросом о том, на чем основывается способность памяти, — может на разные лады объяснять (по Декарту) следы, остающиеся в мозгу после внешних впечатлений, — те следы, которые оставляют по себе пережитые ощущения. Но здесь он должен сознаться, что он остается только простым зрителем игры своих представлений и что здесь все должен предоставить природе, так как он не знает мозговых нервов и волокон, не умеет овладеть ими в своих личных целях и поэтому его теоретические размышления в этой области ни к чему не ведут. — Но если, своими наблюдениями над тем, что затрудняет запоминание или содействует ему, он пользуется для того, что бы расширить область памяти или сделать ее более гибкою, и если для этого он пользуется своим знанием человека, то это познание является предметом уже другой части антропологии, а именно представленной в прагматическом отношении; собственно только этою частью антропологии мы и думаем заниматься в нашем исследовании.
Такая антропология, рассматриваемая как познание жизни, которое начинается после школьного периода, собственно еще не может называться прагматическою, хотя-бы она заключала в себе широкое знание вещей, существующих в мире, т. е. животных, растений и минералов в различных местностях и при различных климатических условиях; прагма-
1
тическою oнa бывает только тогда, когда изучает человека, как члена общества, как гражданина мира. — В виду этого даже изучение человеческих рас, как продуктов, созданных силами природы, относится не к прагматическому, но к теоретическому мироведению.
Выражения «знать жизнь» и «уметь жить» в своем значении расходятся достаточно широко, так как в первом случае имеют в виду только такую игру, на которую смотрят со стороны, а во втором — в этой игре и сами принимают участие. Но антрополог стоит на очень невыгодной для него точке зрения для того, чтобы судить о так называемом большом свете, или о сословии знатных, ибо этот круг с одной стороны отличается замкнутостью, а с другой — сторонится от всех посторонних людей.
Одним из средств для расширения области антропологии являются путешествия, — в крайнем случае даже чтение книг других путе-шественников. Но для того, чтобы узнать, на что следует обращать внимание в чужих краях, чтобы в достаточной степени расширить свои познания о человеке, — надо прежде всего изучить человека дома, путем общения с своими земляками и согражданами 1). Без такого общего плана (который уже предполагает некоторое знание людей) каждый член общества все еще остается в очень ограниченной области для своих антропологических наблюдений. Общее познание при этом всегда предшествует местному познанию, если только первое проверено и систематизировано на основе философии; если же этого нет, то все приобретенные нами познания представляют из себя только разрозненные тючки и не создают науки.
Все попытки с должною основательностью создать такую науку встречают на своей дороге затруднения и серьезное противодействие, которое объясняется уже самыми свойствами человеческой природы.
1) Человек, который замечает, что за ним наблюдают и хотят его изучить, или приходит в смущение и тогда не может казаться тем, что он есть на самом деле, или же начинает притворяться и тогда он не хочет показаться таким, каков он в действительности.
2) Если-же он хочет изучать только себя самого, то, особенно при состоянии аффекта, который исключает возможность представления, оказывается в не менее критическом положении; именно, пока состояние аффекта продолжается, он не может делать наблюдений над собою, а когда он начинает наблюдать, аффекта уже нет.
3) Условия места и времени при продолжительном воздействии на человека создают привычки, а это, как говорят, уже вторая природа
___________________
1) Большой город, центр королевства, в котором находятся имперские учреждения и органы правительства, где есть университет (для культуры науки), город удобный для морской торговли, т. е. расположенный на реке, сближающей с внутренними провинциями страны, недалеко от границы, город, где, благодаря постоянным сношениям, можно изучать чужие языки и чужие обычаи, — такой город, как, Кенигсберг на Прегеле, представляет из себя очень удобное место для того, чтобы расширить свои познания как относительно жизни вообще, так и относительно человека. Здесь и без путешествия в чужие страны можно изучать человеческое общество.
2
человека, что затрудняет для нас суждение о себе самих; при этом условии трудно сказать, как ему смотреть на себя или, скорее, какое понятие он должен составить себе о других людях, с которыми он находится в общении; перемена положения, в которое судьба поставила человека или в которое он в погоне за приключениями сам себя поставил, очень мешает антропологии достигнуть степени настоящей науки.
Наконец, хотя и не в качестве источников, но в качестве вспомогательных средств, для антропологии могут быть полезными — история, биография, даже драмы и романы; хотя две эти последние категории дают нам не опыт и истину, а только поэтический вымысел, причем характеры и положения, в каких люди могут оказаться, рисуются в преувеличенном виде и представляются как-бы в фантастическом освещении, но ими все-таки позволительно пользоваться, хотя, по-видимому, они ничего не дают для действительного познания человека; но во всяком случае эти характеры, как рисуют их, например, Ричардсон или Мольер, по своим основным чертам заимствованы из наблюдений действительной жизни и людей; поэтому может быть по степени они и страдают преувеличением, но по качеству вполне соответствуют основным чертам человеческой природы.
Систематически составленная и в прагматическом отношении популярно изложенная, объясненная примерами, пополнить которые может каждый читатель, антропология представляет читающей публике ту выгоду, что во всей полноте намечает те рубрики, под которые можно подвести каждое подмеченное человеческое свойство, обнаружившееся в практической жизни; таким образом эти рубрики дают много поводов и данных, чтобы каждому отдельному свойству посвятить особое исследование и затем поставить его на подобающее место в системе; этим путем работы в этой области сами собою могут быть разделены между любителями подобных изысканий, а, благодаря единству плана, выводы этих изысканий сами собою соединятся в одно целое, что в свою очередь будет содействовать росту этой общеполезной науки и ускорить ее возникновение 1).
_________________
1) В моих постоянных занятиях чистою философиею, к которым я приступил по свободному побуждению и которые я продолжал по обязанности в качестве профессора, я за тридцатилетний период времени прочитал только две серии лекций, целью которых было именно такое познание жизни; именно, одно зимнее полугодие я читал лекции по антропологии, а одно летнее по физической географии; на этих популярных лекциях присутствовали и посторонние слушатели.
Руководством для изучения первой науки и является настоящая книга. Представить такую же работу и по второй области знания, — на основании рукописей, слегка набросанных и ни для кого, кроме меня, не разборчивых, и в настоящее время, при моем преклонном возрасте, едва-ли для меня возможно.
3
АНТРОПОЛОГИИ
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ДИДАКТИКА.
О способе познавать как внутреннее, так и внешнее
в человеке.
ПЕРВАЯ КНИГА.
О познавательной способности.
________
О самосознании.
§ 1.
То обстоятельство, что человек может иметь в своих представлениях сознание своего «я», бесконечно возвышает его над всеми другими существами, живущими на земле.
В силу этого он личность и, в силу единства сознания, при всех изменениях, которые он может испытывать, одна и та же личность, — т. е. существо, по своему положению отличное от вещей, каковы неразумные звери; с ними он может поступать и распоряжаться как ему угодно, по своему произволу. Это справедливо и тогда, когда он еще не может выговорить этого «я», ибо он все-таки имеет его в своей мысли, и все языки, когда говорят что-либо от первого лица, всегда должны мыслить это «я», хотя-бы это сознание они и не выражали особым словом. Эта способность (именно способность мыслить) и есть рассудок.
Но замечательно, что ребенок, который уже приобрел некоторый навык в речи, все-таки сравнительно поздно (иногда спустя год после рождения) в первый раз начинает называть себя через «я»; до тех пор он обыкновенно говорит о себе в третьем лице («Карл хочет пить, гулять и т. д.»); когда же он начинает говорить через «я», кажется, будто бы в нем загорается какой то новый свет. С этого дня он никогда не вернется к прежней манере говорить. Прежде он только чувствовал себя, теперь он себя мыслит. Объяснение этого явления представляет значительные трудности для антропологов.
То обстоятельство, что ребенок в первую четверть года после своего рождения не умеет ни плакать, ни улыбаться, — по-видимому тоже зависит от развития известных представлений об обиде и несправедливости, которые намекают уже на разум. Если же он в этом периоде времени начинает следить глазами за блестящими предметами, то это лишь грубое начало развития в нем восприятий (аппрегензии чув-
4
ственного представления), чтобы впоследствии поднять их до действительного познания предметов внешних чувств, т. е. до опыта.
Далее, то обстоятельство, что, когда ребенок начинает говорить, его коверканье слов кажется таким милым как для матери, так и для няньки, которое заставляет их постоянно ласкать и целовать ребенка, тотчас же исполнять каждый его каприз и каждое желание и делает его маленьким тираном, — то эту очаровательность маленького существа в период его первоначального превращения в человека, с одной стороны надо приписать его невинности и полной искренности во всех его, даже ошибочных проявлениях, когда в нем не бывает ничего притворного и затаенного, а с другой естественной склонности няньки хорошо относиться к маленькому созданию, которое с такою ласкою совершенно отдается чужому произволу; в виду этого - то детство и является для ребенка самою счастливою порою жизни; при этом и воспитатель, который как бы сам превращается в ребенка, до некоторой степени второй раз переживает все удовольствия этого возраста.
Впрочем, воспоминания о годах своего детства обыкновенно далеко не доходят до этого раннего периода, так как это пора не опытного познания, а разрозненных восприятий, не соединенных в познание об объекте.
Об эгоизме.
§ 2.
С того дня, когда человек начинает говорить через «я», он везде, где только возможно, проявляет и утверждает свою возлюбленную личность и эгоизм развивается неудержимо, если и не открыто (ибо в этом ему может оказать противодействие эгоизм других людей), то тайно, с мнимым самоотвержением и лицемерною скромностью, чтобы тем вернее выиграть свою игру и подняться в мнении других людей.
Эгоизм может иметь претензии трех видов, — претензии рассудка, вкуса и практического интереса, т. е. может быть или логическим, или эстетическим, или практическим.
Логический эгоизм считает излишним проверять свое суждение на рассудке других людей, как будто бы этот пробный камень (criterium veritatis externum) для него совершенно не нужен. Но до такой степени достоверно, что мы не можем обойтись без этого средства для того, чтобы обеспечить правильность нашего суждения, что, может быть, именно в этом то и заключается самое серьезное основание для настойчивого требования со стороны нашего ученого мира свободы печати; если нам не дают высказываться свободно, то этим от нас отнимают самое надежное средство испытывать правильность наших собственных суждений и предоставляют нас на произвол заблуждений. Пусть не говорят, что, по крайней мере, математик имеет привилегию говорить лично за себя и за своею ответственностью, ибо, если бы всегда и всюду не замечалось полного соответствия суждений землемера
5
с суждениями всех других людей, которые прилежно и не без таланта работали в этой области, то и здесь нельзя было бы избежать некоторого опасения, как бы так или иначе не допустить ошибки. Бывают даже и такие случаи, когда мы не только не верим показаниям наших собственных внешних чувств, например, звенит ли у нас в ушах, или мы действительно слышим звон колокольчика, но считаем нужным спросить об этом у других, не слышится ли и им то, что слышим мы. И хотя в философских вопросах в подтверждение нашего собственного суждения мы не можем ссылаться на мнения других, как юристы ссылаются на мнения известных правоведов, — во всяком случае каждый писатель, у которого нет последователей, с каждым откровенно высказанным мнением, как бы серьезно оно ни было, рискует навлечь на себя подозрение в ошибке.
Именно поэтому всегда рискованное дело утверждать перед публикою положение, противоречащее общему мнению, даже мнению разумных людей. Такой внешний признак эгоизма называется парадоксальностью. Здесь смелость и риск заключается не в том, что это положение может оказаться ошибочным, но только в том, что оно найдет себе признание у немногих. Склонность к парадоксам это в сущности логическое упрямство — и не из нежелания показаться подражателем кого бы то ни было другого, только из желания казаться редким и исключительным человеком. Но такой человек часто ошибается в своих стремлениях и кажется только чудаком. Но, так как каждый человек может и должен утверждать свою собственную правду («если все отцы так, то я не так» — Абеляр), упрек в парадоксальности, если только она основывается не на суетном желании чем-нибудь отличаться от других, не имеет дурного, оскорбительного смысла. Парадоксу противопоставляется все заурядное (будничное), что имеет на своей стороне общее мнение. При подчинении последнему мы имеем так же мало твердой уверенности в своих суждениях, если еще не меньше, в особенности в том случае, когда это будничное спит и дремлет; а парадоксы будят мысль, призывают к большой внимательности и к новой пытливости, а это часто ведет и к новым открытиям.
Эстетический эгоист — это тот человек, который довольствуется исключительно своим собственным вкусом, хотя бы все находили негодными, порицали и высмеивали его стихи, картины, музыкальные произведения и т. д. Он лишает себя возможности дальнейшего усовершенствования, когда обособляется с своим собственным суждением, сам себе аплодирует и пробный камень для оценки красоты в искусстве ищет только в себе самом.
Наконец, моральный эгоист — это тот человек, который все цели жизни ограничивает на самом себе, который всякую выгоду и пользу видит только в том, что нужно и полезно для него и высшую основу определения своей воли полагает, кат эвдемонист, только_в своем удовольствии и в своей выгоде, а не в исполнении долга. А так как всякий другой человек создаст себе совершенно другое понятие о том, в чем состоит счастье в жизни, то именно этот эгоизм, до-
6
веденный так далеко, ни в каком случае не может, заключать в себе критерия правильного понятия о долге, которое поэтому могло бы приобрести значение всеобщего принципа для всех. Поэтому все эвдемоирсты в то же время и практические эгоисты.
Эгоизму можно противопоставлять только плюрализм, — т. е. такой образ мышления, при котором себя считают не всеобъемлющим и законченным в себе особым миром, но видят только одного из членов общества. Вот что в этой области относится к антропологии. То же, что касается этого различия по метафизическим понятиям, лежит совершенно вне сферы той науки, о которой идет здесь речь. Именно, вопрос о том, имело ли я, как мыслящее существо, причину вне моего существования признавать существование законченного целого других существ, находящихся со мною в общении (так называемый мир), — это уже вопрос не антропологический, а чисто метафизический.
ПРИМЕЧАНИЕ.
О формальностях эгоистического языка.
Обращение главы государства к народу в настоящее время делается обыкновенно во множественном числе (мы, N, Божиею милостию и т. д.); но вопрос в том, имеют ли эти слова эгоистический смысл, т. е. отмечающий полноту собственной власти и одинаковый по значению с обычным выражением короля Испании в формуле Io el Rey я, король)? По-видимому, эта формула для обозначения высшего авторитета на первых порах имела в виду скорее некоторое ограничение понятия (мы, король, и его совет, или государственные чины). Каким же образом могло случиться, что лицо, о котором мы говорим в данную минуту и которое в древних классических языках обозначалось посредством ты, т. е. в единственном числе, у различных, главным образом германских, народов превратилось в нечто множественное, и стало обозначаться посредством местоимения вы? Сюда же надо отнести еще два немецких выражения для обозначения высокого достоинства того лица, с которым в данную минуту говорят, — а именно Ег и Sie (как будто это не обращение в разговоре, но рассказ о ком-то отсутствующем и при том или об одном человеке, или о многих); наконец, в довершение всех нелепостей мнимого уничижения говорящего перед его собеседником и якобы превознесения его над собою, установили обычай называть в разговоре не имя своего собеседника, но отвлеченное определение его сословия или его служебного положения (Ваша милость, Ваше благородие, Ваше Высокородие и т. п.). По всем вероятиям, этот обычай возник на основе феодального строя общества, в котором обращали серьезное внимание на то, чтобы точно отметить должную степень уважения, подобающую лицам знатным, по всей лестнице титулов, начиная от королевского достоинства через все промежуточные ступени вплоть до той последней площадки, на которой человеческие привилегии оканчиваются и остается только человек просто, т. е. до сосло-
7
вия крепостных людей; к ним их господа обращаются уже на ты, как и к маленьким детям, которые еще не могут иметь своей собственной воли.
О произвольном сознании своих представлений.
§ 3.
Стремление сознать свои представления выражается или во внимании (attentio), или в отвлечении от представления, которое я сознаю в настоящую минуту (abstractio). Последнее не есть устранение или утрата представления (это было бы просто рассеянностью, distractio), но действительный акт познавательной способности, направленной к тому, чтобы представление, которое я сознаю, удержать в сознании от соединения с другими представлениями. Поэтому не говорят: «нечто» отвлечь (выделить), но говорят: «отвлечь от чего либо», т. е. обособить определение предмета моего представления, в силу чего это представление приобретает всеобщность понятия и в таком виде воспринимается рассудком.
Способность отвлечения от представления, даже в том случае, когда оно навязывается человеку путем внешних чувств, есть гораздо более высокая способность, чем способность внимания, ибо она доказывает свободу нашего мышления и самопроизвольность нашего духа, что дает возможность иметь в своей власти состояние наших представлений (Animus sui compos). В этом отношении способность отвлечения гораздо сложнее и гораздо ценнее, чем способность внимания, поскольку дело касается представлений внешних чувств.
Многие люди чувствуют себя несчастными только потому, что не умеют делать отвлечений. Жених мог бы сделать хорошую партию, если бы он мог закрыть глаза на бородавку на лице или на гнилой зуб во рту своей невесты. Но наша способность внимания имеет ту странную и нелюбезную особенность, что она почти непроизвольно сосредоточивает всю свою силу на том, что у другого не в порядке. Так уже она создана, что во все глаза смотрит на оторванную от сюртука пуговку, на дурной зуб или на обычную ошибку в речи собеседника, и таким путем приводит в смущение других, да и для себя портит свое впечатление. Если главное хорошо, то не только справедливо, но и умно не обращать внимания на некоторые недочеты в других людях, даже в нашем собственном благополучии. Эта способность отвлекать свидетельствует уже о той силе духа, которую можно приобрести только путем упражнения.
О самонаблюдении.
§ 4.
Замечать (animadvertere) за собою — еще не значит наблюдать (observare) себя. Последнее это методическое сопоставление вос-
8
приятий, получаемых от самого себя, которые дают материал для дневника человека, наблюдающего за самим собою; последнее легко приводит к мечтательности.
Внимание (attentio) к себе самому, когда имеют дело с людьми, хотя и необходимо, но при общественных сношениях не должно быть заметным, ибо в противном случае оно ведет или к замешательству (неловкости в обществе), или к аффектации (натянутости). Противоположность такому самочувствию в обществе является непринужденность (air dégage), уверенность в себе и в том, что другие не будут невыгодно отзываться относительно его манеры держать себя в обществе. Тот, кто держит себя так, как будто бы он каждую минуту любуется собою перед зеркалом, или говорит так, как будто бы он сам (а не кто-нибудь другой) прислушивается к своей речи, — до некоторой степени напоминает актера. Он рисуется и в искусственном освещении старается представить свой внешний облик; если эти усилия становятся заметными и для других, то такой человек много теряет в глазах общества, ибо при этом возникает подозрение, что он про себя рассчитывает обмануть других. Уменье держать себя так, чтобы уже своим внешним видом исключать малейший повод для такого подозрения, называется естественностью, простотою манер (что, впрочем, отнюдь не исключает художественности и вкуса); и эта естественность нравится уже правдивостью и искренностью своего внешнего обнаружения. Но там, где эта естественность вытекает из простоты сердечной, т. е. из неопытности в искусстве притворяться, которое стало правилом в общественных сношениях, — она называется наивностъю.
Простая и открытая манера говорить у девушки, которая кажется слишком мужественною и энергичною, или у провинциала, незнакомого с городскими приемами, своею наивностью и прямотою (неопытностью в искусстве казаться), вызывает веселую улыбку у тех людей, которые уже напрактиковались и изловчились в этом искусстве. Но это отнюдь не презрительная насмешка, ибо в глубине сердца и эти люди уважают искренность и откровенность. Это добродушная ласковая усмешка над неопытностью в этом дурном искусстве, хотя оно достаточно объясняется испорченностью человеческой природы, — в искусстве казаться, которое скорее должно возбуждать сожаление о том, что оно существует, чем смех, когда оно становится рядом с естественными проявлениями еще неиспорченной природы1). Эта мгновенная веселая улыбка, как солнечный луч, на минуту пробивается сквозь тяжелые покровы туч, облегающих небо, и тотчас-же гаснет, чтобы пощадить потемки нашего самолюбия.
Но вернемся к ближайшей цели этого параграфа, а именно к нашему предостережению: не слишком увлекаться выслеживанием самих себя и как-бы насильственным пытанием внутренней исто-
_________________
1) В этом отношении знаменитый стих Персия можно было бы изменить так: «naturamvideantingemiscantquerelicta» (пусть они видят природу и вздыхают о том, что позабыто).
9
рии наших мыслей и чувств; это предостережение мы делаем собственно потому, что именно здесь прямая дорога к тому, чтобы окончательно запутаться среди мнимых высших откровений и сил, влияющих на нас неведомо откуда, без всякого содействия с нашей стороны, — и таким образом удариться в иллюминатство.
Незаметно для себя мы делаем здесь мнимые открытия, хотя получаем только то, что мы сами в себя положили, — как это делал Буриньон в очень заманчивых, или Паскаль в ужасных и страшных образах. В таком же положении оказался и Альбрехт Галлер, в общем человек очень не глупый, который так долго, часто почти без перерывов, вел дневник своих душевных состояний, что в конце концов был принужден обратиться к знаменитому богослову, своему прежнему товарищу по академии, доктору Лессу, с вопросом, — не может ли он найти утешение для своей смущенной души в его обширной сокровищнице богословской учености.
Вполне достойно глубокого размышления, для логики и метафизики необходимо и полезно — наблюдать в себе различные акты способности представления, когда мы сами их вызываем в себе для этого. Но пытаться подсмотреть их, когда они без зова, сами собою, появляются в сознании (что совершается игрою непреднамеренного творческого воображения), — в виду того, что в таком случае принципы мышления не предшествуют (как следовало бы) нашим представлениям, но следуют за ними, — это уже извращение естественного порядка в познавательной способности и представляет или уже созревшую душевную болезнь (помешательство, Grillenfängerei), или расположение к такой болезни, с домом для умалишенных в перспективе. Тот, кто много умеет говорить о своем внутреннем опыте (о благодати, об иску-шениях), собираясь в путь в надежде сделать какое-нибудь открытие, прежде всего должен завернуть в Антициру 1), чтобы там подвергнуть исследованию самого себя. С этими внутренними опытами дело во всяком случае стоит далеко не так, как с опытом внешним относительно предметов в пространстве, где эти предметы являются рядом друг с другом и в известной устойчивости.
Внутреннее чувство воспринимает отношения своих определений только во времени, значит в смене, где не может быть того продолжительного созерцания явлений, которое необходимо для опыта 2).
___________________
1) Антицира, прибрежный город в Фокиде, у подножия Парнаса, славилась обилием чемерицы (Helleborus); это было целебное средство при помешательстве и меланхолии. Отсюда выражение (у Плипия): caputtribusAnticyrisinsanabile (голова, которую не поправить тремя Антицирами).Примеч. Перев.
2) Если мы представим себе внутреннее действие (самопроизвольность), через которое становится возможным понятие (мысль) т. е. рефлексию, и восприимчивость, через которую становится возможным восприятие (perception), т. е. эмпирическое созерцание, как аппрегензию, и оба эти акта представим в соединении с сознанием, - то сознание (apperception) можно будет разделить на сознание рефлексии и на сознание аппрегензии. Первое – это сознание разума, второе – внутреннего чувства; первое – чистая, а второе эмпирическая апперцепция: и тогда первое ошибочно называется сознанием внутреннего чувства. – В психологии мы изучаем себя по нашим представлениям внутреннего чувства,
10
О представлениях, которые мы имеем, не сознавая их.
§ 5.
Иметь представления и не сознавать, их, — по-видимому представляется чем-то противоречивым, ибо каким образом мы можем знать, что мы их имеем, если мы их не сознаем? — Это возражение делал еще Локк, который именно потому отрицал и существование такого вида представлений. Но косвенным путем мы можем сознавать, что мы имеем представление, хотя непосредственно и не сознаем его. — Такие представления называются темными, а все остальные ясными; и если их ясность простирается на частичные представления, входящие в состав их общего целого, то они называются отчетливыми представлениями, одинаково как в области мышления, так и в области созерцания.
Если я сознаю, что далеко от себя на лугу вижу человека, хотя я и не сознаю, что вижу его глаза, нос, рот и т. д., — то я собственно делаю вывод только о том, что этот предмет есть человек. Если бы в виду того, что я не сознаю в себе восприятия этих частей головы (а также и других органов этого человека), я захотел утверждать, что в своем созерцании я не имею представления о человеке, то я не мог бы сказать и того, что я вижу человека, ибо из этих частичных представлений слагается и все целое (голова или весь человек).
То обстоятельство, что поле нищих чувственных созерцаний и ощущений, которых мы не сознаем, хотя с несомненностью можем заключать, что мы их имеем, т. е. темных представлений, у людей (а точно также и у животных) неизмеримо, а ясные представления представляют из себя только совершенно незначительное количество отдельных точек, которые отчетливо лежат перед сознанием; то, что на большой карте нашей души освещены только немногие пункты, — может возбуждать у нас удивление перед нашим собственным существом; ибо, если бы только высшая сила пожелала сказать: «да будет свет», то без малейшего содействия с нашей стороны перед глазами человека открылось бы как-бы пол мира (если, например, мы возьмем ли-
_____________________
а в логике потому, что дает нам интеллектуальное сознание. – Здесь, по-видимому, «я» представляется нам двояким (что было бы противоречием): 1) я, как субъект мышления (в логике), которое обозначает чистую апперцепцию (только рефлектирующее я) и о котором мы ничего больше сказать не можем, так как это совершенно простое представление: 2) я, как объект восприятия, значит внутреннего чувства, которое заключает в себе разнообразие определений, что только и делает возможным внутренний опыт.
Вопрос, может ли человек при различных внутренних изменениях его души (его памяти и усвоенных их принципов), если он сознает эти изменения, сказать о себе, что он тот же самый человек, - вопрос нелепый, ибо человек только постольку и может сознавать в себе эти изменения, поскольку в различных состояниях он представляет себя как тот же самый субъект: и «я» человека, хотя двояко по форме (по способу представления), но не по материи (не по содержанию).
11
тератора со всем тем, что он имеет в своей памяти). Все, что открывает нам глаз, вооруженный телескопом (например, на луне), или микроскопом (в царстве инфузорий), в конце концов мы увидели нашими собственными глазами, ибо эти оптические средства не приносят глазу новых световых лучей и созданных ими образов, так как эти образы и без всевозможных искусственных орудии уже существовали на нашей сетчатке, но только значительно увеличивают их и этим доводят их до нашего сознания. — То же самое имеет значение и для слуховых ощущений, когда музыкант при помощи десяти пальцев и двух ног разыгрывает фантазию на органе и в то же время разговаривает с человеком, который стоит подле него; здесь в несколько мгновений в душе пробуждается огромное количество представлений, при чем для выбора каждого из них необходимо особое суждение относительно его пригодности, ибо единственный удар пальцем, несоответствующий гармонии, тотчас же прозвучит, как диссонанс; между тем в общем все идет так; удачно, что музыкант, без всякого приготовления разыгрывающий свою фантазию, очень хотел бы навсегда сохранить в нотных знаках кое-что из этой удачно сложившейся импровизации; но, может быть, он не в состоянии сделать это потом также хорошо даже при всем своем усердии.
Таким образом у людей обширнее всего поле темных представлений. — Но, так как эти представления могут быть восприняты только с своей пассивной стороны, как игра ощущений, то теория относится собственно к физиологической антропологии, а не к прагматической, которую именно мы и имеем здесь в виду.
Мы часто играем с нашими темными представлениями и имеем известный интерес ставить перед воображением в тени любимые или нелюбимые предметы; но еще чаще мы сами становимся ареною игры темных представлений, и наш рассудок не в состоянии спастись от тех нелепостей, к которым приводит его эта игра, хотя он сам ясно видит обман в этой игре.
То же самое бывает и в области половой любви, поскольку она имеет в виду собственно не симпатии, а обладание своим предметом. Много остроумия с давних пор было потрачено на то, чтобы набросить флер на то, что, хотя и приятно, но ставит человека в такое близкое, родственное отношение с другими породами животных, что возбуждает у людей стыд; и поэтому эта сторона жизни в изысканном обществе не может показываться без прикрас, хотя все выражения здесь всегда достаточно прозрачны для того, чтобы вызвать улыбку. — Воображение охотно блуждает здесь в потемках и всегда нужно не мало искусства для того, чтобы, избегая цинизма, не впасть в смешной пуризм.
С другой стороны, мы довольно часто видим игру темных пред-ставлений, которые не хотят исчезнуть даже тогда, когда они озаряются рассудком. Для умирающего часто кажется очень серьезным делом, чтобы его гроб похоронили в саду или под тенистым деревом, в поле или в достаточно сухой почве, хотя в первом случае он от-
12
нюдь не может наслаждаться живописными видами, а во втором — отнюдь не имеет причины опасаться получить от сырости насморк.
До известной степени и для разумных людей имеет значение то положение, что платье делает человека. Правда, русская пословица говорит: «по платью гостя встречают, а по уму провожают», но рассудок все-таки не может отделаться от воздействия темных представлений, придающих что-то важное и значительное хорошо одетому человеку; и только потом он потихоньку делает попытки исправить свое первоначальное непроизвольное суждение.
Но часто с полным успехом пользуются даже искусственною темнотою, чтобы щегольнуть основательностью и глубокомыслием. Предметы, когда мы видим их в сумерки или сквозь туман, всегда кажутся нам больше, чем они есть на самом деле 1). «Да будет темно» — вот магическая формула всех мистиков, которою они пользуются, чтобы искусственною темнотою приманить к себе гробокопателей мудрости. — И вообще известная степень загадочности в произведении далеко не неприятна читателю, ибо она дает ему возможность наслаждаться своим собственным остроумием при разрешении темных мест в ясные понятия.
Об отчетливости и неотчетливости в сознании своих представлений.
§ 6.
Сознание своих представлений, которое достаточно для отличия предмета от других, называется ясным. То сознание, при котором становится ясным и соединение представлений, называется отчетливым. Только благодаря последнему известная сумма представлений становится познанием при этом познании, в виду того, что каждое сознательное соединение представлений предполагает их единство, следовательно и правило для объединения, в этом разнообразии представлений мыслится известный порядок. — Отчетливому представлению можно противопоставить не сбивчивое (perceptio confusa), нo только менее отчетливое (minus clara) представление. То, что сложно, здесь следует соединить вместе, ибо в простом нет ни путаницы, ни порядка. Путаница, следовательно, только причина неотчетливости, а не ея определение. — В каждом сложном представлении (perceptio complexa),—
__________
1) Например, при дневном свете то, что больше освещено, чем окружающие предметы, кажется больше; так, белые чулки представляют икры более полными, чем черные, —огонь, разведенный ночью на высокой горе, кажется больше, чем он оказывается при измерении.
Может быть отсюда-же можно объяснить, почему луна кажется больше, а звезды, по-видимому, стоят дальше друг от друга, когда он находятся вблизи горизонта; в обоих случаях светящиеся предметы, которые мы видим у горизонта через более темные слои воздуха, кажутся нам больше, чем в небесной вышине; и то, что темно, в соседстве с ярким освещением кажется нам еще меньше. Таким образом, при стрельбе в цель, черный кружок на белом фоне гораздо удобнее для стрелка, чем белый на черном фоне.
13
a таково каждое познание (ибо для него всегда нужны созерцания и понятие),—отчетливость основывается на том порядке, в каком соединяются частичные представления; и эти представления тогда дают повод или только к лoгичеcкoмy делению (касающемуся только формы) на высшие и подчиненныя (perception primaria et secundaria), или к реальному делению на главные и побочныя представления (perception principalis et adhaerens); благодаря этому порядку познание становится отчетливым.—Вполне ясно, что, если способность познания вообще должна называться рассудком (в самом общем значении этого слова), то этот рассудок должен заключать в себя способность восприятия (attentio) данных представлений, чтобы дать созерцание,—способность обособления того, что свойственно многим из них (abstractio), чтобы дать понятие, — и способность размышления (reflexio), чтобы дать познание предмета.
Того, кто владеет этою способностью в превосходной степени, называют светлою головою; того, кому эта способность уделена в очень скромных размерах, тупицей (Pinsel, так как его всегда должны вести за собою другие); того же, кто в применении этой способности обнаруживает даже оригинальность, (в силу которой он сам из себя создает то, что в обычном порядке можно изучить только под чужим руководством), называют гением.
Того, кто ничему не научился, чему он должен был научиться, чтобы действительно знать, называют невеждой, если только знать что-либо его обязанность и если он хочет казаться ученым; если же у него этой претензии нет, то он может быть даже великим гением. Того, кто не умеет сам думать, хотя он мог многое изучить, называют ограниченною головою (тупым малым). И очень многознающий ученый, машина для обучения других, как он и сам когда-то учился, может оказаться очень ограниченным человеком в отношении разумного применения своего исторического знания. —Того, кто при публичном изложении своих познаний, когда-то изученных им, обнаруживает рабское отношение к школе (следовательно, недостаток свободы в самостоятельном мышлении), называют педантом. Таким педантом может быть как ученый, так и солдат и далее придворный. Среди них ученый педант в сущности еще самый терпимый, ибо от него все таки можно чему-нибудь научиться; напротив, мелочность в формалистике (педантизм) у последних не только бесполезна, но и в высшей степени смешна, особенно в виду той гордости, которая неизбежно присуща всякому педанту, ибо это гордость невежды.
Но искусство или скорее ловкость всегда говорить в тоне данного общества и вообще казаться модным, —а в области науки это иногда ошибочно называется популярностью, хотя в сущности это только прифранченное ничтожество, —иногда прикрывает некоторые недочеты ограниченных людей. Но это искусство может сбить с толку только детей. «Твой барабан (говорит у Адиссона квакер офицеру, который болтал, когда сидел рядом с ним в карете)—вот твое подобие: он шумит потому—что пусть».
Чтобы судить о людях по их познавательной способности (по уму
14
вообще), их делят на таких, за которыми признают здравый смысл, (sensus communis), —а это конечно не заурядный смысл толпы (sen-sus vulcgacis),—и на людей науки. Первые знают правила в случаях их применения (in concreto), вторые знают правила сами по себе и до их применения (in abstracto). Ум,—который нужен для познавательной способности первой категории, называют здравым смыслом (bon sens); а человека второй категории называют светлою головою (ingenium perspicax).—Замечательно, что первую способность, которая обыкновенно рассматривается как практическая познавательная способность, представляют себе не только так, что она может обойтись и без культуры, но даже так, что для неё культура будто бы вредна, если только она идет недостаточно далеко; такого человека прославляют поэтому до небес, видят в глубине его духа залежи скрытых и огромных сокровищ, и иногда изречения его, как какого-то оракула (гения Сократа), считают более надежными и достоверными, чем все, что наука может предложить к услугам человека.—Таким образом, если решение вопроса основывается на общих и прирожденных правилах рассудка (обладание которыми называется природным умом), то возникает сомнение, смотреть-ли на все по научным и искусственно составленным принципам (школьное остроумие) и в соответствии с ними принимать решение,—или же положиться на проявление тех скрытых в тайниках души основ определения для суждения, которые в их совокупности можно назвать логическим тактом, где размышление представляет предмет с многих и различных сторон и даст правильный вывод, хотя при этом не бывает ясного сознания тех актов, которые происходят в это время в нашей душе.
Но здравый смысл может обнаруживать свои преимущества только по отношению к предмету опыта. С его помощью нельзя достигнуть познания и, если он может расширить опыт, то отнюдь не в спекулятивном, а только в эмпирически - практическом отношении. Для спекуляции необходимы научные принципы а рriori, а для практики достаточно опыта, т. е. тех суждений, которые постоянно подтверждаются на деле и в результатах.
О чувственности в противоположности рассудку.
§ 7
Моя душа по отношению к состоянию представлений бывает или активной и тогда проявляет способность (facultas), или пассивною и проявляется в восприимчивости (receptivitas). Познание объединяет в себе как то, так и другое; и возможность иметь такое познание носит имя познавательной способности, заимствуя его от самого серьезного его момента, а именно от деятельности души в соединении представлений или в их обособлении.
Представления, по отношению к которым душа остается пассивной, в которых, следовательно, субъект испытывает воздействие на
15
себя (а это воздействие может быть или от себя же, или от объекта), относятся к чувственным представлениям; а те, в которых проявляется чистая самодеятельность (мышление), относятся к интелектуальной познавательной способности. Первую называют низшею, а вторую высшею познавательной способностью 1). Первая имеет, характер пассивности внутреннего чувства ощущений, вторая — самодеятельности апперценции, т. е. чистого сознания деятельности, которое создает мышление и относится к психологии (совокупности всех внутренних восприятий под естественными законами), а не в логике (системе правил рассудка) и обосновывает внутренний опыт.
Примечание. — Предмет представления, который заключает в себе только тот способ, каким я получаю от него воздействие, может быть мною познан так, как он мне является; и всякий опыт (эмпирическое познание), —как внутренний, точно так же и внешний, —есть познание предметов только так, как они нам являются, а не так, как они существуют (рассматриваемые только в себе). Зависит не только от свойств объекта представления, но и от свойств субъекта и его восприимчивости, то, какого рода будет чувственное созерцание, за которым следует и мышление о предмете (понятие об объекте).— Формальное свойство этой восприимчивости в свою очередь не может быть заимствовано от внешних чувств, но, как созерцание, должно быть дано а priori; т. е. должно быть чувственным созерцанием, которое остается в остатке, когда все эмпирическое (содержащее в себе ощущения внешних чувств) отбрасывается прочь; и эта формальная сторона созерцания при внутреннем опыте есть время.
Так как опыт есть эмпирическое познание, а для познания (в виду того, что оно основывается на суждениях) необходимо размышление (reflexio),—значит сознание, т. е. деятельность раcсудка при соединении разнообразного в представлении по правилу его единства, т. е. понятие., и (отличное от созерцания) мышление вообще, — то сознание делится на дискурсивное (которое, как логическое, должно предшествовать всему, так как именно оно дает правило), и на интуитивное сознание; первое (чистая апперцепция своей душевной деятельности) — просто. «Я» рефлексии не заключает в себе ничего разнообразного и во всех суждениях всегда одно и то же, так как это только формальное начало
__________
1) Полагать чувственность только в неотчетливости представлений, а интеллектуальность только в их отчетливости и таким образом вводить только формальное (логическое) различие сознания, вместо реального (психологического), которое касается не только формы, но и содержания мышления,—это было грубою ошибкой лейбнице-вольфианской школы; она именно полагала чувственность только в недостатке (неясности) частичных представлений, следовательно, в их неотчетливости, а свойство рассудочных представлений полагала в их отчетливости; тогда как на самом деле чувственность представляет из себя нечто очень положительное и служит необходимым дополнением для мышления, чтобы создать познание. Собственно виноват в этом Лейбнице. Он, последователь платоновской школы, признавал прирождённые чистые рассудочные созерцания, называемые идеалами которые существуют ныне в человеческой душе только в затемненном виде; и только путём расчленения и прояснения их, благодаря сосредоточенности внимания, мы будто бы можем достигнуть познания объектов, как они существуют сами в себе.
16
сознания. Наоборот, внутренний опыт представляет его материальную сторону и «я» аппрегензии (следовательно, эмпирического созерцания) содержит в себе разнообразное эмпирического внутреннего созерцания.
Правда, «я», как мыслящее существо, один и тот же субъект со мною, как чувственным существом; но, как объект внутреннего эмпирического созерцания, т. е. поскольку я внутренним образом получаю во времени воздействие от ощущений, одновременно или последовательно сменяющих друг друга, — я все-таки познаю себя только так, как я сам себе являюсь, а не как вещь в себе. Ибо это зависит от условия времени, которое не есть рассудочное понятие (значит, не чистая самодеятельность), — следовательно, от такого условия, по отношению к которому моя способность представления является страдательною (и относится к восприимчивости). Поэтому через внутренний опыт я всегда познаю себя только так, как я себе являюсь; и это мое положение часто злостным образом извращали так, что я будто бы хотел сказать: мне только кажется (mihi videri), что я имею известное представление и ощущение.— Иллюзия служит основою для ошибочного суждения из субъективных причин, которые неправильно считаются объективными; но явление еще не есть суждение, а только эмпирическое созерцание, которое путем рефлексии и возникающего отсюда рассудочного понятия превращается во внутренний опыт, а через это и в истину.
Причина всех этих заблуждений заключается в том, что слова внутреннее чувство и апперцепция обыкновенно признаются психологами совершенно равнозначащими, несмотря на то, что первое должно обозначать только психологическое (прикладное), а второе только логическое (чистое) сознание. Отсюда уже ясно, что через первое мы можем познать себя только так, как мы себе являемся, ибо восприятие (apprehensio) впечатлений первого предполагает формальное условие внутреннего созерцания субъекта, именно время; а это отнюдь не рассудочное понятие и, следовательно, оно имеет значение только субъективного условия того, как, по свойствам человеческой души, нам даются внутренние ощущения; следовательно, оно не дает нам возможности познать то, как существует объект в себе.
Это примечание относится собственно не к антропологии. В антропологии явления, соединенные по законам рассудка, суть опыты; и поэтому в ней совсем не ставится вопроса о способе представления вещей, каким образом они могли бы быть рассматриваемы вне их отношения к внутренним чувствам (значит, в себе); это последнее исследование относится к метафизике, которая имеет дело с возможностью познания a priori. Но все-таки было необходимо сделать это большое отступление, чтобы и по этому вопросу устранить сомнения у людей спекулятивного образа мыслей. — А так как, впрочем, познание человека путем внутреннего опыта, в виду того, что в большинстве случаев соответственно этому опыту он судит и о других людях, представляет дело огромной важности, а в то же время, может быть, и еще большей трудности, чем правильная оценка других, так как исследователь своего внутреннего мира вместо того, чтобы только наблю-
17
дать, очень часто кое - что вносить в самосознание и от себя, — то благоразумно и даже необходимо начинать дело с явлений, замеченных в себе самом, и только потом переходить к составлению известных общих положений, которые касаются природы человека, т. е. внутреннего опыта.
Апология чувственности.
§ 8.
Все люди всегда оказывают рассудку полное уважение, —как это достаточно доказывает уже название его высшею познавательною способностью; если бы кто-нибудь вздумал прославлять его, то ему ответили бы тою насмешкою, которою ответили оратору, вздумавшему слагать хвалы добродетели (stulte, quis unquam vituperavit? Глупый, кто и когда порицал ее)? — Но чувственность пользуется плохою репутацией. О ней говорят много дурного, — например: 1) что она запутывает воображение; 2) что она говорит слишком властно, и как госпожа., тогда как должна быть только служанкой разума, и ее надо укрощать упорно и настойчиво; 3) что она даже обманывает и что по отношению к ней нельзя быть достаточно осторожным. — С другой стороны у нее нет недостатка и в горячих поклонниках, особенно среди поэтов и людей изящного вкуса, которые не только прославляют, как заслугу, чувственное воплощение рассудочных понятий, но именно в этом, а также и в том, что понятия не должны быть разлагаемы на свои составные части с мелочной и педантической точностью, в чувственных впечатлениях видят яркость (полноту) мысли, выразительность (энергию) языка и блеск (ясность в сознании), а обнажённость рассудка прямо считают его нищетой 1). Мы не хотим здесь быть панегиристами, но выступим только адвокатами против обвинителей.
Пассивное начало в чувственности, которое мы все таки не можем вполне устранить, собственно и служит причиной всех тех зол, в которых ее обвиняют. Внутреннее, совершенство человека состоит в том, что он держит в своей, власти применение, всех, своих способностей и подчиняет их своему произволу. Для этого нужно, чтобы разум господствовал, по при этом не обессиливал и чувственности (которая сама по себе принадлежит к черни, ибо она не мыслит), так как без чувственности не будет того материала, который можно было бы переработать ради применения к нему законодательного рассудка.
__________
1) Так как здесь речь идёт о познавательной способности, следовательно, о представлении (не о чувстве удовольствия или неудовольствия), - то ощущение здесь имеет значение только чувственного представления (эмпирического созерцания), в отличие как от понятий (мышления), так и от чистого созерцания (представлений пространства и времени).
18
Оправдание чувственности по первому обвинению.
§ 9.
Внешние чувства не спутывают сознания. Того, кто хотя и воспринял данный разнообразный материал, но еще не привел его в порядок, нельзя упрекать в том, что он будто бы его спутал. Восприятия внешних чувств (эмпирические представления в сознании) можно назвать только внутренними явлениями.
Рассудок, который приходит на помощь к этому материалу и подводит его под правила мышления (вносит в разнообразное порядок), только один и создает из этого эмпирическое познание, т. е. опыт. Следовательно, это лежит на ответственности рассудка, не исполняющего своих обязанностей, если он судит слишком смело, не приведя предварительно в порядок чувственных представлений соответственно понятиям, и сам же потом жалуется на спутанность этих представлении, в которой будто бы следует винить чувственную природу человека. Этот упрек и эта неосновательная жалоба направляются на запутанность, якобы под влиянием чувственности, как внешних, так и внутренних представлений.
Чувственные представления, конечно, предшествуют представлениям рассудочным и даются сразу в массе; но они тем содержательнее и богаче результатами, если над этим материалом поработает рассудок с его стремлением к стройности и с его интеллектуальными формами и введет, например, в сознание меткие выражения для понятий, трогательные для чувства и интересные представления для определения воли.—То богатство, которое продукты духа в ораторском искусстве и в поэзии предносят рассудку сразу (в массе), правда, часто приводит рассудок в замешательство, таи; как он должен выяснить и расчленить все акты рефлексии, которые он, хотя и не вполне сознательно, совершает при этом. Но чувственность в этом отнюдь не виновата; скорее же надо видеть ея заслугу в том, что она предлагает рассудку такой богатый материал, в сравнении с некоторым его абстрактные понятия часто бывают бледными и скудными.
Оправдание чувственности по второму обвинению.
§ 10.
Внешние чувства не насилуют рассудка. Скорее они склоняются перед рассудком и предлагают себя к его услугам. Нельзя считать за притязание с их стороны давать приказания рассудку то обстоятельство, что они не позволяют отрицать своего серьезного значения, которое им присуще главным образом в том, что называют здравым смыслом (sensus communis). Правда, бывают суждения, которые формально не представляются к судебному трибуналу рассудка для того, чтобы выслушать от него приговор себе, и поэтому,
19
как кажется, непосредственно предписываются внешними чувствами. Подобные суждения заключают в себе так называемые изречения (Sinnspruche) и указания, напоминающие оракула (каковы те, голос которых Сократ приписывал своему гению). При этом именно предполагается, что первое, суждение о том, что было бы справедливо и мудро сделать в предлежащем случае, обыкновенно бывает самым правильным и дальнейшее размышление над ними его только портит. Но на самом деле они возникают не из внешних чувств, а из действительных, хотя и темных умственных процессов рассудка. — Внешние чувства отнюдь не предъявляют на это претензии и в этом, подобно людской толпе, которая, если только это не чернь (ignobile vulgus), правда, охотно подчиняется своему начальнику, рассудку, но в то же время хочет, чтобы ее выслушали. Если-же думают, что известные суждения и положения как-бы непосредственно исходят из внутреннего чувства, (минуя посредство рассудка) и рассудок должен покорно признать их и должен ощущениям давать значение суждений, то это та болезненная мечтательность, которая стоит очень близко к полному извращению мышления.
Оправдание чувственности по третьему обвинению.
Внешние чувства не обманывают. Это положение отклоняет самое серьезное, но в то же время, при строгом исследовании дела, самое ничтожное обвинение, которое предъявляют против внешних чувств. Это обвинение ложно — не потому, чтобы суждения внешних чувств всегда были правильными, но только потому, что внешние чувства никогда не вызывают никакого суждения, в виду чего во всякой ошибке вина лежит только на одном рассудке. — Но чувственная иллюзия (species apparentia) служит рассудку если не оправданием, то по крайней мере извинением; в виду этого человек часто испытывает искушение — субъективное содержание своего способа представления признавать за нечто объективное (отдаленную башню, углов в которой он не видит, считать круглою, море, отдаленная часть которого, благодаря более высоким световым лучам, сильнее бросается ему в глаза, считать выше берега, (altum mare, — полную луну, когда он видит ее при ее появлении на горизонте через воздух, более насыщенный испарениями, хотя он и воспринимает ее под тем-же самым углом зрения, считать более отдаленною, а следовательно и более значительную по величине, чем в том случае, когда луна высоко поднимается на небе). Таким образом явление он считает за опыт и через это впадает в ошибку, при чем здесь ошибка есть дело рассудка, а не внешних чувств.
Упрек, который логика бросает чувственности, заключается в том, что ее познание будто бы страдает узостью (индивидуальностью, сосредоточенностью на частном), тогда как рассудок, который имеет в виду общее и именно поэтому склонен к отвлечениям, возбуждает против себя обвинение в сухости. Эстетическая обработка материала,
20
в которой первое условие это популярность, пролагает новую дорогу, на которой возможно избежать и той и другой крайности.
О возможности по отношению к познавательной способности вообще
§ 10 а
Предшествующий параграф, который говорил о кажущейся способности по отношению к тому, в чем человек сам ничего не может сделать, ведет нас к исследованию понятий о лёгком и тяжелом (lеvе et grave), которые, хотя по буквальному смыслу в немецком языке отмечают только телесные свойства и силы, но затем, как и в латинском языке, по известной аналогии должны отмечать то, что легко сделать (facile), от сравнительно трудно исполнимого (difficile), ибо едва исполнимое для субъекта, который сомневается в степени своей, потребной для этого, способности, при известных условиях и положениях кажется для него субъективно-неисполнимым.
Лёгкость в исполнении чего-либо (promptitudo) не следует смешивать с ловкостью при исполнении этого (habitus). Первая отмечает известную степень человеческой способности: «я могу, если я хочу» и обозначает субъективную возможность; вторая отмечает субъективно- практическую необходимость, т. е. привычку, — значит, известную степень воли, которая приобретается путем продолжительного применения своей способности: «я хочу, потому что это предписывает мне долг». Поэтому добродетель нельзя определять таким образом, будто бы это ловкость (навык) в свободных, правомерных действиях; в таком случае она была бы только механическим применением силы. Но добродетель есть моральная сила в исполнении своего долга; она не превращается в привычку, но всегда должна возникать из образа мышления каждый раз, как нечто совершенно новое и первоначальное.
Легкое противопоставляется тяжелому, но часто и обременительному. Легко для субъекта то, для чего в нем существует значительный избыток способности сравнительно с тратою силы, потребной для данного дела. Что может быть легче исполнения формальностей визитов, поздравлений и выражений соболезнования? Но что может быть обременительнее их для делового и занятого человека? — Это мелкие неприятности (хлопоты) дружбы и знакомства, от которых каждый очень хотел бы отделаться, если бы только не опасался нарушить существующие обычаи.
Каких мелочей нет в тех внешних обычаях, которые относят к религии, хотя собственно они относятся только к церковной форме? А именно в том, что они не имеют в виду ничего полезного, в простой готовности верующих, которые охотно выносят эти церемонии и посты, покаяния и лишения (чем больше, тем лучше) и полагается заслуга набожности. Но эти добровольные подвиги, хотя в механическом отношении они и легки (ибо здесь не приходится отказы-
21
ваться от какой-либо укоренившейся склонности), для разумного человека в моральном отношении могут быть очень обременительными и тяжелыми.—Если поэтому величайший из проповедников нравственности сказал: «заповеди мои не трудны»,,—то этим он отнюдь не хотел сказать, что для выполнения их не требуется значительной траты силы; на, самом деде он, как такие, которые требуют чистоты душевного настроения, труднее всех других заповедей, какие только могут быть предписаны человеку; но для разумного человека он бесконечно легче, чем заповеди хлопотливого ничегонеделания (gratis anhelare, — multa agendo, nilil аgеrе, — напрасно трудиться, — много делая, не делать ничего), каковы были те заповеди, которые предписывало иудейство, ибо механически - легкое разумный человек считает непомерно тяжелым, когда он видит, что потраченные на это усилия не приносят никакой пользы.
Легко делать что-нибудь трудное — заслуга; но представлять легким что-нибудь, хотя самому этого не сделать, — обман. Делать то, что легко, в этом заслуги нет. Приемы и машины, а также разделение труда между различными рабочими (фабричный труд) делают многое легким, что было бы трудно исполнить одному своими руками, без других орудий и средств.
Показать трудности, прежде чем дать приказание приступить к работе (например в метафизических изысканиях), — это хотя на первых порах и запугивает новичка, но все таки гораздо лучше и честнее, чем желание эти трудности скрывать. Тот, кто все, за что он берется, считает для себя легким, человек легкомысленный. Тот, кто все, что он делает, делает без усилий, человек ловкий, — так же как тот, у кого всякое дело требует больших усилий, человек на подъем тяжелый. — Разговор в обществе это простая игра, в которой все должно быть легко и свободно от усилий. Поэтому все церемонии (всякая чопорность) в обществе, — например, торжественное прощание после обеда, — мало по малу выводятся, как нечто старомодное.
Настроение человека при начале того или другого дела бывает различным в соответствии с различием темпераментов. Одни начинают с сомнений и опасений (меланхолики); у других первое, что им приходит на ум. надежды и мнимая легкость осуществления дела (сангвиники).
Но как смотреть на похвальбы, основанные не только на темпераменте, тех сильных людей, которые говорят: «чего человек хочет, то он может сделать?» — Это в сущности только высокопарная тавтология; именно то, чего, по заповеди своего, в моральном отношении законодательного разума, он хочет, то он и должен, а, следовательно, и может сделать (ибо разум не может предписывать ему невозможного). Несколько лет тому назад были такие франты, которые хвалились этим и в физическом отношении, хвалились ниспровергнуть мир; — но эта порода давно вымерла.
Наконец привычка (consuetudо), в виду именно того, что ощущения одного и того же вида в силу их значительной, продолжитель-
22
ности без всякой смены отвлекают внимание от внешних чувств и почти уже не входят в сознание, — хотя и делает перенесение страданий более легким (что в таком случае ошибочно отмечается именем добродетели, — в данном случае, терпения), но она делает сознание и воспоминание о полученном благодеянии более тяжелым, что обыкновенно и ведет к неблагодарности (к чему-то противоположному добродетели).
Но привыкание (assuetudo) есть физическое внутреннее понуждение и впредь поступать точно так же, как всегда поступали доселе. Даже добрые дела оно лишает их морального значения, — именно потому, что мешает свободе духа; и кроме того, оно ведет к бессознательному повторению одного и того же акта (к монотонности) и через это делает человека смешным. — Обычные словечки и присказки (фразы только для исполнения пустоты в мыслях) — постоянно держат слушателя на стороже, в ожидании нового повторения этих любимых словечек, а оратора превращают в говорильную машину. Причина того, почему у нас возникает чувство отвращения при наблюдении чужих привычек, заключается в том, что здесь животное начало слишком ясно проглядывать сквозь человеческую оболочку, — что здесь инстинктивно, по правилу привычки, человек управляется какою-то другою (не человеческою) природою и таким образом подвергается опасности попасть в одну категорию с неразумным скотом.— Но некоторые привычки дозволительны и могут сложиться сознательно,—именно, когда природа отказывает в своей помощи нашему свободному произволу; так, в старости привыкают в определенные часы есть и пить, привыкают к качеству и количеству пищи, привыкают ложиться спать в определенный срок и в определенный срок вставать; таким образом наши действия мало по малу становятся механическими. Но это можно допускать только как исключение и только в случае нужды. В общем все привычки не заслуживают одобрения.
Об искусственной игре с чувственной иллюзией.
§ 11.
То обольщение, которое чувственные представления иногда производят на рассудок (praestigiae), может быть или естественным, или искусственным, бывает или ошибкой (illusio), или обманом (fraus). Та ошибка, которая заставляет нас считать что-либо, по свидетельству нашего собственного зрения, за нечто действительное, хотя тот же самый субъект в своем рассудке считает это невозможным, — называется оптическим обманом.
Иллюзия—это такая ошибка, которая остается даже тогда, когда знают, что мнимого предмета на самом деле не существует в действительности. — Эта игра нашего сознания с чувственною иллюзией очень приятна и занимательна; таково перспективное изображение внутренности храма; так Рафаэль Менис говорит о картине, изображающей школу перипатетиков (как мне кажется кисти Корреджио): «если долго смо-
23
треть на них, то кажется, что они идут; такова ратуша в Амстердаме, где нарисована лестница с полуоткрытыми дверями, которая так и манит каждого подняться по ней и т. п.
Но это обман внешних чувств, когда иллюзия немедленно исчезает, как только узнают истинные свойства предметов. Таковы всевозможные уловки фокусников. —Платье, цвет которого идет к лицу, это иллюзия; румяны—обман. Первое вводит нас в заблуждение: второе нас дразнит: этим же объясняется и то, что скульптурные изображения человеческих и животных фигур положительно невыносимы, если они раскрашены, ибо при этом мы каждую минуту бываем обманутыми и готовы считать их живыми, как только они снова неожиданно попадутся нам на глаза.
Очарование (fascinatio) при здоровом вообще состоянии души— это та ошибка внешних чувств, о которой говорят, что ее не бывает с естественными вещами, ибо здесь суждение о том, что предмет (или какое-либо свойство его) существует при более внимательном рассмотрении дела постоянно сменяется суждением, что его нет, (или что фигура его в действительности не такова); таким образом внешние чувства здесь сами себе противоречат. Так, птица бьётся о зеркало, в котором она видит себя, — и свое изображение считает то настоящей птицей, то нет. Этот обман внешних чувств, когда люди не верят своим собственным чувствам, чаще всего встречаются у тех людей, которые находятся под сильным влиянием страсти. Влюбленному, который (по Гельвецию) видел свою возлюбленную в объятиях другого, его подруга, отрицая решительно все, могла и сказать: «вероломный, ты больше меня не любишь; ты больше веришь тому, что видишь, чем тому, что я говорю». —Грубее и по крайней мере вреднее были те обманы, которые практиковали чревовещатели, месмеристы и т. п. мнимые чернокжники и колдуны. Бедных невежественных женщин, которых считали виновными в совершении каких- либо сверхъестественных деяний, называли ведьмами; и еще в этом столетии вера в них еще не совсем исчезла 1). По-видимому, чувство удивления перед чем-нибудь неслыханным само по себе имеет много привлекательного для людей, слабых духом, — не только потому, что это новое сразу открывает перед ними новые горизонты, но и потому, что оно освобождает их от обременительной опеки разума и тотчас же уравнивает их со всеми другими людьми в одинаковом незнании.
__________
1) Один протестантский священник в Шотландии, еще в этом столетии, участвуя в процесс, по поводу обвинения в колдовстве, в качестве свидетеля, говорил судье: «милостивый государь, уверяю вас честью священника, что эта женщина — ведьма». На это судья ответил; — «а я уверяю вас честью судьи, что вы отнюдь не колдун». — Слово Нехе, которое теперь стало немецким, происходит от начальных слов формулы мессы при освящении гостии, которую верующий телесными очами видит как небольшой кружок, хлеба, а, по совершении освящения, духовными очами должен видеть как человеческое тело. К словам Нос est прежде прибавлялось слово corpus, а hoc est corpus мало по малу стали выговаривать как ocuspocus, — вероятно, из благочестивого опасения, чтобы не произносить и не профанировать настоящее название, —как обыкновенно делают это суеверные люди при сверхестественных предметах, чтобы как-нибудь не промахнуться.
24
О дозволительном искусстве казаться в области морали.
§ 12.
Все люди, чем они цивилизованнее, тем больше становятся актерами; они усваивают себе внешние признаки любезности, уважения к другим, скромности, бескорыстия, хотя этим решительно никого не обманывают, ибо всякий другой прекрасно понимает, что вес это идет вовсе не от сердца, но что в сущности очень хорошо, что дела в этом мире идут именно так; благодаря тому, что люди играют именно эту роль, в конце концов добродетели, внешние признаки которых в течение долгого времени поддерживались только искусственно, мало по малу могут действительно проснуться в душе человека и перейти в душевное настроение.—Но обмануть обманщика в нас самих, т, е. склонность,—это значит вновь возвратиться к повиновению закону добродетели;—и это не обман, а наша невинная хитрость с самими собою.
Таково чувство отвращения к своему собственному существованию— в виду отсутствия в душе ощущений, к которым мы всегда стремимся;—сознание того, что время тянется слишком долго в соединении с чувством угнетающей лености, т. е. с отвращением от всякой деятельности, которую можно было-бы назвать работою и которая могла бы разогнать это чувство, в виду того что эта деятельность требует напряжения и работы,—это в высшей степени противное чувство, единственная причина которого—склонность к ленивому покою (к отдыху, которому не предшествовало утомление). Но эта склонность обманчива даже по отношению к тем целям, которые разум делает для человека законом, дабы он мог быть довольным сам собою, если он ничего не делает (бездеятельно живет растительною жизнью), ибо тогда он не делает и ничего дурного. Обмануть эту склонность к бездеятельному покою (что легче всего достигается увлечением изящными искусствами, а чаще всего развлечениями в обществе),—это называется провести время (tempus fallere), где уже само выражение показывает имеющееся здесь намерение, а именно—обмануть эту склонность к покою, хотя бы при помощи изящных искусств, дать известное занятию душе и по крайней мере содействовать прогрессу пашей собственной культурности посредством забавы, которая сама по себе бесцельна, в мирной области искусства; в противном случае это будет стремлением убить время.—Силою против чувственности отнюдь нельзя ничего достигнуть; ее надо перехитрить и, как говорит Свифт, чтобы спасти корабль, надо бросить киту на забаву бочку.
Природа мудро внушила человеку способность охотно отдаваться обманам, — уже для того, чтобы спасти добродетель или по крайне- мере направлять к ней человека. Доброе досточтимое приличие — это внешняя оболочка, которая внушает другим уважение (не позволяет смешивать человека с заурядной толпой). Правда, простая девушка едва ли будет довольна, если мужчины перестанут отдавать должное ее прелестям. Но стыдливость (pudicitia) — это усилие над собой, которое при-
25
крывает страсть, — как иллюзия, очень полезна для того, чтобы сохранить между тем и другим полом известное расстояние, которое нужно для того, чтобы не сделать их простым орудием наслаждений один для другого.—Вообще все, что называют приличием (decorum), имеет именно этот характер, т. е. не представляет из себя ничего, кроме красивой внешней формы.
Любезность (вежливость) — это внешняя форма снисходительности, которая внушает любовь. Поклоны, комплименты и вся светская галантерейность, вместе с самыми горячими уверениями в дружбе на словах, хотя они далеко не всегда бывают искренними и сердечными («Дорогие друзья! в мире нет друзей», — Аристотель), но все-таки никого не обманывают, именно потому, что каждый знает, за что все это надо принимать; они особенно ценны еще и потому, что эти, сначала пустые, знаки внимания и уважения мало по малу приводят к действительным настроениям этого рода.
Всякая человеческая добродетель в общественной жизни это разменная монета; ребенок тот, кто принимает ее за настоящее золото. — Но все-таки гораздо лучше иметь для обихода хоть такую разменную монету, чем решительно ничего; и в конце концов все-таки возможно, хотя и с значительными потерями, обменять ее на чистое золото. Выдавать ее только за контрамарки в игре, которые не имеют никакой цены, говорить вместе с скептическим Свифтом: «честность—это пара башмаков, стоптанных в грязи» и т. д. или вместе с проповедником Гофстедом в его нападках на Велизария Мармонтелия клеветать даже на Сократа, чтобы никто не мог верить в добродетель, — это государственная измена по отношению к человеческому роду. Для нас должны быть дороги даже внешние признаки добра в другом человеке, ибо от этой игры и от этого притворства, которыми добываются уважение в обществе, может быть даже и незаслуженное, в конце концов получается нечто достаточно серьезное.—Только с себя самих мы без всякой пощады должны стирать эти румяна мнимой доброты и безжалостно срывать то покрывало, под которым наше самолюбие скрывает наши моральные недостатки; ибо внешняя форма обманывает только там, где через то, что лишено всякого морального содержания, будто бы совершается искупление какой-либо нашей вины, или при отречении от проступка получается убеждение в своей полной невинности; так, например, раскаяние в злодеяниях в конце жизни иногда представляется действительным исправлением или холодно обдуманное преступление рисуется, как человеческая слабость.
О пяти внешних чувствах.
§ 13.
Чувственность познавательной способности (способности представлении в созерцании) заключает в себе два момента: внешнее чувство и воображение. — Первое — эго способность созерцания в присутствии предмета; второе — и в его отсутствии. Чувственные представления в
26
свою очередь делятся на внешние и на внутренние (sensus externus internus). Первые бывают там, где человеческое тело испытывает воздействие от телесных вещей; вторые там, где воздействие идет от души; при этом надо заметить, что внутреннее чувство, как простая способность восприятий (эмпирического созерцания), мыслится отличным от чувства удовольствия и неудовольствия, т. е. от способности субъекта известными представлениями определяться к сохранению или устранению состояния этих представлений; последнее можно было бы назвать интимным чувством (sensus interior). Представление через чувственность, которое и сознается, как таковое, называется обыкновенно сенсацией (sensatio), если ощущение вместе с тем возбуждает внимание к состоянию субъекта.
§ 14.
Чувство телесных ощущений прежде всего можно делить на чувство жизненных ощущений (sensus vagus) и на чувство органических ощущений (sensus fixus); а так как и те, и другие встречаются только там, где бывают нервы, то они делятся на такие ощущения, которые затрагивают или всю систему нервов, или только нервы, относящиеся к известному члену тела.—Ощущение холода или теплоты даже то, которое возбуждается душевными волнениями (как при быстро нарастающем страхе или надежде), относится к жизненным ощущениям. К той же категории относится тот озноб, который охватывает человека даже при представлении о высоком, и та дрожь (мурашки на спине), которая поздним вечером охватывает детей под страшные сказки няни и топит их в постель; они проникают тело во всем, где только чувствуется в нем жизнь.
Но органических внешних чувств по справедливости существует не больше и не меньше пяти, поскольку они относятся к внешнему ощущению.
Три из них скорее объективны, чем субъективны, т. е. как эмпирическое созерцание, они дают больше для познания внешнего предмета, чем возбуждают сознание внешнего воздействия на органы; два более субъективны, чем объективны: т. е. представление через них больше служит для органического ощущения, чем для познания внешнего предмета. Таким образом при первых трех чувствах легко прийти к соглашению с другими, а по отношению к последним, при совершенно одинаковом внешнем эмпирическом созерцании и при одинаковом названии предмета, тот способ, как субъект чувствует это внешнее воздействие, может быть совершенно различным. Чувства первого класса — это: 1) осязание (tactus), 2) зрение (visus), 3) слух (audius). — Второй класс это: а) вкус (gustus), в) обоняние (olfactus); вообще все чувства органических ощущений, как и разнообразных внешних, это приготовленные природой для животного организма двери к внешнему миру для того, чтобы дать ему возможность различать предметы.
27
О чувстве осязания.
§ 15.
Чувство осязания сосредоточивается в конечностях пальцев и в концах их нервов (papillae), чтобы путем прикосновения к поверхностям твердого тела узнавать его фигуру. По-видимому природа этим органом наделила только одного человека, чтобы он путем ощупывания со всех сторон мог составить себе понятие о фигуре тела, ибо чувствительные щупальца насекомых, как кажется, имеют в виду показать только присутствие предмета без определения его формы. — Это внешнее чувство только одно дает непосредственное внешнее восприятие; именно поэтому оно и самое серьезное и его показания особенно достоверны; но в то же время это и самое грубое чувство, ибо материя, от поверхности которой мы путем прикосновения должны получить показания об ея фигуре, должна быть твердой. (Здесь нет речи о жизненном (vital) ощущении, т. е. ощущается ли поверхность как мягкая или не мягкая, и ещё меньше о том, тепла ли она или холодна). — Без этого органического чувства мы не могли бы составить себе никакого понятия о телесной фигуре; таким образом при восприятии этой фигуры два других чувства первого класса должны ссылаться на восприятия осязания, чтобы дать опытное познание о предмете.
О слухе.
§ 16.
Чувство слуха есть одно из чувств посредственного восприятия. Оно идет через воздух, который нас окружает, и посредством его узнается отдалённый предмет на значительном расстоянии; и именно через эту среду,—которая приводится в движение органом голоса, ртом,— люди легче всего и удобнее всего могут входить в общение мысли и чувства с другими людьми, в особенности в том случае, если звуки, которыми каждый обменивается со всеми другими, членораздельны и в их закономерном соединении при помощи рассудка создают язык. В чувстве слуха внешняя фигура предмета не дается; звуки языка ведут к представлению этого предмета непосредственно; но именно поэтому — и еще потому, что сами по себе они ничего не значат, по крайней мере не обозначают объектов, а только выражают внутренние чувства, — они являются самым пригодным средством для обозначения понятий; поэтому глухой от рождения, который в силу этого должен всегда оставаться и немым (лишённым языка), в лучшем случае может достигнуть только некоторой аналогии разума.
Что же касается при этом жизненного чувства, то в музыке, как: в размеренной игре ощущений слуха, оно становится необыкновенно живым и не только испытывает разнообразные волнения, но и стано-
28
вится сильнее; — музыка таким образом служит как-бы голосом исключительно ощущений (без всяких понятий). — Звуки здесь тоны и служат для слуха тем же, чем краски служат для зрения. Звук здесь передается в даль, расходится по известному пространству, сообщается всем, которые при этом присутствуют, и представляет из себя нечто приятное для общества, — дает удовольствие, которое отнюдь не уменьшается оттого, что в нем многие принимают участие.
О чувстве зрения.
§ 17.
И зрение тоже чувство посредственных ощущений; ощущение передается здесь через подвижную материю, ощутительную только для известного органа (для глаза), через свет, который не только, как звук, представляет волнообразное движение текучего элемента, расходящееся в пространстве во все стороны, но представляет то излияние, через которое определяется в пространстве место для объектов; при его посредстве мироздание становится нам доступным в таком неизмеримом объеме, что, главным образом при самосветящихся небесных телах, нас мог бы утомить перечень длинных рядов цифр, если бы их отдалённость мы захотели выражать нашим земным масштабом. При этом мы имеем больше оснований изумляться нежной впечатлительности этого органа при восприятии таких слабых впечатлений, чем даже величине предмета (мироздания), — особенно же, если мир воспринимается здесь также и в малом, каким он становится перед нашими глазами, посредством микроскопа, например, при рассматривании маленькой инфузории. Чувство зрения, если оно и не так необходимо, как чувство слуха, все таки самое благородное из чувств, так как больше всех других оно удалено от чувства осязания, как самого ограниченного по условиям восприятий; оно не только обнимает наибольшую сферу их в пространстве, но и испытывает наименьшее воздействие на свой орган (ибо иначе оно не было бы только простым зрением), а через это, следовательно, приближается к чистому созерцанию (непосредственному представлению данного объекта без примеси заметного ощущения).
Эти три внешних чувства путем рефлексии субъекта ведут к познанию предмета, как вещи вне нас. — Но если ощущение так сильно, что сознание движения в органе становится заметнее, чем сознание отношения к внешнему объекту, то внешние представления превращаются во внутренние. — При осязании ощущать нечто, как гладкое или шероховатое, — это нечто совсем другое, чем при помощи этого-же чувства узнавать фигуру внешнего предмета.
Точно так же, если чей-нибудь голос так силен, что болезненно действует на уши слушателя, или если кто-нибудь, выходя из темной комнаты на яркий солнечный свет, жмурится и закрывает глаза, — то под влиянием слишком сильного или внезапного освещения второй на несколько мгновений становится ослепленным, а первого оглушает
29
крикливый голос; т. е. оба они в виду напряженности чувственного ощущения не могут составить себе понятия об объекте; их внимание сосредоточивается исключительно на субъективном ощущении, — именно на изменении в органе.
О чувствах вкуса и обоняния.
§ 18
Чувства вкуса и обоняния более субъективны, чем объективны; первое состоит в сознании прикосновения к органам языка, зева и глотки внешнего предмета; второе возбуждается путем втягивания посторонних испарений, смешанных с воздухом, при чем тело, которое испускает эти испарения, может быть значительно отдаленным от органа. Оба эти органа стоят в близком родстве между собою и тот, у кого слабо развито обоняние, всегда имеет слабо развитый вкус. — Можно сказать, что оба эти чувства получают воздействие через соли (твердые и жидкие), из которых одни растворяются в жидкости рта, а другие—в воздухе; и эти соли должны проникнуть в органы, чтобы вызвать там свое специфическое ощущение.
Общее замечание о внешних чувствах.
§ 19.
Ощущения внешних чувств можно разделить на ощущения механического и ощущения химического влияния. Три высших чувства обусловливаются механическим воздействием, а два низшие—химическим. Первые — это чувства восприятия (от поверхности), вторые чувства непосредственного соприкосновения (самого иитимного вбирания в себя). — Отсюда происходит то, что стремление освободиться от воспринятого кратчайшим путем, т. е. через пищевод (позыв ко рвоте), является у людей одним из очень сильных жизненных ощущений, так как это органическое общение со внешним предметом для животного может быть опасным.
А так как существует и духовное непосредственное общение, — а ваша душа, когда эта пища навязывается нам со стороны, извне, и в смысле духовного питания для нас бесполезна, иногда находит ее противной для себя (как постоянное повторение всегда одной и той же остроты, которая всегда должна быть забавной или веселой, но в силу этого однообразного повторения становится для нас неудобоваримой), — то инстинкт природы, побуждающий нас как-нибудь отделаться от этого, по аналогии тоже называется чувством отвращения, хотя он здесь относится уже к внутреннему чувству.
Обоняние есть как бы вкус на далеком расстоянии; здесь и другие вынуждены обонять известный запах, хотят ли они этого или нет; поэтому его возбуждение, как отнимающее от нас свободу,
30
меньше содействует общительности, чем вкус, где из многих блюд или бутылок гость может выбирать по своему вкусу что угодно, не принуждая других принимать участие в своем удовольствии. — Грязь, по-видимому, возбуждает отвращение не столько потому, что она противна для глаз и языка, сколько потому, что при виде ее всегда предполагается и дурной запах. Втягивание запаха через нос (в легкие) кажется еще интимнее, чем усвоение пищи всасывающими сосудами рта плит гортани.
Чем сильнее чувствуют внешнее воздействие органы внешних чувств при той же степени внешнего воздействия, тем меньше они дают объективных данных. — И, наоборот: если они должны быть поучительными для нас, воздействие на них должно быть очень умеренным. При очень сильном освещении обыкновенно ничего не видят, (не различают), — слишком громкий и напряженный голос оглушает (подавляет мышление).
Чем восприимчивее жизненное чувство к впечатлениям (чем оно нежнее и тоньше), тем человек несчастнее; чем восприимчивее человек к органическим чувствам, чем он не чувствительнее к жизненным ощущениям, тем он счастливее; говорю счастливее, а не лучше в моральном отношении, ибо тогда он только становится более хозяином чувства своего благосостояния.
Тонкость ощущений, возникающая из силы субъекта (sensibilatas sthenica), можно назвать нежной впечатлительностью, тонкостью ощущений, а из слабости субъекта, т. е. из его бессилия оказать достаточное сопротивление вторжению в сознание чувственных влияний, или сосредоточению внимания к ним вопреки нашей воле, называется нежною чувствительностью (sensibilitas asthenica).
Вопросы.
§ 20.
Какое органическое чувство — самое неблагодарное, без которого легче всего обойтись? — Это чувство обоняния. Оно не окупает труда, потраченного на его культуру и на его изощрение ради чувственных впечатлений, ибо в этом отношении гораздо больше предметов, возбуждающих (главным образом, в очень населенных местностях) неудовольствие, чем возбуждающих удовольствие; кроме того, чувство удовольствия при посредстве этого органа всегда бывает очень мимолетным и преходящим. Но это чувство имеет некоторое значение, как отрицательное условие сознания нашего благосостояния, ибо оно предостерегает нас не дышать вредным воздухом (избегать угара, запаха гнили и падали) и не употреблять в пищу гниющих продуктов. — То же самое значение имеет и другое субъективное чувство, именно чувство вкуса. Но оно имеет еще и то своеобразное преимущество, что содействует общительности с другими, — чего нельзя было ждать от предшествующего чувства. — Кроме того, оно на самом пороге, при вступлении пищи в пищевод, заранее высказывает свое суждение о ее пригодности для
31
организма, ибо оно, кроме чувства удовольствия, при этом процессе с достаточной достоверностью определяет степень пригодности пищи дня организма, если изысканность и пресыщенность не сделали самое это чувство слишком искусственным. — То, чего хочется во время болезни, обыкновенно бывает и полезным для больных, наравне с лекарством. Обоняние пищи есть как бы ее предвкушение и запах любимых блюд очень заманчив для голодного, хотя на сытого он действует неприятно.
Существует ли замена одного чувства другим, т. е., может ли одно чувство исполнять функции другого? — У глухого, если он только не был лишен слуха от рождения, можно вызвать обычные слова при помощи жестов, т. е., путем влияния на его зрение; к той же цели приводит и наблюдение над движением губ; того же можно достигнуть и путем осязания при ощупывании пальцами движущихся губ. Но, если он и родился глухим, то чувство зрения при наблюдении движений голосового органа, — те звуки, которые хотят вызвать у пациента при обучении, должно превратить в ощущение движений собственных голосовых мускулов глухого; впрочем, глухой от рождения никогда не доходит до настоящих понятий, ибо знаки, которыми он пользуется, не могут иметь всеобщего значения. — Недостаток музыкального слуха,— когда физический слух остается совершенно неповрежденным, когда ухо воспринимает только звуки, а не тоны, — это ненормальность, которую объяснить не легко; точно также бывают люди с очень хорошим зрением, которые, однако, не могут различать цвета и которым все предметы являются как бы в лилиях гравюры.
Что может быть серьезнее ослабления или потери такого чувства, как слух или зрение? — Первое, если оно утрачено от рождения, меньше всего поддается какой-либо замене; но, если это случается позднее, когда человек достаточно культивируется для понимания смысла жестов и движений или же косвенно развивается до чтения письма и печати, то такая утрата, особенно у людей зажиточных, до некоторой степени может быть заменена зрением. Но старик, потерявший слух, слишком недоверчиво относится к этому новому средству общения с другими; если много существует слепых, разговорчивых, общительных и веселых за столом, то слишком редко можно встретить в обществе человека, потерявшего слух, который не был бы раздражительным, недоверчивым и недовольным. По выражению лиц у людей, собравшихся за столом, он замечает всевозможные проявления аффекта, или, по крайней мере, интереса, но тщетно старается угадать их смысл и, таким образом, даже в обществе всегда осужден на одиночество.
§ 21.
Двум последним внешним чувствам (которые больше субъективны, чем объективны) свойственна восприимчивость к известным объектам внешних чувственных ощущений особого рода, которая вполне субъективна и действует на органы обоняния и вкуса посредством внешнего возбуждения; это ощущение не дает ни запаха, ни вкуса, а чувствуется, как воздействие известных твердых солей, которые раз-
32
дражают органы, побуждая их к специфическому очищению, поэтому эти объекты собственно не служат для обонятельных и вкусовых ощущений и не проникают глубоко в органы, а только прикасаются к ним и должны быть удалены очень скоро; И именно поэтому в течение целого дня (за исключением времени обеда и сна) они могут быть деятельными без чувства насыщения. Самым обычным материалом для этого является табак, — будут ли его нюхать или класть в рот между щекой и деснами, чтобы вызвать слюну, или курить из трубки и, как испанские девушки в Лиме, в зажженной сигаре. Вместо табака малайцы в последнем случае пользуются орехом арека, завернутым в лист бетеля, который производит то же самое действие. — Эти прихоти (pica), — если мы устраним вопрос о пользе или вреде их с медицинской точки зрения, в виду того, что следствием их может быть выделение известных жидкостей, как в том, так и в другом органе, — являются простым возбуждением чувственного ощущения вообще, которое возникает из постоянно возникающего желания освежить наше внимание к направлению своих мыслей; иначе это внимание может уснуть, или, в виду однообразия и монотонности, утратить свежесть; эти средства служат для того, чтобы время от времени снова разбудить наше внимание. Это что-то вроде развлечения для одинокого человека; и иногда оно заменяет ему и общество, ибо свободное время вместо разговора наполняется здесь внешним возбуждением, правда скоро преходящим, но вновь возобновляемым и постоянно дающим новые ощущения.
О внутреннем чувстве.
§ 22.
Внутреннее чувство не есть чистая апперцепция, не есть сознание того, что человек делает, ибо это относится к мыслительной способности; но это сознание того, что он испытывает, поскольку он получает впечатления от смены своих собственных мыслей. В основе его лежит внутреннее созерцание, следовательно, отношение представлений во времени (в их одновременности или в их последовательности). Его восприятия и из сочетания их возникающий (действительный или мнимый) опыт, — это не только нечто антропологическое, где именно отрешаются от вопроса, имеет ли человек душу, (как особую нетелесную субстанцию), но и нечто психологическое, где предполагается, что именно такую душу в себе и воспринимают, и где сознание, которое представляется, как простая способность ощущать и мыслить, рассматривается как особая субстанция, живущая в людях. В таком случае, существует только одно внутреннее чувство, ибо не существует различных органов, посредством которых человек внутренне ощущал бы себя; и поэтому можно сказать, что душа есть орган внутреннего чувства; тогда это внутреннее чувство доступно и заблуждениям, которые состоят в том, что человек явления этого чувства принимает или за внешние явления, т. е., образы воображения принимает за
33
ощущения, или же считает их внушениями, источником которых является другое существо, которое не есть предмет внешних чувств; тогда эта иллюзия превращается в мечтательность или даже в духовидение; а как то, так и другое представляет из себя обман внутреннего чувства. В обоих случаях это душевная болезнь, — склонность игру представлений внутреннего чувства принимать за опытное познание, тогда как это только игра воображения; часто это склонность намеренно поддерживать себя в искусственном настроении духа, может быть, потому, что такое настроение считают спасительным, поднимающим нас над низменностью чувственных представлений; именно это и побуждает некоторых людей отдаваться созерцаниям, созданным таким путем (сновидениям наяву). Человек то, что он сам сознательно вносит в свою душу, часто считает за нечто такое, что будто бы там было заложено еще прежде, и то, что он сам вбил себе в голову, считает только счастливой находкой в глубине своей души.
Этим можно объяснить мечтательные и увлекательные внутренние ощущения Бурильона, или мечтательно грозные и страшные ощущения Паскаля. Эту извращенность духа едва ли возможно устранить путем разумных представлений (ибо что могут сделать эти соображения против мнимых созерцаний?). Склонность погружаться в себя, вместе с возникающим отсюда возбуждением внутреннего чувства, может войти в норму только тогда, когда человек обратится к внешнему миру и вместе с этим к тому порядку вещей, который предлежит внешним чувствам.
О причинах повышения или понижения чувственных ощущений по степени.
§ 23.
Чувственные ощущения повышаются в степени: 1) в силу контраста, 2) новизны, 3) смены, 4) подъема.
a.
Контраст.
Резкое различие (контраст) — это возбуждающее наше внимание сопоставление двух противоположных чувственных представлений под одним и тем же понятием. Оно отличается от противоречия, которое состоит в соединении двух противоположных понятий. Хорошо обработанная местность в песчаной пустыне усиливает представление о культурности в силу одного контраста; таковы мнимо райские местности в области Дамаска в Сирии. Шум и блеск двора или большого города рядом с тихой, простой и мирной жизнью деревни, дом под соломенной крышей, но с комнатами уютными и полными вкуса, — дают представлению живость и останавливают на нем наше внимание, ибо это представление благотворно действует на наше внешнее чувство. Напротив, бедность и высокомерие, роскошные уборы дамы, блистающей
34
бриллиантами, и ее грязное белье; или, как прежде у польских магнатов, пышно убранные столы с огромным количеством прислуги, обутой в лапти, — представляют не контраст, но противоречие, ибо здесь одно чувственное представление уничтожает или ослабляет другое, так как здесь пытаются соединить под одним и тем же понятием нечто совершению противоположное, что само по себе невозможно. Но можно ставить контрасты и с комической целью, очевидное противоречие излагать в формах истины или нечто явно позорное рассказывать в хвалебном тоне, чтобы сделать тем заметнее всю нелепость этого, как это делает Фильдинг в одном из своих романов или Блюмауэр в своей переделке Виргилия; точно то же бывает, когда трогательный раздирательный роман, как Кларисса, пародируют весело и удачно; таким образом внешнее чувство поднимают именно тем, что освобождают его от противоречия, от примеси к нему ложных и вредных понятий.
b.
Новизна.
Внимание оживляется чем-нибудь новым, куда надо отнести все редкое и хранимое в секрете. Для нас это чистый выигрыш; этим путем чувственное представление приобретает больше силы и яркости. Оно уничтожает все будничное или все привычное. Под этой новизной нельзя разуметь открытие какого-нибудь произведения древности, его исследование или выставку на показ публике. Тогда оживает для настоящего времени нечто такое, относительно чего по естественному ходу вещей можно было предполагать, что сила времени его уже давно уничтожила. Внимание специалиста поднимается до высшей степени, когда он сидит на обломке стены древнего римского театра (в Вероне или Ниме), когда он держит в руках домашние сосуды старого народа, много столетий покрытого лавой Геркуланума, рассматривает монеты македонских королей или камеи древних скульпторов. Склонность к приобретению или изучению чего-нибудь только ради новизны, редкости или недоступности называется страстью к курьезам. Но эту склонность, хотя она только играет с представлениями и лишена интереса к своему предмету, нельзя порицать, если она не обращается на выслеживание того, что представляет личный интерес для других людей. Что же касается чисто чувственной впечатлительности, то она каждое утро становится живее и ярче, чем бывает вечером, уже в силу новизны ощущений. Все представления внешних чувств утром становятся отчетливее, если только наши внешние чувства не находятся болезненном состоянии.
c.
Смена.
Монотонность (полное однообразие) ощущений возбуждает в конце концов их атонию (утомление внимания к своему собственному
35
состоянию) и чувственное ощущение ослабляется. Смена его освежает; так проповедь, которую произносят в одном и том же тоне, то крикливым, то размеренным, но все время однообразным голосом, — наводит сон на всю аудиторию. Работа и покой, город и деревня, разговор в обществе и игра в одиночестве, занятия то историей, то поэзией, то философией, то математикой, — дают душе новые силы. Это именно та жизненная сила, которая возбуждается сознанием ощущений, когда ее различные органы в своей деятельности сменяют друг друга. Таким образом довольно продолжительное время проходит почти незаметно, если оно занято прогулкой, ибо тогда одни мускулы (ног) сменяют друг друга в деятельности и покое; время идет медленно, когда мы неподвижно стоим на одном и том же месте, когда одни мускулы должны напряженно работать без смены. Поэтому то так интересны путешествия, только, к сожалению, у праздных людей они оставляют ощущение пустоты (атонию), как следствие монотонности домашней жизни. Правда, природа уже сама по себе установила так, что среди приятных ощущений, оживляющих внешние чувства, незваной является и скорбь; таким путем она делает жизнь интересной. Но преднамеренно, только ради смены, примешивать к жизни скорби и причинять себе горе, заставлять будить себя, чтобы снова хорошенько почувствовать состояние усыпления, или, как в романе Фильдинга «Найденыш», где издатель этой книги по смерти автора прибавил к ней еще последнюю часть, чтобы ради разнообразия после брака (которым оканчивается роман), показать и муки ревности, — все это доказывает отсутствие вкуса, ибо, если какое-нибудь состояние становится хуже, то это еще отнюдь не усиливает того интереса, который принимают в нем наши внешние чувства; это также справедливо и для трагедии. Окончание не есть еще смена.
d.
Подъем до полноты.
Беспрерывный ряд по степени различных, следующих друг за другом чувственных представлений, где последующее всякий раз сильнее, чем ему предшествующее, доводит напряженность (intensio) внимания до последней степени. Постепенное приближение к этой границе будит чувство, а переход за эту границу снова ослабляет его (remissio). Но в том пункте, который отделяет обе эти крайности, лежит полнота (maximum) ощущения, после которой наступает нечувствительность, а, значит, и безжизненность. Если хотят сохранить чувственную способность в полной свежести, то не следует начинать с сильных ощущений (ибо они делают нас нечувствительными к следующим за ними); здесь гораздо лучше на первых порах совсем отказаться от таких ощущений и скупо мерить движение, чтобы иметь возможность подниматься все выше и выше. Церковный проповедник в начале речи начинает с холодных уроков разума, которые имеют целью оживить понятие о долге; затем он выдвигает моральный интерес и в за-
36
ключение приводит в движение все пружины человеческой души посредством ощущений, которые дают силу этому моральному интересу.
Молодой человек, откажись от удовлетворения своей жажды веселья, роскоши, любви и т. д., если и не ради стоических принципов, в предположении, будто бы ты можешь обойтись и без этого, то из тонких эпикурейских соображений, чтобы иметь всегда перед собой все возрастающее по степени наслаждение. Эта скупость по отношению к наличности твоего жизненного чувства путем отсрочки удовлетворения действительно сделает тебя богаче, хотя в конце жизни ты в большинстве случаев должен будешь совершенно от него отказаться. Сознание того, что наслаждение всегда в твоей власти, как и все идеальное гораздо плодотворнее и шире по объему, чем то, что даст удовлетворение внешним чувствам; последнее, кроме того, истощает эти чувства и, таким образом, тратит имеющийся у тебя основной капитал.
О затрудненности, ослаблении и полной потере чувственной способности.
§ 24.
Чувственная способность может ослабевать, задерживаться и совершенно исчерпываться. Отсюда состояния опьянения, сна, обморока, мнимой смерти (асфиксии) и действительной смерти.
Опьянение есть противоестественное состояние неспособности привести в порядок чувственные представления соответственно законам опыта, поскольку оно является следствием чрезмерных возлияний. Сон, по самому смыслу слова, есть состояние невозможности для здорового человека сознавать представления путем внешних чувств. Найти для него реальное объяснение — мы предоставляем физиологам, которые, если могут, должны объяснить это ослабление деятельности; а оно в то же время является состоянием накопления сил для новых внешних чувственных ощущений. (После сна человек смотрит на мир подобно новорожденному; а в сонном состоянии проходит третья часть нашей жизни без сознания и сожаления об утраченном времени).
Противоестественное состояние оцепенения органов внешних чувств, которое при незначительной степени обращает на себя несколько меньше внимания, чем это обыкновенно бывает в естественном состоянии, представляет из себя некоторую аналогию опьянения; поэтому человек, внезапно разбуженный среди глубокого сна, называется сонным до опьянения. Он еще не имеет полного сознания действительности. Но и наяву каждый человек может испытывать какое-то внезапное замешательство, не может опомниться и понять, что ему надо делать в том или другом непредвиденном случае, когда что-то мешает правильному и обычному применению его способности мышления и производит остановку в игре его чувственных представлений. При этом говорят: он вышел из себя (от радости или от испуга), растерялся, сбит
37
с толку, ошеломлен, озадачен, потерял tramontano 1) и т. п. И на это состояние смотрят, как на внезапно одолевший сон, в том случае, когда нужно собраться с своими мыслями. При бурном, внезапно наступившем аффекте (страха, гнева, а также и радости) человек, как говорят, бывает вне себя, в состоянии экстаза (когда думают, что этот человек погружается в созерцание, но это не созерцание в области внешних чувств), не владеет сам собой и деятельность внешних чувств на несколько мгновений у него как бы парализуется.
§ 25.
Обморок, который обыкновенно следует за головокружением (быстро, по круговой линии возвращающейся и превышающей способность восприятия сменой многих неоднородных ощущений), является как бы прелюдией смерти. Полная задержка этого сознания есть вместе с тем и асфиксия, или обмирание, которое, насколько это можно заметить с внешней стороны, только по результату отличается от настоящей смерти (у пьяного, повешенного, снятого с петли, задохшегося в дыму).
Ни один человек по своему личному опыту не знает состояния умирания (ибо такой опыт стоил бы жизни); он может наблюдать его только на других. Чтобы это состояние было болезненно, — этого нельзя сказать на основании хрипения или судорог умирающего. Скорее, как кажется, это чисто механическая реакция жизненной силы и, может быть, приятное ощущение постепенного освобождения от всякой боли. Все люди, даже самые несчастные и самые мудрые, имеют естественный страх перед смертью; но это не ужас перед процессом умирания, а, как справедливо говорит Монтень, страх перед мыслью быть умершим, т. е., мертвым; таким образом, кандидат на смерть воображает, что и после своей смерти он останется тем же, каким и был, тогда как на самом деле будет только трупом, который уже отнюдь не сам он; но он мыслит его, как самого себя, в темной могиле, или в том или другом месте успокоения; это заблуждение само по себе неустранимо, ибо оно заключается уже в самой природе как нашего мышления, так и языка. Мысль: меня нет, — в сущности не может и существовать, ибо, если меня нет, то я уже не могу и сознавать, что меня нет. Я могу только сказать: я нездоров
___________________
1) Трамонтано или Трамонтана называется полярная звезда; потерять эту полярную звезду (путеводительницу для моряков) — значит быть сбитым с толку, растеряться. Это примечание в первом издании Антропологии имело такой вид: «Трамонтано — это тяжелый северный ветер в Италии, как сирокко, еще худший южный ветер. Если неопытный молодой человек неожиданно для себя попадает в блестящее общество (особенно в общество дам), он часто приходит в смущение и не знает, о чем ему говорить. Было бы неудобно приступить к разговору с газетных известий, ибо осталось бы непонятным, что именно привело его к такой теме разговора. И, так как он пришел с улицы, то самым лучшим средством завязать разговор является дурная погода; и если он своевременно не вспомнить об этом (например, о северном ветре), — то итальянцы обыкновенно говорят, что «он потерял северный ветер».
38
и т. п. Можно мыслить предикаты себя самого отрицательными (как это бывает при всех verbis), но говорить здесь от первого лица — это противоречие, ибо это значит отрицать самый субъект, а тогда и этот субъект уже уничтожается.
О воображении.
§ 26.
Воображение (facultas imaginandi), как способность созерцаний без присутствия налицо предмета, бывает или продуктивным, т. е., способностью самобытного изображения предмета (exhibitio originaria), которое, таким образом, предшествует опыту, или репродуктивным, производным (exhibitio derivativa). которое воспроизводит в сознании прежде полученное эмпирическое созерцание. К первому классу относятся все пространственные и временные созерцания; все остальные предполагают эмпирические созерцания, которые, если они соединяются с понятиями о предмете, и, следовательно, дают эмпирическое познание, называются опытом. Воображение, поскольку оно создает образы непроизвольно, называется фантазией. Тот, кто привык считать эти образы за (внутренние или внешние) опыты, есть мечтатель. Наяву (в здоровом состоянии) быть бессознательной игрушкой своих мечтательных образов, значит — грезить.
Другими словами: воображение бывает или творческим, продуктивным, или основанным на воспоминании (репродуктивным). Но продуктивное воображение все-таки не бывает творческим в строгом смысле слова, ибо оно не может создать такого чувственного представления, которое до этого никогда не было дано нашей чувственной способности; элементы для этого представления оно всегда должно указать в опыте. Тот, который из семи цветов никогда не видал красного, никогда не может усвоить себе и ощущения этого цвета; слепой от рождения не может создать цветовых впечатлений, даже промежуточных цветов, которые создаются из смешения двух других. Желтый и синий цвет дают в своем смешении зеленый. Но воображение никогда не могло бы составить ни малейшего представления об этом цвете, если бы мы никогда не видали смешения этих цветов. То же самое надо сказать о каждом в отдельности из пяти внешних чувств, а именно, что ощущения в их области не могут быть созданы в их сложности воображением, но первоначально должны быть заимствованы из нашей чувственной способности. Бывают люди, которые для световых представлений в области своего зрения имеют данные только для восприятия белого или черного цвета; и для них, хотя в общем их зрение и достаточно зорко, видимый мир представляется чем-то вроде гравюры. Точно также существует гораздо больше людей, чем обыкновенно думают, у которых слух хорош и даже в высшей степени тонок, но совершенно не музыкален; их слуховой орган совершенно невосприимчив к музыкальным тонам и они не только не в состоянии подражать им (петь), но не могут отличить их от простого
39
шума. То же самое бывает и с представлениями вкуса и обоняния; именно, для некоторых специфических ощущений этого вида внешних восприятий у некоторых людей совершенно нет чувства; один человек думает, что в этом отношении он совершенно понимает другого, тогда как на самом деле ощущения одного здесь совершенно отличаются от ощущений другого не только по степени, но и специфически. — Бывают люди, у которых чувство обоняния совершенно отсутствует; ощущение втягивания чистого воздуха через ноздри они принимают за запах и поэтому ничего не извлекают из всех описаний, которые делают им относительно этого способа ощущать; а там, где отсутствует обоняние, всегда очень страдает и вкус; и было бы напрасным трудом развивать и культивировать этот вкус там, где его нет. Голод и его удовлетворение (насыщение) — это нечто совершенно другое, чем вкус.
Если, следовательно, воображение такой великий художник и даже волшебник, то все-таки оно не является творческим в собственном смысле слова, но всегда должно заимствовать материал для своих созданий из внешних чувств. А этот материал, собранный из того, что мы удержали в памяти, далеко не обладает такой доступностью для всех, как рассудочные понятия. Но иногда называют, хотя и не в строгом смысле, и восприимчивость к представлениям воображения при их передаче тоже чувством и говорят: у этого человека нет чувства для того или другого, — хотя здесь обнаруживается недостаток не внешнего чувства, а до некоторой степени рассудка, неспособного усвоить сообщаемые представления и объединить их в мышлении. Он сам ничего не мыслит в том, что он говорит, и другие потому его не понимают; он говорит бессмыслицу (non sens). Этот недостаток все-таки надо отличать от нелепости, где мысли соединяются в пары таким образом, что посторонний человек не знает, что бы он мог из них сделать. То, что слово чувство, Sinn (но только в единственном числе) так часто служит для замены слова «мысль» и иногда обозначает даже высшую ступень, чем ступень мышления, — то, что о том или друтом изречении говорят: в нем заключается серьезный, или глубокий смысл (Sinn, отсюда и слово Sinnspruch) — то, что здоровый человеческий рассудок называют здравым смыслом (Gemeinsinn) и, хотя это выражение отмечает собственно самую низшую ступень познавательной способности, ставят его так высоко, — основывается на том, что воображение, которое дает рассудку материал, чтобы в интересах познания дать содержание для его понятий, в силу аналогии его (воображаемых) созерцаний с действительными восприятиями, по-видимому, дает некоторую реальность этим созерцаниям.
§ 27.
Для того, чтобы возбуждать или сдерживать воображение 1), — су-
___________________
1) В первом издании § 27 и 28 имели еще общее заглавие: «О некоторых физических средствах для возбуждения или ослабления воображения». К
40
ществуют некоторые физические средства, которые состоят в употреблении опьяняющих и наркотических веществ. Некоторые из них, как яды, ослабляют жизненную силу (некоторые породы грибов, мясо дикого медведя, чика у перуанцев, ава у жителей южных островов, опиум); другие усиливают эту способность, по крайней мере, поднимают ее сознание (каковы некоторые напитки, вино, пиво или водка); но все эти средства искусственны и противоестественны. Тот, кто принимает их в таком чрезмерном изобилии, что на некоторое время лишается способности располагать свои чувственные представления по опытным законам, называется охмелевшим, или пьяным; добровольно и сознательно приходить в такое состояние значит пьянствовать. Но все эти средства, по-видимому, должны служить к тому, чтобы человек мог забыть ту тяжесть, которая изначала лежит в его жизни вообще. Очень распространенная склонность к этому и ее влияние на деятельность рассудка заслуживают особенно серьезного изучения в прагматической антропологии.
Всякое молчаливое опьянение, т. е., такое, которое не вносит оживления в общество и не содействует обмену мыслей, имеет в себе нечто вредное; таково опьянение опиумом или водкой. Вино и пиво, из которых первое только возбуждает, а второе больше питает и, подобию пище, содействует насыщению, не мешают общительности; здесь существует то различие, что попойка с пивом более содействует мечтательной замкнутости и часто ведет к грубости, а попойка с вином возбуждает шум, веселье и остроумные разговоры.
Несдержанность на возлияния в обществе, которая доходит до омрачения внешних чувств, во всяком случае невежлива со стороны каждого человека, не только по отношению к тому обществу, в котором он находится, но и по отношению к его собственному достоинству, если он идет колеблющимся, по крайней мере, неверным шагом, или даже только заговаривается. Но можно очень многое сказать для смягчения суждения о таком проступке, так как пределы самообладания слишком легко не заметить и перейти. Хозяин вправе желать только того, чтобы гость, вполне удовлетворенный (ut conviva satur) этим видом общения, вовремя удалился домой.
___________________
этому заглавию было сделано следующее примечание: «я опускаю здесь то, что не служит средством для известной цели, а является только следствием из того положения, в какое попадает человек, когда он лишается самообладания только благодаря своему воображению. Сюда относится головокружение, когда смотрят вниз с края крутого обрыва (и всегда на узком мосту без перил), и морская болезнь. Доска, на который идет человек, чувствующий себя дурно, отнюдь не внушала бы ему страха, если бы она лежала на земле; но если она, как мостик, положена над глубокой пропастью, то мысль уже об одной возможности оступиться действует на человека так сильно, что при переходе он подвергается действительной опасности... Морская болезнь (которую я сам испытал при переезде из Киля в Кенисберг, если только это можно назвать морским переездом) с ее приступами рвоты, зависела, насколько мне это удалось заметить, почти исключительно от моего зрения, так как, наблюдая из каюты колебания корабля, я видел то залив, то вершину волны, и спускание корабля, постоянно следующее за его подъемом, путем воображения, через мускулы желудка, возбуждало антиперистальтическое движение кишок».
41
Беззаботность, а вместе с ней и неосторожность, которые вызывает опьянение, — это обманчивое чувство подъема жизненной силы; в опьянении не чувствуется трудностей жизни, с которыми необходимо постоянно бороться, чтобы победить природу (в чем состоит и здоровье); и человек счастлив в своей слабости, ибо и природа действительно стремится постепенно восстановить в нем силу жизни путем постепенного подъема его сил. Женщины, духовные лица и евреи обыкновенно не пьют, — по крайней мере, тщательно избегают показываться в таком виде другим, ибо в гражданском отношении они слабы и для них необходима сдержанность, а для этого безусловно нужна и трезвость. Их внешнее достоинство покоится только на вере других в их целомудренность, набожность и обособленную законность. Что касается до последнего, то все изолированные люди, т. е., такие, которые подчиняются не только публичному местному законодательству, но и своему особенному (подобно сектантам), как люди странные и мнимо-избранные, обращают на себя особенное внимание всего общества и всю резкость критики; поэтому они не могут пренебрегать тем, что на них смотрят другие, и опьянение, которое лишает их осмотрительности, для них скандал.
О Катоне его поклонник исторической школы говорит: «его добродетель закалялась вином (virtus ejus incaluit mero)»; а новейший писатель говорит о древних немцах: «за выпивкой они принимали свои решения (при объявлении войны), чтобы эти решения были энергичными, и эти решения обдумывали трезвыми, чтобы они были разумными».
Вино развязывает язык (in vino disertus). — Оно открывает также и сердце и является материальным возбудительным средством для одного морального свойства, — именно для откровенности. Держать свои мысли при себе — для откровенного человека состояние очень неприятное; и веселые собутыльники косо смотрят на того, кто слишком умеренно держит себя за попойкой, ибо тогда он является как бы соглядатаем, который обращает внимание на недостатки других и утаивает свои собственные недостатки. И Юм говорит: «Неприятен такой товарищ, который ничего не забывает; глупости этого дня надо забыть сегодня, чтобы освободить место для завтрашних». При этом позволение для каждого человека ради оживления общества слегка и ненадолго переходить границы трезвости, предполагает известное добродушие. — Политика, которая была в ходу полвека тому назад, когда к северным державам посылали посланников, которые могли много выпить, но не напивались сами, а спаивали других, чтобы от них выведать что надо и склонить их на свою сторону, — была, конечно, коварной; она и исчезла вместе с грубостью нравов того времени; и инструкции в предостережение против этого порока в настоящее время, по крайней мере, для более культурных классов общества, были бы излишними.
Можно ли при опьянении узнать характер или темперамент того человека, который пьет? — Я думаю — нет. К сокам, пробегающим по его жилам, в этом состоянии примешивается новая жидкость и на нервы действует постороннее раздражение, которое не делает более яс-
42
ной естественную температуру его, но вызывает в нем нечто новое. — Поэтому один под влиянием вина становится влюбчивым, другой — хвастливым, третий — сварливым, четвертый (чаще всего от пива) — угрюмым и молчаливым; но все они, проспавшись после попойки и припоминая свои речи вчерашнего вечера, одинаково смеются над своим удивительным настроением и над извращением своих чувств.
§ 28.
Оригинальность (не подражательная работа) воображения, если она соответствует понятиям, называется гениальностью, если же понятиям не соответствует, — фантастичностью. Замечательно, что для изображения разумного существа мы не можем найти другой подходящей фигуры, кроме фигуры человека. Каждая другая в лучшем случае может быть только символом известного свойства человека, — так, змея служит образом злобной хитрости, — но не дает полного образа самого разумного существа. Так, все другие миры мы населяем в своем воображении исключительно человеческими фигурами, хотя весьма вероятно, что при различии почвы, которая их носит и питает, и тех элементов, из которых они состоят, обитатели этих миров могут быть очень и очень отличными от людей. Все другие фигуры, которые мы захотели бы им придать, кажутся нам карикатурами 1).
Если утрата какого-нибудь внешнего чувства (например, зрения) является прирожденной, то калека по мере возможности старается культивировать какое-либо другое чувство, которое до известной степени могло бы заменить недостающее и в более значительной степени пользуется продуктивным воображением; так, он старается сделать для себя понятными формы внешних тел посредством осязания; а там, где осязание, — в виду значительного объема предмета, например, дома, — невозможно, он пытается представить себе размеры посредством какого-либо другого чувства, например, — слуха, т. е., через отражение звуков голоса от стен в данной комнате; но, в конце концов, если удачная операция делает орган доступным для его ощущений, человек должен учиться слышать и видеть, т. е., подводить свои восприятия под понятия о предметах этой категории.
Понятия о предметах часто побуждают бессознательно представлять их себе в образе, созданном нами самими (посредством продуктивного воображения). Когда читают или слушают жизнеописание человека, отмеченного талантом, заслугами, или его положением в обществе, — когда знакомятся с его деятельностью, — то обыкновенно невольно поддаются искушению представить в своем воображении крупную и внушительную фигуру; перед нами бывает небольшая гибкая фигурка, когда мы слышим рассказ о человеке утонченном и по характеру кротком.
___________________
1) Для того, чтобы создать созерцание для наших понятий о разумном существе, мы можем поступать только одним способом, а именно прибегать к антропоморфизму; неверно и глупо — эти символические представления считать понятием о вещи в себе самой.
43
Не только для простолюдина, но и для человека достаточно опытного в жизни и знании света — странно видеть в герое, о подвигах которого часто приходилось знать по слухам, маленького человека; точно также, странно изящного и деликатного Юма увидеть в коренастом и неуклюжем парне. — Поэтому никогда не следует подстрекать ожидание чего-либо необыкновенного, так как воображение уже само по себе склонно доводить свои образы до последней крайности; а действительность всегда гораздо уже, чем идея, которая служит идеалом для воплощения в действительности.
Не следует заранее слишком много говорить в похвалу тому человеку, которого в первый раз хотят ввести в известное общество; довольно часто такой прием обличает злую выходку хитрого врата, который имеет в виду сделать ожидаемого гостя смешным 1).
Ибо воображение поднимает представления о том, чего ожидают, так высоко, что тот, кого так расхвалили, в сравнении с составившимся о нем мнением, всякий раз значительно теряет. То же самое бывает и в том случае, когда с чрезмерными похвалами сообщают о новом сочинении, драматическом произведении или вообще о чем-нибудь таком, что требует изящного вкуса. Некоторое разочарование всегда неизбежно при ближайшем и личном ознакомлении с этими вещами. Даже читать хорошую драму до ее представления на сцене, — значит заранее ослаблять то впечатление, которое могло бы произвести на нас ее исполнение. Но, если то, что прежде хвалили, на самом деле прямо противоречит тому, чего ожидали с таким нетерпением, появление предмета недавних похвал, если только это само по себе не зло и не грубо, возбуждает громкий смех и хохот.
Изменчивые, подвижные фигуры, которые сами по себе собственно не имеют никакого значения, могут приковывать к себе внимание; — так, мелькание огонька в камине, или капризные струйки и накипь пены в ручейке, катящемся по камням, занимают воображение целыми рядами представлений совершенно особого рода (в сравнении с чисто зрительными представлениями), по своему отражаются в сознании и погружают зрителя в задумчивость. Даже музыка того, кто слушает ее не как знаток, например, поэта, философа, может привести в такое настроение, в котором каждый, соответственно своим целям или своим склонностям, сосредоточению ловит свои мысли и часто овладевает ими и создает такие мысли, которых он никогда так удачно не уловил бы, если бы он одиноко сидел в своей комнате. Причина этого явления заключается, по-видимому, в том, что, если внешнее чувство теми разнообразными представлениями, которые сами по себе не могли бы обратить на себя внимания, отвлекается от сосредоточенности внимания на каком-либо другом, сильно действующем на нас предмете, — то мышление становится не только легче, но и оживленнее, по-
___________________
1) В первом издании было: «Это очень неудачный прием — осыпать чрезмерными похвалами тоги, кого хотят ввести в какое-нибудь общество. При такой постановке дела новый гость непременно должен потерять в мнении всего общества; часто это бывает даже сознательной и враждебной выходкой для того, чтобы выставить кого-нибудь в смешном виде».
44
скольку именно оно нуждается в более напряженном и более продолжительном воображении, чтобы дать материал своим рассудочным представлениям. Английский «Зритель» рассказывает об одном адвокате, который имел привычку во время своей речи вынимать из кармана нитку и безостановочно то накручивать ее на палец, то снова развертывать; однажды адвокат противной стороны, большой хитрец, вытащил у него из кармана эту нитку, что привело его противника в крайнее замешательство, так что он говорил совершенный вздор; про него-то и заговорили, что он «потерял нить своей речи». — Внешнее чувство, которое прицепляется к какому-нибудь одному ощущению, не дает возможности (в силу привычки) переходить к другим посторонним ощущениям и, следовательно, не освежается ими. Но воображение тем лучше может поддерживать его в правильном движении.
О чувственной творческой способности в ее различных видах.
§ 29.
Есть три различных вида чувственной творческой способности. Это: образовательная способность созерцания в пространстве (imaginatio plastica), способность сочетания во времени (imaginatio associaus) и способность сродства из общего происхождения представлений друг от друга (affinitas).
A.
О чувственной пластической творческой способности.
Прежде чем художник получит возможность представить (как бы осязательно) телесную фигуру, он должен приготовить ее в своем воображении; и эта фигура является его творчеством, которое, если оно непроизвольно (как во сне), называется фантазией; тогда оно не принадлежит художнику; если же оно управляется волей человека, оно называется композицией, открытием и т. п. Если художник работает по тем образцам, которые подобны созданиям природы, то его произведения называются естественными; если же он создаст что-нибудь по таким вымыслам, которые не могут встречаться в опыте, то эти предметы, созданные им (как принц Палагония в Сицилии), называются неестественными, причудливыми, карикатурными. Такие вымыслы представляют из себя как бы сновидение бодрствующего человека. (Velut aegri somnia vanae finguntur species). Мы часто и охотно играем с своим воображением, но и воображение также часто, а иногда и очень некстати, играет с нами.
Игра фантазии с человеком во сне — это сновидение, которое бывает и в здоровом состоянии человека; когда же это бывает наяву, то это уже признак болезненного состояния. — Сон, как ослабление деятельности способности внешних восприятий и, главным образом, способности произвольных движений, — как кажется, необходим для
45
всех животных и даже для растений (по аналогии последних с первыми) ради накопления сил, которые расходуются в бодрственном состоянии. Но именно эту цель, по-видимому, и имеют сновидения, так что жизненная сила, если бы во сие она не возбуждалась сновидениями, совсем бы угасла, и глубокий сон вместе с собой приводил бы и смерть. — Если говорят о глубоком сне без сновидений, то в сущности это имеет только то значение, что при пробуждении мы не могли припомнить того, что видели во сие; это, если образы воображения сменяются слишком быстро, может случиться с человеком даже и не во сне, — а именно, в том состоянии рассеянности, когда на вопрос, что кто-нибудь думал, с неподвижно устремленным взглядом на какую-нибудь точку в пространстве в течение долгого времени, получают ответ, что он решительно ничего не думал. Если бы при пробуждении не оказывалось значительных пробелов в нашем воспоминании (при недостатке внимания к мимолетным соединительным промежуточным представлениям) и если бы на следующую ночь мы начинали свои сны с того самого места, где мы оставили их вчера, — то я не знаю, можно ли было бы утверждать, что мы живем не в двух различных мирах. Сновидения — это мудрое установление природы для возбуждения жизненной силы путем аффектов, которые относятся к произвольно созданным нами обстоятельствам в то время, когда телесные движения, а именно движения мускулов, зависящие от нашей воли, находятся в покое. — Только наши сновидения не следует признавать за какие-то откровения из невидимого мира.
B.
О чувственной творческой способности сочетания.
Закон ассоциации состоит в том, что эмпирические представления, которые часто следовали друг за другом, создают у нас привычку, в силу которой, когда появляется одно из них, мы вызываем в себе и другие. — Было бы напрасно требовать физиологического объяснения для этого явления. Для этого всегда можно пользоваться какой-нибудь гипотезой (которая в свою очередь является творчеством); такова, например, гипотеза Декарта с его так называемыми материальными идеями в мозгу. Ни одним из подобных объяснений нельзя пользоваться, по крайней мере, прагматически, т. е., так или иначе искусственно применять их, так как мы не имеем никакого понятия о мозге и местностях в нем, на которых могли бы оставаться следы впечатлений от представлений и где они как бы соприкасались (по крайней мере, косвенным путем) друг с другом.
Это соседство часто идет так далеко и воображение так быстро переходит от сотого к тысячному, что кажется, будто бы здесь мы перескакиваем через некоторые промежуточные звенья в цепи представлений, хотя на самом деле здесь их только не сознают; в виду
46
этого люди часто сами спрашивают себя: где я был, откуда я вышел в своем разговоре и каким образом дошел до этого пункта 1).
C.
Чувственная творческая способность сродства.
Под сродством я понимаю соединение чего-либо в силу происхождения разнообразного от одной и той же причины. В обществе за разговором перепрыгивание от одного предмета к другому, совершенно постороннему, к чему ведет та эмпирическая ассоциация представлений, основа которых только субъективна (т. е., у одного представления ассоциируются совершенно иначе, чем у другого), к чему, говорю я, ведет подобная ассоциация, — по форме представляет нечто нелепое, что обрывает и прекращает в конце концов всякий разговор. — Только тогда, когда вопрос исчерпан и прошла небольшая пауза, можно поставить на очередь другой, тоже интересный вопрос. — Воображение, действующее совершенно безудержно и без всякого порядка, в силу смены представлений, которые объективно ничем не связаны, до такой степени сбивает человека с толку, что каждому, кто уходит из подобного общества, кажется, будто бы он спал и видел сны. Как в одиноком мышлении, так и при обмене мнений в обществе, всегда должна быть одна общая тема, к которой приурочиваются все разнообразные частности; значит, здесь должен действовать рассудок; игра воображения следует здесь законам чувственности, которая дает для этого материал, и ассоциация совершается здесь без сознания правил, но соответственно этим правилам, а значит, и рассудку, хотя, по-видимому, она исходит и не из рассудка.
Слово сродство (affinitas) напоминает здесь то, заимствованное из химии, аналогичное этому рассудочному образованию, взаимодействие двух специфически различных физических, самым внутренним образом действующих друг на друга и стремящихся к единству элементов, где это соединение производит нечто третье, которое могло возникнуть только благодаря соединению этих двух различных элемен-
___________________
1) Таким образом, тот, кто начинает разговор в обществе, должен начинать с того, что близко для всех и имеется в на наличности в данную минуту; и только постепенно он может переходить к более далекому, чтобы его разговор мог быть интересным. Хорошим и обычным средством для этого бывает дурная погода — для того, кто только что с улицы приходит в большое общество, занятое взаимными разговорами. — В первом издании в этом месте стояла еще следующая фраза. Если новый гость теряется от неожиданной торжественности общества, то говорят, что он потерял «трамонтану», т. е., что он мог бы начать разговор о неприятном северном ветре, который дует в настоящее время (или о сирокко, как говорят в Италии). — Ибо, если новый гость ни с того, ни с сего сразу же, как только войдет в комнату, заговорит о известиях из Турции, которые он только что прочитал в газетах, — он делает насилие над воображением других, которые не видят, что навело его на эти речи. Сознание требует порядка для всякого сообщения мыслей, причем очень многое зависит от руководящих представлений и от начала; это важно знать как для проповеди, так и для разговора в обществе.
47
тов. Рассудок и чувственность, при всей их неоднородности, сами собой взаимно объединяются для создания нашего познания, как будто бы одно из них происходит от другого, или оба они ведут свое происхождение от одного общего корня; но это невозможно, или, по крайней мере, непостижимо для нас, каким образом неоднородное может происходить от одного и того же корня 1).
§ 30 2).
Воображение, впрочем, далеко не такая творческая способность, как это иногда думают. Для разумного существа мы не можем найти никакой другой подходящей фигуры, кроме фигуры человека. Поэтому ваятель или художник, когда они пытаются изображать божество, всякий раз создают его в виде человека. Каждая другая фигура, на их взгляд, заключает в себе некоторые подробности, которые по своей идее не могут быть совместимы со строением разумного существа (таковы круглые когти, копыта). Но величину он может изображать в какой угодно форме.
Ошибка, вызванная силой воображения, у людей часто идет так далеко, что то, что они имеют только у себя в голове, они видят и чувствуют с полным убеждением и вне себя. Отсюда возникает головокружение у того, кто смотрит в пропасть, хотя вокруг себя он имеет площадь достаточного объема, на которой он может стоять, не рискуя упасть, или же стоит за твердыми перилами. Удивителен тот страх, который испытывают некоторые слабые люди перед возможностью появления у них внутреннего стремления вполне добровольно броситься в такую пропасть. — Когда мы видим, что другие люди питаются отвратительными предметами (когда, например, тунгус одним духом высасывает сопли из ноздрей своих детей), — то у зрителя является позыв к рвоте, как будто бы он лично сам принимал участие в таком питании.
___________________
1) Два первые вида соединения представлений можно назвать математическими (простого сложения), а третий динамическим (рождения), ибо здесь получается совершенно новая вещь (как в химии средняя соль). Игра сил, как в бездушной природе, так и в живой, как в душе, так и в теле — покоится на разложении и сочетании неоднородного. Правда, мы познаем ее путем опыта в ее действиях, но высшая причина и те простые составные части, на которые может разрешиться их материя, всегда остаются для нас недостижимыми. — В чем может заключаться причина того, что все органические существа, какие мы знаем, могут продолжать существование своей породы только путем соединения двух полов, которые называют мужским и женским? Во всяком случае, нельзя допустить, будто бы Творец только ради курьеза и только на поверхности нашей планеты ввел такой порядок, который ему понравился, и будто бы в данном случае он только как бы играл; но, по-видимому, должно было быть невозможным, чтобы из материи нашего земного шара органические существа в их смене могли возникать каким-нибудь другим образом, без деления ради этой цели человечества на два пола. — В какой тьме теряется человеческий разум, когда он хочет исследовать или, по крайней мере, угадать причину этого!
2) В первом издании этот параграф имел особое заглавие: «Объяснение примерами».
48
Тоска по родине у швейцарцев (и, как я слышал от одного опытного генерала, у уроженцев некоторых областей Вестфалии и Померании), которая охватывает их, когда они находятся в чужих краях, является следствием воспроизведения в сознании образов прежней беззаботной жизни и воспоминания о своих соседях, которых они знали в их молодые годы; это вызывает тоску по тем местам, где когда-то они наслаждались самыми простыми радостями жизни; в виду этого, впоследствии, при новом посещении родных мест, они слишком часто вполне разочаровываются и, таким образом, избавляются от своей грусти. Правда, они думают при этом, будто там все очень переменилось; но на самом деле это объясняется тем, что они не могли принести с собой в родные горы и свою молодость; замечательно, что тоска по родине чаще охватывает людей из таких провинций, в которых мало денег, но где в большей силе узы родства и свойства, чем у людей, имеющих денежные заработки и избравших своим девизом: «patria, ubi bene».
Если кто-нибудь заранее знает, что тот или другой человек злой и нехороший, то ему часто кажется, что и на лице этого человека можно подметить черты коварства; здесь начинает свою работу и фантазия, главным образом, в том случае, если ощущение создается не только действительным опытом, но аффектом и страстью. Гельвеций рассказывает, что одна дама разглядела на луне в телескоп тени двух влюбленных; священник, который вскоре после нее стал всматриваться в то же явление, сказал: «о нет, мадам, — это две колокольни на главной церкви».
К этому можно отнести еще и влияние на воображение симпатии. Вид человека в судорожном эпилептическом припадке содействует появлению подобных же болезненных явлений и у других людей. Когда в обществе один зевает, за ним зевают и другие; доктор Михаэлис рассказывает, что когда в северо-американской армии один человек находился в состоянии буйного бешенства, двое или трое из присутствующих при виде этого тотчас же испытали припадки такого же бешенства и на себе, хотя у них это состояние скоро прошло; поэтому нельзя советовать людям со слабыми нервами (ипохондрикам) из любопытства посещать дома для сумасшедших. Впрочем, чаще всего они и сами избегают этого, так как опасаются за свою голову. — Замечают также, что люди с живым темпераментом, когда кто-нибудь рассказывает им в состоянии аффекта, главным образом гнева, о том, что с ним случилось, — при сильном внимании к рассказу непроизвольно повторяют движения личных мускулов рассказчика; на их лице отражается все, что подходит именно к такому аффекту. — Некоторые утверждают, что люди, которые долго и счастливо жили в браке, мало-помалу становятся совершенно похожими в чертах лица друг на друга; это явление хотят объяснить тем, будто бы именно ввиду подобного внешнего сходства они сошлись и поженились (similis simili gandet); но это неверно. Природа в половом инстинкте скорее имеет тенденцию к полному различию субъектов, которые должны влюбиться друг в друга, чтобы развилась вся та сумма разнообразия, ко-
49
торая заложена в их зародыше: здесь постоянное общение и симпатия, с которой они в своих одиноких разговорах проводят свои досуги рядом друг с другом, причем часто и подолгу смотрят друг другу в глаза, производят, как отблеск симпатии, сходство в их чертах лица; и это сходство мало-помалу запечатлевается все сильнее и наконец приобретает устойчивость и постоянство.
Наконец, к этой бессознательной игре продуктивного воображения, которое тогда называется фантазией, можно причислить и ту склонность к невинной лжи, которая у детей встречается всегда, у взрослых, в общем очень порядочных людей, время от времени, — иногда почти как наследственная болезнь; здесь, при рассказе, события и мнимые происшествия силой воображения разрастаются, как снежная лавина на склоне горы, причем рассказчик хочет быть только интересным и не имеет ввиду никакой личной выгоды. Так, рыцарь Джон-Фальстаф у Шекспира из двух людей в байковых костюмах сделал постепенно к концу рассказа целых пять.
§ 31 1).
Ввиду того, что воображение богаче и обильнее представлениями, чем внешнее чувство, — в соединении со страстью оно больше оживляется при отсутствии предмета, чем при его присутствии. Если случается нечто такое, что снова оживляет в душе представление об этом предмете, — то представление, которое казалось некоторое время совершенно исчезнувшим среди других впечатлений жизни, снова оживает. — Так, один немецкий князь, в общем суровый воин, но человек благородный, влюбился в своей резиденции в одну мещанку и, желая позабыть свое увлечение, предпринял путешествие в Италию. — Но при его возвращении первый взгляд на жилище любимой девушки поднял его чувство еще выше, чем оно было бы при постоянных встречах с ней; и это подействовало на его воображение так, что он без дальнейшего размышления решился подчиниться своему сердцу и это решение вполне соответствовало по счастью его ожиданиям. Эта болезнь, как действие творческого воображения, неизлечима ничем, кроме брака; истина открывается только в браке (eripitur persona, manet res, Лукреций).
Творческое воображение создает какой-то особый вид общения нас с нами самими, хотя только как явлениями внутреннего чувства, но по аналогии с внешними чувствами. Ночь оживляет его и поднимает над уровнем его действительного содержания. Так, луна вечером кажется на небе чем-то огромным и ярким, а при дневном свете представляется нам бледным и ничтожным облачком. Воображение работает над тем, что совершается в тишине ночи, или ведет споры со своим воображаемым противником, или строит воздушные замки, хотя их собственник не выходит из комнаты. — Но
___________________
1) Этот параграф в первом издании имел заглавие «О средствах оживления и обуздания игры воображения».
50
все, что кажется ему в эту минуту серьезным и важным, утром, после здорового сна ночью, — теряет всю свою важность и свое значение. С течением времени, благодаря этой дурной привычке, человек чувствует ослабление своих душевных сил. Поэтому обуздание воображения путем раннего отхода ко сну, чтобы иметь возможность поутру рано вставать, — очень полезное правило, имеющее отношение к психологической гигиене; но молодые девушки и ипохондрики (страдание которых объясняется именно этим) предпочитают совершенно противоположное распределение времени. — Почему истории, где являются духи, поздней ночью всеми охотно выслушиваются, но рано утром, вскоре после пробуждения, кажутся каждому пошлыми и совершенно лишенными интереса? — Утром, напротив, спрашивают о том, что нового случилось в доме или в общественной жизни, или же продолжают работу предшествовавшего дня. Причина этого заключается в следующем; то, что само по себе только игра, увлекает нас и это объясняется ослаблением сил, исчерпанных дневной работой, а утром на очередь становится уже серьезное дело, которое под стать человеку, подкрепленному сном и как бы возрожденному ночным отдыхом. —
Пороки (vitia) воображения заключаются в том, что его обнаружения бывают или разнузданными, или же извращенными (effrenis aut perversa). Последний недостаток гораздо хуже. Произведения первого рода могут найти для себя место, по крайней мере, в одном из возможных миров (в басне), а произведения второй категории невозможны нигде, ибо они сами себе противоречат. — То обстоятельство, что арабы с ужасом смотрят на каменные изваяния человеческих и животных фигур, которые часто встречаются в ливийской пустыне Рам-Зем (Ram-Sem), ибо считают их за людей, которых проклятие превратило в камни, — относится к вымыслам первой категории, т. е., к созданиям необузданного воображения. — А то обстоятельство, что, по мнению тех же самых арабов, эти статуи животных в день всеобщего воскресения зарычат на художника и будут упрекать его в том, что он их сделал и не мог создать для них души, — есть уже противоречие. — Несдержанная фантазия всегда может производить впечатление (как фантазия того поэта, у которого кардинал Эстс, возвращая посвященную ему книгу, спросил: «Синьор Ариосто, какой черт внушил вам все эти безумные вещи?»). — Это роскошь из богатства; но извращенная фантазия приближается к безумию, где воображение безгранично властвует над человеком и несчастный лишается всякого влияния на ход своих представлений.
Впрочем, художник в политике, точно так же, как художник в искусстве, может по-своему управлять миром (mundus vult decipi) посредством вымысла, который он ловко подставляет на место действительности, — например, свободу народа, которая (как в английском парламенте) будто бы остается при сохранении сословий, — или равенство (как во французском конвенте), где все сводится только к простым формальностям; но все-таки лучше иметь у себя хотя бы только иллюзию обладания этими благами, облагораживающими человека, чем осязательно чувствовать на себе нечто прямо противоположное этому.
51
О способности представлять в настоящем прошедшее и будущее посредством воображения.
§ 32.
Способность преднамеренно воспроизводить прошедшее для настоящего, — это способность воспоминания; а способность представлять себе нечто, как будущее, — это способность предвидения. Обе способности, поскольку они относятся к чувственности, основываются на ассоциации представлений прошедшего и будущего состояния субъекта с его настоящим состоянием и, хотя эти представления еще не восприятия, но они служат для соединения восприятий во времени, чтобы то, чего уже нет, связать в сплошном и законченном опыте с тем, чего еще нет, посредством того, что существует в настоящее время. Они называются способностями воспоминания и предвидения (смотреть назад и смотреть вперед, если здесь можно позволить такие выражения), так как здесь люди сознают свои представления как такие, которые могли бы появиться в прошедшем или будущем состоянии.
A.
О памяти.
Память отличается от репродуктивного воображения тем, что она может произвольно воспроизводить прежнее представление, что сознание, следовательно, не служит здесь простой игрушкой воображения. Фантазия, т. е., творческое воображение, не должно вмешиваться в ее дело, ибо в таком случае память не была бы достаточно верной. — Формальные достоинства хорошей памяти — это скоро запоминать, легко вспоминать и долго помнить. Но эти достоинства редко встречаются вместе. Если кто-нибудь думает, что он что-то такое помнит, хотя он не может вспомнить этого сознательно, — то говорят, что он не может припомнить или опомниться. Те усилия, которые делают обыкновенно при этом, когда непременно хотят вспомнить, очень мучительны. В таком случае, лучше всего на некоторое время занять воображение другими мыслями и только время от времени, и то мимоходом, оглядываться на искомый объект. Таким образом обыкновенно находят одно из представлений, близких по ассоциации к искомому, которая и наведет на верный след.
Удерживать что-нибудь в памяти методически (memoriae mandare) — называется запоминать, а не изучать, как говорят простые люди о проповеднике, который просто твердит наизусть свою проповедь перед ее произнесением. — Это запоминание может быть или механическим, или символическим, или систематическим. Первое основывается на многократном буквальном повторении, — например, при изучении таблицы умножения, где ученик должен пройти весь ряд
52
слов, следующих друг за другом, в обычном порядке, чтобы найти то, которое ему нужно; так, например, когда ученика спрашивают, сколько будет трижды семь, то он должен начать с трижды три, чтобы дойти до искомой цифры 21. Но если его спрашивают, сколько будет 7×3, то он уже не так скоро может разобраться в вопросе и прежде должен переставить цифры, чтобы они заняли свои обычные места. Если то, что заучивают наизусть, есть торжественная формула, в которой нельзя изменить ни одного выражения и надо твердо держаться за каждую букву, — то даже люди с очень хорошей памятью начинают опасаться, как бы им не промахнуться (а именно этот-то страх и может ввести их в заблуждение), и считают поэтому необходимым читать эту формулу по книге; это делают даже самые опытные проповедники, так как в данном случае самое малейшее изменение слов показалось бы смешным.
Символическое запоминание это такой метод, чтобы нечто удержать в памяти, при котором известные представления соединяются между собой посредством ассоциации с побочными представлениями, которые сами по себе (для рассудка) не имеют между собой ничего общего. Например, звуки языка соединяются с совершенно неоднородными им образами, которые этим звукам должны соответствовать. — Здесь, чтобы нечто удержать в памяти, еще больше обременяют это нечто многочисленными побочными представлениями. Следовательно, это нелепо, как извращенная деятельность воображения в сочетании того, что не может объединиться под одним и тем же понятием. Вместе с тем это и противоречие между средством и целью, так как здесь ищут облегчения работы памяти, а на самом деле затрудняют ее посредством без всякой нужды навязанной ассоциации очень разнообразных представлений 1). Остроумные люди редко обладают хорошей памятью (ingeniosis non admodum fida est memoria), — вот замечание, которое объясняет это явление.
Систематическое запоминание есть хранение в сознании таблицы подразделения системы (например, система Линнея), где, если случайно что-нибудь позабыто, можно снова разыскать забытое через перечисление тех членов, которые еще сохраняются в памяти; или же деление целого, представленного наглядно (например, перечисление по карте провинций данной страны, которые лежат к северу, востоку и т. д.), ибо этот процесс нуждается в содействии рассудка, а рассудку в свою очередь приходит на помощь воображение; больше всего облегчает воспоминания топика, т. е., специальная таблица для общих понятий, так называемых общих мест, которая путем подразделения на классы сохраняет целое, — как в библиотеке книги делятся по шкафам с различными надписями.
___________________
1) Таким образом, азбука с картинками, как и библия с картинками, или как изучение пандект в картинах, — это оптический ящик ребяческого учителя, который хочет сделать своих учеников еще более непонятливыми, чем они были. Примером последнего может служить рассчитанный на запоминание этого рода заглавие пандект: de heredibus suis et legitimis. Первое слово представлено наглядно посредством ящичка с висячими замками, второе посредством свиньи и третье посредством двух скрижалей Моисея.
53
Искусства запоминания (ars mnemonica), как общего учения, не существует. Среди других специальных приемов в этом направлении надо отметить так называемые изречения в стихах (versus memoriales), ибо ритм заключает в себе правильное падение слогов, что дает значительное облегчение механизму запоминания. — Нельзя презрительно говорить о лицах с феноменальной памятью, например, о Нико ди-Мирандола, о Скалигере, Ангелусе, Полициане, Мальябекки и т. д., о полигисторах, которые груз книг на сто верблюдов хранили в своей голове, как материалы для наук; нельзя унижать их потому, что эти люди, может быть, не обладали способностью суждения, достаточной для целесообразного применения этой памяти ради нужного выбора и подбора всех этих познаний; во всяком случае это уже достаточная заслуга, если сделан для работы богатый запас сырого материала; тем более, что впоследствии могут явиться другие люди, которые сумеют обработать весь этот материал с достаточною силой суждения (tantum scimus, quantum memoria tenemus). Один из древних писателей говорил: «умение писать вконец погубило память (отчасти сделало ее излишней)». В этом утверждении есть нечто справедливое, ибо обыкновенный человек то разнообразное, которое ему сообщается, обыкновенно предпочитает расположить по шнурку и в рядах, чтобы впоследствии вспоминать его в должном порядке, именно поточу, что запоминание здесь чисто механическое и к нему не примешивается никакое размышление; напротив, у ученого, у которого в голове проходит много посторонних и побочных мыслей, многое из его лекций или домашних обстоятельств ускользает, благодаря рассеянности, так как он воспринял это без достаточного внимания; но, во всяком случае, это большое удобство — с записной книжкой в кармане быть вполне уверенным в том, что было положено в голове, — при уверенности все совершенно точно и без усилий найти снова. Поэтому умение писать всегда было и всегда остается превосходным искусством, ибо если бы даже оно и не имело применения в деле передачи своего знания другим, оно всегда занимало бы место самой обширной и самой точной памяти и вполне могло бы заменить ее собой.
Забывчивость (obliviositas), напротив, где голова, сколько бы раз ее не наполняли, все-таки, как дырявая бочка, всегда остается пустой, — зло и зло очень большое; иногда винить за забывчивость нельзя, например, старых людей, которые прекрасно помнят иногда события из ранней молодости и детства, но почти всегда легко забывают то, что случилось недавно. Часто это бывает следствием привычной рассеянности, которая обыкновенно встречается главным образом у любительниц романов. При этом чтении единственное намерение — это доставить себе только минутное развлечение при сознании того, что все это пустые вымыслы; и, следовательно, читательница имеет здесь полную свободу при чтении фантазировать по прихоти своего собственного воображения; вполне естественно, что это развлекает внимание и делает привычным состояние неполной сосредоточенности (отсутствие внимания к настоящему); через это память, конечно, неизбежно ослабляется. — Это
54
упражнение в искусстве убивать время и делать себя бесполезным для жизни, а впоследствии и сетовать на краткость жизни, — всегда бывает одним из самых непримиримых врагов памяти, не говоря уже о том, что оно ведет к фантастическому настроению духа.
B.
О способности предвидения.
(Praevisio)
§ 33.
Обладать этою способностью представляет гораздо больше интереса чем какою бы то ни было другою, ибо это условие всякой возможной деятельности и всякой цели, к которой человек приурочивает напряжение своих сил. Всякое желание заключает в себе предвидение (сомнительное или достоверное) того, чего можно достигнуть данным путем. Мысленное обращение к прошлому (воспоминание) делается только с тою целью, чтобы этим путем получить возможность предвидеть будущее, ибо мы в момент настоящего вообще осматриваемся вокруг себя, чтобы предпринять какое-нибудь решение и выбрать себе направление.
Эмпирическое предвидение это ожидание подобных случаев (ехspectatio casuum similium); оно не нуждается в разумном познании причин и действий, но основывается только на воспоминании замеченных явлений в том порядке, как они обыкновенно следуют друг за другом; неоднократные опыты дают ловкость и находчивость в этом отношении. Как земледельца, так и моряка — очень интересует вопрос, какой будет ветер и какова погода. Но в этом отношении с своими предсказаниями мы обыкновенно идем отнюдь не дальше так называемых крестьянских календарей, предсказания которых очень хвалят, когда они сбываются, а когда не сбываются, сразу же забывают; таким образом они всегда пользуются кредитом. — По-видимому, следует думать, что Провидение намеренно покрыло такою непроницаемою пеленою смену погоды и ветра, чтобы человеку было не легко для каждой смены сделать необходимые приготовления, и имело в виду этим заставить его больше полагаться на рассудок, чтобы быть готовым ко всевозможным случайностям.
Жить со дня на день (без предусмотрительности и забот) — это, правда, делает не много чести рассудку человека. Пример этого караибы, которые утром продают свою висячую койку, а вечером мучатся тем, что никак не могут решить, как спать этою ночью. Но, если при этом нет никаких проступков против морали, то человека, который закалил себя для всяких жизненных случайностей, можно считать гораздо более счастливым, чем того, который мрачными
55
предположениями всегда только омрачает все радости жизни. Среди всех предположений, которые только может иметь человек относительно будущего, самое утешительное, конечно, бывает в том случае, если он в силу своего морального состояния имеет причины видеть в будущем продолжение своего благосостояния и дальнейшее движение все к лучшему и к лучшему. Напротив, если он, хотя и очень мужественно, принимает решение начать новую и лучшую жизнь, но вынужден сказать самому себе: «и опять из этого решительно ничего не будет, так как ты много раз давал себе это обещание (откладывание исполнения всегда на завтра) и всякий раз под предлогом исключения для данного единственного случая изменял своему слову», — то это в высшей степени не утешительное состояние при ожидании подобных случаев.
Там, где дело зависит от судьбы, которая тяготеет над нами, а не от напряжения нашей свободной воли, — там предвидение будущего может быть или предчувствием (Ahndung, praesensio), или1) чаянием будущего (praesagitio). Первое как бы отмечает какое-то скрытое в нас чувство для того, что еще не наступило; второе — сознание будущего, добытое путем рефлексии о законе последовательности в смене событий (о законе причинности).
Легко видеть, что все предчувствия в сущности призраки и мечты, ибо каким образом можно ощущать то, чего еще нет? Но суждение из темных понятий об известном причинном соотношении явлений уже отнюдь нельзя назвать предчувствием; те понятия, которые ведут к этим выводам, могут быть развиты и поставлены определенно и объяснены, как это делается при всяком строго обдуманном понятии.— Предчувствия в большинстве случаев бывают неприятного характера; им предшествует боязливость, которая и является их физическою причиною, причем остается неопределенным, что представляет из себя предмет страха. Но бывают радостные и светлые предчувствия у мечтателей, когда они чуют близкое открытие тайны, для которых человек в своих внешних чувствах еще не имеет достаточно восприимчивости, и бывает предчувствие того, что они, как эпопты2), в мистическом созерцании ожидают и веруют, что оно тотчас же откроется перед ними. К этому же классу колдовства и очарования относится и второе зрение горных шотландцев, благодаря которому некоторые из них, как они уверяли, видели повешенным на мачте того человека, известие о смерти которого они действительно впоследствии получили, когда прибыли в одну отдаленную гавань.
___________________
1) За последнее время хотят видеть различие между Ahnen и Аhnden. Но первое слово отнюдь не немецкое слово и должно остаться только последнее — Аhnden имеет тоже значение, как поминать, напоминать (gedenken). Мне помнится — значит нечто смутно предносится перед моим воспоминанием; напоминать о чем-либо значит напоминать кому-либо с укором его дело (т. е. его наказывать). Это всегда одно и то же понятие,— по только иначе применяемое.
2) Одна из степеней при посвящении в элевзинские таинства. Примеч. перевод.
56
C.
О даре предсказания.
(Facultas divinatrix).
§ 34.
Предсказывать, вещать и прорицать — эти понятия отличаются между собою тем, что первое делается в предвидении по законам опыта (значит, естественно), второе вопреки известным опытным законам (противоестественно), а третье по внушению причины, отличной от природы (сверхъестественной), или считаемой такою. В последнем случае эта способность, так как она истекает, по-видимому, из влияния высшего существа, называется вдохновением свыше в собственном смысле слова (ибо в не собственном смысле слова каждое остроумное предположение о будущем может быть названо и вдохновением).
Если о ком-нибудь говорят: он предсказывает ту или эту судьбу, — то это может свидетельствовать о вполне естественной догадливости. Но о том, кто примешивает к этому и сверхъестественную прозорливость, следует говорить: он прорицает; таковы цыгане, вышедшие когда-то из Индии, которые гадание по руке называют чтением планет; или же астрологи и кладоискатели, к которым надо причислить также и делателей золота; выше всех их в греческой древности стояла пифия, а в настоящее время оборванный сибирский шаман. Предсказания ауспиций и гаруспиций1) у древних римлян имели в виду не разоблачение того, что скрыто в смене мировых событий, а скорее откровение воли богов, которой они по своей религии должны были подчиняться. Но когда за это дело взялись поэты и стали считать себя вдохновляемыми или одержимыми свыше и вещими (vates), когда они стали хвалиться тем, будто бы в своих вдохновенных наитиях (furor poeticus) они получают откровение свыше, то это можно было объяснить тем, что поэт готовит свою работу не вполне спокойно, как прозаик, а должен ловить благоприятный момент особого охватывающего его внутреннего настроения чувств, когда к нему сами собою приливают живые и сильные образы и чувства, а сам он при этом остается пассивным: в этом отношении можно отметить старое уже замечание, что к гениальности примешивается известная доза безумия. На этом основывается также вера в изречения оракулов, которые предлагаются в избранных местах знаменитых (как бы вдохновленных озарением свыше) поэтов (sortes Vigilianae); это напоминает подобное же средство у новейших набожных людей, т. е. те сборники таинственных изречений, где будто бы открывается воля неба; таково же чтение сивиллиных книг, которые должны были предвозве-
1) Гадание по полету птиц и по внутренностям животных. Примеч. перев.
57
щать римлянам судьбу их государства и часть которых они, к сожалению, потеряли, благодаря чрезмерному торгашеству,
Все прорицания, которые предвещают народу неотклонимую судьбу, — а в этой судьбе, конечно, виноват сам народ и, значит, создает ее посредством своей свободной воли, — помимо того, что знание будущего для народа бесполезно, так как избежать этого будущего народ не может, —имеют в себе еще ту нелепость, что в этом безусловном роке (decretum absolutum) мыслится еще какой-то свободный механизм, понятие о котором противоречит уже самому себе.
Но верх нелепости или обмана в подобных прорицаниях заключается, конечно, в том, что человека помешанного называют провидцем (невидимых вещей), как будто из него говорит как бы дух, который занимает у него место души, а его душа на это время покидает свое телесное жилище; и бедный душевнобольной или только страдающий эпилепсиею считается вдохновленным (одержимым); если владеющего им демона считали добрым духом, то такого человека у греков называли мантес, а толкователя его изречений пророком. Готовы были пускать в ход всякую глупость, чтобы подчинить нашей собственной власти будущее, предвидение которого имеет для нас такой огромный интерес, и при этом перепрыгивали через все ступени, которые могли бы привести туда при посредстве разума через опыт! О curas hominum!
Нет такой надежной и на такое огромное пространство простирающейся науки, предсказывающей будущее, как астрономия, которая на бесконечное пространство времени предсказывает движение светил небесных. Но это все таки не может помешать тому, чтобы тотчас же к астрономии не примешалась и мистика, которая стремится поставить в зависимость не цифры мировых эпох от событий, как этого требует разум, а наоборот — события от известных чисел; таким образом она даже хронологию, это необходимое условие всякой истории, превращает в басню.
О непроизвольном, творчестве в здоровом состоянии, т.е. о cнoвидении.
§ 35.
Исследование того, что такое сон, сновидение, сомнамбулизм (куда относится также и громкий разговор во сне) по своим естественным свойствам, лежит не в области прагматической антропологии, ибо из этих явлений нельзя извлечь никаких правил поведения в состоянии сна; все эти правила имеют значение только для бодрствующего человека, который хочет не сновидений, а хочет спать без всяких мыслей. И приговор того греческого короля, который присудил к смерти одного человека, — а тот рассказал своим друзьям, будто бы он во сне убил короля, — под тем предлогом, что «этого бы ему не приснилось, если бы он не думал об этом нaяву», противоречит
58
опыту и слишком жесток. Когда мы бодрствуем, мы имеем один общий мир для всех, а когда мы спим, то у каждого есть свой собственный мир. Сновидение, как кажется, с такою необходимостью сопровождает всякий сон, что смерть и сон были бы совершенно тожественными, если бы первый не сопровождался сновидениями, как естественным, хотя и непроизвольным движением внутренних органов при посредстве воображения. Так, я очень хорошо вспоминаю себе, как я, еще ребенком, утомленный играми, ложился спать: в момент засыпания я видел сон, как будто бы я упал в воду и кружусь по воде, готовый совсем утонуть; от этого сна я быстро пробуждался, чтобы заснуть снова и спокойнее; это бывало, вероятно, потому, что деятельность грудных мускулов при дыхании, которая совершенно зависит от нашей воли, была затруднена и таким образом при задержке дыхания было затруднено и движение сердца; путем воображения сновидение заставляло меня снова привести эти процессы в порядок. Сюда же относится благодетельное действие сновидений при так называемом кошмаре (incubus), ибо без этого страшного сновидения, когда мы видим, что нас душит какой-то домовой, и без напряжения всей мускульной силы, чтобы изменить свое положение в постели, остановка крови могла бы скоро положить конец и самой нашей жизни. Как кажется, поэтому-то природа и устроила именно так, что в огромном большинстве случаев сновидение рисует нам какие-то очень затруднительные и опасные обстоятельства; подобные представления сильнее возбуждают наши душевные силы, чем такое обстоятельство, когда все совершается по нашей воле и нашему желанию. Часто видят во сне, что не могут стать на ноги, видят, что заблудились, запнулись и остановились во время проповеди, или, по забывчивости, в большом обществе имеют на голове вместо парика ночной колпак, — видят, что могут летать по воздуху туда и сюда, как вздумается, — иногда пробуждаются с веселою улыбкою, сами не зная почему. Конечно, навсегда останется необъяснимым, каким образом бывает, что часто во сне мы переносимся в давно прошедшее время, ведем разговоры с давно умершими людьми, пробуем считать все это за сон и что-то все-таки заставляет нас считать эти грезы за действительность. Но во всяком случае можно считать несомненным, что не может быть сна без сновидения; а тот, кто думает, будто бы он таких сновидений не имеет, в сущности только позабыл свои сновидения.
Об описательной способности.
(Facullas signatrix).
§36.
Способность познания настоящего, как средство соединения представления о предвидимом в будущем с прошедшим, есть описательная способность. Психическое действие, осуществляющее это соединение,
59
есть отметка (signatio), которая называется также и сигнализациею, высшую ступень которой называют отличием.
Фигуры вещей (созерцания), поскольку они служат средством представления через понятия, суть символы и познание через них называется символическим или образным (speciosa). Буквы еще не символы, — ибо они могут быть и только посредственными (непрямыми) значками, которые сами по себе ничего не значат и только путем сочетания ведут к созерцаниям, а через созерцания и к понятиям; поэтому символическое познание следует противопоставлять не интуитивному, но дискурсивному, а в этом последнем значок (character) сопровождает понятие только как сторож (custos), чтобы при случае его воспроизводить. Символическое познание противоставляется, следовательно, не интуитивному (через чувственное созерцание), но интеллектуальному (через понятия). Символы только средство рассудка, но средство косвенное, через аналогию с известными созерцаниями, к которым могут быть применены их понятия, чтобы путем изображения предмета дать понятию его значение.
То, что кто-нибудь может выражаться только символически и имеет мало рассудочных понятий, и та живость представлений, которой так часто удивляются и которую обнаруживают в своих речах дикари (а иногда и мнимые мудрецы в еще неразвитом народе), — это только признак бедности в понятиях, а поэтому и в словах для выражения понятий; например, когда американский дикарь говорит: «мы похороним боевой топор», — то в сущности он хочет сказать только, что «мы заключим мир»; и действительно, все древние певцы от Гoмeрa до Оссиана, или от Орфея до пророков, блеском своего изложения обязаны только недостаточности средств для выражения понятий.
Действительные мировые явления, предлежащие нашим внешним чувствам, признавать (вместе с Сведенборгом) за простой символ интеллигибельного мира, скрытого по ту их сторону, — есть мечтательность. Но в изображении понятий (называемых идеями), которые относятся к морали, а именно в морали-то и состоит сущность всех религий, — а через мораль относятся и к чистому разуму, — отличать символическое от интеллектуального (богослужение от религии), которое, правда, в течение некоторого времени было полезною и необходимою оболочкою сущности дела, — называется просвещением; в противном случае идеал (чистого практического разума) заменяется идолом, и таким образом конечная цель не достигается. Конечно, нельзя спорить о том, что все народы земли начали именно с этой замены и что, раз поставлен этот вопрос, их учителя, даже при составлении их священных писаний, действительно думали так; и тогда они излагали свое дело не символически, а буквально; было бы нечестно переиначивать и переставлять их слова. Но если дело идет не о правдивости учителей, но — и главным образом — об истине учения, то можно и должно излагать это учение, как только символический способ представлений, дабы установленными формальностями и обычаями проводить эти идеи, ибо в противном случае их интеллектуальный смысл, который представляет их конечную цель, был бы утрачен.
60
§ 37.
Знаки можно делить на произвольные (художественные), естественные и чудесные знаки.
А) К первым относятся: 1) знаки жестов (мимические, которые отчасти бывают и естественными); 2) письменные знаки (буквы, т.е. значки для звуков); 3) музыкальные значки (йоты); 4) значки условно принятые отдельными людьми, предназначенные только для зрения (шифр); 5) сословные значки свободных людей с наследственною передачею привилегий (гербы); 6) служебные знаки форменной одежды (мундир и ливрея); 7) знаки отличия по службе (орденские ленты): 8) позорные отметки (клеймы и т.п.); — сюда же относятся в рукописях знаки препинания, вопроса или аффекта, удивления, восклицания и т. п.
Всякий язык есть обозначение мыслей и, наоборот, самый лучший способ обозначения мыслей совершается только посредством языка, этого величайшего средства сделать понятным себя, как себе, так и другим. Мыслить значит говорить с самим собою (индийцы на Отаити мышление называют речью в животе). — значит, внутренним образом, (через репродуктивное воображение) слышать себя самого. Для человека глухого от роду его разговор, его речь есть ощущение игры его губ, его языка и его подбородка: и едва ли возможно представить себе, чтобы он при своем разговоре испытывал что-либо большее, кроме смены известных телесных ощущений; при этом, конечно, у него нет настоящих понятий, — нет их и в его мышлении. Но и те люди, которые могут и говорить, и слышать, еще не всегда достаточно понимают, как себя самих, так и других людей; недостатком способности обозначения или ее ошибочным применением (так как значки принимаются иногда за вещи и наоборот), главным образом в делах разума, объясняется то, что люди, одинаковые по языку, стоят неизмеримо далеко друг от друга по понятиям; а это становится очевидным только случайным образом, именно в том случае, когда каждый начинает действовать по своим собственным понятиям.
В) Во-вторых, что касается до естественных значков, то, соответственно времени, отношение значков к обозначаемым вещам может быть или демонстративным, или напоминающим, или прогностическим.
Удары пульса обозначают для врача лихорадочное состояние пациента в настоящее время, как дым свидетельствует об огне. Открытая реакция указывает химику на элементы, которые находятся в скрытом виде в воде, так же, как флаг показывает направление ветра и т.д. Во многих случаях неизвестно, свидетельствует ли краска на лице о сознании виновности, или же скорее о тонком чувстве чести, которое возбуждается, когда является уже одно предположение о чем-то таком, чего следует стыдиться.
Могильные насыпи и мавзолеи — это знаки благоговейной памяти об усопших. Точно тот же смысл имеют пирамиды, как знаки для
61
постоянного напоминания о прежнем могуществе какого-либо короля.— Слои раковин в местностях, расположенных далеко от воды и морей, или вулканические остатки там, где теперь из земли не вырывается никакого огня, — рисуют нам прежнее состояние мира и дают основу для археологии природы, хотя, конечно, не с такою наглядностью, как зарубцевавшиеся раны воина. — Развалины Пальмиры, Бальбека и Персеполиса — это красноречивые памятники, свидетельствующие об уровне искусства древних монархий, и печальные признаки смены всех вещей.
Прогностические признаки среди всех других представляют для нас наиболее интереса, ибо в цепи изменений настоящее дает основу определения для желательной способности только ради будущих последствий (оb futura consequentia) и главным образом обращает внимание на будущее. — Самые верные прогностические признаки по отношению к будущим мировым событиям находятся в астрономии: но это фантастическое и совершении младенческое дело, когда фигуры и сочетания звезд и перемены в положении планет рассматриваются, как аллегорические письмена, пророчествующие о предстоящих событиях среди людей (в astrologia judiciaria).
Естественные прогностические признаки предстоящей болезни, тин скорого выздоровления, или (как facies hyppocratica) близкой смерти, как явления, установленные на продолжительных и многократных опытах данных и на усмотрении связи между ними, как причинами и действиями, —могут служить врачу руководящею нитью в его методе лечения. Таковы прежде всего дни кризиса. Но гадания авгуров и гаруспексов, установленные римлянами в видах мудрой государственной политики, были только проявлениями суеверия, освященного государством, для того, чтобы править умами народа в дни опасности.
С) Что же касается до чудесных знамений (событий, в которых извращается природа вещей), кроме таких, из которых в настоящее время уже не делают никаких выводов (уродливых рождений среди людей и животных), знаки и знамения на небе, кометы, высоко в воздухе мелькающие воздушные шары, северное сияние, даже лунное и месячное затмение, особенно когда многие из подобных знамений происходят одновременно или сопровождаются войной, мором, голодом и т.п., — то все эти явления в прежнее время, по мнению испуганной толпы, предвещали обыкновенно близость дня страшного суда и конец мира.
Приложение.
Здесь заслуживает внимания та удивительная игра воображения с людьми, когда значок смешивается с вещью, когда значкам придается внутренняя реальность, как будто бы действительные предметы должны в своей смене подчиняться им. Так как: лунное движение делится по четырем фазам (новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть) и это деление в целых числах с наибольшею точностью может быть определено в 28 дней (поэтому и знаки зодиака у арабов распределились по 28 домам луны), а четверть этого периода представляет 7 дней, — то, благодаря этому, чисто 7 получило мистическое зна-
62
чение, так что и сотворение мира должно было соответствовать этому числу. Главным образом этим же объясняется (по системе Птолемея) семь планет, как 7 значков в музыкальной гамме, 7 простых цветов в радуге, 7 металлов. Отсюда же объясняются и ряды годов (7+7 и, так как у индийцев мистическим числом является 9,7+9, а также 9+9), по истечении которых человеческая жизнь подвергается будто бы наибольшей опасности; поэтому 70 годовых недель (490 лет) в христианской и иудейской хронологии представляют из себя не только отделы самых серьезных перемен (между призванием Богом Авраама и рождением Христа), но определяют заранее и как бы a priori с полною точностью исторические периоды, как будто не хронология должна сообразоваться с историею, а наоборот история должна сообразоваться с хронологиею.
Но и в других случаях установилась привычка ставить вещи в зависимость от цифр. Врач, которому пациент посылает гонорар с своим слугою, если при вскрытии пакета найдет там 11 дукатов, непременно рассердится на то, что к этому не прибавлено еще одного дуката, ибо —отчего же не полная дюжина? — Если кто-нибудь на аукционе покупает фарфоровой сервиз (одинаковой фабрикации), то он предложит гораздо меньше, если в сервизе будет не полная дюжина; а если в нем окажется и 13-ая тарелка, то 13-ую он будет ценить только потому, что, если одна тарелка разобьется, этою 13-ою он пополнит свой сервиз до дюжины. Атак как гостей никогда не приглашают дюжинами, то может показаться любопытным, почему при покупке отдают предпочтение именно этому числу предметов в сервизе. Один человек по духовному завещанию отказал своему двоюродному брату 11 серебряных ложек и к этому прибавил: «он сам лучше всех знает, почему я не завещаю ему12-ой» (Молодой, неустановившийся человек однажды за столом своего двоюродного брата сунул потихоньку одну ложку в карман, что хозяин отлично заметил, но в то время не пожелал пристыдить своего родственника). При вскрытии завещания, все прекрасно поняли, что собственно хотел сказать завещатель, но понять это возможно было только при существовании того предрассудка, что полное число —дюжина. Точно такое же мистическое значение имеет и 12 знаков зодиака (по-видимому, именно по аналогии с этим числом в Англии выбирается и 12 судей). В Италии, Германии, а может быть и в некоторых других местах 13 гостей за столом считается чем-то роковым, ибо тогда предполагают, что кто-нибудь из гостей должен умереть в этом году, так как за судебным столом, где заседают 12 судей, 13-м обыкновенно является подсудимый, которому представляется опасность быть повешенным. (Мне однажды самому пришлось быть за таким столом, где хозяйка дома, приглашая гостей садиться, заметила эту мнимую опасность и потихоньку распорядилась, чтоб ее сын встал из-за стола и обедал в другой комнате, из опасения смутить хорошее настроение гостей). И простая величина чисел, если она достаточна для вещей, которые она обозначает, — иногда возбуждает удивление только потому, что числа не выражаются в обычных отделах десятичного (значит, произвольно принятого) счисления. Так, Китайский император
63
имеет флот из 9999 кораблей; всякий при этом числе с удивлением спрашивает: а почему же не больше? Правда, на этот вопрос можно бы ответить очень просто: потому, что для его обихода вполне достаточно именно этого числа кораблей. Но этот вопрос в сущности не имеет в виду потребности короля во флоте, а основывается только на способе числовой мистики. Хуже, хотя так же нередко, бывает в том случае, когда кто-нибудь, скупостью и обманом скопив себе состояние в 90,000 талеров, не может успокоиться до тех пор, пока не доведет его до 100,000 талеров, хотя бы лишние тысячи ему были и не нужны; и при этом, может быть, если он и не попадет на виселицу, то становится вполне достойным ее.
До какого только ребячества не опускается человек, даже в своем зрелом возрасте, когда он позволяет руководить собою чувственным воздействиям! Мы хотим теперь посмотреть, насколько лучше или насколько хуже было бы дело, если бы он шел своей дорогой при свете разума.
О познавательной способности, поскольку она основывается на
рассудке.
Деление.
§ 38.
Рассудок, как способность мыслить, (представлять себе что-либо через понятия), называется также высшею познавательною способностью (в отличие от чувственности, как низшей), именно потому, что способность созерцаний (чистых или эмпирических) даст только частное в предметах, тогда как способность понятий дает общее в представлений об этих предметах, т.е. правило. Именно рассудок должен подчинить себе все разнообразие чувственных созерцаний, чтобы внести единство для познания объекта. — Правда, знатнее в этом случае, конечно, рассудок, в сравнении с чувственностью, при помощи которой животные, лишенные рассудка, должны кое-как обходиться, действуя по врожденным инстинктам, как придется, — так же, как народ без верховного главы; но и верховный глава совершенно не может существовать без народа (рассудок без чувственности). Следовательно, между ними не может быть спора о рангах, хотя одна способность обыкновенно называется высшею, а другая низшею.
Но слово рассудок употребляется и в особом значении; именно, он, как член деления вместе с двумя другими, подчиняется рассудку в более общем значении, который, как высшая познавательная способность materialiter (т.е. не только для себя, но рассматриваемый и в отношении к познанию предметов), состоит из рассудка, способности суждения и разума. Теперь мы имеем в виду представить наблюдения над людьми в том отношении, чем один из них отличается от других в этих умственных способностях, в их правильном применении, или в их извращенности, сперва при здоровом состоянии души, а затем и в случаях душевной болезни.
64
Антропологическое сравнение трех высших познавательных способностей друг с другом.
§ 39.
Правильный рассудок — это тот, который не столько блещет обилием понятий, сколько скорее их соразмеренностью, т.е. обнаруживает способность и ловкость для познания предмета, следовательно для восприятия истины. Некоторые люди имеют в голове много понятий, которые в общении все сводятся к тому, что он именно хочет воспринимать, но не совпадают с объектом и его определениями. Такой человек может иметь понятия очень значительного объема и очень гибкие понятия. Правильный рассудок, который достигает до понятий общего познания, называется здравым (для домашнего обихода достаточным) рассудком. Оп говорит вместе с начальником стражи у Ювенала: quod sapio satis est mihi, non ego curo esse quod Arcesilas aerumnosique Solones [«с меня довольно того, что я знаю, я не стараюсь быть таким, как Аркезилай или горемычные Солоны»].
Само собою понятно, что естественное свойство прямого и правильного рассудка — ограничивать себя по отношению к объему дозволенного ему познания; и поэтому одаренный им всегда бывает скромным.
§ 40.
Если под словом рассудок вообще понимают способность познания правил (и таким образом познание через понятия), так что он заключает в себе всю высшую познавательную способность, то под этим не следует понимать те правила, по которым природа руководит людьми в их деятельности, как это бывает у животных, побуждаемых естественным инстинктом, но только те правила, которые человек делает сам. То, что он только заучивает и таким образом хранит в памяти, он делает только механически (по законам репродуктивного воображения) и без участия рассудка. Слуга, который должен сказать комплимент по определенной формуле, не нуждается в деятельности рассудка, т.е. ему нет нужды думать и самому; но это необходимо для него, если он, в отсутствие своего господина, должен наблюдать за его домашним хозяйством; при этом для него необходимы некоторые такие правила поведения, которые не должны быть предписываемы только буквально.
Правильный рассудок, опытная сила суждения и основательный разум — создают весь объем интеллектуальной познавательной способности, главным образом постольку, поскольку эта способность рассматривается как средство для содействия практическому началу, т.е. для достижения целей.
Правильный рассудок есть здравый рассудок, поскольку в нем есть соразмеренность понятий с целями их применения. А так как только достаточность (sufficientia) и точность (praceisio) в своем
65
соединении создают соразмеренность, т.е. то свойство понятия, по которому оно заключает в себе не больше и не меньше того, что нужно для предмета (conceptus rem adaequans), — то правильный рассудок среди других интеллектуальных способностей есть нечто первое и самое существенное, ибо он с наименьшим количеством средств достигает своей цели.
Хитрость, способность к интригам, часто считается за сильный, хотя и дурно направленный рассудок; но в сущности это только мышление очень ограниченных людей; оно резко отличается от ума, внешние признаки которого оно пожалуй и обнаруживает. Доверчивого человека можно обмануть только раз; а это по своим последствиям может быть очень нежелательным для собственных намерений коварного человека.
Для слуги в доме или для чиновника, который повинуется определенным распоряжениям, достаточно иметь только рассудок. Офицер, который для порученного ему дела имеет лишь общее правило и должен сам решить, как ему поступать в некоторых случаях, должен, иметь способность суждения; для генерала, который должен предвидеть все возможные случаи и для них сам должен создать нужные правила, необходимо иметь разум. Таланты, которые необходимы для всех этих различных положений, могут быть очень различны. На второй ступени иногда блистают такие люди, которые совсем не были бы на месте на первой (tel brille au second rang qui s'eclipse au premier).
Умствовать еще не значить иметь рассудок и выставлять напоказ максимы, как это делает Христина Шведская, по отношению к которым ее деятельность стоит в противоречии, еще не значит быть разумным. — Все это может напоминать ответ графа Рочестера английскому королю Карлу II, когда король однажды застал графа в состоянии глубокой задумчивости и спросил его: «о чем вы так глубоко задумались»? — Ответ: я обдумываю эпитафию для Вашего Величества. Вопрос: Какова же она? — Ответ: здесь покоится король Карл II, который в своей жизни сказал много умного, но ничего умного не сделал.
В обществе быть молчаливым и только время от времени делать какое-нибудь пустое замечание, это как будто бы свидетельствует о рассудительности человека, — так же, как известная степень грубости иногда выдается за (старую немецкую) честность.
Естественный рассудок посредством обучения может быть обогащен большим количеством понятий и снабжен многими правилами; по второй интеллектуальной способности, т.е. способности решать, применять ли к данному случаю правило или нет, т.е. способность суждения (judicium), научиться нельзя; ее можно только упражнять; поэтому ее рост есть зрелость. И это ступень понимания, которая приходит только с годами. Легко видеть, что иначе не может и быть, ибо всякое обучение совершается только через сообщение правил. Следовательно, если бы учитель должен был дать их для способности суждения, то должны были бы быть общие правила, по которым можно было бы решить, подходит ли данный случай под правило, или нет; а это
66
отодвигало бы тот же вопрос все дальше и дальше — в бесконечность. Следовательно, это тот рассудок, о котором говорят, что он приходит только с годами и основывается на собственном личном долговременном опыте; и французская республика его ищет ныне в Палате Старейшин.
Эта способность, которая имеет дело только с тем, что исполнимо, что годится и что прилично (для технической, эстетической и практической способности суждения), далеко не так блестяща, как та, которая только расширяет познание, ибо она только сопутствует здравому рассудку и представляет соединительное звено между ним и разумом.
§ 41.
Если рассудок есть способность правил, а способность суждения есть способность находить частное, поскольку это частное подходит под правило, — то разум есть способность выводить частное из общего и это частное представлять по принципам и как нечто необходимое. — Можно таким образом разум объяснять, как способность рассуждать по основоположениям и по основопополнениям (в практическом отношении) действовать. Для каждого морального суждения (значит, и для религии) человек нуждается в разуме и не может полагаться на формулы и общепринятые обычаи. — Идеи суть понятия разума, для которых в опыте не может быть дано ни одного предмета. Это — и не созерцания, как созерцания пространства времени, и не чувства (как их хочет представить эвдемонистическое учение), ибо как те, так и другие относятся к чувственности; но это понятия о том совершенстве, к которому можно всегда приближаться, но которого никогда нельзя достигнуть вполне.
Мудрствовать (без здравого рассудка), значит, применять разум так, что он опускает из виду конечную цель, отчасти по неспособности, отчасти по ошибочности точки зрения. Злоупотреблять разумом — значит в форме своих мыслей поступать соответственно принципам, но по материи и относительно цели применять средства, как раз противоположные этой цели.
Субалтерн-офицеры не должны рассуждать (резонировать), так как от них часто скрыт тот принцип, соответственно которому надо действовать; по крайней мере этот принцип может быть им неизвестен; но командир (генерал) должен иметь разум, ибо он должен дать низшим чипам инструкцию для каждого возможного случая. Было бы несправедливо требовать, чтобы так называемый мирянин (laicus) в делах религии, которая ценится, как мораль, не смел пользоваться своим собственным разумом, но повиновался поставленному над ним духовному лицу (клирику), — значит повиновался бы чужому разуму, так как в моральном отношении каждый сам является ответственным за свою собственную деятельность и клирик не возьмет, да и не может взять ответ за это на свой собственный риск и страх.
67
Но в этих случаях люди склонны находить больше успокоения для своей личности в том, чтобы отказаться от всякого собственного разума, чтобы пассивно и послушно склоняться под готовые указания святых людей. Это они делают не только из чувства своей неспособности проникнуть в дело (ибо существенное во всех религиях все-таки мораль, которая для каждого человека скоро сама собою становится ясною), но и из хитрости, – отчасти для того, чтобы в случае какого-либо возможного при этом промаха иметь возможность свалить свою вину на других, а отчасти, и главным образом, чтобы под благовидным предлогом уклониться от исполнения того существенного (изменения сердца), что гораздо труднее, чем всякий культ.
Конечно, было бы слишком много требовать от людей мудрости, как идеи закономерно-полного практического применения разума; но даже самую ничтожную степень ее никто другой не может внушить каждому в отдельности человеку; каждый должен извлечь ее из самого себя. Предписания, которые содействуют достижению ее, заключают в себе три следующие максимы: 1) мыслить самому, 2) мыслить себя (в сношениях с людьми) на месте каждого другого, 3) всегда мыслить согласно с самим собою.
Возраст достижения человеком полного применения своего разума по отношению к его ловкости в практической способности к выполнению любого дела — можно отнести к двадцатому году, по отношению к уму (пользоваться другими людьми для своих целей) к сороковому, — наконец по отношению к мудрости едва к шестидесятому; но в эту последнюю эпоху мудрость является скорее уже отрицательною, ибо дает понять нам все глупости двух первых периодов; в это время можно сказать: «жаль, что приходится умирать именно тогда, когда мы только что научились, как следует жить действительно хорошо». Но в этом возрасте редко можно услышать эти суждения, ибо привязанность к жизни становится тем сильнее, чем меньше жизнь имеет ценности как для работы, так и для наслаждения.
§42.
Так же, как способность к общему правилу подыскивать частное есть способность суждения, способность для частного подыскивать общее есть остроумие (ingenium). Первое сводится к наблюдению различий между разнообразным, но отчасти и тожественным; второе имеет в виду тожество разнообразного, отчасти и различного. — Самый выдающийся талант как в том, так и в другом случае проявляется в наблюдении самого обыкновенного сходства и различия; способность к этому называется зоркостью (acumen) и замечания этого рода называются тонкими. Эти тонкости, если они не расширяют нашего познания, называются пустыми остротами или суетными мудрствованиями (vanae argutationes); здесь уместно обвинение в бесполезном, хотя и не в ошибочном применении рассудка. — Таким образом зоркость соединяется не только с способностью суждения, но присуща и остроумию.
68
В ней видят некоторые достоинства в первом случае только ради точности (cognitio exacta), а во втором ради богатства тонкого мышления; в виду этого остроумие иногда называют цветущим; а так как и природа, невидимому, в своих цветах ведет только игру, а свое серьёзное дело, полагает в плодах, — то и талант, который проявляется в этом остроумии, считается несколько низшего ранга (по целям разума), чем тот талант, который проявляется в первой способности. — Обычный и здоровый рассудок не имеет притязаний ни на остроумие, ни на утонченность, ибо это представляет из себя уже как бы роскошь нашего мышления, а здоровый рассудок ограничивается только насущными потребностями.
О немощах и болезнях души в отношении познавательной способности.
А.
Общее деление.
§ 43.
Недостатки познавательной способности—это или немощи духовных сил, или душевные болезни.—Болезни души по отношению к познавательной способности можно подвести под две главные категории. Первая это ипохондрия (Grillenkrankheit) 1), вторая душевное расстройство (мания). В первом случае больной вполне сознает, что смена его мыслей совершается не совсем правильно, но его разум не имеет достаточно самообладания и власти над собою, чтобы управлять течением представлений, удерживать или ускорять его. Радость не кстати и не кстати печаль,—т. е. причудливое настроение,—сменяются у него, как погода; и у больного их надо принимать так, как они есть.—Второе явление это произвольная смена мыслей, которая имеет свои собственные субъективные правила, противоречащие объективным правилам, соответствующим законам опыта.
По отношению к чувственным представлениям душевное расстройство представляет из себя или бессмыслицу, или мечтательность. Как извращенность способности суждения и разума, она называется блажью или сумасбродством. Тот, кто при своих вымыслах постоянно пренебрегает сравнением с законами опыта (грезит наяву),— тот фантазер (Grillenfanger); если же это соединяется у него с аффектом, то это называется энтузиазмом. Неожиданные приступы этого настроения у таких людей называются состоянием экстаза (raptus).
Простоватый, не умный, глупый шут, глупец и дурак—отлича-
_________________________
1) Grillenkrankheit или Grillenfangerei, от Grille—кузнечик,—по-русски ближе всего „конек”, т. е. болезненная сосредоточенность на какой-нибудь одной господствующей мысли. Ниже Кант точнее определяет этот термин, поясняя его символ.
69
ются от человека душевно расстроенного не только по степени, но и по различному качеству их душевного состояния; и первые, несмотря на их недочеты, отнюдь не могут быть заключены в сумасшедший дом, т. е. в такое место, где люди, при полной физической зрелости и совершеннолетии, должны быть руководимыми чужим разумом, даже по отношениям к самым ничтожным жизненным обстоятельствам, чтобы приучить их к порядку. Безумие в соединении с аффектом есть буйное помешательство, которое часто может быть очень оригинальными, а проявления его непроизвольными; тогда оно, как творческое вдохновение (furor poeticus), может граничить с гениальностью; такое настроение, но при более легком, хотя и неправильном притоке идей, когда оно касается разума, называется мечтательностью. Углубление в одну и ту же идею, которая не имеет никакой возможной цели, например в скорбь о потери супруга, которого отнюдь уже не вернуть к жизни,—чтобы в самой скорби и искать себе успокоения, называется тихим помешательством.—Суеверие можно сравнить с сумасбродством, а мечтательность с помешательством. Люди с последним недугом часто бывают (смягчая выражение) экзальтированными и иногда называются эксцентриками.
Бред во время лихорадки или близкие к эпилепсии припадки бешенства, которые иногда действуют на других симпатически, т. е. возбуждаются уже при простом внимании к состоянию другого человека, одержимого бешенством, при сильном подъеме воображения (а в виду этого людей с очень слабыми нервами ни в коем случае не следует допускать к этим несчастным, хотя они и стремятся туда, чтобы удовлетворить свое любопытство)—еще нельзя считать за помешательство, ибо это есть нечто преходящее. То же, что называют иногда червяком (Wurm, не душевная болезнь, ибо под этим обыкновенно понимают меланхолическое извращение внутреннего чувства), в большинстве случаев есть высокомерие, граничащее с безумием; притязание такого человека на то, чтобы в сравнении с ним презирали всех других людей, резко противоречит его собственным намерениям (каковы намерения действительно помешанного человека), ибо он именно этим раздражает других всеми возможными способами, сам противодействует своему самомнению, восстановляет против себя других и возбуждает смех, не умея скрыть своей обиженной глупости. Слабее выражение кузнечик (Grille, marotte), который бывает у каждого. Основоположение, которое должно было бы быть, по мнению такого человека, популярным, отнюдь не находит себе одобрения среди умных людей; он твердит о своей способности предчувствий, об известных внушениях, напоминающих гения Сократа, о каких-то влияниях, яко бы обоснованных на его личном опыте, но не объяснимых, как влияние симпатии, антипатии и идиосинкрозии (qualitates occultae); все это трещит у него в голове, как домашний сверчок, которого все таки никто не слышит и не может слышать. Самое легкое из всех отклонений за границы рассудка это конек (Steckenpferd),— именно склонность усиленно заниматься образами воображения, которыми рассудок играет иногда только для забавы, как каким-то серьез-
70
ным делом; это значит быть деловитым в иичегонеделании. Для людей старых, живущих на покое и обеспеченных, этот конек представляет как бы новое возвращение мышления к состоянию беззаботного детства; и, как деятельность, всегда возбуждающая жизненную силу, такое настроение не только полезно для здоровья, но до известной степени и симпатично, хотя при этом, конечно, и смешно; тот, над кем смеются, иногда и сам добродушно смеется вместе с другими. Но и у более молодых и более занятых людей подобные фантастические причуды служат иногда для развлечения и забавы; и те педанты, которые с такою ненужною суровостью поносят эти невинные глупости, вполне заслуживают того, чтобы им повторили слова Штерна: «предоставь каждому ездить на своей кляче по своему городу, куда ему вздумается, если только он не принуждает тебя прицепиться к нему сзади».
В.
О душевной немощи познавательной способности.
§ 44.
Тот, кто лишен остроумия, человек тупой (obtusum caput). Впрочем, там, где дело касается рассудка и разума, он может быть и очень неглупым человеком, только ему не следует позволять играть роль поэта; так, Клавиус, которого его школьный учитель уже хотел отдать в ученье к кузнецу, так как он никоим образом не мог научиться писать стихи,—как только получил в свои руки математическую книгу, стал великим математиком. Человек, который все усваивает медленно, еще отнюдь не заслуживает прозвища человека недалекого,—так же, как и тот, кто все схватывает быстро и легко, не всегда схватывает основательно, а часто очень и очень поверхностно.
Недостаток способности суждения без остроумия это глупость (stupiditas). Тот же самый недостаток, но в соединении с остроумием, есть дурь. Тот, кто обнаруживает способность суждения в делах, есть человек рассудительный. Если же он при этом и остроумен, то его называют человеком умным. Тот, кто только аффектирует эти способности, есть остряк: и он точно так же, как и умник, существо отвратительное. Убытки и потери делают человека умнее; но, если человек в этой школе уйдет так далеко, что станет делать умнее и других тем же путем, т. е. причиняя им убытки и потери, то это человек хитрый и лукавый. Незнание еще не сеть глупость. Одна дама на вопрос академика, едят ли лошади и ночью,—отвечала: «каким образом такой ученый человек может быть настолько глупым?!» Скорее же это доказательство здравого рассудка, если человек знает дело настолько, чтобы верно поставить вопрос (тля того, чтобы понимать уроки как природы, так и других людей).
71
Простоват тот, кто немногое может понять посредством своего собственного рассудка; но из-за этого он еще вовсе не глуп, если свое немногое он понимает не на выворот. Честный, но глупый человек (как некоторые очень неверно говорят о прислуге из Померании)—это ложное выражение и в высшей степени заслуживающее порицания. Оно ложно, ибо честность (исполнение долга из основоположений) есть практический разум. Оно в высшей степени заслуживает порицания, ибо оно предполагает, что каждый, будь только на это у него довольно ловкости и искусства, стал бы обманывать и если кто-нибудь не обманывает, то только потому, что он недостаточно умен и ловок для этого. Поэтому пословицы: «он пороха не выдумает», «он своей страны не выдаст», «он не колдун»,—обнаруживают основоположение, враждебное людям, а именно то, что, при предположении доброй воли людей, которых мы знаем, мы все таки не можем полагаться на них, а должны рассчитывать на их неспособность или на их неуменье. Так, говорит Юм, падишах доверяет свой гарем не добродетели тех людей, которые должны его охранять, но их неспособности (черные эвнухи). По отношению к объему своих понятий быть очень ограниченным—это еще не глупость, ибо глупость касается только свойства этих понятий (основоположений). То, что люди позволяют себя обманывать кладоискателям, алхимикам, делателям золота и устроителям лотерей,—надо приписывать не их глупости, но их злой воле, а именно желанию без соответствующих личных усилий разбогатеть на чужой счет. Хитрость, изворотливость, лукавство (versutia, astutia)—это уменье обманывать других. Вопрос здесь в том, действительно ли обманщик умнее того, кого легко обмануть, и действительно ли последний глуп? Доверчивого человека, который легко доверяет (верит, дает кредит) другому, иногда, хотя и очень ошибочно, называют дураком, потому что он представляет из себя легкую добычу для плута; существует такая пословица: «купцы радуются, когда дураки собираются на рынке». Но я поступлю вполне правильно и умно, если тому, кто раз меня обманул, я никогда не буду верить, ибо он оказался человеком порочным в своих принципах. Было бы признаком мизантропии не верить ни одному человеку в мире — только потому, что один меня обманул. Дурак здесь скорее именно этот обманщик. — Но что бывает с человеком в том случае, если он, благодаря одному крупному обману, почувствует себя в состоянии обходиться без других людей и уже не нуждаться больше ни в ком и ни в чьем доверии? — В таком случае изменяется только тот характер, под которым он является другим, — а именно, вместо того, чтобы смеяться над обманутым обманщиком, начинают плевать на счастливого; а это для последнего едва ли большая прибыль 1).
_________________________
1) Живущие среди нас палестинцы, в силу их ростовщических наклонностей со времени их рассеяния, поскольку дело касается их большинства, — не без основания пользуются репутациею обманщиков. Правда, по-видимому, странно думать, что целый народ может состоять из одних обманщиков; но ведь не менее странно предполагать, что целая нация мо-
72
§ 45.
Рассеянность (distractio) есть состояние отвлечения внимания (abstractio) от известных господствующих представлений через перенесение внимания на другие, неоднородные представления. Когда она бывает преднамеренною, она называется развлечением (dissipatio); если же она бывает непроизвольною, то это бывает забытьем (absentia).
Это одна из тех немощей духа, при которой репродуктивное воображение прицепляется к одному представлению и сосредоточивает на нем настойчивое или продолжительное внимание и не хочет оторваться от этого представления, т. е. снова сделать свое течение свободным. Если эта дурная привычка становится постоянною и внимание обращается всегда на один и тот же предмет, то это может довести до помешательства. Быть рассеянным в обществе — невежливо, а иногда и смешно. Девушки обыкновенно не подвержены подобным приступам не сосредоточенности; они не должны поэтому заниматься ученостью. Слуга, который, ожидая приказаний за столом, бывает
_________________________
жет состоять из одних купцов, из которых наибольшая часть, соединенная старым суеверием, признанным теми государствами, в которых они живут,—не ищет гражданских почестей и отличий и потерю их хочет возместить выгодами, извлекаемыми из обмана, практикуемого как по отношению к тому народу, под покровительством которого она находится, так даже и по отношению друг к другу. Впрочем так и должно быть, когда целый народ состоит из купцов, как непроизводительных членов общества (как, например, евреи в Польше); значит нельзя уничтожить их общественный строй, санкционированный старыми основоположениями и признанный нами (а мы вместе с ними имеем одинаковыми некоторые священные книги), среди которых они живут, без непоследовательности, хотя они в сношениях с нами высшим основоположением своей морали считают изречение: „покупатель, смотри в оба”. Вместо того, чтобы строить бесполезные планы, как сделать этот народ более нравственным по отношению к вопросам обмана и чести, я предпочитаю высказать свое предположение о происхождении этой странной организации (а именно того, что целый народ состоит из купцов). Богатство в наиболее отдаленные времена создавалось торговлею с Индиею, оттуда она шла сухим путем до западных берегов Средиземного моря и до гаваней Финикии (куда надо причислить и Палестину). Правда, эта торговля могла найти себе дорогу и через некоторые другие места, как например на Пальмиру, в более древние времена на Тир и Сидон или, при некотором уклонении от берега, на Элат, а также у Арабского берега на Гростгебен и таким образом через Египет по направлению к Сирийским берегам;—но Палестина (главным городом в которой был Иерусалим) все же занимала очень выгодное положение для караванной торговли. Вероятно, образование известных богатств Соломона являлось следствием именно этой торговли и окрестные страны здесь до римского периода почти все состояли из купцов, которые по разрушении этого города, так как они еще прежде состояли в постоянных сношениях с деловыми людьми этого языка и этой веры,—вместо того, чтобы распространиться мало по малу по более отдаленным странам (по Европе), остались вместе и в тех государствах, куда они удалились и где они могли находить защиту ради выгод, доставляемых их торговлею;— таким образом на их рассеяние по всему миру, при их единстве в религии и языке, надо смотреть не как на исполнение проклятия, поразившего этот народ, но скорее как на исполнение благословения их; вместе с тем их богатство, если его разделить по отдельным лицам, вероятно в настоящее время превосходит богатство каждого другого народа при равном количестве населения.
73
рассеянным, обыкновенно имеет в голове что-нибудь нехорошее; т. е. или он что-нибудь затевает, или опасается каких-либо дурных для себя последствий.
Но развлекать себя, т. е. давать другое направление своему непроизвольному репродуктивному воображению, — когда, например, священник хочет удержать в голове свою проповедь и помешать появлению в голове всяких посторонних мыслей, — то для этого необходимы отчасти и искусственные средства ради здоровья духа. Напряженное размышление над одним и тем же предметом оставляет после себя как бы какой-то отзвук, который (как монотонная музыка для танца, если она продолжается долго, все еще отдается в голове того, кто возвращается с бала или нечто подобное тому, как дети постоянно повторяют одну и ту же присказку в их вкусе, в особенности если она звучит ритмически), который, говорю я, обременяет голову и может исчезнуть только путем отвлечения от него внимания и сосредоточенности на каком-либо другом предмете, например на чтении газет.— Собраться с духом (collectio animi), чтобы быть готовым к каждой новой работе,—это восстановление равновесия душевных сил, содействующее душевному здоровью. Самое лучшее средство для этого — разговор в обществе, который касается самых различных предметов и напоминает до известный степени игру; но разговор не должен перескакивать с предмета на предмет вопреки естественной ассоциации идей, ибо иначе внимание общества станет рассеянным; в виду того, что здесь сотое сменяется прямо тысячным, совершенно исчезает единство разговора, следовательно сознание снова запутывается и требуется новое развлечение, чтобы отделаться от этой новой путаницы.
Отсюда видно, что для занятых людей существует особое (не общее) искусство, относящееся к диэтетике духа, — искусство развлекаться, чтобы собраться с новыми силами. Но, как только удалось собраться с своими мыслями, т. е. получить способность пользоваться ими в любом направлении, — того человека, который в неподходящее время и при неподходящих условиях настойчиво навязывает другому свои мысли и поэтому опускает из внимания непременное условие общественности, уже нельзя назвать рассеянным; он вполне заслуживает обвинения в отсутствии самообладания, что, конечно, в обществе представляет нечто очень неудобное. — Следовательно, это далеко не заурядное искусство — искать для себя рассеяния, никогда не будучи при этом рассеянным человеком; в противном случае, если такая рассеянность у человека является явлением обычным, это дает ему вид какой-то сонливости и делает его бесполезным для общества, ибо он слепо следует за движением своего воображения, несдерживаемого разумом, в свободной игре своей мечтательности. — Чтение романов, — помимо того, что оно возбуждает некоторые душевные нестроения, — имеет своим следствием и то, что делает рассеянность явлением обычным. Хотя в обрисовке характеров, которые действительно встречаются среди людей (даже и с некоторым преувеличением действительности), здесь дается мышлению некоторая связность, как в настоящей истории,
74
и поэтому изложение до известной степени всегда должно быть систематическим,—но все таки вместе с тем при таком чтении (именно при рассказе о других событиях, как вымыслах) является возможность делать постоянные отступления; и тогда течение мыслей становится отрывочным, так что представления об одном и том же предмете отражаются в сознании порознь (sparsim), а не вместе (conjunctim) по единству рассудка. — Проповедник с церковной кафедры, или профессор в академической аудитории, или судебный обвинитель и защитник, если они в свободном изложении (не готовясь) или при каком-нибудь рассказе хотят сохранить полное присутствие духа,—должны обращать внимание на три обстоятельства; во первых, они должны смотреть на то, что они говорят теперь, чтобы представить это ясно; во вторых, они должны оглядываться назад на то, что они уже сказали; и в третьих, они должны смотреть на то, что они хотят сказать. Если они не обратят внимания на один из этих трех моментов, т. е. не постараются поставить их в надлежащий порядок, то они приведут как себя самих, так и своих слушателей и читателей в состояние рассеянности и тогда даже человек с ясной головой не будет в состоянии отклонить от себя упрека в сбивчивости и запутанности изложения.
§ 46.
Рассудок, сам по себе здоровый (без психических недочетов), может обнаруживать недостатки в отношении к своему применению, которые делают необходимым отсрочку его применения, пока он не вырастет до надлежащей зрелости, что в свою очередь вызывает потребность, чтобы в делах, имеющих общественное значение, вместо такого человека говорил и распоряжался кто-нибудь другой. Неспособность (естественная или перед законом) человека, в других отношениях здорового, к личному пользованию своим рассудком в общественных делах, называется его неправоспособностью (Unmundigkeit); если же эта неправоспособность основывается на малолетстве данного субъекта, она называется его несовершеннолетием; если же она основывается на законодательных постановлениях по отношению к общественным делам, то называется законною или гражданскою неправоспособностью.
Дети но самой природе своей нуждаются в опеке и их родители являются их естественными опекунами. Женщина во всяком возрасте в гражданском отношении считается неправоспособною; естественный куратор ее — это ее муж. Если же каждый из супругов живет на свои собственные средства, то куратором может быть и другой человек. Хотя женщина, по самым особенностям своего пола, имеет достаточно речистости, чтобы говорить за себя и за своего мужа, когда дело коснется словесного состязания, даже и пред судом (если тяжба идет о моем и твоем), так что по буквальному смыслу ее можно было бы назвать выше всякой опеки (ubermundig),—все таки женщина не может, так как это не пристало ее полу, как идти на воину,
75
так и лично защищать в суде свои права и самостоятельно вести государственные и общественные дела; она может делать это только через своего представителя. И эта гражданская неправоспособность в общественных сношениях дает женщине тем больше прав в делах домашнего обихода, ибо здесь начинается уже право слабого, уважать и защищать которое мужчина считает себя призванным от природы.
Но стремиться к признанию своей неправоспособности, как бы это ни было унизительно, все таки очень удобно; и вполне понятно, что нет недостатка в таких людях, которые готовы воспользоваться гибкостью и податливостью большой толпы (ибо она сама по себе объединяется нелегко), которые умеют представить опасность — остаться одному, без постороннего руководства и полагаться только на силы своего собственного разума, — очень серьезною, почти убийственною. Главы государства называются отцами страны, ибо они гораздо лучше, чем их подданные понимают, как сделать этих подданных счастливыми; но народ, ради его собственного блага, осужден на постоянное пребывание под опекою; если Адам Смит недостаточно почтительно говорит о первых: «все они без исключения были величайшими расточителями»,—то здесь он наталкивается на очень сильное возражение в виду того, что в некоторых землях изданы (мудрые) законы, ограничивающие расходы.
Клир настойчиво и строго держит под своею опекою мирян. Народ не имеет ни голоса, ни мнения при решении вопроса о том, по какой дороге идти в царство небесное. Чтобы попасть туда, человеку не нужно прибегать к помощи своих собственных глаз; его поведут туда другие и, если даже дадут ему в руки священное писание, чтобы он мог читать его своими собственными глазами, он все таки получит от своих руководителей предостережение «не находить в нем ничего другого, кроме того, что там нашли его руководители»; и вообще механическое управление людьми, подчинение их постороннему руководству — есть самое надежное средство для сохранения законного порядка.
Ученые обыкновенно охотно допускают, чтобы по отношениям к домашним распорядкам их жены держали их у себя под опекою. Один ученый, закопавшийся в свои книги, когда слуга стал кричать, что в одной из комнат начинается пожар, спокойно ответил: «вы знаете, что всеми этими делами заведует моя жена».—Наконец совершеннолетие, раз уже признанное в делах государственных и общественных, для расточителя влечет за собою новое признание его неправоспособности и необходимости опеки, если он, достигнув зрелого возраста, обнаружит слабость мышления по отношению к управлению своим имуществом, что ставит его в одинаковое положение с ребенком или с слабоумным; впрочем, исследование этого не входит в область антропологии.
§ 47.
Тупой человек (hebes) это тот, которому, как незакаленному ножу или топору, ничего нельзя дать, ибо он не способен чему-нибудь
76
научиться. Тот, который способен только подражать другим, называется ограниченным; напротив тот, который сам может стать автором самостоятельного умственного или художественного произведения, называется человеком с головою. Совершенно отличается от этого простота (в противоположность искусственности, о которой говорят: «полное искусство противно природе» — и до которой достигают сравнительно поздно), т. е. способность без излишней траты средств, т. е. без всяких окольных дорог, достигать той же самой цели. Тот, кто обладает этою способностью (мудрец), при всей своей простоте, человек далеко не простоватый.
Глупым обыкновенно называют того человека, которого нельзя допустить к серьезному делу, так как он не обладает способностью суждения.
Дурак это тот человек, который жертвует тем, что имеет, ради целей, которые никакой цены не имеют; так, блеску вне своего дома он жертвует своим домашним счастьем. Глупый человек, если его глупость оскорбительна для других, вполне заслуживает клички дурака. — Можно иногда назвать человека глупым, не обижая его этим; даже сам человек иногда может сознаваться в собственной глупости; но никто не позволит назвать себя дураком, т. е. орудием плутов (по словам Иопа 1). Высокомерный человек—это дурак, ибо прежде всего глупо предполагать, чтобы другие люди по сравнению с ним захотели считать себя ниже; в виду этого такие люди всегда и во всем встречают для себя затруднения. В таком высокомерном притязании заключается уже и оскорбление, которое вызывает, как ответ себе, заслуженную ненависть.—Слово дурочка, когда его употребляют в применении к девушке, не имеет оскорбительного значения, ибо мужчина не допускает, чтобы его могли оскорблять суетные притязания последней. — Таким образом кажется, что слово дурак оправдывается высокомерием только у мужчины. Если того человека, который вредит (временно или всегда) себе самому, называют дураком,— следовательно к презрению по отношению к нему примешивают и ненависть, хотя он нас и не оскорбил,— то следует думать, что его поведение сознается, как оскорбление для человечества вообще, и, следовательно, как оскорбление и для всякого другого человека. Того, кто действует вопреки своим правомерным выгодам, тоже иногда называют дураком, хотя он вредит только себе самому.—Аруэ (отец Вольтера), когда один из знакомых поздравлял его с такими знаменитыми сыновьями, ответил: «у меня два сына и оба дураки, — один дурак в прозе, а другой в стихах». (Один ударился в янсепизм и подвергся преследованию, другой за свои на-
_________________________
1) Если кому-нибудь в ответ на его сомнения хотят ответить: „вы неумны”,—то для этого существуют более мягкие выражения „вы шутите”,—или „вы не так поняли дело”.—Рассудительный человек это тот, который судит правильно и практически, но безъискусственно. Правда, опыт может сделать рассудительного человека и умным, т. е. способным к искусственному применению разума, но только одна природа может сделать его рассудительным.
77
смешливые стихотворения попал в Бастилию). Вообще глупый человек полагает гораздо больше ценности в вещах, а дурак в себе самом, чем они должны были бы делать, если бы поступали разумно.
Когда человека называют франтом или фатом, то в основе этого всегда лежит понятие о том, что он человек неумный, в частности дурак. Первый это молодой дурак, а второй дурак старый; как того, так и другого обходят плуты и хитрые люди; при этом первый возбуждает у других сострадание, а второй—горькую и презрительную насмешку. Один остроумный немецкий философ и поэт сделал названия fat и sot (под общим названием fou) понятными посредством такого примера. «Первый,—сказал он,—это молодой немец, который отправляется в Париж; второй—это тот же самый немец, который вернулся из Парижа».
Полное ослабление мыслительной деятельности, когда ее недостаточно даже для животного применения жизненной силы (как у кретинов в области Валлиса), или достаточно только для механического подражания внешним действиям, доступным и для животных (сосать, копать и т. п.),— называется слабоумием: на это можно смотреть не как на душевную болезнь, но как на явление неодушевленности.
С.
О душевных болезнях.
§ 48.
Общее деление душевных болезней, как это было показано выше это деление на иппохондрию (Grillenkrankheit) и на душевное расстройство (мания). Название первых недугов дано но аналогии внимания к чирикающим звукам кузнечика (домашнего сверчка) в тишине ночи: эти звуки нарушают спокойствие духа, необходимое для того, чтобы заснуть. Болезнь иппохондрика состоит только в том, что чувственные внутренние телесные ощущения воспринимаются им не только, как действительно существующее зло в теле, но и как предмет забот и опасений. Человеческая натура имеет то странное свойство (какого не имеют другие животные), что при сосредоточении внимания на местных впечатлениях ощущение их становится более сильным и более продолжительным, тогда как отвлечение, или преднамеренное или случайное, благодаря другим посторонним занятиям, содействует освобождению от этих впечатлений и ослабляет их, а если оно действует постоянно, то иногда их совершенно устраняет 1). Таким образом иппохондрия (как Grillenkrankheit) становится причиною воображаемых телесных страданий, причем пациент сознает, что это
_________________________
1) В одном из других своих произведений я заметил, что отвлечение внимания от некоторых болезненных ощущений и сосредоточение его на каком-либо другом предмете, произвольно вызванном в нашем мышлении, в состоянии до такой степени ослабить эти впечатления, что они не переходят в настоящую болезнь.
78
только мнительность и вымыслы, но время от времени не может удержаться от того, чтобы не считать за нечто действительное, или наоборот из действительного физического страдания (например, из чувства тяжести после обеда) он создаст себе фантастические представления о всевозможных опасностях и тревожных внешних событиях; у него является озабоченность по поводу своих дел, но эта озабоченность тотчас же исчезает, как только пищеварение окончится и ветры в желудке улягутся. Иппохондрик—это ловец кузнечиков самого печального свойства; он упрямо не хочет отказаться от своих вымыслов и постоянно осаждает жалобами своего врача, так что последнему приходится утешать его совершенно как ребенка (пилюлями из хлебных крошек вместо всяких лекарств). Когда такой пациент, который при своей мнимой постоянной болезненности никак по может захворать серьезно, начинает читать медицинские книги, то он становится совершенно невыносимым, ибо все те болезненные ощущения, о которых говорится в книгах, он тотчас же начинает ощущать в своем собственном теле. Одним из признаков этой болезни воображения служит чрезмерная веселость, оживленное остроумие и громкий смех, которому этот больной иногда от души отдается; таким образом он всегда остается послушною игрушкою своих настроений. Эту болезнь питает мучительный и младенческий страх перед мыслью о смерти. Тот, кто не в состоянии с мужественною смелостью отвернуться от этой мысли, никогда не может действительно наслаждаться жизнью.
По эту сторону пограничной линии душевного расстройства лежит внезапная смена настроений (raptus), неожиданные скачки от одной темы к другой, совершенно различной, которой никто не ожидает. Иногда это предшествует настоящему расстройству, одним из признаков которого оно и является. Но часто голова находится уже в таком извращенном состоянии, что эти припадки беспорядочности и нарушения правил у такого человека становятся правилом. Самоубийство часто бывает действием только такого внезапного увлечения (raptus). Тот человек, который под влиянием аффекта перерезывает себе глотку, вскоре после этого очень терпеливо позволяет зашивать свою рану.
Задумчивость (melancholia) может быть вызвана только пустым призраком горя, которое угрюмый человек (склонный к чувству скорби) создает себе на собственное свое мучение. Хотя само по себе это еще не душевное расстройство, но с течением времени оно может привести и к такому расстройству. Существует ошибочное, хотя и часто повторяемое выражение, когда говорят о задумчивом математике (как например о профессоре Хаузене); но это выражение неверно, ибо здесь отнюдь не глубокая задумчивость, а глубокомыслие.
§ 49.
Бред (delirium) наяву в лихорадочном состоянии—это телесная болезнь, которая нуждается в заботах врача. Только тот,
79
одержимый бредом, у которого врач не найдет подобных болезненных признаков, называется сумасшедшим, причем слово расстройство является здесь слишком мягким выражением. Следовательно, если кто-нибудь преднамеренно причинил кому-нибудь несчастие и возникает вопрос, виновен ли и в какой степени виновен он по отношению к этому делу,—другими словами, если прежде надо решить вопрос, был ли он в ту минуту сумасшедшим, или нет,—то суд (в виду некомпетентности судебного трибунала) должен направить этот вопрос не на медицинский, а на философский факультет. Вопрос, обладал ли обвиняемый при совершении преступления всеми силами своей естественной способности суждения и рассудка,—вопрос совершенно психологический; и, хотя телесное изменение органов души, может быть, и бывает иногда причиною неестественного нарушения закона долга (присущего каждому человеку), во всяком случае врачи и физиологи вообще еще далеко не дошли до того, чтобы проникнуть в механический строй человека настолько, чтобы из этого механизма объяснять внезапные побуждения к таким преступным деяниям или (без анатомического исследования тела) могли заранее их предвидеть; судебная медицина (medicina forensis) является только там, где возникает вопрос, находился ли подсудимый в то время в состоянии помешательства или это было решением, принятым в здравом рассудке? Это по меньшей мере вмешательство в чужие дела, в которых судья ничего не понимает, так как эти дела не относятся к его юриспруденции и здесь он должен направить дело в другой факультет 1).
§ 50 2).
Нелегко дать систематическое деление того, что представляет из себя существенный и неизлечимый беспорядок: впрочем и не особенно нужно заниматься этим, так как при этом силы субъекта не помогают посторонним заботам, как это всегда бывает при физических заболеваниях; а эта цель все таки могла бы быть достигнута только путем собственной рассудочной деятельности пациента; в виду этого все врачебные методы в этом отношении должны оказаться бесполезными. Во всяком случае антропология, хотя в данном случае она мо-
_________________________
1) Так, один судья в одном подобном случае признал сумасшедшим подсудимого, который был приговорен к заключению в смирительном доме и в отчаянии убил своего ребенка: на этом основании судья освободил его от смертной казни. Тот, — говорил он—кто из ложных посылок делает правильные выводы, человек сумасшедший. Этот человек признал, как принцип, что заключение в смирительном доме есть неизгладимое пятно на чести, которое гораздо хуже, чем смерть (а это ложно); и путем вывода из этих посылок он пришел к решению, что он заслуживает смерти; следовательно, он был сумасшедшим и, как такой, освобождается от смертной казни. На основании такого аргумента было бы легко всех преступников признать сумасшедшими, которые нуждаются в сожалении и лечении, а не заслуживают наказания.
2) Этот параграф в первом издании носил название „Классификация помешательства”.
80
жет быть прагматическою только очень не в прямом смысле, а именно может указывать только упущения, должна дать по крайней мере общий очерк этого глубочайшего, хотя и возникающего из самой природы унижения человечества. Помешательство вообще можно разделить на беспорядочное, методическое и систематическое.
1) Amentia — это полная неспособность привести свои представления в необходимый порядок, хотя бы только для самой возможности опыта. В домах для умалишенных особенно сильно страдают этим, благодаря своей болтливости, женщины. В своем рассказе о чем бы то ни было, по живости своего воображения, они делают так много вставок, что никто не в состоянии понять, что собственно они хотят сказать. Этот первый вид помешательства—есть помешательство беспорядочное.
2) Dementia — такое душевное расстройство, когда все, что рассказывает больной, хотя и соответствует формальным законам мышления в той мере, что опыт становится возможным, но в виду ложно направленного творческого воображения даже несомненные представления здесь принимаются за восприятия. Таковы те люди, которые думают, будто бы их со всех сторон окружают враги. Всякое выражение лица, всякое слово или другое безразличное действие окружающих они считают чем-то умышленным, во всем видят расставленные для них силки. Эти люди в своем несчастном безумии при объяснении того, что другие делают без всякой цели, пытаются видеть нечто злонамеренное по отношению к ним; и в этом отношении они обнаруживают столько остроумия, что силе их рассудка следовало бы воздать полную справедливость, если бы только данные для их умозаключений были верны. Я никогда не видал, чтобы кто-нибудь мог вылечиться от этой болезни (ибо это обнаруживает особую наклонность быть безумным при наличности разума); но таких больных нельзя причислить к буйным помешанным, ибо они заботятся только о себе; их бесполезное лукавство направлено на их собственное самосохранение; других они никакой опасности не подвергают и поэтому их не следует ради безопасности лишать свободы. Это второй вид помешательства—помешательство методическое.
3) Insania — это извращение способности суждения. Здесь мышление сбивается с толку теми аналогиями, которые принимаются за понятия об одинаковых предметах; таким образом воображение, напоминая в своей деятельности деятельность рассудка, ведет игру, причем получается нечто общее, в котором будто бы заключаются их фантастические представления. Больные этой категории в большинстве случаев очень довольны собою, занимаются своим безумным творчеством и любуются обилием и блеском понятий, по их мнению вполне совпадающих между собою. Помешанные этой категории неизлечимы, ибо это помешательство, как поэзия вообще, представляет нечто творческое и тешит больных своим разнообразием. Это третий вид помешательства, хотя и методического, но разрозненного и отрывочного.
4) Vesania — это болезненное расстройство разума. Душевно больной перепрыгивает через всю лестницу опыта и гонится за принци-
81
пами, которые поднимаются над всеми критериями опыта, безумно грезит, будто бы он понимает непостижимое. Открытие квадратуры круга, perpetuum mobile и разоблачение сверхчувственных сил природы, понимание тайны троичности—это его дело. Это самые спокойные из всех обитателей дома для умалишенных; они дальше всех от возможности неожиданного буйства, благодаря полному погружению в свои спекуляции, так как они с полным самоудовлетворением не хотят замечать всех трудностей исследования. Этот четвертый вид помешательства можно было бы назвать систематическим.
В этом последнем случае душевное расстройство представляет ее только сбивчивость и уклонение от правил применения разума, но и положительное неразумие, т. е. совершенно другое правило, совершенно другую точку зрения, на которую, так сказать, становится мышление; отсюда все предметы человек видит иначе. Здесь sensorium commune, которое необходимо для единства жизни животного, оказывается перемещенным в очень отдаленное от него место (отсюда слово помешательство, или выражение спятил). Так гористая местность, если ее рисовать с высоты птичьего полета, дает возможность для совершенно другого суждения о местности, чем в том случае, если на эту местность смотреть откуда-нибудь из равнины. Правда, душа не чувствует и не видит себя в каком-нибудь другом месте, (ибо она не может воспринимать себя по своему месту в пространстве, не допуская при этом противоречия, ибо в противном случае она должна была бы созерцать себя, как объект своего внешнего чувства, тогда как она может быть для себя объектом только внутреннего чувства), но этим, как бы там ни было, только и объясняется так называемое помешательство. При этом достойно удивления, что силы сдвинутого с его места мышления все таки стремятся к порядку, к системе; и природа, даже при полном неразумии, стремится осуществить принцип объединения разума, чтобы мыслительная способность не оставалась в бездействии, если и не объективно, для действительного познания вещей, то хотя бы только субъективно, в интересах животной жизни.
Напротив, попытка—путем физических средств привести себя в такое состояние, которое приближалось бы к помешательству, и делать это добровольно, чтобы наблюдать его и через это наблюдение лучше понять и непроизвольное помешательство,—обнаруживает достаточно разума, ибо стремится исследовать причины явления. Но опасно делать эксперименты с сознанием, до известной степени становиться больным, чтобы наблюдать и исследовать свою природу на тех явлениях, которые могли бы здесь встретиться. Так Гельмонт после приема известной дозы наппеля (ядовитый корень), как ему казалось, сделал открытие, что он мыслит желудком. Другой врач понемногу увеличивал прием камфоры, пока ему не показалось, что на улице все пришло в великое смятение. Многие до тех пор делают над собою эксперименты с опиумом, пока не доходят до полного ослабления душевной деятельности и, если не перестанут употреблять это вспомогательное средство для оживления мышления, искусственное помешательство легко может перейти в настоящее.
82
Отдельные заметки.
§ 51.
С развитием зародыша будущего человека развивается и зародыш помешательства, если только это помешательство наследственное. Не безопасно жениться на особе из такой семьи, в которой был бы хотя один подобный субъект. Сколько бы ни было детей от такой четы, которые остались свободными от этого печального наследства, если все они, например, вышли в отца или в его дедов, но, если только мать в своем семействе имела хоть одного душевнобольного (хотя бы сама она была и свободна от этого недуга), в этой семье все таки может родиться ребенок, который окажется наследником семьи своей матери (как это можно наблюдать и во внешних признаках фигуры) и который будет иметь в себе наследственное душевное расстройство.
Часто хотят представлять себе случайные причины этой болезненности в том виде, как будто бы это не что-либо наследственное, но нечто благоприобретенное и как будто бы в этом виноват сам несчастный больной. «Он помешался от любви»,—говорят об одном; «он сошел с ума из надменности»,—говорят о другом; «он заучился»,—говорят о третьем. Может быть влюбиться в такую особу, жениться на которой было бы величайшей глупостью, признак сам по себе де хороший, но это не причина, а результат безумия; что же касается но высокомерия, то оно предполагает притязание ничего не значащего человека на то, чтобы все другие ему кланялись, оказывали ему всякое уважение, что предполагают уже безумие, без которого он ни в каком случае не обнаружил бы подобных притязаний.
Что же касается до переутомления наукою 1), то в этом отношении нет особой необходимости предостерегать от него молодых людей. В этом направлении молодежь нуждается скорее в шпорах, чем в узде. Даже самые пламенные и настойчивые усилия в этом направлении могут только утомить мышление, так что человек перестает любить науку; но они не извращают его способностей, если только они прежде не были извращены; в противном случае человек получает пристрастие к мистическим книгам и к откровениям, которые превышают способности обыкновенного человеческого рассудка. Сюда относится и склонность заниматься чтением книг, которые имеют известный благочестивый оттенок, только ради буквы, не имея в виду моральной стороны дела; для этого один автор нашел выражение «безумный от писания».
_________________________
1) То, что купцы часто „зарываются” и бросаются на предприятия, превышающие их средства и силы, — это явление обыкновенное. Но заботливые родители не должны опасаться за избыток прилежания у молодых людей (если только в общем их голова здорова). Природа сама уже избавляет от чрезмерного избытка такого знания, именно тем, что учащимся до тошноты надоедают те предметы, над которыми они так долго и так напрасно ломали себе голову.
83
Я сомневаюсь, чтобы существовало различие между общим помешательством (delirium generale) и безумием, которое приурочено к определенному предмету (delirium circa objectum). Неразумие (нечто положительное, а не простой недостаток разумности), точно также, как и разум, есть только форма, к которой могут применяться объекты; и, значит, оба направлены на общее. Но то, что при взрыве безумных наклонностей (а это обыкновенно совершается внезапно) прежде всего приходит помешанному на ум (случайно встретившиеся предметы), о том впоследствии он особенно будет бредить и нести чепуху; об этом именно помешанный и будет главным образом мечтать, ибо, благодаря новизне этого впечатления, оно засело в нем сильнее, чем все последующие.
О том, у кого в голове не все в порядке, говорят: «он перешел экватор»,—как будто бы тот человек, который в первый раз переходит линию жаркого пояса, подвергается опасности потерять рассудок. Но это только недоразумение. Оно имеет собственно только тот смысл, что глупец, который надеется без настойчивого труда, благодаря только одному путешествию в Индию, сразу же разбогатеть, уже свой план составляет, как дурак; во время выполнения этого плана юное безумие растет и при возвращении на родину, если даже счастье такому человеку улыбнулось, безумие представляется уже развитым во всей своей полноте.
Подозрение, будто бы у кого-нибудь в голове неладно, падает уже и на того, кто громко говорит сам с собою или кто один в комнате жестикулирует для себя. Еще более подозрительно, если он получает какие-нибудь внушения и думает, что может разговаривать и находиться в общении с высшими существами; но этого не бывает, если он, хотя, может быть, и считает других святых людей способными к подобным сверхчувственным созерцаниям, но не воображает себе, будто бы и сам он относится к числу этих избранников и никогда не выражает желания иметь такие внушения, следовательно, исключает себя из числа лиц этой категории.
Единственный общий признак помешательства это потеря здравого смысла (sensus communis) и появление взамен его логической обособленности (sensus privatus); так например, человек в ясный день видит на своем столе горящую свечу, которой кроме него никто не видит, или слышит голос, которого не слышат другие. Это субъективно необходимый пробный камень правильности наших суждений вообще, а, значит, и здоровья нашего рассудка,—то ,что мы испытываем свой разум на разуме других, не стоим особняком с нашими собственными суждениями и даже в своем частном представлении высказываемся как бы публично. Поэтому человечество оскорбляет запрещение книг, которые основаны на теоретических мнениях (в особенности в том случае, если они не имеют влияния на законодательную деятельность), ибо таким образом от нас отнимают если не единственное, то лучшее и самое пригодное средство исправить и оправдать свои собственные мысли; а это делается таким образом, что мы высказываем их публично, чтобы посмотреть, соответствуют ли они
84
рассудку и других людей; в противном случае нечто, только субъективное (привычку или склонность), легко принять за нечто объективное; а именно в этом-то и состоит та иллюзия, о которой говорят, что она обманывает, или скорее побуждает нас при применении правила обманывать самих себя. Тот, который не обращается к этому пробному камню, но полагает его только в своей голове, в своем личном разумении, не признавая решающего значения за общим мнением, или даже мыслит вопреки ему,—в сущности отдастся игре представлений; тогда он находится не в одинаковом мире с другими, но, как в сновидении, смотрит, действует и рассуждает в своем собственном мирке. Но иногда это можно объяснить только теми выражениями, в которых человек с ясною головою хочет сообщать свои внешние восприятия другим; и тогда кажется, что эти восприятия не соответствуют принципу общего сознания и он будто бы упрямо стоит на своей собственной точке. Так, остроумный автор Oceana, Гаррингтон, имел странность утверждать, будто бы его испарения (effiuvia) отскакивали от его кожи в виде мух. Но, может быть, это было электрическим влиянием на его тело, заряженное теми же самыми элементами. Это может быть доказано и путем опыта; и возможно, что этими словами он хотел отметить только сходство своего чувства с этим отскакиванием, а не то, что будто бы он действительно видел этих мух.
Помешательство с бешенством (rabies), с аффектом гнева (по отношению к действительному или воображаемому предмету), которое делает его нечувствительным ко всем впечатлениям извне, это только игрушка того расстройства, которое часто на вид гораздо страшнее, чем оно оказывается по своим результатам; это бешенство, как пароксизм в горячечной болезни, не столько коренится в сознании, сколько возбуждается материальными причинами; и врач может устранить его одною дозою лекарства.
О талантах познавательной способности.
§ 52.
Под талантом (природным дарованием) понимается то достоинство познавательной способности, которое зависит не от обучения, но от природных особенностей субъекта. Таланты проявляются в продуктивном воображении (ingenium strictius sive materialiter dictum), в чуткости и в оригинальности мышления (в гениальности).
Остроумие бывает или сравнивающим (ingenium comparans), или размышляющим (ingenium argutans). Остроумие соединяет (ассимилирует) разнородные представления, которые часто по законам воображения (ассоциации) лежат друг от друга очень далеко. Это очень своеобразная способность—сравнивать, которая относится к рассудку (как способности познания общего), поскольку она подводит предметы под роды и виды. Затем, для этого нужна и способность суждения, чтобы частное подводить под общее, и способность мышления ради
85
познания. Остроумию (в слове и в письме) нельзя научиться путем школьного механизма с его принудительностью; оно, как особый талант, возникает на почве свободы чувственного выражения при взаимном обмене мыслей (veniam damus petimusque vicissim). Это трудно поддающееся объяснению свойство рассудка вообще. Его изящество представляет контраст с строгостью способности суждения (judicium discretivum) в применении общего к частному (родового понятия к понятию вида), которая ограничивает как способность ассимиляции, так и наклонность к этому.
О специфическом различии сравнивающего и обобщающего остроумия.
А.
О продуктивном остроумии.
§ 53.
Приятно, занимательно и весело находить сходство между неоднородными вещами и таким образом, как это и делает остроумие, давать рассудку материал для того, чтобы сделать его понятие общим. Наоборот, способность суждения, которая ограничивает понятия и более содействует их исправлению, чем их расширению, хотя и пользуется полным почетом и рекомендуется всеми, всегда серьезна, сурова и по отношению к свободе мышления стеснительна; именно поэтому она и не пользуется популярностью. Вся деятельность сравнивающего остроумия скорее игра, чем дело; деятельность способности суждения—всегда дело. Первое—это цветок юности, вторая—зрелый плод старости. Тот, кто в высшей степени соединяет оба эти свойства в одном умственном произведении,—тот проницателен (perspicax).
Остроумие гоняется за совпадениями: способность суждения стремится к прозрению. Обдуманность—это способность бургомистра (оборонять город и править им по данным законам под верховною властью замка). Напротив, говорить смело (hardi), устраняя все сомнения и колебания способности суждения, вот свойство, которое великий творец естественной системы, Бюффон, ставит в заслугу своим землякам, хотя это свойство, как отвага, достаточно смахивает иногда на нескромность (фривольность). Остроумие скорее всего это соус: способность суждения—сущность блюда. Погоня за острыми словами (bons mots), которых так много находил аббат Трюбле и для этого подвергал свое остроумие пыткам, тешит поверхностных людей, но возбуждает чувство отвращения у людей основательных. Оно очень изобретательно на моды, т. е. на общепринятые правила обхождения, которые нравятся только благодаря новизне и, как только начинают прививаться, тотчас же сменяются другими формами, настолько же недолговечными.
Остроумие, основанное на игре слов, пошло (пусто); пустые рассуждения (микрология) способности суждения педантичны.—Причудливым
86
называется такое остроумие, которое возникает из склонности человека к парадоксам; здесь за простодушным тоном мнимой искренности все таки сквозит (замаскированное) лукавство, которое хочет поднять кого-нибудь (или его мнение) на смех, или нечто противоположное тому, что достойно одобрения, пытается особенно оттенить притворными похвалами; таковы у Свифта «Искусство пресмыкаться в поэзии» или у Бутлера его «Гудибрас»; подобное остроумие, которое презренное, путем контраста, делает еще презреннее, хотя и оживляет мышление посредством внезапной неожиданности, все таки всегда только игра; это остроумие легкого сорта (как остроумие Вольтера); напротив, остроумие того, кто выставляет в такой одежде действительные и серьезные принципы (как Юнг в своих сатирах), можно назвать тяжеловесным остроумием, ибо это прежде всего дело и возбуждает скорее удивление, чем улыбку.
Пословица (proverbium) еще отнюдь не острота (bon mot), ибо это формула, ставшая общею, которая выражает мысль и которая путем подражания идет все дальше и дальше,—хотя, может быть, в словах ее первого автора она и была острым словом. Говорить пословицами стало поэтому достоянием черни; эта привычка доказывает полное отсутствие остроумия в обхождении с более тонкими людьми.
Основательность, правда, не дело остроумия, но поскольку остроумие посредством той образности, какую оно сообщает мысли, может быть орудием или покровом для разума и для его применения к его морально-практическим идеям,—можно предполагать и основательное остроумие (в отличие от поверхностного). В Жизни Валлера приводится одна из удивительнейших, как говорят, сентенций Самуэля Джонсона о женщинах; он без сомнения хвалил очень многих, на которых побоялся бы жениться, и женился на одной, которую, может быть, постыдился бы хвалить. Все удивительное здесь надо отнести на счет игры антитезы, ибо разум здесь ничего не выигрывает. Но там, где дело касается спорных для разума вопросов, друг Джонсона, Босвелль, не мог бы извлечь у него какого-нибудь изречения оракула, обнаруживающего хотя бы малейшее остроумие, а он разыскивал их неустанно; все, что он разыскивал у Джонсона относительно скептиков по вопросам религии, или права правительства, или человеческой свободы вообще, при его обычном деспотизме в споре, который усиливался, благодаря привычке находиться в обществе льстецов, отзывает полной грубостью, которую его поклонники предпочитают называть суровостью 1); но это доказывает его полную неспособность к такому остроумию, которое в той же самой мысли обнаруживало бы и основательность.—Как кажется, достаточно оценивали его талант и те влиятельные люди, которые не слушали его друзей, когда те рекомендовали
_________________________
1) Босвелль рассказывает, что, когда один лорд в его присутствии выражал сожаление, что Джонсон не получил более утонченного воспитания, Баретти сказал: „Нет, нет, милорд что бы над ним ни делали, он всегда останется медведем”. „Но, может быть, он стал бы медведем, умеющим танцевать”, заметил другой из собеседников; на это третий, друг Джонсона, желая смягчить это выражение, сказал: „в нем нет ничего медвежьего, кроме шкуры”.
87
его, как человека в высшей степени пригодного для парламента. Его остроумие, которое достаточно для составления лексикона его языка, отнюдь не доходило до того, чтобы будить и оживлять идеи разума, необходимые для должного понимания серьезного дела.—Скромность сама собою появляется в сознании того, кто видит себя призванным к серьезной работе; и недоверие к своим талантам, чтобы все решать не только личными средствами, по принимать во внимание и суждения других, во всяком случае хотя бы незаметно,—это такое свойство, которым Джонсон никогда не отличался.
В.
О чуткости или способности исследования.
§ 54.
Чтобы что-нибудь открыть (что лежит скрытым или в нас самих или вне нас), для этого во многих случаях нужен особый талант, чтобы верно определить, где лучше всего начать поиски; есть природное дарование высказывать заранее суждение (judicii praevii), где можно было бы найти истину, идти по следам действительности и пользоваться малейшими указаниями сродства, чтобы открыть или найти искомое. Школьная логика в этом отношении почти ничего не дает. Но Бэкон Веруламский в своем «Органоне» дал блестящий пример того метода, как путем эксперимента можно открыть скрытые свойства физических явлений. Но даже этот пример недостаточен для того, чтобы дать нам урок: но определенным правилам, как следует искать с расчетом на удачу,—ибо при этом всегда нужно нечто предварительно предполагать (выходить из гипотезы), знать, откуда надо начинать свои поиски; и это должно происходить по принципам, на основании известных показаний; именно в этом-то и заключается основание того, как надо попасть на эти следы. Конечно, очень дурное указание для исследования: рисковать идти слепо, на удачу, спотыкаясь о камни,—для того, чтобы найти таким образом первую ступень, а через нее и главный путь в изысканиях. Но бывают и такие люди, которые, как бы с волшебным жезлом в руках, умеют отыскивать сокровища познания, хотя они никогда этому не учились; этому они не могут научить и других, но могут только идти впереди их; это уже дар природы.
С.
Об оригинальности познавательной способности или о гениальности.
§ 55.
Изобрести что-нибудь—это нечто совершенно другое, чем что-нибудь открыть, ибо то, что открывают, предполагается уже суще-
88
ствующим до этого открытия, только оно до сих пор еще не было известным; такова Америка до Колумба; но то, что изобретают, как например, порох 1), не было никому известно до того мастера, который его сделал. Как то, так и другое представляет из себя заслугу. Но можно найти нечто такое, чего и не искали (как Гольдкох нашел фосфор), и тогда в этом нет никакой заслуги. Способность к изобретению называют гениальностью, но это имя всегда тают только мастеру, который умеет нечто сделать, а не тому, кто много знает и понимает. Его не дают тому мастеру, который только подражает, но только тому, который умеет сделать свое произведение в первый раз и самостоятельно. Наконец, и этому мастеру дают это название только в том случае, если его произведение окажется образцовым, т. е. если оно может служить примером (exemplar) для подражания другим. Следовательно, гениальность человека есть образцовая оригинальность его таланта (по отношению к тому или другому виду художественных произведений). Но и того человека, у которого есть только задатки для этого, называют гением, ибо тогда это слово обозначает не только природные дарования данной личности, но и саму эту личность.—Гениальность во многих отраслях знаний и искусства называется широкою гениальностью (например, Леонардо да Винчи).
Истинная сфера деятельности для гения это воображение, ибо оно является творческим и менее чем все другие способности находится под гнетом правил; а именно поэтому-то оно тем удобнее и для оригинальности. Правда, механизм обучения, который каждую минуту побуждает учеников к подражанию, несомненно оказывает вредное влияние на пробуждение гениальности, именно со сторон его оригинальности. Но каждое искусство все-таки нуждается в известных механических основных правилах, а именно в соразмерности произведения с его идеею, т. е. в истине при изображении предмета, который имеют в мысли. Этому следует научиться со всем школьным педантизмом и эта сторона несомненно есть следствие подражания. Освободить воображение от этого принуждения и своеобразный талант пускать в дело без всяких правил, даже вопреки природе, и всецело погрузиться в мечты,—это, может быть, произвело бы оригинальное безумие; но такое произведение. конечно, не было бы образцовым и поэтому его нельзя относить к гениальности.
Дух в человеке, это принцип оживляющий. Во французском языке дух и остроумие носят одно и то же имя — esprit. В немецком языке это иначе. Говорят: речь, произведение, дама в обществе, и т. д., прекрасны, но лишены духа. Блеск и обилие остроумия здесь не ведут ни к чему, ибо остроумие в конце концов может опротиветь, так как его результаты не дают ничего прочного и оста-
_________________________
1) Порох был в ходу задолго до монаха Шварца: им пользовались еще при осаде Альгезираса. Изобретение его, по-видимому, следует приписать китайцам. Но очень может быть, что тот немец, которому этот порох попался в руки, стал делать опыты, чтобы разложить порох на его составные части (например, путем выщелачивания находящейся там селитры, смывания угля и выжигания серы) и таким образом открыл его, но не изобрел.
89
ющегося. Для того, чтобы все вышеназванные вещи и лица можно было по справедливости назвать проявлениями, полными духа, они должны возбуждать к ним интерес и непременно посредством идей. Это приводит наше воображение в движение; и тогда воображение видит перед собою больший простор для подобных понятий. Следовательно, что было бы, если бы французское слово genie мы стали выражать немецким словом «своеобразный дух»,—если бы наш народ позволил убедить себя, что французы заимствовали слово для этого из своего собственного языка,—такое слово, какого мы в своем языке не имеем и которое мы должны заимствовать от них, тогда как на самом деле они сами заимствовали это слово из латинского языка (genius), которое и обозначает именно «своеобразный дух»?
Но причина, по которой образцовую оригинальность таланта называют этим мистическим именем, заключается в том, что тот, кто обладает ею, не может объяснить нам ее проявлений, даже сам не в состоянии понять, каким образом он дошел до того искусства, которого он не может объяснять. Невидимость (в отношении причины к ее действию) есть побочное понятие духа (того genius’a, который уже от рождения сопутствует талантливому человеку), внушению которого он только как бы следует. Но душевные силы здесь при посредстве воображения должны приходить в движение гармонически, ибо иначе они не будут оживлять друг друга, но только мешать одна другой; и эта гармония дается только природою субъекта, в виду чего гениальность можно назвать также талантом, «при посредстве которого природа дает искусству правила».
§ 56.
Здесь можно оставить без рассмотрения вопрос,—получает ли мир в общем особенную пользу от великих гениев, в виду того, что они часто пролагают новые дороги и открывают новые горизонты,— или же особенную пользу приносят ему механические умы (хотя они и не создают эпохи) с их будничным, медленным рассудком, который подвигается вперед с посохом и костылем опыта в руках.—Не больше ли эти последние содействуют росту искусств и науки?—Правда, ни один из них не возбуждает вашего удивления, но ни один из них и не вносит путаницы в дело науки. Но есть один сорт гениальничающих людей (лучше обезьян гениальности), которые пытаются протиснуться вперед под флагом гениальности; молва считает их людьми необыкновенно одаренными от природы; люди этой категории считают пaчкoтнeю труды изучения и школьного исследования, хвастаются, будто бы дух всех наук они умеют схватить сразу, сконцентрировать его в небольшом целом и серьезно обогатить науку.—Лица этого сорта, как пачкуны и рыночные крикуны, очень вредят успехам научного и морального образования. Когда они говорят о религии, о государственных отношениях или о морали, подобно посвященным или людям властным, с высокого трона науки и в решительном тоне,— то таким образом они только пытаются скрыть скудость своего духа.
90
Что же делать с людьми этого сорта, как не смеяться над ними и терпеливо продолжать свой труд, прилежно, с полною ясностью, в строгом порядке, не обращая никакого внимания на этих шутов?
§ 57.
Гений, по видимому, соответственно различию национальных задатков и той почвы, на которой он появляется, носит в себе с самого начала различные зародыши и эти зародыши развиваются различным образом. У немцев эта гениальность больше идет в корень, у итальянцев в крону, у французов в цветок, у англичан в плод.
Будничного человека (который воспринимает и изучает все разнообразные науки) надо отличать от гения, как человека творческой изобретательности. Первый может проявиться в том, что можно изучить; именно, он может обладать историческим познанием (быть полигистором) того, что до сих пор было сделано в области всех наук, каковы—Юлий Цезарь, Скалигер. Последний это человек великого духа не столько по объему, сколько по его силе и интенсивности, который производит эпоху во всем, за что он берется (таков Ньютон, Лейбниц).—Архитектонический ум, который методически определяет связь всех наук и их взаимное отношение между собою,—это только второстепенной гений, но не гений в общем смысле слова.—Но бывает и гигантская ученость, которая часто бывает циклопическою,— именно в том смысле, когда не хватает достаточно зоркости, т. е. зоркости истинной философии, чтобы при помощи разума целесообразно использовать эту груду исторического знания, груз сотни верблюдов.
Простые самоучки (eleves de lа nature, autotidacti) в некоторых случаях могут тоже считаться гениальными, так как они, хотя кое-что из того, что они знают, могли бы узнать и от других,—многое нашли и сами и в том, что само по себе не есть дело гения, были гениальными; так, по отношению к механическим искусствам в Швейцарии есть люди, которые были изобретателями в этих искусствах.— Но преждевременная зрелость мысли (ingenium praecox), как в Любеке Гейнеке или в Галле—Баратьер, существование которых эфемерно,—это отклонение природы от ее правил, это редкости для кабинетов естественных наук; хотя их преждевременной зрелости можно удивляться, но часто в этом глубоко раскаиваются те люди, которые этому содействовали.
Так как в конечном пункте полного применения познавательной способности, ради ее собственного процветания даже в теоретических познаниях, все таки необходим разум, который дает правила, по которым только и можно содействовать познанию,—то притязания, которые делает в этом направлении разум, можно выразить в трех вопросах, соответствующих трем его различным способностям.
Чего я хочу? (спрашивает рассудок) 1).
_________________________
1) Желание здесь понимается в теоретическом смысле: что я хочу утверждать, как верное.
91
Отчего это зависит? (спрашивает способность суждения).
Что из этого выйдет? (спрашивает разум).
Люди очень различны по способности давать ответ на каждый из этих трех вопросов.—Первый требует только ясной головы, чтобы понять самого себя; и это природное дарование при некоторой культуре встречается часто,—в особенности в том случае, если на это обращают внимание. Гораздо реже можно встретить меткий ответ на второй из этих вопросов, ибо представляются разнообразные виды определения предлежащего понятия и мнимого разрешения задачи;—где же тот единственный способ, который вполне соответствует данному случаю? (Это бывает в процессах или в подготовительных действиях для осуществления известного делового плана при одинаковой цели). В этом отношении обнаруживается иногда особый талант правильного выбора того, что наиболее пригодно в данном случае (judicium discretivum). А этот талант, насколько он желателен для всех, настолько же встречается редко. Адвокат, который приходит в суд с многими доказательствами, долженствующими подтверждать его заявление, очень затрудняет для судьи его приговор, ибо и сам то адвокат идет здесь ощупью; но если он, соответственно пониманию того, что он хочет, умеет угадать тот пункт (а такой пункт бывает только единственным), от которого все зависит,—то дело кончается скоро и приговор разума следует сам собою.
Разум—начало положительное; он разгоняет мрак невежества; способность суждения начало более отрицательное, предохраняющее от ошибок при том сумеречном освещении, в котором являются предметы. Разум затыкает источники ошибок (предрассудки) и таким образом дает рассудку уверенность в силу общности принципов.—Книжная ученость, хотя и расширяет познание, но не расширяет понятий и понимания там, где ей не помогает разум. Но ее надо отличать от мудрствования, от игры с простыми попытками применения разума без соблюдения его законов. Когда ставится вопрос, «следует ли мне верить в привидения»,—то я могу всевозможными способами мудрствовать по поводу возможности этого; но разум запрещает суеверия, т. е. возможность допускать существование чего-либо вне принципа объяснения явлений по законам опыта.
Благодаря огромному различию углов в способе смотреть на одни и те же предметы, насколько бы они не казались похожими друг на друга, природа, путем их взаимного трения и их разделения, дает крайне любопытный сценический спектакль перед наблюдателем и мыслителем, — спектакль бесконечно различных видов и родов. Следующие максимы (которые были уже указаны выше, как приводящие к мудрости) можно сделать незыблемыми законами для класса мыслителей:
1) Думать самому.
2) При мышлении (в сношениях с людьми) ставить себя на место каждого другого.
3) Всегда думать согласно с самим собою.
Первый принцип отрицательный (nullius addictus jurare in verba magistri), принцип свободы от внешнего гнета; второй положительный,
92
принцип свободного образа мышления, приспособляющегося к понятиям других; третий принцип последовательного (правильного по выводам) образа мышления; для каждого из них, — а еще больше для того, что им противоположно,—антропология может указать много примеров.
Самая серьезная революция во внутреннем мире человека—это «выход человека из той неправоспособности, в которой виноват он сам».—Вместо того, чтобы, как было доселе, позволять, чтобы за него думали другие, а он только подражал им и только шел за ними на помочах, теперь он решается на собственных ногах идти на почве опыта вперед, хотя бы еще и колеблющимся шагом.
93
ВТОРАЯ КНИГА.
Чувство удовольствия и неудовольствия.
Деление.
1) Чувственное, 2) Интеллектуальное удовольствие. Первое или А) через внешнее чувство (наслаждение), или В) через воображение (вкус); второе (именно интеллектуальное) или а) через представляемые понятия, или b) через идеи. Точно также представляется деление и противоположного удовольствию, т. е. неудовольствия.
О чувственном удовольствии.
А.
О чувстве приятного или чувственном удовольствии в ощущении
от предмета.
§ 58.
Наслаждение есть удовольствие, получаемое путем внешнего чувства; и то, что здесь дает нам удовольствие, называется приятным. Боль есть неудовольствие через внешнее чувство и то, что ее производит, неприятно. Они противопоставляются друг другу не только как приобретение или отсутствие чего-либо (+ и 0), но как приобретение и потеря (+ и —), т. е. не только как противоречие (contradictorie, sive logice oppositum), но и как противоположность (contrarie sive realiter oppositium). Выражения относительно того, что нравится или нe нравится и того, что находится между этими пунктами, т. е. безразличного, слишком общи и широки, ибо они могут относиться и к интеллектуальной деятельности, где они уже не совпадают с наслаждением и болью.
Эти чувства можно пояснить и посредством того действия, которое ощущение нашего состояния производит на душу. То, что непосредственно (через внешние чувства) побуждает меня оставить мое состояние (выйти из него), для меня неприятно, действует на меня болезненно; а то,
94
что побуждает меня сохранять это состояние (оставаться в нем), для меня приятно, доставляет мне удовольствие. Но мы все-таки неудержимо двигаемся в потоке времени и в соединенной с этим смене ощущений. Хотя выход из одного момента времени и вступление в другой есть один и тот же акт (смены), но все-таки в нашем мышлении при сознании этой смены есть временная последовательность, соответственная отношению причины и действия. Теперь спрашивается, что возбуждает в нас ощущение удовольствия, сознание ли оставления настоящего состояния, или перспектива вступления в будущее? В первом случае это наслаждение представляет из себя только прекращение болезненных ощущений и есть нечто отрицательное; во втором оно было бы предчувствием чего то приятного, следовательно, увеличения состояния удовольствия и, значит, было бы чем-то положительным. Но уже заранее можно угадать, что бывает исключительно только первое, ибо время влечет нас от настоящего к будущему (а не наоборот); и причиною нашего приятного ощущения может быть только то, что мы вынуждены выйти из настоящего состояния без всякого определения того, в какое другое мы должны войти, с тем только непременным условием, что это второе всегда должно быть другим.
Наслаждение есть ощущение подъема жизни, а боль — ощущение ее затрудненности. Но жизнь (животного), как уже заметили и врачи, представляет из себя беспрерывную игру антагонизма между тем и другим фактором.
Следовательно, всякому удовольствию должно предшествовать страдание; таким образом страдание есть нечто первое. Ибо что могло бы возникнуть из беспрерывного повышения жизненной силы, которое все-таки не может подняться выше известной ступени, что могло бы возникнуть другого, кроме быстрой смерти от радости?
Ни одно удовольствие не может следовать непосредственно за другим, но между одним и другим всегда должно найти себе место страдание. Небольшие задержки жизненной силы с промежуточными моментами ее повышения создают наше здоровое состояние, которое мы ошибочно считаем за беспрерывное благосостояние; оно будто бы так и ощущается нами, тогда как на самом деле оно состоит только из приятных ощущений, в обратном порядке (всегда с промежуточными моментами страдания) следующих друг за другом. Страдание это жало для нашей деятельности и только в нем мы чувствуем нашу жизнь; без него наступило бы состояние безжизненности.
Страдания, которые проходят медленно (как постепенное выздоровление от болезни или медленное возвращение затраченного капитала), не имеют своим следствием живого удовольствия, ибо здесь переход незаметен. Эти положения графа Вери я подписываю с полным убеждением.
Объяснение примерами.
Почему игра (главным образом на деньги) так занимательна и, если даже она не основана на жажде приобретения, представляет лучшее
95
развлечение и освежение после продолжительного и напряженного мышления? Потому, что при абсолютной бездеятельности мы отдыхаем очень медленно, а игра есть состояние беспрерывной смены страха и надежды. Обед после игры вкуснее и приятнее. — Почему драматические произведения будут ли это трагедии или комедии, так интересны? Потому что во всех таких произведениях, между надеждою и радостью, появляются некоторые затруднения, опасения и тревоги и таким образом к концу произведения борьба между двумя противоположными аффектами содействует у зрителя подъему жизненной силы, так как внутренним образом приводит его в движение. — Почему любовный роман оканчивается всегда свадьбою и почему так пошло и противно действует на нас всякий добавочный к нему том (как в Фильдинге), который прибавляет рука издателя, чтобы продолжать роман и в браке? Потому что ревность, как горе влюбленных, среди их радостей и надежд, до брака является для читателя приправою, а в браке это яд; и еще потому что «конец, говоря языком романов, страданий любви вместе с тем и конец любви» (само собою разумеется — соединенной с аффектом). — Почему работа лучший способ наслаждаться жизнью? Потому что это не легкое (само по себе неприятное и приятное только по результатам) дело и при ней покой через простое прекращение продолжительного напряжения превращается в заметное удовольствие, в чувство радости, а без работы этот покой ничего отрадного в себе не заключает. — Табак (как курительный, так и нюхательный) прежде всего соединяется с неприятным ощущением. Но именно потому, что природа (путем выделения слизи из гортани и из носа) мгновенно устраняет это страдание, табак (главным образом курительный) заменяет до некоторой степени общество, дает известное развлечение и каждый раз новый подъем ощущений и даже мыслей, хотя эти последние в данном случае бывают очень неопределенными. — Кого же, наконец, не может побудить к деятельности никакое положительное страдание, на того действует отрицательное, т. е. скука, как отсутствие ощущений, которое человек, привыкший к их смене, обыкновенно замечает в себе, когда стремится наполнить чем-нибудь свои жизненные влечения; под ее влиянием он чувствует в себе стремление лучше сделать что-нибудь себе во вред, чем ничего не делать.
О скуке и развлечениях.
§ 59.
Чувствовать, что живешь, наслаждаться жизнью — это значит постоянно чувствовать побуждение выйти из настоящего состояния (которое, следовательно, должно быть так же часто возвращающимся страданием). Отсюда объясняется гнетущее, часто мучительное ощущение скуки для тех людей, которые привыкли обращать внимание на свою
96
жизнь и на свое время (для культурных людей 1). Этот гнет или это стремление оставлять каждый момент времени, в котором мы находимся, и переходить в следующий, торопит жизнь и, в конце концов, может вырасти до решения покончить с жизнью, ибо пресыщенный человек испытал все виды наслаждений и ничего нового для него уже не остается; так в Париже говорили о лорде Мордоне: «англичане вешаются, чтобы провести время». Отсутствие ощущений, когда мы его замечаем, возбуждает ужас (horrorvacui) и представляется как бы предчувствием медленной смерти, которая считается гораздо мучительнее, чем та, когда судьба быстро обрывает нити жизни.
Отсюда объясняется, почему возможность сократить время иногда отожествляется с удовольствием. Чем быстрее мы уходим от времени, тем свежее и оживленнее мы себя чувствуем. Так, если общество при увеселительной поездке в карете в течение трех часов было занято оживленным разговором, то в конце путешествия тот, кто заглянет на часы, обыкновенно весело говорит: «куда делось время?» — или «как незаметно прошли для нас эти часы?» Но если внимание к движению времени не было вниманием к нашему страданию, от которого мы всегда стремимся отделаться, а вниманием к нашему удовольствию, мы с полною справедливостью жалуемся на каждую минуту даром потерянного времени. Длинные разговоры, при которых бывает мало смены представлений, называются тягучими, и именно потому они тяготят нас; веселого и интересного человека мы всегда считаем если и не серьезным, то очень приятным; как только он входит в комнату, лица, всех гостей проясняются, как это всегда бывает в минуты радости при освобождении от чего-нибудь скучного и утомительного.
Но как объяснить то явление, что человек, который большую часть своей жизни томился от скуки, так что каждый день ему казался слишком длинным, в конце жизни жалуется на краткость жизни? Причину этого надо определять по аналогии с другими подобными явлениями. Почему немецкие (не меренные и не снабженные цифрами, как русские версты) мили, чем ближе к главному городу (например к Берлину), становятся тем короче и чем дальше от него (в Померании), тем длиннее? Обилие видимых предметов (деревень и дач) оставляет в воспоминании ошибочное представление о большей продолжительности сделанного пути, следовательно и большей продолжительности необходимого для этого времени; но отсутствие этих впечат-
_____________________
1) Караибы, в виду прирожденной им безжизненности, свободны от этого мучительного состояния. Они могут целыми часами сидеть с удочками в руках, хотя бы и без всякого улова; отсутствие мышления это отсутствие побуждения к деятельности; мышление всегда приносит с собою страдание, от которого деятельность и освобождает. Наша читающая публика с утонченными вкусами, благодаря периодическим листкам, всегда имеет не только аппетит, но и положительный голод на чтение (один ив видов ничего неделания), — не для того, чтобы содействовать своей культуре, но для того, чтобы развлекаться, так что голова при этом остается всегда пустою и нельзя опасаться пресыщения. Этим мнимо-деловой праздности люди дают вид работы и, по-видимому, тратят свое время достойным образом, хотя эта трата ничем не лучше, чем просматривание «Журнала роскоши и мод».
97
лений в последнем случае оставляет мало воспоминаний о том, что встретилось на пути и, следовательно, тогда кажется, будто бы дорога была короче, а значит, времени прошло меньше, чем показывают часы. Точно также множество отделов, которые отмечают последний период жизни разнообразными и переменными работами, возбуждают старика представление о том, что будто бы он прожил гораздо больше времени, чем это выходит по счету лет; наполнение времени непрерывною и размеренною деятельностью, которая имеет в виду великую, заранее намеченную цель (vitam extendere factis), это единственное средство быть довольным жизнью и вместе с тем чувствовать себя сытым ею. «Чем больше ты думал, чем больше ты делал, тем больше ты жил (даже в твоем собственном воображении)». Такое окончание жизни обыкновенно дает человеку удовлетворение.
Но в каком положении стоит дело с полным удовлетворением (acquiescentia) в процессе жизни? Для человека оно не достижимо, ни в моральном (довольство собою в добром поведении), ни в прагматическом отношении (довольство своим благосостоянием, которое он создать надеется посредством ума и ловкости). Природа, из страдания для человека сделала побуждение к деятельности и он никогда не может перестать стремиться все к лучшему и лучшему, даже в последние моменты жизни удовлетворение ее последним периодом можно назвать только сравнительным (отчасти потому, что мы сравниваем свой жребий с жребием других людей, а отчасти и с своею собственною природою). Оно никогда не бывает чистым и полным. Быть в жизни (абсолютно) довольным, это признак бездеятельного покоя, остановки всех побуждений к деятельности или притупления ощущений и соединенной с этим деятельности. Но такое состояние точно так же не совместимо с интеллектуальною жизнью человека, как и остановка жизни в животном организме, за которою, если не явится (путем страдания) нового возбуждающего средства, неизбежно следует смерть.
Примечание. В этом отделе следует говорить об аффектах, только как о чувстве удовольствия и неудовольствия, которое переходит за границу внутренней свободы человека. Но, так как эти аффекты часто смешиваются со страстями, о которых речь будет в другом отделе, а именно в отделе о способности желания, и так как они стоят в близком родстве с последними, то исследование их мы отлагаем до этого третьего отдела.
§ 60.
Постоянно обнаруживать веселое настроение — это в большинстве случаев особое свойство темперамента; но иногда оно может быть следствием и принципов; таков принцип наслаждения Эпикура. Такое название было дано этому принципу другими и вызвало впоследствии шумные споры и обвинения, хотя на самом деле оно собственно
98
должно обозначать только всегда веселое сердце мудреца. Уравновешен тот, кто не радуется и не скорбит; его надо очень отличать от того человека, который, благодаря случайностям жизни, стал равнодушным, т. е. нечувствительным к жизни, т. е. утратил свежесть чувства. От равнодушия отличается причудливое, капризное (launische) предрасположение нашей чувственной природы (можно думать, что оно первоначально называлось лунатическим, lunatisch), которое представляет из себя склонность данного субъекта к быстрым приливам радости или печали, относительно причины быстрой смены которых сам субъект не может дать никакого объяснения; это бывает чаще всего с ипохондриками. Это свойство надо отличать от причудливого таланта (Бутлера или Штерна), когда автор сознательно в превратном виде представляет то положение, в каком его остроумие рисует предметы (как бы ставит их вниз головою), и с лукавою простотою предоставляет читателю удовольствие самому поправить все дело. Впечатлительность не есть нечто противоположное равнодушию, ибо эта способность вытекает из энергии нашего духа, из возможности как допускать в сознание состояния удовольствия и неудовольствия, так и не допускать их; следовательно, при ней возможен выбор. Но сентиментальность это уже слабость, способность пассивно предаваться внешним воздействиям вопреки своей воле, в силу симпатии к состоянию другого человека; при этом внешние воздействия как бы могут играть на внешних органах данного субъекта по своему произволу. Первое свойственно и мужчине, ибо мужчина, который хочет оградить от всевозможных затруднений или опасностей женщину или ребенка, должен иметь в себе настолько тонкости чувства, насколько это нужно, чтобы судить об ощущении других людей не по своей силе, но по их слабости, и эта нежность чувства нужна для его великодушия. Напротив, бездеятельное участие, при некотором подъеме чувства, которое звучит в один тон с чувством другого и, так сказать, отдается внешним впечатлениям только пассивно, представляет из себя нечто детское и бессильное. Таким образом можно и должно обнаруживать набожность, сохраняя ясное и хорошее настроение души; можно и должно исполнять трудную, но необходимую работу в таком же хорошем настроении; и даже в таком же хорошем настроении надо и умирать, ибо все это теряет свое достоинство, если совершается в дурном настроении или с чувством ворчливого неудовольствия.
Когда человек подвергается такому страданию, о котором уже заранее можно сказать, что оно может кончиться только смертью, то говорят, что данный субъект сокрушается о чем-то (о своей беде). — Но не следует этим омрачать свое сознание, ибо то, чего нельзя изменить, надо выбросить из головы; было бы нелепостью тосковать о том, чтобы совершившееся не совершалось. Исправлять себя самого это нужно; и это наш долг; но было бы бессмысленно желать улучшить то, что лежит, вне нашей власти. — Но брать что-нибудь близко к сердцу, — здесь имеется в виду каждый добрый совет и каждое доброе наставление, которое кто-нибудь склонен признать и с твердою решимостью
99
осуществить в жизни — это вполне разумное направление мышления, цель которого соединить свою волю с достаточно сильным чувством для выполнения своей цели. — Покаяние человека, подвергающего себя добровольным мукам, вместо того, чтобы быстро изменить свое нравственное настроение и перейти к лучшему образу жизни, — это даром потерянный труд; кроме того, оно имеет еще и то дурное следствие, что этим путем (через покаяние) человек считает список своих грехов уничтоженным и таким образом в данное время отказывается от удвоенного стрeмления к совершенствованию, что при разумном отношений к делу он должен был бы делать.
§ 61.
Есть один вид наслаждения, который в тоже время содействует, и культуре человека; — при этом возникает сознание, что наша способность получать удовольствие и наслаждаться этим видом впечатлений у нас увеличивается; такое удовольствие мы получаем от наук и изящных искусств. — Нечто противоположное этому есть истощение (пресыщенность), которое делает нас все менее и менее способными к дальнейшему наслаждению. Каким же путем следует искать наслаждение? Как сказано было выше, здесь имеет все свое значение та главная максима, что надо соразмерять наслаждение таким образом, чтобы оно всегда могло подниматься и идти выше. Пресыщенность в наслаждении производит такое отвратительное состояние духа, что у подобных людей самая жизнь становится в тягость. — Молодой человек (я повторяю), — люби свою работу, отказывайся от наслаждений, — не для того чтобы отречься от них совсем, но для того, чтобы, насколько это возможно, всегда иметь их пред собою в виду — не притупляя восприимчивости к ним посредством слишком раннего употребления. Зрелый возраст, который никогда не знает сожаления об ограничении каждого из видов физического наслаждения, даже в этом самоограничении обеспечит себе такой капитал для довольства, который не зависит от случайности или от физического закона.
§ 62.
Но мы судим о наслаждении или страдании с точки зрения более высокого или самоудовлетворения, или недовольства собой (именно морального); и с этой точки мы должны решить, следует ли нам отклоняться от них или мы можем ими воспользоваться.
1) Предмет может быть приятным, но наслаждение им может нам не нравиться. — Отсюда выражение «горькая радость». — Тот, кто при стесненных условиях жизни получает наследство после своих родителей или после какого-нибудь почтенного и доброго родственника,
100
правда, не может избежать чувства некоторой радости по поводу их смерти; но, конечно, он не должен эту радость обнаруживать. Тоже самое происходит и в душе адъюнкта, который с нелицемерною печалью следует за траурною колесницею своего предшественника.
2) Предмет может быть неприятным, но страдание, причиняемое им, может нравиться. — Отсюда выражение «сладкая скорбь». Например, когда вдова, оставленная мужем не без средств, все-таки не хочет утешиться в своей потере. Часто это объясняется совершенно несправедливо, как аффектация.
Ноудовольствие может нравиться и еще с другой стороны, а именно в силу того, что человек находит нечто приятное в таких предметах, заниматься которыми делает ему честь; таково, например, увлечение изящными искусствами, если это заменяет данному человеку все чувственные наслаждения; при этом человек находит для себя самоудовлетворение и в том, что он, как тонкий человек, способен к такому виду наслаждений. — Точно также страдание человека может мучить его еще и другим способом. Всякая ненависть оскорбленного человека всегда есть страдание; но вдумчивый человек все-таки не может не сознавать, что и в случае удовлетворения его чувства в нем навсегда останется злоба против оскорбителя.
§ 63.
Удовольствие, которое достигается своими усилиями (закономерно), чувствуется вдвойне, — во-первых, как выигрыш, и кроме того, как заслуга (внутреннее сознание, что человек сам был виновником своей удачи). — Заработанные деньги доставляют больше удовольствия, или, по крайней мере, это удовольствие бывает продолжительнее, чем, то, которое дают нам деньги, выигранные в карты; если даже и не обращать внимания на всеми признанные дурные стороны лотереи, все-таки в каждом приобретении этим путем заключается нечто такое, чего всякий человек должен стыдиться. — Несчастье, в котором виноват кто-нибудь другой, доставляет страдание; но это же страдание, если кто-нибудь сам в нем виновен, омрачает и унижает человека.
Но каким образом надо объяснять или понимать то, что при каждом страдании, которое кто-нибудь испытывает по вине других, говорят обыкновенно таким двойственным языком? — Так один из пострадавших говорит: «я был бы более доволен, если бы с моей стороны в этом была хоть малейшая вина»; — другой говорит: «мое утешение в том, что в этом на мне нет ни малейшей вины». — Страдание при невинности страдающего приводит в гнев, ибо это оскорбление со стороны другого. — Страдать по своей вине — это унижает человека, так; как это сопровождается внутренним укором. Легко видеть, что из двух этих людей первый, т. е. страдающий безвинно, — как человек, лучше.
101
§ 64
Во всяком случае нельзя считать за очень лестное для людей то наблюдение, что их удовольствие возвышается путем сравнения с страданиями других людей и что их страдание уменьшается при сравнении с такими же или еще большими страданиями их ближних. Но это явление чисто психологического характера (по закону контраста, — opposita juxta se posita magis elucescunt) и не имеет никакого отношения к моральной области, т. е. к тому, что желать бы страданий кому-нибудь другому, чтобы тем лучше почувствовать свое собственное благополучие. Путем воображения можно страдать вместе с другими (так, если кто-нибудь, потеряв равновесие, близок к падению, другие непроизвольно и осторожно пытаются нагнуть весы в противоположную сторону, чтобы поставить его прямо) и при этом, радоваться тому, что не попали в точно такие же условия 1). Поэтому народ с большим удовольствием сбегается, чтобы посмотреть на проводы преступника к месту казни и на самую казнь, как на зрелище. Душевные движения и чувства, которые выражаются в чертах лица и жестах осужденных, действуют на зрителей симпатически и после того испуга, который они возбуждают, действуя на воображение (а сила его возвышается еще торжественностью обстановки), остается легкое, но достаточно заметное чувство прекращения напряженности; а это в свою очередь подчеркивает и выдвигает следующее за этим чувство — наслаждения жизнью.
Но и страдание становится более сносным, когда его сравняют со страданиями какого-либо другого человека, применяя его в себе. Тот, у кого сломана нога, может легче примириться со своим несчастием, когда ему докажут, что при этом он мог бы сломать себе и затылок.
Самое основательное и самое легкое средство успокоить страдание — это та мысль, которую можно предполагать у каждого разумного человека, а именно, что жизнь вообще, поскольку дело касается наслаждения ею, — а это зависит от случайных обстоятельств, — не имеет собственно никакой цены; имеет значение только в том, на что она направлена, какие цели поставлены перед нею; а в этом направлении случай уже ничего сделать не может, и все делает только мудрость человека; здесь все в его власти. Тот никогда не будет радоваться жизни, кто боязливо тоскует о возможности ее утраты.
__________________
1) Suave mari magno turbantibus aequora ventis
E terra alterius magnum spectare laborem.
Non quia vexari quenquam est jucunda voluptas,
Sed quibus ipse malis careas, quia cernere suave est!
Lucret.
Сладко смотреть с берега на тяжелую борьбу других в открытом море при разъяренных ветрах, — не потому, что бы чужое страдание было приятно, но приятно смотреть на это потому, что сами мы свободны от этих опасностей
102
В.
О чувстве прекрасного, т. е. отчасти o чувственном, отчасти об интеллектуальном удовольствии в рефлектирующем созерцании, или o вкусе.
§ 65.
Вкус в строгом смысле этого слова — это, как уже выше было сказано свойство одного органа — языка, гортани и глотки — получать специфические внешние воздействия от известных элементов при пище или питье. Это свойство в его применении надо понимать или только как способность различения, или же как гастрономический вкус (например, сладко ли что-нибудь или горько; а с другой стороны, приятно ли то, что едят, — как сладкое, так и горькое). Первый можно понимать, как общее согласие всех в том, как надо называть известные продукты; последний же никогда не дает такого суждения, которое имело-бы всеобщее значение, например такое, что то (скажем горькое), что приятно мне, точно так же должно быть приятным и всякому другому. Причина этого ясна, ибо удовольствие или неудовольствие относится не к познавательной способности в ее отношении к объекту, а только к определению субъекта; следовательно, эти чувства не могут иметь применения ни внешним предметам; гастрономический вкус, следовательно, заключает в себе и понятие о различии вкусовых ощущений только по приятности или неприятности, которое я соединяю с представлением о предмете восприятия или воображения.
Но слово вкус употребляется и для чувственной способности определять что-либо не только соответственно чувственным ощущениям для меня самого, но и по определенному правилу выбора, — такому правилу, которое представляется имеющим значение для каждого. Это правило может быть эмпирическим; в таком случае оно отнюдь не может иметь притязания на действительную всеобщность, а отсюда и на необходимость (будто бы суждение всякого другого в деле вкуса должно совпадать с моим собственным). Так, одним из правил вкуса в распределении обеда у немцев является правило начинать с супа, а у англичан с жаркого; здесь привычка, которая, благодаря подражанию, постепенно распространилась повсюду, стала правилом для всякого обеденного меню.
Но бывает и такой вкус, правила которого должны быть обоснованы apriori, ибо они заключают в себе необходимость, следовательно, значимость для каждого, — в том отношении, в каком следует ценить представление о предмете со стороны доставляемого им чувства удовольствия или неудовольствия (где, следовательно, и разум потихоньку замешан в игру, хотя его суждения здесь выводятся не из его принципов и не могут быть указаны соответственно им); и этот вкус можно называть рассуждающим в отличие от эмпирического,
103
как чувственного вкуса (первый gustus reflectens, — второй gustus reflexus).
Всякое проявление своей собственной персоны или своего искусства, как проявление вкуса, предполагает общественные формы жизни (общение с другими); а общество не всегда было общительным, не всегда принимало участие в радостях другого; в начале оно обыкновенно бывало варварским, необщительным и основываюсь только на взаимном соперничестве. При полном одиночестве никому не придет в голову убирать или украшать свой дом; и человек делает это не ради своих домашних, — жены и детей, — но только ради людей посторонних, чтобы показать себя перед ними с выгодной стороны. При наличности вкуса (при выборе), т. е. в эстетической способности суждения, наше наслаждение данным предметом возбуждает уже не непосредственное ощущение (материальная сторона представления о предмете) а то, как при помощи творчества свободное продуктивное воображение объединяет его в нечто целое, т. е. форма, ибо только форма может иметь притязание служить общим правилом для чувства удовольствия. Такого общего правила нельзя ожидать от чувственного ощущения, которое может быть очень различным, соответственно различию чувственной способности каждого данного субъекта. Следовательно, вкус можно объяснять таким образом: вкус есть способность эстетической способности суждения делать выбор, имеющий всеобщее значение.
Следовательно, это способность общественной оценки внешних предметов в воображении. Здесь душа сознает свою свободу в игре образов воображения (следовательно, в чувственности), — ибо общение с другими людьми уже предполагает свободу; и это чувство есть чувство удовольствия. Но всеобщая значимость этого удовольствия для каждого, в силу которой выбор на основании вкуса (т. е. выбор прекрасного) отличается от выбора на основании только чувственного ощущения того, что нравится исключительно субъективно, (т. е. выбор приятного), вводит с собою уже понятие о законе, ибо только соответственно закону обязательность наслаждения может стать всеобщею для каждого, кто высказывает суждение. Но способность представления всеобщего есть рассудок. Следовательно, суждение вкуса это и эстетическое, и рассудочное суждение, но мыслимое только в их соединении (последнее, значит, здесь уже не чистое суждение). Оценка предмета путем вкуса — это суждение о соответствии или несоответствии свободы в игре воображения с закономерностью рассудка; здесь дело, следовательно, идет только о форме (этой соединимости чувственных представлений), чтобы судить о предметах эстетически, а не о том, чтобы создавать продукты, на которых эта форма воспринимается; для последнего часто требуется гениальность, разнузданная живость которой умеряется и ограничивается культурою вкуса.
Прекрасное — это нечто такое, что относится исключительно к вкусу; а возвышенное, хотя и относится к эстетическому суждению, не относится к вкусу. Во всяком случае, представление о высоком может и должно быть само по себе прекрасным; в противном случае оно будет грубым, варварским и не изящным. Изображение даже
104
злого и отвратительного (например, образ олицетворенной смерти у Мильтона) может и должно быть прекрасным, хотя бы это был сам Терсит, раз только предмет должен быть представлен эстетически; иначе оно вызывает или чувство полной безвкусицы, или отвращение; а это возбуждает в нас стремление оттолкнуть от себя данное представление, которое дается нам собственно ради художественного наслаждения; а прекрасное вводит с собою понятие о нашем стремлении к самому интимному соединению с предметом, т. е. к самому непосредственному наслаждению им. Словами прекрасная душа говорится все, что только можно сказать для того, чтобы сделать ее целью нашего стремления для полного общения с такою душою, ибо величие души и ее сила касаются ее материи (как орудия для известных целей); а душевная доброта есть чистая форма, в которой должны объединиться все цели, и которая поэтому там, где она встречается, подобно мифологическому Эросу, является чем-то первоначальным, первотворческим и неземным; — эта душевная доброта и есть тот центр, около которого вкусовое суждение собирает все свои суждения относительно чувственного удовольствия в его соединении с свободою рассудка.
Примечание. Каким образом могло случиться, что главным образом новейшие языки способность эстетического суждения обозначают словом «вкус» (gustus, sapor), которое указывает только на известное орудие внешних чувств (внутреннюю полость рта) и отмечает как различие внешних предметов, так и выбор съедобных вещей? Нет никакого другого положения, когда чувственность и рассудок в моменте наслаждения соединялись бы так надолго и могли бы повторяться не без удовольствия так часто, как хороший обед в хорошем обществе. Но на обед здесь надо смотреть только как на средство для того, чтобы занять общество. Эстетический вкус хозяина дома сказывается здесь в искусстве выбирать то, что может понравиться всем; но этого он не может достигнуть только путем собственных внешних чувств, ибо, может быть, его гости выбрали бы другие блюда и другие напитки, каждый по своему личному вкусу. Таким образом, свое искусство он полагает в разнообразии, именно в том, чтобы каждый мог найти что-нибудь по своему собственному вкусу; это то и является сравнительною общею значимостью его вкуса. В настоящем случае не может быть и речи об его искусстве подбирать даже гостей для общего и взаимного удовольствия (а и это можно было бы назвать вкусом, собственно разумом в его применении к вкусу, хотя разум от вкуса и отличен). Таким образом, органическое чувство, приуроченное к особому определенному органу, могло дать название для идеального выбора вообще, а именно для чувственного выбора, имеющего значение для всех. Еще страннее то обстоятельство, что испытание путем внешнего чувства того, есть ли нечто предмет наслаждения (sapor) для одного и того же субъекта (а не того, чтобы выбор имел всеобщее значение), или нет, могло подняться даже до того, что стало названием мудрости (sapientia); это произошло предположительно потому, что безусловно необходимая цель требует не только размышления и испытания, но входит в душу непосредственно, как бы путем вкушения того, что подается.
105
§ 66
Высокое (sublime) есть величие, возбуждающее благоговение (magnitudo reverenda), которое по объему или но степени приближения к нему (чтобы сделать его соразмерным с своими силами) манит нас к себе; а страх оказаться в сравнении с ним ничтожным, даже в своей собственной оценке, вместе с тем отталкивает нас (например, гром над нашею головою или высокие дикие горы); при этом, если наблюдатель сам находится в безопасности, то напряжение его сил, чтобы охватить явление, и опасение, что сил не хватит, чтобы обнять его во всем объеме, возбуждает удивление (приятное чувство, достигаемое путем беспрерывной победы над страданием).
Высокое представляет противовес, но не контраст прекрасному, ибо стремление и попытка подняться до восприятия (apprehensio) предмета возбуждает у субъекта чувство своего собственного величия и силы; но умственное представление о нем в его описании или в изображении может и всегда должно быть прекрасным. Иначе удивление вызывало бы в нас испуг, а это очень отличается от того удивления, как эстетическаго состояния, при котором мы не можем насытиться созерцанием предмета нашего удивления.
Великое, которое противно цели (magnitudo monstcosa), есть чудовищное. Поэтому те писатели, которые хотят прославить огромный простор русского государства, не достигают цели, когда называют его чудовищным, ибо в этом выражении заключается и доза порицания, как будто бы оно слишком велико для одного властителя. Искателем приключений называют того человека, который имеет склонность впутываться в такие обстоятельства, простой перечень которых напоминает роман.
Высокое, следовательно, хотя оно и не предмет для вкуса, предмет для чувства трогательного, во всяком случае художественное изображение его в описании или в воплощении (при частностях и раrerga) может и должно быть прекрасным, ибо иначе оно будет диким, грубым и отталкивающим, а значит и противным истинному вкусу.
Вкус имеет тенденцию внешним образом содействовать моральности.
§ 67.
Вкус (как формальное чувство) сводится к сообщению своего чувства удовольствия или неудовольствия другим и представляет способность уже путем этого сообщения испытывать удовольствие и переживать наслаждение (complacentia) вместе с другими (в обществе). Это то наслаждение, которое можно рассматривать не только как имеющее значение для чувствующего субъекта, но и для каждого другого, т. е.
106
как имеющее всеобщую значимость, ибо оно а priori должно заключать в себе необходимость (этого наслаждения), значит и ее принцип, чтобы его можно было мыслить, как такое наслаждение в соответствии удовольствия субъекта с чувством каждого другого по одному всеобщему закону, которое должно истекать из общего законодательства чувствующего субъекта, —значить, из разума; т.е. выбор, соответственно этому удовольствию, по своей форме стоит под принципом долга. Следовательно, идеальный вкус имеет тенденцию оказывать внешнее содействие моральности. Делать людей более приличными в их общественных сношениях, хотя еще и не значит делать их нравственно добрыми (моральными), но все-таки значит подготовлять их к этому путем стремления нравиться в своем положении и другим. (Стремление к тому, чтобы нас любили и нам удивлялись). — С этой стороны вкус можно назвать моральностью в ее внешнем проявлении, хотя это выражение, взятое по его букве, заключает в себе противоречие, ибо культурность заключает в себе внешний вид нравственно-доброго и полагает некоторую ценность уже во внешних признаках морально-доброго.
§ 68.
Быть культурным, приличным, изящным, полированным (путем удаления всякой шероховатости) — это только отрицательные условия вкуса. Представление этих свойств в воображении может быть внешним интуитивным способом представления предмета или своей собственной особы в условиях вкуса, но только для двух внешних чувств — для слуха и для зрения. Музыка и образовательные искусства (живопись, скульптура, архитектура, садоводство) имеют претензию на вкус, как на восприимчивость к чувству удовольствия в простой форме внешнего созерцания, — музыка по отношению к слуху и образовательные искусства по отношению к зрению. Но дискурсивный способ представления путем громкой речи или путем письма дает два искусства, в которых может обнаружиться вкус, — это именно красноречие и поэзию.
Антропологические заметки о вкусе.
А.
О модном вкусе.
§ 69.
Это естественная склонность человека: — в своем поведении сравнивать себя с кем-либо более значительным (ребенок с взрослыми, простые люди с более знатными) и подражать его манерам. Закон этого подражания —стремление казаться не менее значительным, чем
107
другие, и притом в том, что не имеет никакого отношения к пользе и выгоде, —называется модою. Мода, следовательно, относится к рубрике суетности, так как в ее стремлениях нет внутренней ценности; точно также она относится и к рубрике глупости, ибо в ней обнаруживается внешнее принуждение, готовность рабски руководствоваться только примером, который в обществе дают нам многие. Быть по моде — это будто бы обнаруживает вкус; быть вне моды, держаться старинных обычаев, называется старомодностью; того, кто всегда стремится быть вне моды, называют чудаком. И всегда лучше быть дураком по моде, чем дураком не по моде, — если только эту суетность вообще захотят называть этим суровым именем. Но погоня за модой, действительно, вполне заслуживает этого имени, когда этой суетности жертвуют реальною пользою или даже чувством долга. — Все моды, уже по самому их понятию, очень изменчивы и непостоянны. Если игра подражания фиксируется, то это становится уже обычаем, когда от вкуса уже ничего не зависит. Следовательно, именно новизна вводит в общество моду; быть изобретательным во всевозможных внешних формах, хотя эти формы представляют из себя нечто очень причудливое, а часто и отвратительное, — это один из признаков хорошего тона светских людей, главным образом дам, которым все другие жадно подражают; в низших классах общества эти моды треплются еще очень долго после того, как они уже отменены в высших. Моды, следовательно, собственно не дело вкуса (ибо они могут быть в высшей степени противными вкусу), но дело только суетности и чванства, а также и соперничества, чтобы в этом превзойти друг друга. (Так называемые elegants de la cour, petits-maitres—это вертопрахи).
Правда, великолепие — значит нечто высокое, что вместе с тем и прекрасно может уживаться с истинным идеальным вкусом (как чудное звездное небо или, если это звучит не слишком противно, как собор Св. Петра в Риме). Но пышность, хвастливая выставка на показ всем, хотя и может иногда соединяться со вкусом, но не без сопротивления со стороны последнего, ибо пышность рассчитана на большую публику, в которой немало и черни, вкус которой, как тупой и неразвитый, больше требует чувственных впечатлений, чем эстетических.
В.
О художественном вкусе.
Я буду рассматривать здесь только словесное искусство, — именно красноречие и поэзию, — ибо оно рассчитано на такое душевное настроение, посредством которого душа непосредственно побуждается к деятельности; таким образом оно имеет свое место в прагматической антропологии, где человека изучают в том, что можно из него сделать.
Тот принцип души, который оживляется посредством идей, на-
108
зывают обыкновенно духом. — Вкус это только регулятивная эстетическая способность для оценки формы при соединении разнообразного в воображении; но дух — это продуктивная способность разума, способность давать образец для этой формы воображения а priori. Дух и вкус – первый, чтобы создавать идеи, второй, чтобы ограничивать их ради формы, соразмеренной с законами продуктивного воображения, и таким образом нечто создавать (fingendi) первоииачально (не путем подражания). Произведение, обнаруживающее и дух, и вкус, можно назвать поэзиею вообще; это продукт изящных искусств; оно может быть непосредственно дано внешним чувствам путем глаз или уха и тогда будет называться творческим искусством (poetica in sensu lato); оно может быть искусством живописи, садоводства, архитектуры, музыки и стихотворства (poetica in sensu stricto). — Но поэзия в противопоставлении красноречию отличается от последнего только по взаимному соподчинению рассудка и чувственности, так что первая упорядочивает игру чувственности через рассудок, а второе оживляет работу рассудка чрез чувственность; оба, — как оратор, так и поэт (в широком смысле), — творцы, и сами из себя создают новые образы (комбинации чувственных представлений) в своем воображении1). Так как поэтический дар, — это художественное искусство в соединении с формами вкуса, — есть талант к изящным искусствам, которые отчасти сводятся к обману (хотя и сладкому, часто даже косвенным путем спасительному), то вполне естественно, что в жизни он находит большее (а часто и вредное) применение. Поэтому стоит труда затронуть несколько вопросов и сделать несколько замечаний о характере поэта и о том влиянии, которое его труд оказывает на него самого и на других2). Почему среди изящных (словесных) искусств поэзия при одинаковости целей имеет преимущество перед красноречием? — Потому что вместе с тем это и музыка, нечто певучее, т.е. те звуки, которые и сами по себе приятны, чего не бывает в простом разговоре. Даже красноречие заимствует от поэзии те звуки, ко-
__________________________
1) Новизна в изображении понятия — это главное художественное требование от поэта, хотя для этого само понятие и не должно быть новым. — Но для рассудка (независимо от вкуса) существуют следующие выражения, чтобы отметить расширение наших познаний через новые восприятия. Открыть что-нибудь — это в первый раз воспринять то, что уже было, например Америку, магнетическую силу, направляющуюся к полюсу, воздушное электричество. Изобрести что-нибудь — сделать то, чего еще никогда не было (например, компас, аэростат). — Отыскать что-нибудь — это найти потерянное путем новых розысков. — Измыслить или придумать — например, орудие для художника или машину. — Вымыслить нечто — это сознательно представить нечто неверное как верное, что бывает в романах, хотя только ради забавы:
Torpiter atrum
Desinit in piscem mulier formosa superne.
Horat.
Внизу безобразно переходит в черную рыбу женщина, прекрасная сверху.
2) Здесь в первом издании стояли следующие слова, которые в сущности представляют из себя только повторение примечания к § 55: „Монах Шварц мог первым открыть сущность пороха, когда он стал разлагать его на составные части, путем щелочения, накаливания и т. п.; но он его не изобрел, так как порох был в ходу задолго до него, еще при осаде Алгезираса“.
109
торые приближаются к музыкальности, т.е. ударения, без которых речь была бы лишена необходимых промежуточных моментов покоя и оживления. Но поэзия имеет преимущество не только перед красноречием, но и перед каждым другим изящным искусством, — перед живописью (к которой надо отнести и ваяние) и даже перед музыкою; ибо последняя только потому изящное (а не просто приятное) искусство, что она пользуется поэзиею, как своим орудием. Но среди поэтов бывает меньше поверхностных (непригодных к делу) умов, чем среди музыкантов, ибо первые все-таки говорят рассудку, а вторые только органам внешних чувств. — Хорошее стихотворение — это самое острое средство для оживления духа. — Не только для поэтов, но и для всех представителей изящных искусств имеет значение то правило, что для искусства надо родиться; этого никогда нельзя достигнуть путем прилежания и подражания; точно так же верно и то, что художник для полного успеха своей работы нуждается еще в моментах счастливого настроения духа, как бы в моментах какого-то внушения (поэтому то его и называют vates), ибо то, что делается по рецепту и правилу, бывает бездушным (рабским), а продукт изящных искусств требует не только вкуса, который может возникнуть на почве подражания, но и оригинальности мысли; а это уже называется духом, как начало, творящее из себя самого. Живописец природы, — с кистью или пером в руках, с последним как в прозе, так и в стихах, — это еще не настоящий художник, потому что он только подражает; истинный мастер в изящных искусствах — это живописец идей.
Почему под поэтами обыкновенно понимают только стихотворцев, т.е. пользующихся такою речью, которая скандуется (подобно музыке произносится по тактам)? Потому что поэт, предлагая произведение изящного искусства, выступает с такою торжественностью, что оно должно удовлетворять даже самому тонкому вкусу (по форме), ибо иначе оно не было бы прекрасным. Но, так как эта торжественность особенно требуется для изящного представления высокого, то подобная аффектированная торжественность без стихов (у Гюго Блера) называется иногда «сумасшедшею прозою». С другой стороны, стихотворство еще не поэзия, если оно лишено духа.
Но почему рифма в стихах поэтов новейшего времени, если она счастливо замыкает мысль, представляет такое серьезное требование вкуса в наших частях света? И почему, с другой стороны, она производит неприятное впечатление, если встречается в стихотворениях древнего мира? Например, почему немецкие белые (нерифмованные) стихи нравятся мало, а латинские стихи Виргилия, снабженные рифмами, производят еще худшее впечатление? Вероятно потому, что у древних классических поэтов просодия была определенной, а в новейших языках в большинстве случаев ее нет и потому ухо, благодаря рифме, которая заключает стих созвучно с предыдущим, не испытывает неприятного впечатления. В прозаической торжественной речи рифма, случайно встречающаяся между другими фразами, кажется смешною.
Чем же объясняются те поэтические вольности, которые все-таки
110
недозволительны оратору, т.е. право время от времени делать промахи против законов языка? Вероятно тем, что законы формы не стесняют оратора до такой степени, чтобы он не имел возможности выразить всякую мысль в их пределах.
Но почему посредственное стихотворение положительно невыносимо, а посредственную речь все еще можно слушать? Причина этого, по-видимому, заключается в том, что торжественность тона в каждом поэтическом произведении возбуждает у слушателя большие ожидания, — и именно потому, что эти ожидания не исполняются, стихотворение считается еще хуже, чем этого оно могло бы заслужить по своему прозаическому содержанию.
То обстоятельство, что в старости поэтические ключи засыхают тогда как умный человек все еще пользуется добрым здоровьем в области наук и проявляет энергию в делах, конечно, объясняется тем, что красота — это цветок, а наука плод; т.е. поэзия должна быть свободным искусством, которое ради ловкости требует разнообразия, а в старости (и вполне справедливо) эта легкость мышления исчезает; далее, привычка продолжать научные занятия в том же самом направлении вместе с тем дает нам и легкость; следовательно, поэзия, которая для каждого из своих продуктов требует оригинальности и новизны (и для этого ловкости), — конечно, не вполне соответствует старости, хотя, конечно, и здесь она может проявляться в замысловатом остроумии, в эпиграммах и ксениях, где она представляется уже не столько игрою, сколько чем-то серьезным.
То обстоятельство, что поэты не создают такой карьеры, как адвокаты и другие профессиональные ученые, объясняется уже задатками того темперамента, который вообще нужен для прирожденного поэта; он именно склонен отгонять заботы, отдаваться игре воображения, направленной на общие темы. Но то свойство поэта, которое касается его характера, а именно то, что в сущности он не имеет никакого характера, но бывает непостоянным, прихотливым и (без злости) человеком ненадежным, — при полном добродушии создает себе врагов, не питая ни к кому ненависти, — едко насмехается над друзьям, отнюдь не желая причинить им зло, — объясняется особенностями его причудливого остроумия, отчасти прирожденного, которое подчиняет себе его практическую способность суждения.
О роскоши.
§ 70.
Роскошь (luxus) — это чрезмерное изобилие внешнего благоустройства в обычной жизни (что, следовательно, противоречит простой зажиточности), обнаруживающее присутствие вкуса. Этот же избыток, но без вкуса, называется безвкусной пышностью (luxuries). Если оба эти явление рассматривать по отношению к зажиточности, то роскошь это не необходимые расходы, которые доводят до бедности, а безвкусная
111
пышность это такие расходы, которые доводят человека до болезни. Первая совместима с постоянным прогрессом культуры народа (в искусстве и науках), а вторая переполняет жизнь наслаждениями и в конце концов возбуждает отвращение. Как там, так и здесь больше хвастливости (стремление к внешнему блеску), чем личного удобства и уменья жить; первая — это желание блеснуть элегантностью (балами и сценическими (представлениями), понятное для идеального вкуса; вторая блеснуть избытком и разнообразием того, что тешит внешнее чувство (физическое чувство, — например, банкеты лорд-мэра). В праве ли правительство ограничивать и то, и другое ограничительными законами, — это вопрос, обсуждение которого сюда не относится. Но, если как изящные, так и приятные искусства до известной степени ослабляют народ и облегчают возможность управлять им, то периоды спартанской суровости обыкновенно являются вопреки намерением правительства.
Уменье жить хорошо — это принадлежность зажиточности для целей общения с другими людьми (следовательно, оно определяется вкусом). Отсюда видно, что роскошь нарушает это изящество жизни и выражение: «он умеет жить», когда оно применяется к состоятельному или знатному человеку, определяет тонкость его выбора для общественных развлечений, заключает в себе понятие о трезвости, делает наслаждение приятным и выгодным с двух сторон и рассчитано на продолжительное время.
Отсюда видно, что, — так как роскошь направлена собственно не на домашнюю, а на общественную жизнь, на отношение гражданина к обществу, что касается уже свободной конкуренции в стремлении украшать свою личность или свою собственность (в устройстве праздников, свадеб и похорон) и в том же направлении — ниже (вплоть до хорошего тона в обхождении с другими), и во всяком случае предпочитает эту роскошь пользе, — то едва ли следует ограничивать ее запретительными законами; она имеет за себя ту выгоду, что оживляет искусство и таким образом вновь возвращает обществу те издержки, которые ему могли бы причинить подобного рода траты.
——————————
112
ТРЕТЬЯ КНИГА.
О желательной способности.
§ 71.
Стремление (appelitio) — это самоопределение силы субъекта представлением о чем-либо будущем, как ее следствием. Привычные чувственные стремления называются склонностями. Стремление без траты силы для его осуществления — это желание. Это желание может направляться на предметы, для осуществления которых субъект чувствует себя недостаточно сильным; и тогда это пустое (праздное) желание Праздное желание уничтожить время между желанием и получением желаемого называется тоской. Это — по отношению к объекту неопределенное желание (appetitio vaga), которое побуждает субъекта оставить свое настоящее положение без точного знания, в какое другое состояние он хочет перейти, — можно назвать капризным желанием (которое никого не удовлетворяет).
Склонность, которую разум субъекта может подавить только с трудом иди совсем не может подавить, это страсть. Напротив, чувство удовольствия или неудовольствия в настоящем состоянии, которое не оставляет в субъекте места для размышления (разумного представления о том, можно ли отдаться этому удовольствию, или следует от него отказаться), это аффект.
Подчиняться аффектам и страстям это во всяком случае душевная болезнь, ибо как те, так и другие душевные движения исключают и господство разума. Как те, так и другие одинаково сильны по своей напряженности; что же касается до их качества, то они существенно отличаются друг от друга, как в методе предупреждения, так и в методе лечения, которое мог бы применить к ним психиатр.
Об аффектах и их отличии от страстей.
§ 72.
Аффект — внезапное поглощение сознания ощущением, при котором прекращается самообладание духа (animus sui compos). Он, следовательно, всегда стремителен, т. е, быстро поднимается до той сте-
113
пени чувства, при которой размышление становится невозможным (до потери самообладания). Свобода от аффектов, без ослабления силы побуждений и мотивов для деятельности, это флегма в хорошем смысле, т е. особенность энергичного человека (animi strenuit), его способность не выходить из состояние спокойного размышления под влиянием сильных аффектов. То, чего аффект гнева не делает сразу, и совсем не делается; такой порыв забывают легко; но страсть ненависти требует некоторого времени, чтобы вкорениться глубоко, и всегда думает о своем противнике. Отец, школьный учитель не будут в состоянии наказать ребенка, если только они будут иметь терпение выслушать его просьбы (не оправдания). Попробуйте человека, который в гневе входит в вашу комнату, чтобы сказать вам в крайнем раздражении резкие слова, вежливо попросить садиться: если только это вам удастся, его гневные речи станут мягче; удобное кресло произведет в нем ослабление чувства, которое уже не будет сопровождаться угрожающими жестами, не будет таким горячим, каким оно бывает, когда человек стоит на ногах. Но страсть (как настроение духа, которое относится к желательной способности) требует времени и, насколько бы страстна она ни была,, обнаруживает рассудительность в способах достигнуть своей цели. Аффект действует, как вода, которая прорвала плотину; страсть действует как поток, который все глубже и глубже прокапывает свое ложе. Аффект действует на здоровье, как удар; страсть, как чахотка или изнурение. Аффект действует, как опьянение, которое проходит сном, хотя от него и остается впоследствии головная боль; но на страсть надо смотреть, как на болезнь при отраве ядом или на уродство, которое требует внутреннего или внешнего психиатра; и этот психиатр в большинстве случаев может прописать не радикальные целебные средства, а почти только паллиативные.
Там, где мною аффектов, почти всегда мало страсти; таковы французы, которые, благодаря их живости, всегда слишком непостоянны в сравнении с итальянцами или испанцами (а также индусами и китайцами), которые в своем гневе тоскуют о мести, а в своей любви постоянны до безумия. Аффекты всегда прямы и честны. Страсть же коварна и скрытна. Китайцы упрекают англичан в том, что они не обузданы и слишком стремительны («как татары»); а англичане упрекают китайцев в том, что они хитрые (но спокойные) обманщики, которые поэтому свободны от обвинения к страстности. На аффекта можно смотреть, как на хмель, который проходит сном, а на страсть, как на безумие, которое неотступно привязывается к одному представлению и это представление проникает в душу все глубже и глубже. Кто любит, тот может при этом оставаться и зрячим; но тот, кто влюблен, неизбежно будет слеп и не заметит недостатков любимого человека, хотя и этот последний через восемь дней после свадьбы обыкновенно снова приобретает свою зоркость. Тот, кто легко отдается аффекту, как внезапному порыву, — как бы он ни был сам по себе хорош и вежлив, — напоминает человека помешанного; если же он скоро начинает раскаиваться в своем порыве, то это только пароксизм, который называется потерей самообладания. Некоторые
114
даже желают иметь способность приходить к гнев; и даже Сократ сомневался, не хорошо ли время от времени сердиться; но иметь аффект до такой степени в своей власти, чтобы можно было хладнокровно рассуждать, следует ли сердиться, или нет, — это, по-видимому, уже представляет из себя нечто противоречивое. Но ни один человек не пожелает для себя страсти. Ибо кто захочет влачить цепи, если он может оставаться свободным.?
Об аффектах в частности.
А.
О власти души по отношению к аффектам.
§ 73.
Принцип апатии, — а именно тот, что мудрец никогда, продолжен быт в состоянии аффекта, даже в чувстве сострадания к несчастьям своего лучшего друга, — это вполне справедливый и возвышенный моральный принцип стоической школы, ибо аффект делает человека слепым (более или менее). И то обстоятельство, что природа внедрила в нас задатки для этого, было мудростью со стороны природы, — предупредительным средством, чтобы мы могли, прежде чем разум достигнет надлежащей силы, заблаговременно взять в руки вожжи, т. е. к моральным побуждениям к добру ради оживления их мы могли бы присоединить еще побуждения патологического чувственного раздражения, как временного суррогата разума. Во всяком случае аффект, рассматриваемый сам по себе, не умен.. Он даже делает человека неспособным преследовать свои собственные цели; следовательно, было бы неразумно сознательно допускать его возникновение в себе. Точно также разум в представлении морально-доброго, путем соединения своих идей с созерцаниями (примерами), которые лежат под этими идеями, может оживлять нашу волю (в церковных или политических речах к народу или даже в одиночестве, в речах к самому себе), следовательно, может оживлять душу, не как действие, но как причина аффекта по отношению к доброму, при чем этот разум все таки никогда не выпускает из рук узды и вызывает энтузиазм к хорошему замыслу, который следует относить к желательной способности, а не к аффекту, как более сильному чувственному возбуждению.
Естественный дар апатии, при достаточной степени душевной силы, это, как уже было сказано, счастливая флегма (в моральном смысле). Тот, кто одарен ею, хотя именно поэтому еще и не мудрец, но от природы имеет то лишнее благоприятное обстоятельство, что ему легче, чем всем другим, сделаться мудрецом.
Вообще, состояние аффекта определяет не сила известного чувства, но отсутствие рассудительности, чтобы сравнить это чувство с суммою всех других чувств (удовольствия или неудовольствия) в своем
115
состоянии. Богач, у которого лакей в большой праздник по неловкости разбивает редкий прекрасный бокал, счел бы эту случайность ничтожной, если бы в этот момент он сравнил эту потерю одного удовольствия с массой всех удовольствий, которые доставляет ему его счастливое положение, как положение богатого человека. Но он весь и целиком отдается только одному этому чувству огорчения (не имея возможности быстро произвести в уме этот подсчет); неудивительно поэтому, что в эту минуту ему кажется, будто бы он потерял все свое счастье.
В.
О различных аффектах.
§ 74.
Чувство, которое побуждает человека оставаться в том состоянии, в котором он находится, приятно; а то чувство, которое побуждает его оставлять это состояние, неприятно. В соединении с сознанием первое называется удовольствием (voluptas), а второе неудовольствием (taedium). Как аффект, первое называется радостью, а второе печалью. — Безудержная радость (которая не умеряется никаким опасением страдания) и безысходная печаль (которая не смягчается никакой надеждой), т. е. горе, — это аффекты, которые угрожают жизни. Но из статистических данных по смертности видно, что все-таки больше людей скоропостижно умирают благодаря первому, чем, чем благодаря второму аффекту, ибо надежда, как аффект, благодаря неожиданно открывшимся видам на неизмеримое счастье, целиком охватывает душу и таким образом аффект поднимается до того, что душит человека; тогда как всегда угрожающему горю наше сознание естественным образом постоянно противодействует; в виду этого этот последний аффект убивает только медленно.
Ужас — это внезапно возникающий страх, который лишает нас самообладания. Подобно ужасу, нечто странное и поразительное, что озадачивает нас (а не смущает), побуждает сознание собрать свои силы для размышления; это призыв к удивлению (которое уже заключает в себе размышление). С людьми опытными это случается не так-то легко; но это уже дело искусства представить нечто обычное с такой стороны, с которой оно становится поразительным. Гнев — это испуг, который вместе с тем быстро поднимает наши силы для противодействия угрожающей опасности. Но страх перед предметом, который угрожает нам чем-то неопределенным, — это боязливость. Можно быть боязливым, даже не зная для этого какого-либо особого объекта; это стесненность духа из чисто субъективных причин (болезненное состояние). Стыд это смущение из скрытого презрения к присутствующему лицу и, как таковой, есть аффект. — Впрочем, человек может испытывать чувствительный стыд даже и без присутствия того человека, которого стыдится; тогда это не аффект, но
116
как и горе, страсть, — а именно склонность смотреть на себя с презрением и — мучиться напрасно; стыд, как аффект, должен появляться внезапно.
Аффекты — это вообще болезненные припадки (симптомы) и (по аналогии с системой Броуна) могут делиться на стенические (из силы) и астенические (ил слабости). Первые возбуждают организм и благодаря этому часто истощают его; вторые, уменьшая напряжение жизненной силы, часто содействует отдыху и освежению. — Смех в аффекте — это судорожная радость. — Плач сопровождает тоскливое ощущение бессильного гнева на судьбу или на других людей, как будто бы под влиянием полученной от них обиды; и это ощущение есть уныние, грусть. Но оба они, — как смех, так и плач, — проясняют душевное сознание, ибо путем излияний освобождают жизненные силы от затруднений (можно смеяться до слез, как смеются до полного истощения). Смех это нечто мужественное, а плач женственное (у мужчины бабье); и только поползновение к слезам — и притом из великодушного, но бессильного участия к страданиям другого, — может служить извинением для мужчины, если у него на глазах заблестят слезы, хотя они и не будут падать каплями; особенно же они не должны сопровождаться рыданиями, не должны поднимать эту противную музыку.
О боязливости и храбрости.
§ 75.
Боязливость, трусливость, испуг и ужас это степени страха, т. е. боязни перед опасностью. Самообладание, благодаря которому можно встречать опасности рассудительно, есть мужество. Сила внутреннего чувства (атараксия), благодаря которой нелегко поддаются чувству страха вообще, есть неустрашимость. Недостаток первого это — робость 1), недостаток второго — это растерянность; отважный — это тот, который не приходит в ужас; мужественный человек — который, не теряя самообладания, по отступает перед опасностью; храбрый человек это тот, мужество которого в опасности стойко. Отчаянный это тот легкомысленный человек, который идет на всякую опасность, потому что ее не знает; смелый человек — который идет на опасность, хотя он ее и знает; безумно смелый тот, который при очевидной невозможности достигнуть своей цели, подвергается величайшим опасностям (как карл XII при Бендерах). Турки называют своих храбрецов (быть может благодаря опиуму) безумцами. — Робость, следовательно, это бесчестное малодушие.
Пугливость это не есть обычное свойство души, способность легко
———————————————
1) Слово poltroon (заимствованное вероятно от pollex truncatus) в позднейшей латыни передавалось словом murcus и обозначает того человека, который отсекает себе большой палец только для того, чтобы его не брали на войну.
117
отдаваться чувству страха, ибо это последнее, свойство называется боязливостью, но только случайное состояние и случайное расположение, которое в большинстве случаев зависит от физических причин, — расположение не чувствовать в себе достаточно самообладания при внезапно появляющейся опасности. У полководца, который сидит в шлафроке, когда ему докладывают о неожиданном приближении врага, кровь, конечно, на мгновение может остановиться в сердечных камерах; и над одним известным генералом его врач сделал наблюдение, что он был робок и малодушен, когда у него в желудке были кислоты.
Отвага — это только свойство темперамента, а мужество основывается на принципах и поэтому это добродетель. Тогда разум дает решительному человеку ту силу, в которой иногда ему отказала природа. Испуг во время битвы производит даже благодетельные выделения, которые сделали пословицей одно насмешливое выражение («у него сердце не на месте»); но надо заметить, что именно те матросы, которые, когда начинается битва, прежде всего бегут в отхожее место, бывают потом самыми мужественными в бою. То же самое замечают и у цапли, когда кобчик парит над нею и вызывает ее на бой.
Терпение поэтому еще не мужество. Это женская добродетель, ибо она не обнаруживает силы для противодействия, а только рассчитывает сделать страдание (перенесение чего-либо) путем привычки незаметным. Тот, кто кричит под можем хирурга или при приступах ревматизма и каменной болезни, еще не есть человек робкий или малодушный; в этом состоянии это тоже самое, что и проклятие, когда на ходу натыкаешься ногою на придорожный камень (большим пальцем на ноге, откуда заимствовано слово hallucinari). Это скорее выражение гнева; здесь природа посредством крика стремится устранить остановку крови в сердце. Но совершенно особого рода терпение обнаруживают американские индейцы, которые, раз они окружены, бросают прочь свое оружие и без всяких просьб о пощаде спокойно позволяют себя изрубить. Обнаруживают ли они больше мужества, чем европейцы, которые в подобном случае защищаются все до последнего человека? Мне кажется, что это только варварская суетность, а именно стремление поддержать честь своего племени тем, что их враг не может принудить их к жалобам или вздохам, как доказательствам их покорности.
Мужество, как аффект, — значит, с одной стороны как нечто относящееся к чувственности, — может быть возбуждаемо и разумом; и таким образом оно становится настоящей храбростью (доблестью). Не позволять себе пугаться перед злым издевательством, перед уколами изощренного остроумия, которые именно поэтому становятся тем опаснее, перед издевательствами над тем, что достойно уважения, но стойко идти своей дорогой, — это моральное мужество, которым не всегда владеют те люди, которые показали себя смелыми людьми на поле битвы или в поединке. Это один из признаков решительного характера — идти на нечто такое, что предписывает долг, даже под опасностью, издевательства со стороны других. Это даже высшая степень мужества, так как честолюбие есть постоянный спутник добродетели, и тот,
118
который в других случаях чувствует себя достаточно сильным против насилия, редко сознает в себе достаточно смелости против осмеяния, если ему с презрительным смехом отказывают в его справедливых притязаниях на честь.
Та особенность, которая имеет внешние признаки мужества, аименно — в сравнении с другими никому не уступать ничего, называется дерзостью, противоположное же ему качество называется застенчивостью; это что-то вроде боязливости и опасения показаться в глазах других людей с невыгодной стороны. Первое, как справедливое доверие к себе самому, не заслуживает порицания. Но та дерзость1) во внешнем поведении, которая дает известному человеку вид, будто бы он может не считаться с суждением о нем других людей, — это глупая дерзость, бесстыдство или, значительно смягчая выражение, нескромность; она, следовательно, не имеет отношения к мужеству в моральном значении этого слова.
Предполагает ли самоубийство мужество или скорее только малодушие, — это вопрос не моральный, но чисто психологический. Когда оно совершается только для того, чтобы не пережить утраты своей чести, следовательно, из гнева, — то это, по-видимому, мужество; если же оно возникает из истощения терпения под гнетом печали, которая медленно исчерпывает всякое терпение, то это — малодушие. По-видимому, человек обнаруживает известный героизм, когда он может смело смотреть в глаза смерти, и не боится ее, когда он уже перестал любить жизнь. Но, если он, хотя и не боится смерти, все-таки ни при каких условиях не может перестать любить жизнь, и таким образом, у него происходит душевное раздвоение, благодаря боязливости, которая побуждает его к самоубийству, — то он умирает из робости, так как он не может больше переносить условий жизни. Это различие в душевном настроении до известной степени можно узнать по способу совершения самоубийства. Если избранные для этого средства действуют сразу и не оставляют возможности для спасения, — например, выстрел из пистолета (как тот великий монарх, который всегда носил с собой на войне пистолет на тот случай, если бы ему пришлось попасть на войне в плен), или же сильный раствор сулемы, или глубокое место в реке и карманы, наполненные камнями, — то такому самоубийце нельзя отказать в мужестве. Но если это веревка, которую может перерезать кто-нибудь другой, или какой-нибудь яд, который врач может еще удалить из организма, или порез на шее, который можно зашить и вылечить, — то при таких попытках на самоубийство человек бывает очень рад, когда его спасут и никогда уже не повторяет подобных попыток; таким образом это малодушное отчаяние из сознания своей
———————————————
1) Это слово следует собственно писать Dräustigkeit (от Dräuen пли drohen угрожать), так как тон или выражение лица подобного человека заставляет других опасаться, что он может быть и грубым. Точно также пишут liederlich вместо luderlich, тогда как первое обозначает легкомысленного, но не негодного, добросердечного человека, а второе — человека порочного, возбуждающего к себе всеобщее отвращение (от слова Luder).
119
слабости, а не мужественное решение, которое требует для такого дела известной силы духа.
Это не всегда ничтожные, недостойные люди, которые таким путем решаются освободиться от тяжести жизни; скорее те люди, у которых нет никакого чутья к истинной чести, не легко решаются на подобное дело. — Хотя это дело всегда является отвратительным и самого человека делает извергом, но замечательно, что в период общественной и признанной закономерною несправедливости при революционном состоянии (как например, при Комитете Народного Спасения французской республики), люди, чуткие к вопросам чести (например, Роланд), стараются предупредить казнь по закону посредством самоубийства, которое сами они при закономерном ходе вещей считали бы гнусным. Причина этого заключается в следующем. В подобной казни по закону заключается что-то позорящее; и если это наказание не справедливо, то тот, который становится жертвою закона, не может признать этого наказания заслуженны. Это именно он и доказывает тем, что, раз уже он обречен на смерть, род этой смерти он избирает для себя, как свободный человек, и сам исполняет свое решение. Поэтому тираны, как Нерон, считали признаком милости с своей стороны позволение осужденному покончить с собой самому, ибо в такой смерти больше почета. — Моральность этого я, конечно, защищать не стану.
Но мужество воина резко отличается от мужества дуэлянта, хотя дуэль получает от правительства известного рода признание и до некоторой степени в армии является самозащитой против оскорблений в делах чести, в которые начальство не вмешивается, хотя дуэль официально и не дозволена путем закона. Смотреть на дуэль сквозь пальцы со стороны главы государства — это опасный и не вполне обдуманный принцип, ибо бывают и недостойные люди, которые ставят свою жизнь на карту, чтобы только придать себе какое-нибудь значение и которые вовсе не думают с личною опасностью для себя сделать что-либо для охраны государства.
Храбрость - это закономерное мужество, — способность в том, чего требует долг, не бояться даже утраты жизни. Она не исчерпывается одним бесстрашием, но с ней должна соединяться и моральная безукоризненность (mens concia recti), как у рыцаря Баяра (chevalier sans peur et suns reproche).
Об аффектах, которые сами ослабляются в своем стремлении к цели.
(Impotentes animi motus).
§ 76.
Аффекты гнева и стыда имеют ту особенность, что они сами себя ослабляют по отношению к своей цели. Это внезапно возникающее чувство страдания, как оскорбления, которое уже в силу своей страстности лишает человека способности отклонить опасность.
120
Кого надо больше бояться, того ли, который в гневном порыве бледнеет, или того, кто краснеет? — Первого надо бояться сейчас же, а второго — и еще больше — потом (ради жажды мести). В первом состоянии человек, лишившийся самообладания, боится сам за себя, боится увлечься стремительным желанием пустить в ход насилие, в чем впоследствии, может быть, ему придется раскаиваться. Во втором ужас внезапно переходить в страх и это становится ему заметным, как сознание своей неспособности к самозащите. Оба эти аффекта, если они путем быстрого самообладания могут остановиться, не вредны для здоровья; а там, где этого не бывает, они отчасти и очень опасны даже для жизни человека, а отчасти (если их проявление бывает держано) оставляют после себя злобу, т. е. чувство оскорбления, в виду того, что враги по могли, как следует, рассчитаться за обиду; но этого бы не было, если бы они могли перейти к словам; но оба эти аффекта таковы, что делают человека немым и таким образом представляются в невыгодном свете,
Вспыльчивость возможно отклонить путем внутренней дисциплины души; но далеко не так легко удалить чуткость слишком нежного чувства чести в стыдливости. Обо, как говорить Юм (который сам отличался этой слабостью, а именно застенчивостью и боязнью говорить в обществе), первая попытка рискнуть, раз только она не удается, делает человека только еще более застенчивым; и здесь не может быть никакого другого средства, кроме того, чтобы как можно чаще вступать в более тесное общение с людьми, суждения которых о приличии не имеют большого значения, и таким образом постепенно отрешаться от мнимой важности суждения других людей относительно нас; таким путем про себя мы привыкаем считать себя на равной ноге с другими. Привычка к этому создаст откровенность, которая одинаково далека как от застенчивости, так и от оскорбительной дерзости.
Правда, мы симпатизируем чужой стыдливости, как страданию; но мы не симпатизируем чужому гневу, когда кто-либо рассказывает нам свои побуждения к нему в этом аффекте; ибо перед тем, кто сам находится в состоянии гнева, недостаточно безопасен и тот, кто выслушивает его рассказ о полученном оскорблении.
Удивление (чувство замешательства при встрече с чем-то неожиданным) это такое возбуждение чувства, которое первоначально задерживает естественную игру мысли, значит бывает неприятным, но потом тем больше содействует приливу мыслей и неожиданных представлений и поэтому становится приятным; но изумлением этот аффект называется собственно только тогда, когда при этом остается неизвестным, было ли сделано это восприятие наяву, или во сне. — Новичок в обществе удивляется всему; но тот, кто путем многостороннего опыта достаточно познакомился с житейскими делами, делает себе принципом правило «ничему не удивляться» (nihil admirali). Тот же, кто пытливым оком и вдумчиво изучает природу в ее великом разнообразии, приходит в изумление по поводу ее мудрости, которой он не ожидал; это удивление, от которого он не может отделаться (не может достаточно надивиться); но этот аффект возбуж-
121
дается тогда только путем разума и представляет из себя что-то вроде священного ужаса, когда открывается перед ногами зрителя бездна сверхчувственного.
Об аффектах, посредством которых природа механически содействует нашему здоровью.
§ 77.
Природа механически содействует здоровью при помощи некоторых аффектов; сюда главным образом относятся смех и плач. Гнев (если только он не опасается встретить противодействие) может хорошо выбраниться и это достаточно сильное средство для пищеварения; некоторые хозяйки не имеют других внутренних движений, кроме перебранки с детьми и прислугой; и если дети и прислуга относятся к этому достаточно терпеливо, то от упражнения равномерно и механически распространяется по телу ощущение усталости жизненной силы; но и это средство не лишено опасности в виду возможности сопротивления со стороны домочадцев.
Добродушный (не злорадный, не соединенный с горечью) смех в этом отношении приятнее и плодотворнее; это именно то, что следовало бы порекомендовать тому персидскому царю, который назначил премию тому, кто придумает для него какое-нибудь новое удовольствие. — То, происходящее толчками (как бы судорожно) выдыхание воздуха, при котором чихание есть только меньший, но все-таки оживляющий аффект, если его звук раздается неудержимо, путем целебного движения грудобрюшной преграды, усиливает чувство жизненной силы. Опытный шут (арлекин) — это тот человек, который заставляет нас смеяться; или же это делает принятый в обществе друзей лукавый хитрец, который, по-видимому, не имеет ничего дурного на уме, но без всякого умысла, как будто бы и не смеясь с нами, с напускной скромностью и простотой внезапно разрешает напряженное ожидание (как натянутую струну). Во всяком случае смех всегда есть колебание мускулов, которые относятся к пищеварению; и это колебание содействует деятельности пищеварения гораздо лучше, чем это может сделать мудрость врача. Но и большая нелепость ошибающейся способности суждения может произвести точно такое же действие, — конечно, за счет мнимого умника 1).
———————————————
1) Примеры последнего существуют в огромном изобилии. Здесь я хочу привести только один, со слов покойной графини К-г, — дамы, которая была украшением своего пола. Когда граф Саграмоза, которому тогда было дано поручение привести в порядок Мальтийский Орден в Польше (по округуОстрожскому), сделал ей визит, у нее случайным образом был один магистр, родившийся в Кенигсберге, а в Гамбурге, благодаря страсти некоторых бывших там купцов, занимавшийся собиранием естественно-научных коллекций и бывший хранителем этих естественно-научных кабинетов; он посещал своих родственников в Пруссии. Граф, чтобы что-нибудь сказать, обратился к нему на ломанном немецком языке: «ich abe in Amburg meine Ant geabt (в Гамбурге у меня была тетка), но она у
122
Плач, как вдыхание воздуха (конвульсивное), соединенное с всхлипыванием, если он соединяется с выделением слез, — это тоже, как смягчающее боль средство, есть заботливое установление природы ради здоровья людей; вдова, которая, как говорят, не может утешиться, т. е. никак не может удержать своих слез, в сущности заботится, не сознавая этого сама и даже помимо своей, воли, о своем собственном здоровье. Гнев, который появился бы в этом состоянии, мог бы помешать этому излиянию, но к ее собственному вреду; хотя не всегда одно горе, но и гнев могут приводить женщин и детей в слезы, — Чувство своего бессилия перед опасностью при сильном аффекте (будет ли это аффект гнева или печали) зовет на помощь естественные признаки слабости, которые (по праву более слабого) обезоруживают по крайней мере мужскую душу. Но выражение нежности, как половой слабости, не доводит участливого мужчину до плача, даже до того, чтобы оно вызвало слезы на его глаза, ибо в первом случае он бы сделал промах против своего собственного пола и таким образом по своей женственности не мог бы служить опорой для более слабого существа, а во втором не доказал бы своего участия к другому полу, что именно его мужественность и вменяет ему в обязанность; т. е. он не оказал бы обороны слабому существу, как этого требует тот характер, который рыцарские книги предписывают храброму человеку, а этот характер именно и проявляется в подобной обороне.
Но почему молодые люди больше любят трагические произведения и охотнее исполняют их, когда их родители хотят устроить для них праздник, а старики предпочитают комическое вплоть до фарса? — Причина этого у первых та же самая, которая побуждает детей шалить с опасностью, — предположительно в ему инстинкта природы, чтобы попытать свои силы, а отчасти и потому, что при легкомыслии молодости, как только пьеса окончена, не остается никакого горького осадка после печальных или ужасных впечатлений; а после сильного внутреннего движения остается приятная усталость, которая снова настраивает к веселью. Но у стариков эти впечатления проходят далеко не так легко; и далеко не так легко они могут вызвать у себя снова веселое настроение. Арлекин с его бойким остроумием производить своими выходками благодетельное потрясение грудобрюшной преграды и кишок, чем обостряется аппетит стариков к следующему после этого ужину в обществе, когда за разговором пищеварение совершается легче.
Общее замечание.
Некоторые внутренние телесные ощущения родственны аффектам; но все таки это далеко не то же самое, ибо они почти мгновенны, про-
———————————————
меня умерла». Магистр на лету подхватил слово и спросил: «почему же вы не содрали с нее шкуры и не набили ее?» — Английское слово Ant, которое значит тетка, он принял на немецкое Ente — утка и так как ему показалось, что она должна была быть большой редкостью, очень пожалел о такой большой потере. Можно себе представить, какой смех вызвало это недоразумение!
123
ходят скоро и после себя не оставляют никакого следа; таково ощущение жуткости (подирает по коже), которое охватывает детей, когда они слушают рассказы нянек о привидениях. Сюда же относится дрожь (ужас), ощущение, подобное тому, какое бывает, когда человека вдруг обольют холодной водой (например, при проливном дожде). Не восприятие опасности, но уже одна мысль об опасности, — хотя бы мы и знали, что никакой опасности нет, — производит подобное ощущение, которое, когда это только мгновенный порыв, а не припадок испуга, по-видимому, бывает не неприятным.
Головокружение и даже морская болезнь по своей причине, как кажется, относятся к классу таких же идеальных, воображаемых опасностей. По доске, которая лежит на земле, легко пройти без всяких колебаний; но если доска лежит над пропастью или, для людей с слабыми нервами, даже просто над канавой, часто уже один страх перед опасностью становится действительно опасным. Качание корабля, даже при слабом ветре, это попеременное опускание вниз и вверх. При опускании вниз природа всегда стремится подняться выше (ибо всякое опускание вообще возбуждает представление об опасности), значит, движение желудка и кишок снизу вверх, что механически связывается с позывом к рвоте; и это ощущение значительно усиливается, когда пациент смотрит сквозь окно из каюты и попеременно видит то небо, то волны, а это в свою очередь значительно усиливает то обманчивое ощущение, будто бы сидение под ним куда-то опускается.
Актер, который, сам оставаясь холодным, обладает достаточным рассудком и сильно развитым воображением, посредством афишированного (искусственного) аффекта может тронуть гораздо сильнее, чем посредством искреннего увлечения. Серьезно влюбленный человек в присутствии любимой женщины приходит в замешательство, становится неловким и мало привлекательным. Но тот, кто только притворяется влюбленным и обладает в достаточной мере талантом, может играть свою роль до такой степени естественно, что легко заманивает в свои силки бедную обманутую женщину, — именно потому, что сто сердце не затронуто, его голова ясна, и он таким образом при полном самообладании имеет к своим услугам все свои силы и всю свою ловкость для того, чтобы вполне естественно подражать всем признакам влюбленного.
Добродушный (откровенный) смех (как аффект радости) содействует общительности; злобный смех (издевательство) враждебен общению. Рассеянный человек (как, например, Террасон с ночным колпаком на голове вместо парика и со шляпой под мышкой, когда он торжественно выступает перед спором о преимуществах древнего и нового мира в научной области) часто дает повод к первому смеху; над ним смеются, но его не высмеивают. Чудак, не лишенный ума, часто становится предметом подобного смеха, хотя это ему ничего и не стоит, ибо он и сам смеется вместе с другими. — Механический (не остроумный) насмешник удручает всех своею плоскостью и кажется пошлым. Тот, кто не смеется в обществе, — или человек угрюмый, или педант. — Дети, главным образом девочки,
124
должны рано привыкать к откровенному непринужденному смеху, ибо ясность очертаний лица мало-помалу отпечатывается на их внутреннем душевном строе и таким образом полагает основу наклонности к веселости, дружелюбию и общительности; а все это уже с раннего возраста подготовляет к добродетели благожелательного отношения к людям.
Иметь кого-нибудь в обществе мишенью для острот (в хорошем смысле слова), причем эти остроты не отличаются колкостью (насмешка без язвительности), против которых этот другой в свою очередь достаточно вооружен для этого турнира и таким образом всегда готов внести в общество веселый смех — это добродушное и вместе с тем культурное развлечение для общества. Но если это делается за счет какого-либо простака, которым, как мячиком, перебрасываются один к другому, то этот смех, как злорадный, по крайней мере не обнаруживает тонкости вкуса; и если оп направлен по адресу бедняги-паразита, который ради подачки становится добровольной игрушкой и позволяет делать из себя шута, то это признак и дурного вкуса, и грубого неразвитого морального чувства у тех, которые позволяют себе хохотать над нимво всю свою глотку. Но место придворного шута, который ради благодетельного потрясения грудобрюшной преграды высочайших особ, путем колких выходок по отношению к знатным гостям, должен приправлять пряностями обед, возбуждая смех, — то в том виде, как это обыкновенно бывает, оно и выше и ниже всякой критики.
О страстях.
§ 78.
Субъективная возможность возникновения известного стремления, которая предшествуют представлению об его предметах, это наклонность (propensio). Внутреннее понуждение желательной способности к обладанию этим предметом, еще прежде чем его знают, это инстинкт (каково стремление к оплодотворению или родительская любовь у животных, побуждающая их защищать своих детенышей и т. п.).
Чувственное стремление, которое становится для субъекта правилом (привычкой), называется склонностью (inclinatio). Склонность, которая мешает разуму, когда ему предстоит тот или другой выбор, как следует сравнить ее с суммой всех других склонностей, это страсть (passio animi).
Легко видеть, что страсти, в виду того, что они не исключают возможности очень спокойного размышления и, значит, не бывают такими необдуманными, как аффекты, а поэтому не бывают ни бурными, ни скоро преходящими, но вкореняются глубоко и даже могут сопровождаться полной разумностью и сознательностью, — в высшей степени стесняют свободу; и если аффект это хмель, то страсть это болезнь, которая не поддается никаким целебным средствам; поэтому
125
она гораздо хуже, чем все преходящие душевные движения, которые, по крайней мере, оставляют после себя намерение исправиться; страсти, этого душевное ослепление, которое исключает даже возможность исправления.
Страсти отмечаются словом «sucht» — «любие», — честолюбие, властолюбие, мстительность (Rachsucht) и т. п. кроме чувства любви, где страсти называется влюбленностью. Причина этого та, что. если последнее стремление (через чувственное наслаждение) удовлетворено, то стремление по крайней мере, по отношению к тому же самому лицу, вместе с тем прекращается, — значит, прекращается и страстная влюбленность (продолжающаяся до тех пор, пока другая сторона не отвечает взаимностью): но на физическую любовь отнюдь нельзя смотреть, как на, страсть, ибо по отношению к объекту она не имеет в себе постоянного принципа. Страсть всегда предполагает максиму субъекта: поступать соответственно цели, предписанной ему его склонностью. Следовательно, она всегда объединяется с разумом субъекта и потому животные без разума не имеют и страстей, как их не могут иметь и чистые разумные существа. Честолюбие, мстительность и т. д., так как они никогда не могут быть вполне удовлетворены, именно поэтому причисляются к страстям, как болезни, против которых существуют только паллиативные средства.
§ 79.
Страсти — это раковые образования для чистого практического разума и в большинстве случаев неизлечимы, ибо больной и не желает исцеления, не хочет отказаться от господства того принципа, через который только страсть и может существовать. И в чувственно-практической области разум идет от общего к частному, по принципу: нс позволять ради одной склонности все остальные ставить в тени или отодвигать в угол, но смотреть на то, чтобы каждая склонность могла существовать совместно со всеми другими. Любовь к почестям всегда может иметь у человека верное направление в степени проявления склонности, благодаря разуму; но любитель почестей — хочет в тоже время, чтобы его и любили, нуждается в приятном общении с другими, в сохранении своего имущества и во многом другом. Если же он страстно честолюбив, то он закрывает глаза на все цели, к которым его зовут в тоже время его другие склонности, и не замечает, что другие его ненавидят, или избегают встречи с ним, или, что благодаря тратам, он подвергается опасности обеднеть. Все это для него не существует. Это глупость (часть своей цели принимать за ее целое), которая прямо противоречит даже разуму в его формальном принципе.
Поэтому страсть не только несчастное душевное настроение, как аффект, который может быть чреват многими бедами, — но без всякого исключения это злое движение души; и даже самые благородные стремления, если они имеют в виду то, что (по материи) относится к
126
добродетели, — например, благотворительность, — как только (по форме) превращаются в страсть, становятся не только пагубными в прагматическом, отношении, но гнусными и в моральном смысле.
Аффект производит мгновенную остановку в проявлении свободы и власти над самим собой. Страсть устраняет эту свободу совсем, находит себе отраду и удовлетворение только в рабстве. А так как разум с его призывом к внутренней свободе все-таки не устраняется, то несчастный томится в своих цепях, от которых в то же время он не может освободиться, ибо они как бы уже приросли к его членам.
Впрочем, страсти находят своих защитников и панегиристов (ибо где их не бывает, если только в принципах дается место даже злобе?). Обыкновенно говорят, что «ничто великое в мире не совершается без участия пылких страстей и что само Провидение мудро насадило их в задатках человеческой природы, подобно пружинам к деятельности». Относительно некоторых склонностей, конечно, можно сказать, что это действительно так, — а именно относительно тех, без которых живая природа (даже природа человека) не может обойтись, как без естественных животных потребностей. Но Провидение, конечно, не желало, чтобы люди нуждались в страстях и даже должны были в них нуждаться; и поэтому можно простить поэту, когда он хочет представить их с этой точки зрения, а именно сказать вместе с Попом: «если разум магнит, то страсти ветры». Но философ отнюдь не может допускать до себя такой принцип. — даже для того, чтобы прославлять страсти, как мудрую предусмотрительность Провидения, которое внедрило их в человеческой природе преднамеренно, прежде чем человеческий род достигнет нужной ступени культуры.
Деление страстей.
Они делятся на страсти естественных (прирожденных) склонностей и таких склонностей, которые возникают из культуры человека (благоприобретенные).
Страсти первого рода - это жажда свободы и половое влечение, — как то, гак и другое в соединении с аффектом страсти; второго рода это честолюбие, властолюбие и корыстолюбие, которые соединяются не с бешеным безумием аффекта, но с упорством и устойчивостью максимы, составленной для известной цели. Первые можно назвать пламенными (passions ardentes), а вторые, как скупость, холодными страстями (frigidae). Но все страсти — это всегда такие склонности, которые имеют в виду людей, а не вещи, ибо, хотя и возможно к плодородному полю и плодливой корове, ради обладания ими, иметь склонность, но нельзя иметь аффективной склонности (которая состоит в склонности к общению с другими) — и еще того меньше нельзя иметь страсти.
127
А
О жажде свободы, как страсти.
§ 80.
Это самая бурная страсть из всех у естественного человека в его первобытном состоянии, так как он не может избежать того, чтобы его притязания не сталкивались с притязаниями других людей.
Тот, кто может быть счастливым только по выбору другого (за этот другой может быть настолько благожелательным, насколько этого можно желать), — справедливо чувствует себя несчастным. Ибо какое ручательство он имеет за то, что этот могущественный другой в своем суждении об его счастье вполне сойдется с его личным суждением? Дикарь (человек, еще не привыкший подчиняться) не знает для себя никакого худшего несчастия, чем это; и он вполне прав, пока его не защищает никакой публичный закон и пока дисциплина мало по малу не сделает его терпеливым в этом отношении. Отсюда его постоянные войны, которые объясняются его желанием держать других насколько возможно дальше от себя и жить в своих пустынях одиноко. Даже ребенок, который только что вышел из материнского чрева в отличие от всех животных вступает в мир с громким криком, — только потому, как кажется, что смотрит на свою неспособность пользоваться своими членами, как на внешнее угнетение, и таким образом тотчас же заявляет свое притязание на свободу (о которой никакое другое животное не имеет представления) 1). Народы-номады, хотя они (как пастушеские народы) не прикреплены к определенной почве, — например, арабы, — крепко привязаны к своему образу
———————————————
1) Лукреций, как поэт, этот действительно замечательный феномен в царстве животных, выражает иначе.
Vagituque locum lugubri complet, ut aequom’st
Quod tantum’n vita restet transire malorum!
(Печальным криком ониоглашает простор, как это и следует, так как ему предстоит пройти жизнь, полную многочисленных бедствий).
Конечно, новорожденный ребенок не может иметь перед собой такой перспективы: но то что чувство какого-то неудобства происходит в нем не от телесных страданий, но от темной идеи (или аналогичного с ней представления) о свободе и об ее стеснении, т. е. несправедливости, — открывается уже в том, что через два месяца после его рождения его крик сопровождается слезами; и это обнаруживает у него что то вреде раздражения, когда он стремится приблизиться к известным предметам или вообще что-либо изменить в них и чувствует, что ему в этом кто-то мешает. Это влечение имеет свою волю и на всякое препятствие в этом направлении смотреть, как на обиду, особенно выражается в его тоне и представляется чем-то вроде озлобленности, за которую мать считает себя вынужденной его наказывать; но ребенок обыкновенно отвечает на это еще более громким криком. Тоже самое бывает и в том случае, когда ребенок падает по своей собственной вине. Детеныши других животных играют, а дети людей очень рано начинают ссориться друг с другом: и тогда, и тогда это имеет вид, что известное понятие о праве (которое относится к внешней природе) развивается в человеке вместе с животными инстинктами, а не изучается ими постепенно.
128
жизни, хотя и не свободны от внешнего принуждения; и в этом отношении они достигают такого высокого самосознания, что с презрением смотрят на людей, занятых обработкой земли; в течение тысячелетий они не могу и привыкнуть к трудам земледельческих народов и отвыкнуть от своих привычек. Даже охотничьи народы (оленьи тунгузы), именно через это чувство свободы, становятся более благородными сравнительно с другими родственными им племенами. Таким образом понятие свободы под моральными законами возбуждает не только аффект, который называется энтузиазмом, но и чисто чувственное представление о внешней свободе, вызывает склонность сохранять это состояние или расширять его путем аналогии с понятием о праве до пламенной страсти.
У обыкновенных животных даже самая пылкая склонность, (как при половых сношениях) не называется страстью, ибо у них нет разума, который один только обосновывает понятие свободы; а в коллизии с этим понятием и возникает страсть. — Хотя говорят о людях, что они любят страстно известные вещи (например, питье, игру, охоту), или страстно их ненавидят (например, мускус, водку), но это только различные склонности и наклонности, которые еще поэтому не могут быть названы страстями, ибо это многочисленные различные инстинкты, т. е. различные часто пассивные явления в желательной способности; и поэтому они должны располагаться в классификации не но объектам желательной способности, как вещам (которых существует бесчисленное количество), но по различию правильного пользования или злоупотребления тем принципом, по которому люди в своих стремлениях защищают свою личность или свою свободу, гак как человек делает иногда другого человека только средством для своей цели. Страсти имеют своим объектом собственно только людей и могут найти свое удовлетворение только в них и на них.
Эти страсти — честолюбие, властолюбие, корыстолюбие.
Так как это склонности, которые направлены на обладание их нужными средствами, чтобы удовлетворить все склонности, которые непосредственно касаются цели, — то с этой стороны они имеют окраску разума, а именно признаки идеи: стремиться к способности, соединенной со свободой, исключительно посредством которой можно было бы достигнуть цели вообще. Обладание средствами для любого намерения простирается, конечно, гораздо дальше, чем обладание средствами для единственной склонности и для ее удовлетворения. Они поэтому могут быть названы склонностями безумной мечты, которая заключается в том, что простое мнение других людей о значении вещей ценится одинаково с их действительным значением.
В.
О мстительности, как страсти.
§ 81.
Так как страсти — это склонности, которые идут только от человека к человеку, поскольку эти склонности направлены, на
129
противоположные цели, г. е. представляют или любовь, или ненависть, — а понятие о праве, так как оно непосредственно возникает из понятия о внешней свободе гораздо серьезнее и для воли представляет гораздо более сильное побуждение, чем понятие о благожелательности, — то ненависть по поводу перенесенной несправедливости развивается до страсти, которая неодолимо возникает из природы человека; какою бы злобной она ни была, все-таки она соединяет склонность с максимою разума в силу дозволительного стремления стоять за свое право, аналогию которого эти страсти и представляют: и именно поэтому это одна из самых знойных и особенно глубоко укореняющихся страстей; если, по видимому, она даже и погаснет, то все-таки от нее в тайне остается ненависть, называемая злобой, как огонь, тлеющий под золою.
Стремление находиться в одинаковом положении с другими сочленами человеческого общества и быть в таком отношении к ним, чтобы каждому было оказано должное, что требуется по праву, — конечно, это еще не страсть, но основа определения свободной воли через чистый практический разум. Но раздражительность этого стремления путем только самолюбия, т. е. только для своей выгоды, а не в интересах общего законодательства, для каждого, — это уже чувственное побуждение к ненависти не против несправедливости вообще, но против лиц, которые несправедливы к нам; эта склонность (преследовать и разрушать), так как в основе ее лежит идея, хотя, конечно, примененная и эгоистически, превращает стремление отстоять свое право против обидчиков в страсть возмездия, которая часто разгорается до безумного стремления — подвергнуть гибели и самого себя, лишь бы только такой же гибели не избежал и враг; и (в обычае кровавой мести) эта ненависть становится даже наследственной между отдельными племенами, ибо, как говорят, кровь обиженного, но не отомщенного вопиет, пока невинно пролитая кровь в свою очередь не будет смыта другой кровью, — даже кровью невинного потомства обидчика.
С.
О склонности иметь возможность оказывать на других людей влияние вообще.
§ 82.
Эта склонность больше всего приближается к технике практического разума, т. е. к максимам житейской мудрости. — Получить власть над склонностями других людей, чтобы определять их и направлять согласно со своими собственными намерениями, — это почти то же, что овладеть ими, как простыми орудиями своей собственной воли. Неудивительно, что стремление к такой возможности иметь влияние на других становится страстью.
Эта возможность заключает в себе как бы три вида силы: почет, власть и деньги; благодаря трем этим обстоятельствам, тот
130
человек, который ими обладает, может овладеть каждым другим человеком и пользоваться им для своих целей, если не посредством одного из этих факторов, то посредством другого. — Склонности к этому, если они становиться страстями, — это честолюбие, властолюбие и корыстолюбие. Конечно, человек здесь становится игрушкой (жертвой обмана) своих собственных склонностей и в применении этих средств не достигает своей конечной цели. Но мы говорим здесь о мудрости, которая не допускает никакой страсти, но только о той житейской изворотливости, при помощи, которой прибирают к рукам дураков.
Но страсти вообще, как бы они пылки ни были, в смысле чувственных побуждений к деятельности все-таки являются проявлением слабости по отношению к тому, что человеку приписывается разум. Поэтому способность изворотливого человека пользоваться этими страстями для своих целей сравнительно должна быть тем меньше, чем сильнее страсть, которая им овладевает.
Честолюбие — есть та слабость человека, посредством которой можно иметь влияние на его мнения: на властолюбие можно действовать путем страха, на корыстолюбие путем собственного интереса. Во всяком случае это рабский дух, путем которого, если кто-нибудь другой им овладеет, этот другой получает способность, действуя на его собственные склонности, сделать его орудием для своих целей.
Ио сознание этой способности в себе и сознание обладания средствами для удовлетворения своих склонностей возбуждает страсть еще сильнее, чем ее применение.
А.
Честолюбие.
§ 83.
Это не любовь чести, — это не та высокая оценка, которой человек вправе ожидать от других ради своей внутренней моральной ценности; это стремление к популярности, где достаточно только одних ее внешних признаков. Можно этому высокомерию (притязанию по отношению к другим, чтобы по сравнению с нами самих себя они считали ничтожными, т. е. глупость, которая противодействует своей собственной цели), — этому высокомерию, говорю я, возможно только льстить, так что именно благодаря этим глупым страстям приобрести власть над подобными людьми. Льстецы 1), поддакивающие господа, которые
———————————————
1) Слово Schmeiehler первоначально вероятно выговаривалось Schmiegler (человек, который клонится к гнется), чтобы руководить по своему произволу могущественным человеком, высокомнящим о себе, даже посредством его собственного высокомерия, — точно так же, как слово Heuchler (которое собственно следовало бы писать Häuchler) должно обозначать обманщика, который обнаруживает свое благочестивое смирение перед влиятельным и властным духовным лицом теми глубокими вздохами, которыми он сопровождает речи этого лица.
131
охотно дают большое значение речам значительного человека, витают эти страсти, которые делают данного человека слабым и пагубно действуют на великих и сильных мира сего, если они поддаются этому соблазну.
Высокомерие — есть ошибочное, противодействующее своим собственным целям честолюбие; и на него нельзя смотреть, как на сознательное применение средств для того, чтобы для своих целей пользоваться другими людьми (которых такой человек от себя отталкивает); скорее же честолюбивого человека, как орудие плутов, можно назвать дураком. Однажды меня спросил очень разумный и честный купец: «почему высокомерный человек почти всегда бывает подлым?» (Этот человек по личному опыту знал другого купца, который величался своим богатством, как большей торговой силой; этот человек впоследствии, когда он потерял все свое состояние, ни на минуту не устыдился пресмыкаться и ползать). Мое мнение по этому вопросу следующее. Так как высокомерие есть притязание, предъявляемое всем другим людям, чтобы они по сравнению с нами презирали самих себя, — то такая мысль никому, конечно, не может прийти в голову, кроме только того человека, который уже чувствует в себе самом готовность унижаться и подличать; таким образом высокомерие уже само по себе заранее дает никогда не обманывающий признак низости таких людей.
В.
Властолюбие.
Это страсть сама по себе несправедлива и ее проявления возбуждают против нее всех. Она начинается страхом, как бы не оказаться во власти других людей, и стремится к тому, чтобы своевременно захватить власть над другими в свою пользу; а для этого и неудачное, и несправедливое средство пользоваться другими людьми для своих целей, ибо это отчасти вызывает сопротивление; поэтому это неблагоразумно: а отчасти это и противно свободе, огражденной законами, на которую каждый имеет право, и поэтому несправедливо. Что же касается посредственного искусства подчинять своей власти, как например, искусства женщин пользоваться любовью, какую они могут внушить к себе мужчинам, чтобы распоряжаться ими но своему произволу, то этот случай не подходит под наше общее заглавие, ибо здесь не прибегают ни к какому насилии», но стремятся смирить и оковать своих подданных посредством их же собственных склонностей. Это еще не значит, будто бы женская половина нашего рода свободна от склонности властвовать над мужской половиной (было бы справедливо как раз противоположное утверждение); но это значит, что для этой цели они пользуются совершенно другими средствами, чем мужчины; а именно, их стремление основано не на преимуществах силы (которая здесь и разумеется в слове властвовать), но на том очаровании, которое будит у другой половины склонность повиноваться.
132
С.
Корыстолюбие.
Деньги — это лозунг для всего; и перед тем, кому благоприятствует Плутус, открываются все двери, закрытые для менее богатых людей. Изобретение этого средства, которое не имеет другого применения (по крайней мере не должно было бы иметь), как только служить реализации прилежания человека, а через это содействовать у людей всякому физическому благу, — особенно после того, как оно нашло свое выражение в металле, создало корыстолюбие, которое в конце концов, без всякого наслаждения, в сознании только обладания, даже с отречением (скупца) от всякой траты, придаст деньгам такую силу, что многие полагают, будто бы их достаточно для того, чтобы возместить недостаток всякой другой силы. Это совершенно бездушная, хотя в моральном отношении не всегда гнусная, чисто механическим путем развивающаяся страсть, которая главным образом присуща старческому возрасту (в возмещение его естественной неспособности) и которая этому всеобщему средству, ради его великого влияния, дает просто имя средств, — есть нечто такое, что раз оно появилось, уже не допускает никакого изменения или поворота в другую сторону; и если первая из трех страстей возбуждает ненависть, вторая страх, то эта третья презрение 1).
О мечтательности, как страсти.
§ 84.
Под мечтательностью, как побуждением стремлений, я разумею внутреннее практическое заблуждение, в силу которого субъективное в движущей причине признается за нечто объективное. Природа время от времени требует более энергичных возбуждении жизненной силы, чтобы освежить деятельность человека и чтобы эта сила не растрачивалась в простом сознании чувства жизни; ради этой цели она очень мудро и благожелательно показывает ленивому человеку предметы его воображения, как действительные цели (способы приобретения почета, власти и денег), которые ему, вообще не предприимчивому на дела, дают достаточно деятельности и при ничего неделании заставляют много работать; но при этом тот интерес который он принимает в этих образах, интерес исключительно мечтательный; и природа, следовательно, действительно играет с человеком и подгоняет его (субъект) к его цели,
———————————————
1) Здесь подразумевается презрение в моральном смысле, ибо в общественном смысле там, где это явление встречается, где как говорит Поп: «дьявол в золотом дождь падает ростовщику на лоно с пятидесяти на сто и таким образом овладевает его душою», — там обычная толпа скорее удивляется тому человеку, который доказал такую деловую мудрость.
133
причем так, что этот субъект остается в убеждении, будто бы он сам себе поставил ату цель объективно. — Эта склонность к мечтательности, именно потому, что фантазия здесь является самобытной и творческой, обнаруживает большую готовность сделаться в высшей степени страстной, главным образом в том случае, если она применяется к соперничеству между людьми.
Детские игры в мяч, в борьбу, бег в запуски, в солдатики, далее игры взрослого человека (шахматы и карты), где в первом случае дело идет только о преимуществах рассудка, а во втором имеется в виду и простой выигрыш, — наконец, забавы гражданина, который в общественных собраниях пробует свое счастье, играя в фараон или кости, — все это вместе служит со стороны мудрой природы побуждением к риску, чтобы человек испытал свои силы в споре с другими. Здесь собственно имеется в виду охранить жизненную силу от застоя и поддержать ее в движении. Два таких игрока предполагают, что они играют друг с другом, тогда как на самом деле с ними обоими играет природа; и их собственный разум покажет им это, если только они подумают, как мало избранные ими средства соответствуют их цели. Но их приятное состояние во время этого возбуждения, так как оно роднится здесь с идеями (хотя дурно истолкованными) мечтательности, именно потому является причиной наклонности к очень бурной и очень продолжительной страсти 1).
Мечтательные склонности делают слабого человека суеверным и суеверного слабым, т. е. склонным ожидать для себя интересных последствий от обстоятельств, которые не могу т быть их естественными физическими причинами (но дают возможности чего-либо бояться или чего-либо ожидать от них). — Охотник, рыбак и игрок (главным образом в лотерею) очень суеверны и мечта, которая ведет их к ошибочному выводу: считать субъективное за объективное, настроение внутреннего чувства за познание самой вещи, — делает вместе с тем понятной и эту наклонность к суеверию.
О высшем физическом благе.
§ 85.
Величайшее чувственное наслаждение, которое не заключает в себе никакой примеси отвращения, — это в здоровом состоянии покой после работы. Наклонность к покою без предшествовавшей работы в этом состоянии называется леностью. Но даже довольно продолжительное отклонение от того, чтобы снова приняться за свою работу и сладкое far niente для того, чтобы собраться с силами, — еще не есть леность, ибо мо-
———————————————
1) Один человек в Гамбурге, который проиграл там значительное состояние, некоторое время смотрел на играющих. Один из его знакомых спросил, каково у него на душе, когда он вспоминает, что у него когда-то было такое состояние. Проигравшийся ответил: «если бы у меня опять появилось такое состояние, то я не мог бы найти более приятного способа его истратить».
134
жет быть (и в игре) приятным и в то же время полезен — быть занятым; даже смена работ, различных по их специфическим свойствам, вместе с тем может давать и разнообразное освежение, но требуется достаточно решимости, чтобы снова браться за тяжелую работу, которая остается незаконченной.
Из трех пороков — лености, трусости и фальшивости, — первый, по-видимому, заслуживает наибольшего презрения. Но в суждении людях с этой стороны очень часто можно оказаться несправедливым. Природа некоторым людям в их спасительном как для них, так и для других инстинкте мудро заложила отвращение от упорной и настойчивой работы, ибо они не могут выносить продолжительного или часто повторяемого напряжения сил без истощения, но нуждаются в известных паузах ради освежения. Дмитрий поэтому не без основания мог построить для этого чудовища (лености) алтари, ибо, если бы леность не наполняла промежуточных моментов, неустанная злоба могла бы причинить людям гораздо больше зла, чем совершается в настоящее время; и если бы трусость не сжалилась над людьми, то воинственная жажда крови скоро стерла бы все человечество, и если бы не было фальшивости (так как среди многих злодеев, в значительном числе соединившихся в одну шайку, всегда найдется один, который их выдаст и им изменит), то при прирожденной злобности человеческой природы, скоро погибли бы целые государства.
Самые сильные влечения природы, которые заступают место разума, незримо ведущего человеческий род к высшему физическому благу в мире (место мироправителя), хотя человеческий разум сам и не может содействовать этому, — это любовь к жизни и любовь кпороде; первая имеет в виду только оберегать индивидуумов, вторая — сохранять породу, так как тогда через смешение полов в нечто целое может постоянно сохраняться жизнь нашей разумной породы, хотя она сама сознательно работает над своим собственным саморазрушением (посредством войн); и этим разумным созданиям, всегда идущим вперед по пути культуры, даже среди войны недвусмысленно предоставляется в перспективе в грядущих веках такое состояние блаженства, от которого уже не будет поворота назад на прежнюю дорогу.
О высшем морально-физическом благе.
§ 86.
Оба вида блага морального и физического не могут смешиваться вместе, ибо в таком случае они нейтрализовали бы друг друга и не содействовали бы цели действительного блаженства. Но склонности к жизненному счастью и к добродетели в их борьбе друг с другом и ограничение принципа первой посредством принципа второй, в своем столкновении создают всю цель благовоспитанного человека, в одной части чувственного, а в другой морально-интеллектуального; но, гак как в применении трудно удержать эту смесь, то необходимо раз-
135
ложение ее через противодействующие вещества (rеаgentia), чтобы узнать, каковы элементы и каковы пропорции их соединения, которые в своем общении могут дать нам состояние морального блаженства.
Образ мышления, соединяющий благополучие с добродетелью в жизненном обиходе, это гуманность. Здесь дело идет не об основе счастья, ибо один для этого требует многого, а, другой думает, что для этого ему нужно очень немного; но здесь дело идет только о способе соотношения, по которому склонность к счастливой жизни должна быть ограничиваема законами добродетели.
Обходительность есть тоже добродетель; но склонность к обществу часто становится страстью. Если стремление к общительности ради хвастовства повышается путем расточительности, то эта ложная обходительность перестает был добродетелью и остается только роскошью жизни, которая наносит ущерб гуманности.
—————————
Музыка, танцы и игра создают бессловесное общение (ибо те немногие слова, которые нужны для последней еще не создают разговора, какого требует взаимный обмен мыслей). Игра, которая, как думают, должна служить только для заполнения перерывов и пауз в разговоре после стола, на самом деле обыкновенно бывает самым главным делом; игра ведется, как средство приобретения, причем аффекты приходят в сильное движение; здесь существует известная условность своекорыстия, чтобы грабить друг друга с величайшей вежливостью; и, пока игра продолжается, главным принципом всех является полнейший эгоизм, которого никто и не отрицает; а от такого общения, при всей культуре, которая может сказаться в манерах и приемах едва ли можно ожидать серьезного содействия объединению общественной счастливой жизни с добродетелью и через это содействия истинной гуманности.
Хорошее средство, которое, по-видимому, лучше всего содействует последней цели, — это хороший обед в хорошем (и, если это возможно, переменчивом в своем составе) обществе; об этом обществе Честерфильд говорит, что оно не должно быть меньше числа граций и больше числа муз1).
Если я беру застольное общество только из людей, одаренных
———————————————
1) За торжественным столом, где присутствие дам само собой ограничивает свободу мужчин только на вполне приличном, внезапная тишина которая иногда наступает, бывает иногда опасной случайностью, которая грозит минутами большой скуки, так как тогда никто не считает себя в состоянии сказать что-нибудь новое, удобное для продолжения разговора, ибо предмет для разговора он должен взять не с ветра, но из новостей дня которые сами по себе должны быть интересны. Часто такую остановку может предотвратить только одна единственная особа: главным образом это хозяйка дома; и только она может поддержать разговор в постоянном движении — именно тем, что она, при общем и громком удовольствии, как в концерте заканчивает аккорд и именно поэтому ее вмешательство тем плодотворнее: это напоминает пир Платона, о котором один из гостей сказал: «твои обеды нравятся не только тогда, когда их ешь, но и тогда, когда о них вспоминаешь».
136
вкусом (эстетически-одинаковых)1), то, так как они имеют в виду не только обыкновенный обед в обществе, но рассчитывают получить друга от друга приятные впечатления (и тогда именно их число не должно значительно превышать числа граций), — то это небольшое застольное общество должно иметь своей целью не только телесное удовлетворение, которое каждый вполне может получить и в одиночестве, но и общественное удовольствие, для которого совместный обед служит только средством; тогда это число должно быть достаточным именно для того, чтобы разговор не прерывался, или чтобы не приходилось опасаться, что общество разобьется на небольшие отдельные кружки, станет разговаривать только с ближайшими соседями. Последнее не отвечает утонченному вкусу в постановке разговора, ибо культура всегда должна вести к тому, чтобы один говорил со всеми (а не только с своими соседями), тогда как так называемые торжественные банкеты (обеды и пунши) совершенно не соответствуют развитом вкусу. При этом само собой разумеется, что во всех застольных обществах, даже за столом в гостинице, то, что там говорится нескромными собеседниками публично в ущерб кому-либо отсутствующему, все-таки нельзя выносить за пределы этого общества и не следует болтать об этом на стороне. Подобный пир, и без особого договора в этом отношении, является до известной степени священным и возлагает связанность молчания относительно того, что сочленам по этому собранию впоследствии и на стороне могло бы причинить неприятности: без этого доверия совершению уничтожилось бы известное удовольствие в обществе, соответствующее моральной культуре, и даже возможность находить в обществе удовольствие вообще. Поэтому я, конечно, стану, когда в так называемом общественном собрании (ибо собственно какое угодно большое застольное общество есть всегда только частное общество, и только официальное государственное собрание по идее публично), — стану, творю я, если об одном из моих лучших друзей будут говорить что-либо нехорошее, его защищать, во всяком случае на свой собственный риск в суровых и резких выражениях стану на его сторону, но я не позволю воспользоваться собой, как орудием для того, чтобы распространять эти дурные сплетни и переносить их тому человеку, которого они касаются. Не один только общественный вкус должен руководить нашим поведением в обществе; но для этого существуют и известные принципы, которые должны служить ограничительным условием свободы при общественном обмене мыслями между людьми в их обиходе.
Здесь, в том взаимном доверии между людьми, которые едят за столом вместе друг с другом, есть нечто аналогичное с древними обычаями; так, например, у арабов, у которых чужеземец, как только он мог съесть в их палатках хотя что-нибудь (хотя бы сделать один глоток воды), может рассчитывать на полную безопасность, или, когда русской императрице, депутаты, вышедшие к ней на
———————————————
1) Десять за столом — ибо хозяин, который угощает гостей, в этом числе не считается.
137
встречу из Москвы, подают хлеб-соль, она, отведав это, по праву гостеприимства может быть гарантирована от всякого подстерегания. — На общее вкушение пищи да столом, можно смотреть, как на формальность подобного договора взаимной безопасности.
Есть одному (solipsismus convictorii) для философствующего ученого нездорово1); это не восстановление сил, но истощение их (особенно при кутеже в одиночку); это истощающая работа, а не живая игра мысли. Обедающий человек, который за своим одиноким обедом в мышлении имеет дело только с самим собой, мало по малу теряет живость; но он становится гораздо оживленнее, если товарищ по обеду сменой живых замечаний даст ему новый материал для такого оживления, которого сам он не мог бы найти для себя.
За обильным столом, где множество блюд рассчитано только на продолжительное общение гостей (coenam ducere), разговор обыкновенно идет по трем ступеням: 1) раcсказы, 2) раcсуждения и 3) шутки. А) Новости дня, сперва домашние, а потом и иностранные, сообщения в письмах или в газетах. — В) Если этот первый аппетит удовлетворен, то общество становится живее, ибо в виду того, что при рассуждениях трудно избежать различия мнений относительно одного и того же поставленного на очередь предмета и каждый все-таки о своем предмете отнюдь не меняет мнения, поднимается спор, который возбуждает аппетит к блюдам и бутылкам и по мере оживления спора и участия в нем всех разговор становится плодотворным. — С) А так как рассуждение всегда представляет из себя что-то в роде работы и требует напряжения сил, а эта работа в конце концов становится трудной за довольно обильным и разнообразным столом, то разговор естественным образом сводится к простой игре остроумия, отчасти и для того, чтобы понравиться присутствующим дамам; при этом небольшие, бойкие, по не грубые нападения на их пол производят свое действие и дают возможность показать себя перед ними в своих остротах с выгодной стороны; таким образом обед оканчивается смехом; а этот смех, громкий, и добродушный, природа через движение грудобрюшной преграды и кишок главным образом и определила
———————————————
1) Ибо философствующий ученый долго вынашивает свои мысли, чтобы путем многосторонних попыток как-нибудь найти, в каких принципах систематически он может объединить их; и идеи, так как это не созерцания, предносятся ему как бы в воздух. Исторический или математический ученый напротив может поставить их перед собой и таким образом с пером в руках может эмпирически упорядочивать их соответственно общим правилам, как будто бы это были факты: таким образом на следующий день, так как предшествовавшее в известных пунктах уже окончено, он может продолжать свою работу с того места, на котором он ее оставил. Что же касается философа, то на него нельзя смотреть, как на рабочего при постройке здания наук, т. е. как на ученого, а надо смотреть, как на испытателя истины. Таким образом это только идея личности, которая делает своим предметом конечную цель всякого знания практически и (в интересах этого практического) теоретически и это имя можно употреблять только в единственном, числе, а не во множественном (философ учит так-то, или так-то), ибо оно отмечает только простую идею, а говорить о философах значит намечать множественность там, где существует только абсолютное единство.
138
для желудка в интересах пищеварения и, следовательно, для телесного благосостояния; а участники в подобных обедах, — и надо удивляться их числу, — в простых целях природы думают видеть культуру духа. Застольная музыка при торжественных банкетах больших господ, — эта самая бессмысленная нелепость, которая всегда оставляет общий обед не одухотворенным.
Правила тонкого обеда, который воодушевляет общество, следующие: а) выбор материала для беседы, который всех интересует и каждому дает возможность с своей стороны сказать что-нибудь кстати; в разговоре не должно быть убийственной тишины, но только мимолетные паузы; с) предмет нельзя изменять без нужды и перепрыгивать с вопроса на вопрос, ибо мышление как в конце пира, так и в конце драмы (какова и вся прожитая жизнь разумного человека) неизбежно занимается воспоминаниями о некоторых моментах разговора; если же при этом он не может найти никакой объединительной нити, то он чувствует себя сбитым с толку и с негодованием замечает, что в культурном отношении он нс только не подвинулся вперед, но скорее отодвинулся назад. Предмет, который занимает общество, надо почти исчерпать, прежде чем перейти к какому-нибудь другому, и при остановке разговора надо потихоньку выдвигать ради пробы что-нибудь сродное с прежним предметом; таким образом один единственный человек может незаметно взять на себя руководство разговором в обществе; d) нельзя позволять в обществе ни для себя, ни для своих сотоварищей страсти к спорам из за прав и не позволять, чтобы такие споры затягивались; скорее же, так как здесь разговор должен быть не деловым, а только шутливым, все слишком серьезное надо отклонять посредством ловко вставленной шутки; е) в серьезном споре, которого все таки нельзя избежать, надо держать самих себя и свои аффекты в такой дисциплине, чтобы всегда были заметны взаимное уважение и благожелательность; при этом все зависит скорее от тона (не быть заносчивым или слишком крикливым), чем от содержания разговора, чтобы таким образом никто из застольников не возвращался из общества домой в ссоре кем-нибудь другим.
Как ни незначительными могут показаться эти законы для утонченного человечества, в особенности в том случае, если их будут сравнивать с чисто моральными постановлениями, — но во всяком случае это все, что содействует общительности; если бы оно только могло быть выражено в удачных максимах или манерах, то это та одежда, которая очень выгодно прикрывает добродетель и которую для последней надо рекомендовать и из более серьезных соображений. — Пуризм умников и умерщвлений плоти у анахорстов, без красоты форм общественной жизни, — это истощенные формы добродетели; они не представляют из себя ничего заманчивого и, как позабытые грациями, не могут иметь никаких притязаний на гуманность.
139
АНТРОПОЛОГИИ
ВТОРАЯ ЧАСТЬ.
АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.
О способе познавать внутреннее содержание человека из внешности.
ДЕЛЕНИЕ.
1) Характер личности. 2) Характер пола. 3) Характер народа, 4) Характер рода.
А.
Характер личности.
§ 87.
Б прагматическом отношении общее естественное (не гражданское) учение о признаках (semiotica universalis) пользуется словом характер в двояком значении; так, отчасти говорят: известный человек имеет тот или этот (физический) характер; а отчасти говорят, что он имеет характер (моральный), который можно только или иметь, или не иметь вовсе. Первый — это признак различие между людьми, как чувственными или естественными существами. Второй — это признак человека, как разумного существа, одаренного свободой. Человек с принципами, о котором достоверно известно, чего можно ожидать не от его инстинкта, но от его воли, — имеет характер. — Поэтому в характеристике без тавтологии, в том, что относится к его желательной способности (в практическом отношении), характерное можно подразделять на а) естественные или природные задатки, Ь) на темперамент или форму чувственности и на характер просто, как образ мышления. — Обе первые способности указывают, что можно делать из человека, а второй (моральный), что сам он готов сделать из себя.
I.
Об естественных задатках.
Человек имеет добрую душу. — Это значит, что он не задорен, но уступчив, что, хотя и вспыльчив, но его легко уговорить и он не питает никакой злобы (отрицательно добрый человек). — Напротив, чтобы иметь возможность сказать об нем, что он имеет доброе сердце, то, хотя это относится и к характерной форме чувственности, значит уже сказать гораздо больше. Это побуждение к практически-доброму, хотя бы оно совершалось и не по принципам, так что добродушный
141
и добросердечный оба люди, которыми лукавый человек может пользоваться, как ему угодно. — И таким образом естественное в характере сводится более (субъективно) к чувству удовольствия или неудовольствия, к тому способу, каким один человек получает воздействие от другого (это может иметь в данном случае нечто характерное), чем (объективно) к желательной способности, где жизнь проявляется не только в чувстве, внутренним образом, но и в деятельности внешним образом, хотя только по побуждениям чувственности. В этом и состоит темперамент, который надо отличать от обычного (добытого путем привычки) расположения, ибо в основе последнего лежат не естественные задатки, но чисто случайные причины.
II.
О темпераменте.
В физиологическом отношении, когда речь идет о темпераменте, имеют в виду телесную конституцию (слабое или сильное строение) и комплекцию (жидкое, посредством жизненной силы закономерно подвижное в теле, под чем вместе с тем разумеется тепло или холод в обработке этих соков).
Но, когда смотрят на дело с психологической стороны, т. е. обращают внимание на душевные темпераменты в области чувства или желания, — то эти выражения, заимствованные из свойств крови, представляются только по аналогии игры чувств и желания с телесными движущими причинами (из которых кровь есть самая главная).
Тогда оказывается, что темпераменты, которые мы приписываем только душе, вместе с тем могут включать в себе, как содействующую причину, и телесную сторону человека; далее, что, так как, во первых, они допускают главное деление их на темпераменты чувства и темпераменты деятельности, и, во вторых, каждый из них может соединяться или с подъемом жизненной силы (intensio). или ее ослаблением (remissio), — то можно представить только четыре простых темперамента (как четыре силлогистических фигуры через medius terminus): сангвинический, меланхолический, холерический и флегматический. Тогда только могут быть удержаны эти древние формы деления и только таким образом они могут получить более удобное толкование, соответствующее духу этого учения о темпераментах.
Но при этом выражение «свойства крови» уже не служит к тому , чтобы отмечать причину феномена при чувственных воздействиях на человека со стороны, будет ли это по патологии жидкостей, или по патологии нервов; оно служит только для того, чтобы классифицировать их соответственно сделанным наблюдениям о воздействиях на человека, ибо здесь предварительно не требуется знать, какое химическое смешение крови оправдывает то или другое название известных свойств темперамента, а имеется в виду только то, какие чувства и склонности
142
при изучении человека сопоставляются вместе, чтобы должным образом поставить его под надлежащую рубрику особого класса.
Высшее деление учения о темпераментах может быть, следовательно, таким: темпераменты чувства и темпераменты деятельности; это деление распадается на два вида, что в своей совокупности дает четыре класса темпераментов, — К темпераментам чувства я причисляю А) сангвинический и В) в противоположность ему меланхолический. Первый имеет ту особенность, что ощущение здесь действует быстро и сильно, но проникает не глубоко (не бывает продолжительным), а во втором темпераменте ощущение бывает менее ярким, зато пускает свои корни гораздо глубже. Здесь эго различие темпераментов надо полагать в чувстве, а не в наклонности к радости или печали. Легкий нрав сангвинического человека предрасполагает к веселости, а то глубокомыслие, которое задумывается над ощущениями, отнимает от радости ее гибкость и изменчивость, хотя еще и не ведет к печали. — Но, так как всякая перемена, которая находится в нашей власти, вообще оживляет и поддерживает душу, то тот, кто все, что с ним случается, легко несет на своих плечах, если и не умнее, то несомненно счастливее того человека, который липнет к ощущениям, заставляющим его жизненную силу испытывать задержки.
I.
Темпераменты чувства.
А.
Сангвинический темперамент легкокровного человека.
Чувственные особенности сангвинического человека можно узнать по следующим проявлениям: это человек беззаботный, всегда полный самих лучших надежд; каждой вещи на мгновение он придает огромное значение, а через минуту уже перестает об ней и думать. Он дает обещания, как честный человек, но не держит своего слова, ибо предварительно он недостаточно глубоко обдумывает, в состоянии ли он сдержать свое слово. Он достаточно добродушен для того, чтобы оказать помощь другому, но он плохой должник и всегда требует отсрочки. Это всегда добрый товарищ, большой шутник, весельчак, который ничему в мире не придаст большого значения (vive la bagatelle!) и все люди ему друзья. Это обыкновенно не злой человек, по это грешник, который не легко поддается исправлению. Правда, он сильно раскаивается в чем бы то ни было, но скоро забывает свое раскаяние, которое у него никогда не превращается в горе. Работа его скоро утомляет, но он без устали занимается тем, что в сущности представляет из себя только игру, ибо игра всегда приносит с собой только смену; выдержка в работе уже не по его части.
143
В.
Меланхолический темперамент тяжелокровного человека.
Человек, наклонный к меланхолии (не меланхолик, ибо это обозначает уже известное состояние, а не простую наклонность к известному состоянию), всему, что с ним случается, придает огромное значение, во всем видит причины к опасениям и прежде всего обращает внимание на трудности, тогда как сангвинический человек, наоборот, начинает с надежды на полный успех; поэтому первый думает настолько же глубоко, насколько второй поверхностно. Он не легко дает обещание, ибо ему дорого сдержать свое слово и он сомневается в своей способности сделать это. И все это происходит у него не по моральным причинам (ибо здесь речь идет только о чувственных побуждениях), но потому, что он представляет противоположность необдуманности и именно поэтому становится озабоченным, недоверчивым и полным сомнений, а через это и мало восприимчивым к веселому настроению духа. — Впрочем, это настроение духа, когда оно становится привычным, противопоставляется тому настроению общего друга людей, которое в большинстве случаев является у сангвиника наследственным, по крайней мере в его возбудимости, ибо тот. кто сам должен обходиться без друзей, с трудом отдает свою дружбу другим.
II.
Темпераменты деятельности.
С.
Холерический темперамент теплокровного человека.
О нем говорят, что он горяч, вспыхивает быстро, как солома, но при уступчивости со стороны других скоро остывает. В его гневе нет ненависти и он любит другого тем сильнее, чем скорее ему уступают.
Его деятельность быстра, но выдержки в нем нет. — Это человек деловой, но он неохотно несет на себе выполнение своих дел именно потому, что у него нет нужной выдержки; и он поэтому охотно становится только распорядителем, который руководит делами, но сам вести их не хочет. Поэтому его господствующая страсть это честолюбие, он охотно берется за общественные дела и любит громкие похвалы. Он любит поэтому блеск и помпу формальностей, охотно берет под свою защиту других и по виду кажется великодушным человеком, хотя это великодушие происходит не из любви, а из гордости, ибо себя самого он любит больше. — Он во всем держится порядка и кажется поэтому умнее, чем он есть. Он любит располагать средствами, чтобы не быть скаредным: он вежлив, но любит
144
церемонии, натянут и педантичен в обхождении и охотно имеет при себе какого-либо льстеца, который служит мишенью для его остроумия, и легче, переносит обиду, когда оказывают сопротивление против его гордых притязаний, чем скупец переносит противодействие его корыстным планам. Доза тонкого остроумия иногда совершенно разгоняет вокруг него сияние его важности, тогда как скупец, благодаря своим прибыткам, считает себя совершенно недоступным для такой остроты. Одним словом, холерический темперамент — самый несчастный из всех темпераментов, ибо он сильнее других возбуждает против себя противодействие.
D.
Флегматический темперамент хладнокровного человека.
Флегма обозначает отсутствие аффектов, а не вялость (безжизненность) их; и поэтому человека, у которого много флегмы, нельзя сразу же называть флегматическим человеком и под этой кличкой зачислять в разряд лентяев.
Флегма, как слабость, это наклонность к бездеятельности, к нежеланию браться за дело даже при очень сильных побуждениях. Нечувствительность к этим побуждениям обусловливают его добровольную бесполезность для общества и его склонности сводятся только к насыщению и сну.
Флегма, как сила, это способность не легко и не быстро приходить в движение, но, поднимаясь медленно, идти настойчиво и долго. Тот, у кого в крови есть добрая доза флегмы, нагревается медленно, но долго хранит тепло. Он нелегко приходит в гнев и даже колеблется, следует ли ему сердиться. Если холерический человек может придти в бешенство, то твердого человека он не может вывести из спокойствия.
Человек с совершенно обыкновенной дозой разума, но от природы одаренный этою флегмой, не поражает своим блеском. Но хладнокровный человек ни в чем не будет раскаиваться, так как он выходит из принципов, а не из инстинктов. Его счастливый темперамент заступает у него место мудрости и его даже в обыкновенной жизни часто называют философом. Благодаря этому он становится выше других, не оскорбляя их сущности. Его часто называют также толстокожим, ибо все направленные на него баллисты и катапульты отскакивают от него, как от мешка с ватой. Это очень удобный муж, который умеет держать власть над женой и родственниками, хотя, по видимому, он всем делает угодное; благодаря своей непреклонной обдуманной воле он умеет настроить всех своих на свой собственный лад; так тела, которые, при небольшом объеме и большой скорости, нанося удар, пробивают препятствие насквозь, — при большом объеме увлекают за собою встреченное ими препятствие, не разбивая его на куски.
145
Если один темперамент, как это обыкновенно думают, сопутствует другому, как например,
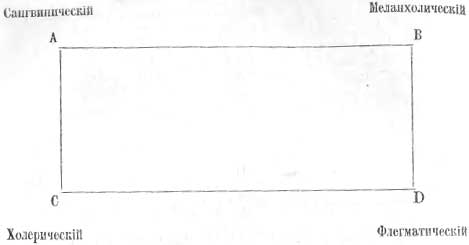
то они или противодействуют друг другу, или нейтрализируются.
Первое бывает в том случае, если в одном и том же субъекте хотят мыслить соединение сангвинического темперамента с меланхолическим, или холерического с флегматическим, ибо они (А и В, также С и D) взаимно противоречат друг другу. Второе, а именно нейтрализация, может происходить при (как бы химическом) смешении сангвинического темперамента с холерическим и меланхолического с флегматическим (А и С, также В и D). Добродушное веселье не может слиться в одном и том же акте с грозным гневом, точно так же, как муки самоистязания с довольством и спокойствием самоудовлетвѳреииой души. — Но если одно из трех состояний в том же самом субъекте должно смешаться с другими, то получаются только причуды и капризы, а не определенный темперамент.
Следовательно, сложных темпераментов нет, как нет сангвинически-холерического (каким предполагают обладать все те пустые говоруны, которые пробуют уверить других, что они милостивые, но и строгие господа); их всегда и во всем только четыре и каждый из них прост; нельзя и предвидеть, что вышло бы из человека, который имел бы смешанный темперамент.
Веселость и легкомыслие, глубокомыслие и мечтательность, высокомерие и упрямство, наконец хладнокровие и неуступчивость по отношению к их причине 1), отличаются только как действие темперамента.
———————————————
1) Какое влияние оказывает различие темпераментов на общественные дела или наоборот (через то влияние, какое привычная деятельность в обществе производит на темперамент), можно представить отчасти путем опыта, отчасти и при содействии предполагаемых случайных причин. Так в религии холерик бывает православным, сангвиник свободомыслящим, меланхолик мечтателем, флегматик индифферентным. Но эти суждения, поставленные так, имеют только столько значения, сколько им дает старая острота: valent quantum possunt (т. е. значат, сколько могут).
146
III.
О характере, как образе мышления.
Сказать о человеке просто, что он имеет характер, это значит не только сказать о нем очень много, но и сказать это многое в большую ему похвалу, ибо это редкость, которая вызывает со стороны других уважение и удивление.
Если под этим названием разумеют вообще те особенности, какими несомненно обладает данный человек, будут ли эти особенности хорошими или дурными, то обыкновенно к этому прибавляют, что он имеет тот или этот характер, и тогда этим выражением отмечают его чувственный облик. Но иметь характер — просто обозначает то свойство воли, по которому субъект сам делает для себя обязательными определенные практические принципы, которые он сам предписывает себе, как нечто неизменное, посредством своего собственного разума. Хотя эти принципы иногда бывают ложными и ошибочными, все-таки формальная сторона воли вообще, а именно: действовать по прочным основоположениям (а не толкаться туда и сюда, подобно куче комаров), — представляет нечто ценное и достойное удивления, так как это бывает редко.
Здесь дело зависит не от того, что делает из человека природа, а от того, что сам он делает из самою себя; ибо первое относится к темпераменту (причем субъект по большей части бывает пассивным) и только последнее свидетельствует о том, что он имеет характер.
Псе другие хорошие и полезные свойства человека имеют свою собственную цену, при которой возможен правильный обмен и на другие свойства, какие тоже приносят много пользы; талант имеет рыночную цену, ибо землевладелец или правитель государства может на разные лады пользоваться таким человеком; темперамент имеет аффективную цену, ибо с подобным человеком можно весело провести время и такой человек всегда приятный собеседник; но характер имеет внутреннюю ценность1), которая выше всякой другой цены.
———————————————
1) Один моряк в обществе прислушивался к спору, который ученые вели о своем сравнительном значении, соответственно значению в жизни своих факультетов. Он решил этот спор по-своему, а именно поставил вопрос, за сколько он мог бы продать человека, захватив его на свой корабль, на рынке в Алжира. Там никто не нуждается ни в теологах, ни в юристах; но врач понимает свое ремесло и его можно продать за наличные деньги. — К королю Иакову I английскому, его мамка, которая его вскормила, обратилась с просьбой сделать ее сына джентльменом (тонким и изящным человеком). На это Иаков ответил, что он не может этого сделать; он может сделать ее сына графом, но джентльменом он должен сделаться сам. Диоген (циник) был захвачен морскими пиратами (как рассказывает мнимая история) во время морского переезда у островов Крита и был выставлен на продажу на рынке при публичной распродаже рабов. „Что ты знаешь, что ты можешь делать? -- спрашивал его маклер, поставив его на возвышение. «Я умею управлять», — ответил философ, — «и ты мне ищитакого
147
IV.
О свойствах, которые следуют, только из того, имеет ли человек характер, или не имеет его.
1) Подражатель (в моральной области) не имеет характера, ибо характер состоит в оригинальности образа мышления и человек почерпает его из таких источников своего поведения, которые открыты им самим. Но именно поэтому разумный человек не может быть в то же время и чудаком. Таким чудаком он никогда не может быть именно потому, что он основывается на принципах, которые имеют значение для каждого, а подражатель, как обезьяна, только копирует того человека, который имеет характер. Добронравие из темперамента — это картина акварельными красками и не представляет чего-либо характерного. Но представлять характер в карикатуре — это преступление и издевательство над человеком, который обладает действительным характером; если этот человек не практикует вместе с другими то злое, что раз стало общественной привычкой (модой), то поэтому, может быть, он и кажется чудаком.
2) Злоба, как свойство темперамента, все же не так дурна, как добродушие из темперамента без характера. Даже злой человек (как Силла), если в то же время в проявлениях насилия над другими он обнаруживает непоколебимость своих максим, хотя и возбуждает у нас отвращение, но до известной степени представляет для нас и предмет удивления; здесь мы имеем тоже, что представляет из себя сила духа, в сравнении с добродушием; хотя оба эти свойства должны были бы существовать одновременно в одном и том же субъекте, но это существует только в идеале, а не в действительности, именно то, что вполне оправдало бы название «величие духа».
3) Упрямый, непреклонный нрав при выполнении принятого намерения (каков был Карл XII), хотя и представляет из себя свойство природы, очень благоприятное для развития характера, но сам по себе еще не есть определенный характер вообще, ибо для этого нужны максимы, которые возникают из разума и морально-практических принципов. Поэтому было бы несправедливо говорить: «злоба этого человека — его характерное свойство», ибо тогда это было нечто дьявольское; но человек никогда не оправдывает в себе злобы и таким образом злоба не может собственно выходить из принципов, а возникает только из их несоблюдения. Таким образом лучше всего поступают в том случае, когда основоположения, которые касаются характера, излагают в отрицательной форме. Так:
———————————————
покупателя, который нуждался бы в господине». Купец, который задумался над этим редким притязанием, приступил к странному торгу; он передал Диогену на воспитание своего собственного сына и поручил сделать из него все, что он захочет, а сам несколько лет затем занимался своими делами в Азии и потом увидел своего сына превращенным в ловкого, изящного и добродетельного человека. — Почти так, можно ценить градацию человеческой стоимости.
148
a) Не говорить сознательно неправды, а поэтому говорить очень осмотрительно, чтобы не навлечь на себя нареканий в измене своему слову.
b) Не льстить, — перед глазами кого-нибудь казаться очень расположенным к нему, а за его спиной относиться в нему враждебно.
c) Никогда не нарушать своего (данного честно) обещания; сюда же относится, и воспоминание о дружбе, которая уже перестала существовать и впоследствии не злоупотреблять прежней доверчивостью и откровенностью другого.
d) Никогда не вступать в близкие отношения с человеком дурного образа мыслей и памятуя выражение: noscitur ex socio etc.1), сношения с таким человеком ограничивать исключительно деловой областью.
е) Не склониться к пересудам и сплетням на основании поверхностного и злобного суждения других людей, ибо это обнаруживает уже слабость; точно также умеряет свой страх перед опасностью промахнуться в чем-нибудь против моды, ибо мода есть нечто изменчивое и мимолетное; если же она уже получила до известной степени серьезное влияние на жизнь, не распространять, по крайней мере, ее заповедей на область нравственности.
Человек, который в своем образе мышления сознает в себе характер, получает этот характер не от природы, но каждый раз снова и снова должен его создавать из себя и оберегать его. Можно даже допустить, что обоснование его, подобное как бы полному возрождению человека, — известная торжественность обета, который он сам себе даст, — делают для пего незабвенным это событие и тот момент времени, когда, как бы полагая новую эпоху, в нем произошел этот переворот. — Воспитание, примеры и обучение создают эту твердость и устойчивость в принципах не мало-помалу, а вдруг, как бы путем взрыва, который сразу же следует за колебаниями при неверном и неустойчивом руководстве инстинкта. Может быть существует немного людей, которые испытали па себе эту революцию раньше З0-го возраста; еще меньше таких людей, которые могли твердо обосновать свой характер до сорока лет. — Время от времени стремиться к тому, чтобы исправиться, — это совершенно напрасная попытка и ибо одно впечатление гаснет в то время, когда работают над другими, а основа характера сеть абсолютное единство внутреннего принципа жизненного поведения вообще. — Говорят, что поэты не имеют характера; говорят, например, что они скорее готовы оскорбить своих лучших друзей, чем отказаться от какой либо остроумной выходки; или говорят, что нельзя искать характера у придворных, которые должны применяться ко всем и всяким формам; говорят, что по отношению к характеру лица духовного звания, которые в одинаковом настроении воздают почет как повелителю небес, так и владыкам земли, поставлены в очень неудобное положение, что, следовательно, их стремление иметь внутренний характер всегда остается у них только благочестивым желанием. Но, может быть, в этом виноваты и
———————————————
1) Характер узнают по тому, кто окружает человека.
149
философы, — именно потому, что это понятие в его абсолютности они не представляли в достаточно ясном свете; они представляли добродетель только в отрывках, но никогда не пытались представить ее во весь ее прекрасный рост и сделать ее интересной для всех людей.
Одним словом, правдивость, во внутреннем признании перед самим собой и вместе с тем в отношениях к каждому другому лицу, сделать для себя своей высшей максимой — вот единственное доказательство наличности сознания человека, что он имеет характер а так как иметь такой характер — это меньшее, чего можно требовать от разумного человека, а вместе с тем и наибольшее в его внутренней ценности (человеческого достоинства), то быть человеком с принципами (иметь определенный характер) — это должно быть доступно для самого заурядного человеческого разума и это по достоинству ставит такого человека выше самого большого таланта.
О физиогномике.
Это искусство по видимой фигуре человека, — следовательно, из его внешности, — судить о его внутреннем содержании, т. е. как об чувственных склонностях, так и об его образе мышления. — Здесь его определяют не в болезненном, но в здоровом состоянии, и не тогда, когда его душа находится в движении, но тогда, когда она в покое. Само собой разумеется, что, если тот, кого наблюдают с этой стороны, замечает, что за ним наблюдают и пытаются подсмотреть его внутренний мир, наблюдаемый уже не находится в покое, но приходит в состояние принужденности и внутреннего движения и даже негодования по поводу того, что он как бы выставляется на цензуру других людей.
Если часы имеют приятный футляр, то только из этого (говорит знаменитый часовых дел мастер) еще нельзя заключать, что их внутренний механизм хорош; но если футляр сделают плохо, то с достаточной уверенностью можно заключить, что и внутренний механизм их почти никуда не годится, ибо мастер не станет портить и обесценивать свою работу, сделанную тщательно и аккуратно, тем, что не обратит внимания на внешнюю отделку, которая требует от него меньше всего работы. Но было бы нелепо и здесь делать вывод по аналогии земного мастера с непостижимым Творцом природы, — будто бы и здесь для хорошей души припасено точно такое же прекрасное тело, чтобы человека, которого он создал, как бы рекомендовать другим людям и обеспечить ему хороший прием или, наоборот, отпугивать других его внешностью (через предостережение hic niger est; hunc tu, Romane, caveto)1). Ибо вкус, который заключает в себе чисто субъективную основу у людей для приятного или неприятного впечатления (по его красоте или безобразию), не может служить мерилом для мудрости, которая объективно имеет целью существование человека с известными естественными свойствами (хотя этой цели мы безусловно
———————————————
1) Это черный: его ты, римлянин, берегись.
150
не можем усмотреть), чтобы допускать в людях две эти разнородные вещи, как соединенные в одной и той же цели.
Об указаниях природы в деле физиогномики.
То обстоятельство, что тому человеку, которому мы так или иначе должны довериться, — какие бы хорошие рекомендации относительно его мы не получили, — мы прежде всего смотрим в лицо, славным образом в глаза, чтобы узнать, чего мы можем от него ожидать для себя, — это вполне естественное влечение: ибо нечто отталкивающее и нечто привлекающее в жестах часто решает наш выбор или заставляет нас колебаться, прежде чем мы достаточно не узнаем нрав рекомендуемого; таким образом, нельзя сморить, что существует физиогномическая характеристика: но только она никогда не может сделаться наукою, ибо особенности человеческой фигуры, которые намекают на известные склонности или способности созерцаемого субъекта, не могут быть поняты в описаниях на основании понятий, но только в снимках их и в изображении их для созерцания, или же в подражании им, где человеческая фигура вообще, по ее разновидностям, из которых каждая должна намекать на особое внутреннее свойство человека, выставляется перед нами для оценки.
После того, как карикатурные рисунки человеческих голов Баптисты Порта, которые представляют головы животных по аналогии с известными характеристическими лицами людей и отсюда дают возможность заключать о сходстве естественных задатков как в тех, так и в других, — давным-давно уже были забыты, сделалась за последнее время популярным и довольно дешевым товаром для удовлетворения этого вкуса попытка Лафатера с его силуэтами и с его широковещательностью: но и эта мода за последнее время прошла; теперь от всего этого не осталось уже больше ничего, кроме одного и то двусмысленного замечания фон-Архенголъца, именно того, что лицо человека, который в своих гримасах подражает только самому себе, вместе с тем возбуждает известные мысли или ощущения, которые соответствуют его характеру; таким образом физиогномика, как искусство угадывать внутренний мир в человеке посредством известных внешних непроизвольных знаков, совершенно не вызывает спроса; и от нее ничего не осталось, кроме искусства культивировать, вкус и при том не на вещах, но на нравах, манерах я обычаях, чтобы содействовать культуре вкуса путем критики, которая способствует общению с людьми и познанию людей вообще.
Деление физиогномики.
О характерном: 1) в строении лица, 2) в чертах лица, 3) в привычных сокращениях личных мускулов (в минах).
151
А
О строении лица.
Замечательно, что греческие художники имели в голове идеал строения лица (для богов и героев), который выражал вечную юность и вместе с тем спокойствие, — т. е. свободу от всяких аффектов, в статуях, в камеях и резьбе, причем в них не было ничего чувственно-возбуждающего. Греческий перпендикулярный профиль производит такое впечатление, что глаза лежат глубже, чем по нашему вкусу (который направлен на чувственно-привлекательное) они должны были бы лежать; и даже Венера Медицейская не свободна от этого упрека. — Причина этого может заключаться и в том, что, так как идеал должен быть определенной неизменной нормой для лица, где нос идет от лба под углом (при чем этот угол может быть больше или меньше), то нельзя дать никакого определенного правила для фигуры, как этого требует все, что относится к норме. И современные греки, несмотря на их прекрасное строение во всей остальной фигуре, все-таки не имеют той строгой перпендикулярности профиля на своих лицах, какое могло бы объяснить эту идеальность по отношению к художественным произведением, как нечто основанное на изучении подобных первоначальных типов.
По этим мифологическим образцам глаза должны лежать глубже и при основании носа оставляют нечто в тени; напротив, лица людей нашего времени, которые считаются красивыми, кажутся еще красивее при небольшом отклонении носа от линии лба (маленький изгиб при основании носа).
Если мы будем производить наши наблюдение над людьми, какими они бывают в действительности, то окажется, что строго соразмеренная правильность обыкновенно отмечает очень ординарных людей, лишенных ума и оригинальности. Средняя мера кажется и основной мерой и является базисом красоты; но это далеко еще не сама красота, ибо для красоты нужно и нечто характерное. Но эту характерность можно встретить на лице и без красоты, причем выразительность, хотя и в другом (моральном или эстетическом) отношении, часто очень много говорит в пользу человека; т. е., изучая лицо, то здесь, то там можно иногда порицать нечто на лбу, носу, подбородке или в цвете волос и т. д., но вместе с тем сознаваться, что для индивидуальности лица это служит лучшей рекомендацией, чем полная правильность во всем его строении, ибо такая правильность обыкновенно вводит с собой и отсутствие характерности.
Но ни одно лицо нельзя упрекать в отвратительности, если только в его чертах не отпечатлелось выражение души, испорченной пороком, или хотя и прирожденной, но несчастной наклонности к порочности; таковы — известная черта злобной и затаенной насмешки, когда человек говорит, или той глупой дерзости без смягчающей кротости, с которой он смотрит на лице каждого другого человека и этим обнаруживает, что он не придает никакого значение суждению всех других
152
людей. — Но бывают люди, лицо которых, как говорят французы, вновь стало варварским, ими пугают и, как говорят, ими можно загонять детей в постель; или же бывают лица, обезображенные оспой; бывают причудливые лица, или, как говорят голландцы, лица призрачные (как бы созданные грезами и сновидениями); «о в то же время эти обнаруживают столько добродушия и веселого настроении, что они как будто бы смеются над своим собственным лицом; поэтому их лицо отнюдь нельзя назвать отвратительным, хотя эти люди обыкновенно не сердятся на то, если дамы (как о Целиссоне в Асаdémie Française) об них говорят: «Целиссон злоупотребляет нравом мужчин быть безобразным». Еще хуже и глупее бывает в том случае, если человек, от которого можно ждать культурности, смеется, подобно черни, над калекою, ради его телесного уродства, которое часто только возвышает духовные преимущества больного; а это уродство, если оно, благодаря несчастной случайности, происходит в ранние годы (как говорят «слепая и жалкая собака»), делает человека действительно злым и мало по малу ожесточает его против людей с хорошей фигурой, которые только поэтому и считают себя лучше его.
Впрочем, для туземцев необычные лица людей из чужих краев обыкновенно являются предметом насмешки. Так, дети в Японии бегут следом за проживающими там голландцами и кричат: «о какие большие глаза, какие глаза». И китайцы находят рыжие волоса некоторых европейцев, которые посещают их страну, противными, а их голубые глаза смешными.
Что же касается до черепа и его фигуры, — а это составляет базис строения лица, как например, у негров, калмыков, индейцев и т. д., — то, судя по описанием Кампера и, главным образом, Блюмменбаха, все замечания в этом направлении относятся скорее к физической географии, чем к прагматической антропологии. Средним между той и другой наукой может быть то замечание, что лоб мужского пола и у нас обыкновенно бывает более плоским, а у женского часто более выпуклым.
Отмечает ли горбинка на носу насмешника, или та особенность в строении лица китайцев, о которой говорят, что у них нижняя челюсть больше выдается вперед сравнительно с верхней, служит ли признаком их упрямства, или та особенность американцев, что их лоб с обеих сторон обрастает волосами, является ли признаком их прирожденного слабоумия и т. п.? Все это только предположения, которые допускают слишком необоснованные выводы.
В.
О характерности в чертах лица.
Мужчине, даже в мнении женского пола, не вредит, если рубцы или следы оспы искажают его лицо и делают его суровым; если в его глазах блещет добродушие и вместе с тем выражение бодрости и сознание своей силы, в соединении с покоем, то он всегда будет ми-
153
лым и приятным и поэтому везде будет иметь свое значение. Подшучивают над такими людьми и их красотою (per antiphrasin1), но жена всегда может гордиться таким мужем. Такое лицо не есть карикатура, ибо карикатура есть сознательно преувеличенное изображение (искривление) лица в аффекте, выдуманное ради смеха, которое относится к мимике; скорее же это надо причислить к тем разновидностям, которые уже заключаются в природе; и этого нельзя назвать уродством (которое может возбуждать страх), ибо оно может возбуждать и любовь; хотя такое лицо и не бывает милым или красивым, оно все-таки никогда не бывает отвратительным 2).
В.
О характерности в выражении лица.
Мины — это черты лица, приведенного в движение; и в это движение лицо приводится более или менее сильными аффектами, наклонность к которым является характерной чертой человека.
Не легко впечатление аффекта не выдать движением личных мускулов. Оно сказывается уже в мучительной сдержанности, в жестах или в тоне голоса, а у того, кто слишком слаб, чтобы овладеть своим аффектом, внутренние движения вполне обнажаются в выражении лица (против желания разума), открывают даже то, что человек охотно хотел бы скрыть от посторонних глаз. Но те люди, которые большие мастера в этом искусстве, раз их разгадают, уже не считаются слишком хорошими людьми, с которыми можно доверчиво входить в деловые отношения, в особенности в том случае, если они мастерски владеют своими лицами и подделывают такое выражение лица, которое противоречит тому, что они делают.
Искусство объяснять игру личных мускулов, которая непроизвольно выдает внутренние движения, но при этом может и сознательно лгать, — дает повод для очень многих метких замечаний, о которых
———————————————
1) Антифразис, это название, которое стоит в противоречии с сущностью называемого: так Черное море у древних называлось Pontus Eoxinus (гостеприимное море), тогда как в сущности оно было не гостеприимным (àxinus).
2) Гейдеггер, немецкий музыкант в Лондоне, был человек очень нескладного сложения, но живой и очень рассудительный, с которым охотно поддерживала сношение знать ради его остроумия. Однажды ему пришло в голову в обществе, собравшемся за пуншем, утверждать, что у одного из присутствующих лордов самое отвратительное лицо в Лондоне. Лорд задумался и предложил ему на пари, что он найдет и покажет лицо еще отвратительнее, и велел позвать совершенно пьяную женщину, при виде которой все общество громко расхохоталось и раздались крики: «Гейдеггер, вы проиграли пари». — «Дело не решается так-то скоро», — ответил музыкант: — «пусть эта женщина наденет мой парик, а я надену ее корсет и тогда мы посмотрим». Когда это было сделано, раздался всеобщий неудержимый хохот, ибо женщина имела вид вполне изящного мужчины, а мужчина выглядел, как ведьма. Это доказывает, что для того, чтобы назвать кого-нибудь прекрасным или, по крайней мере, достаточно красивым, надо высказывать свое суждение не безусловно, но всегда только относительно, и что нельзя называть кого бы то ни было отвратительным только потому, что он некрасив.
154
я хочу упомянуть здесь только слегка. Если кто-нибудь, который в другое время не косит, рассказывая что-нибудь, начинает смотреть на копчик своего носа и таким образом начинает косить, то, что он рассказывает, всегда ложно. Но сюда не следует относить действительного косоглазия, на основе болезненного состояния глаз, ибо здесь человек может быть совершенно свободным от этого порока.
Но существуют жесты, установленные природой, которые без всякого соглашения прекрасно понимают люди всех племен и всех климатов. Сюда относится: кивать головой (для подтверждения), трясти головой (для отрицания), вскинуть голову (упрямство), качать головой (удивление), морщить нос (насмешка), иронически смеяться (ехидствовать), делать длинное лицо (при отказе в желаемом), морщить лоб (в раздражении), быстро открывать и закрывать рот (ба!), махать руками к себе и от себя, всплеснуть руками над головой (изумление), сжимать кулаки (угроза), поклоны, положить палец на губы (compescere labella) в знак приглашение к молчанию, шикать и т. п.
Отдельные замечания.
Игра мускулов, которая повторяется часто и непроизвольно сопровождает душевные движение, мало по малу превращается в устойчивые черты лица; но в момент смерти эти черты лица исчезают; поэтому, как заметил Лафатер, отталкивающее лицо, обличающее злодея при жизни, после смерти как бы (отрицательно) облагораживается, ибо здесь, так как все мускулы ослабевают, остается выражение покоя и состояние невинности. Таким образом может случиться, что человек, который свою юность провел без искушений, в более поздние годы, в общем пользуясь здоровьем, приобретает другое лицо, благодаря распутной жизни; но от этого еще нельзя заключать об его природных задатках.
Говорят и о заурядных лицах в противоположность лицам благородным; последние не обозначают ничего другого, кроме притязательной важности в соединении с светскими и вкрадчивыми манерами, что встречается только в больших городах, так как здесь при постоянном взаимном трении, люди шлифуются и теряют все шероховатости. Поэтому чиновники, которые родились и получили воспитание в провинции, когда они вместе с их семьями переезжают в большие города на более видные должности, или только повышаются в чинах на своей службе, обнаруживают что-то заурядное не только в своих манерах, но и в выражении своего лица. Так как в кругу своей деятельности они чувствовали себя вполне по-домашнему, ибо имели дело почти исключительно только со своими подчиненными, то их личные мускулы не приобрели той гибкости, чтобы во всех сношениях с высшими, равными и низшими выработать выражение лица, соответствующее окружающей их среде и тем, или другим аффектам. А это, хотя и не представляет чего-либо особенно важного, все-таки необходимо для хорошего приема в обществе. Напротив, люди, опытные в городском
155
общежитии, все равного ранга, так как они сознают, что в этом отношении имеют преимущество перед другими. Это сознание, если оно благодаря продолжительной практике, становится обычным, они сохраняют на своем лице как бы в постоянных чертах.
Богомолки, когда они долго дисциплинируются в механических благочестивых упражнениях и как бы в них застывают, при господствующей религии или культе вносят в весь народ внутри его границ известные национальные черты, которые характеризуют их а в выражении физиономии; так барон Николаи говорит о фатальных блаженных лицах в Баварии. Напротив, Джон Булль из Старой Англии уже в чертах своего лица выражает сознание своего права: быть невежливым с чужеземцами, куда бы он ни явился, как в чужих пределах, так и у себя дома. Следовательно, существует и национальная физиономия, хотя эту физиономию и нельзя считать прирожденной. Существуют характерные особенности на лицах тех людей, которых закон приговорил к наказанию. О заключенных в тюрьме в Амстердаме, в Бисетре в Париже и в Ньюгете в Лондоне, один остроумный путешествующий немецкий врач заметил, что это были по большей части люди с широкою костью, которые сознавали свое превосходство. Но ни о ком нельзя сказать вместе с актером Кином: «если этот парень не плут, то Творец пишет неразборчивым почерком», — ибо для того, чтобы выражаться так резко, нужно больше способности различать игру, которую природа ведет с формами своих продуктов, чтобы создать только разнообразие темпераментов, от того, что она в этом отношении делает или не делает для морали; для злого нужно иметь больше способности прозрения, чем та, на которую смеет рассчитывать смертный.
156
B
Характер пола.
Во всех машинах, при которых с небольшими силами можно сделать столько же, сколько в других обстоятельствах делается при силах больших, должно проявляться известное искусство. Потому можно уже заранее допустить, что заботливостью природы в организацию женской половины вложено больше искусства, чем в организацию мужской, ибо мужчину природа наделила большим запасом силы, чем женщину, чтобы соединить их для самого тесного телесного единения, но как разумных существ и соединить ради их главной цели, именно для сохранения рода; кроме того, в этом значении она снабдила их (как разумных животных) общественными склонностями, чтобы половое общение в их домашнем единении сделать более продолжительным.
Для единства и нерасторжимости этого соединения еще недостаточно простой встречи двух личностей; одна половина должна подчиниться другой и, наоборот, одна из них в каком-нибудь отношении должна стоять выше другой, чтобы властвовать и повелевать. При равенстве притязаний двух людей, которые не могут обойтись друг без друга, самолюбие производило бы только постоянные раздоры. Каждая сторона в проявлении культурности должна стоять выше другой, но каждая по-своему. Мужчина стоит выше женщины по своей физической силе, по своему мужеству, а женщина стоит выше мужчины по своему природному таланту пользоваться в своих интересах склонностью к ней мужчины. Но там, где культуры еще нет, преимущество всегда на стороне мужчины; отсюда в антропологии особенности женщины, более чем особенности мужчины, дают работы для философа. В грубом, естественном состоянии их также мало можно изучать, как и лесные яблоки и дикие груши, разнообразие которых открывается только путем прививки: культура не создает этих женских особенностей, но только дает толчок для их развития и при благоприятных условиях делает их более заметными.
Женственность называют слабостью. Над этим шутят. Дураки делают это предметом издевательства, а умные люди ясно видят, что это у женщины рычаг для того, чтобы направлять мужчину и пользоваться им для достижения своих целей. Легко разгадать мужчину, но женщина не выдаст своей тайны, хотя чужие тайны (в виду ее разговорчивости) сохраняются у нее плохо. Мужчина любит домашний мир и охотно подчиняется распорядкам жены, чтобы только не встре-
157
чать помехи для своих дел вне дома. Женщина не боится домашней войны, которую она ведет языком и для которой природа наделила ее речистостью и пламенным красноречием, что обезоруживает мужчину. Он опирается на право сильного быть в доме повелителем, ибо он должен защищать этот дом от внешних врагов, а она опирается на право слабого — находить себе защиту от других мужчин у своего мужа и слезами обезоруживает раздражение мужа, когда упрекает его в отсутствии великодушия.
В грубом естественном состоянии все это, конечно, бывает иначе. Там женщина домашнее животное. Мужчина с оружием в руках идет вперед, а женщина следует за ним, нагруженная тюками. Но даже там, где варварское государство или гражданское неустройство допускает по закону многоженство, особенно одаренные женщины в своем затворе (называемом гаремом) могут приобрести власть над мужчиной и он бывает вынужден создать для себя сколько-нибудь сносный покой среди брани многих из за преимущества одной (которая должна над ними господствовать).
В гражданском состоянии женщина не отдается прихотям мужчины вне брака и притом брака моногамичного; а там, где цивилизация еще не поднялась до женской свободы в распущенности нравов (возможности публично иметь и других мужчин, кроме одного, любовниками), муж наказывает жену, которая угрожает ему соперником1). Но, если это входит в моду и ревность становится смешной (а это всегда бывает в периоды роскоши), — то женский характер проявляется ясно; а именно своим вниманием к мужчинам они посягают на их свободу и вместе с этим на завоевание всего мужского пола. — Эта склонность, хотя она под именем кокетства пользуется дурной репутацией, все-таки не лишена действительной основы для своего оправдания, ибо молодая женщина всегда подвергается опасности остаться вдовой; это побуждает се распространять свои чары на всех мужчин, благодаря счастливым обстоятельствам способным к заключению брака. Она имеет в виду, чтобы, рал это случится, у нее не было недостатка в искателях ее руки.
Поп думает, что женскую половину человечества (конечно, ее культурную часть) можно охарактеризовать двумя признаками, а именно — жаждой власти и жаждой удовольствия. В последнем случае надо
———————————————
1) Старая сказка о русских, будто бы там жены подозревают своих мужей в неверности и измене с другими женщинами, если время от времени не получают от них колотушек, обыкновенно считалась басней. Но в описании путешествия Кука рассказывается, как один английский матрос наткнулся на одного индейца, который наносил побои своей жене; матрос хотел доказать свою галантность и с угрозою бросился к обидчику. Но женщина тотчас же обратилась к англичанину и спросила его, какое ему до этого дело: ее муж делает, что надо. Почти также оказывается, что, если замужняя женщина откровенно занимается авантюрами, а ее муж уже не обращает на это внимания, проводя время за вином, за игрою в карты или за каким-нибудь волокитством, считает себя в стороне от всего этого, то в женской половине появляется к нему не только презрение, но и ненависть, ибо женщина узнает поэтому, что муж уже не придает ей никакого значения и равнодушно предоставляет свою жену другим, чтобы они обгладывали ту же самую кость.
158
понимать не домашние, но общественные развлечения, где женщины могут показаться и отличиться с особенной для себя выгодой; здесь второе стремление разрешается и в первое стремление, а именно, — не уступать своим соперницам по умению нравиться, но, где возможно, победить их всех своим вкусом и своими прелестями.
Но склонность, указанная первою, как всякая склонность вообще, не годится для характеристики целого класса людей в их отношениях к другим людям. Склонность к тому, что для всех выгодно, присуща всем людям, а значит, и склонность, насколько это возможно, властвовать над другими; поэтому она не характеризует женщины. Напротив, то, что женская половина общества всегда находится в постоянной междоусобной войне и поддерживает сравнительно хорошие отношения к другой половине, скорее можно было бы отнести к характерным особенностям женщины, если бы это не было только естественным следствием соперничества, в котором одна стремится превзойти другую степенью внимания и преданности к ней мужчин. Тогда жажда властвовать есть действительная цель, а любовь к общественным развлечениям, — благодаря которым расширяется область их очарования, есть только средство, чтобы достигнуть первой цели.
Только тем, что не мы сами делаем целью себе, но что было целью природы при организации женщины, можно пользоваться для того, чтобы дать характеристику этого пола; и, так как эта цель, достигаемая даже путем глупости людей, все-таки по целям природы должна быть мудрой, то эта ее предположительная цель должна нам указать и ее принцип; а этот принцип зависит не от нашего выбора, но от высших целей, поставленных для человеческого рода. Эти цели: 1) сохранение породы, 2) культура общества и его прогресс, благодаря влиянию женственности.
I. Так как природа доверила женским недрам свой драгоценнейший залог, а именно человеческую породу в ее зародыше, посредством которого порода должна сохраняться и быть вечной, то она как бы боялась за свой залог и поэтому вложила в женщину спасительный страх, а именно страх перед телесными повреждениями и осторожность перед всякой опасностью; эта слабость женского пола вполне справедливо обязывает мужчину быть защитником женщины.
II. А так как природа желала внушить человечеству более тонкие ощущения, которые содействовали бы его культуре, а именно впечатления общительности и благопристойности, то женщину она сделала властительницей мужчины в силу ее сдержанности, красноречивого слова и красноречивого выражения лица и одарила ее ранней сообразительностью; а это все требует мягкого и вежливого отношения к ней со стороны мужчин, так что последние, уже в силу своего собственного великодушия, незаметно носят на себе цепи рабства и таким образом идут, если не к самой моральности, то к тому, что представляет ее оболочку, т. е. к благопристойности и приличию; а это можно рекомендовать как подготовительную ступень к моральному настроению.
159
Отдельные замечания.
Женщина хочет повелевать, мужчина хочет подчиняться (главным образом до брака). Отсюда галантерейность старого рыцарства. Женщина рано приобретает уверенность, что она может правиться. Молодой человек всегда опасается, что он может не понравиться и поэтому в женском обществе смущается (бывает застенчивым). Уже само название этого пола утверждает эту гордость женщины, в силу того уважения, которое она внушает, чтобы сдержать настойчивость и стремительность мужчины и утверждает их право требовать к себе уважения, даже не имея за собою никаких заслуг. Женщина всегда отказывает, мужчина всегда домогается, покорность женщины это ее милость. Природа хотела, чтобы женщину искали, и поэтому женщина в своем выборе (по своему вкусу) не должна быть такою разборчивой, как мужчина, которого природа создала более грубым и который нравится женщине уже тогда, если только в своей фигуре он обнаруживает силу и способность защищать ее; если бы в отношении красоты мужской фигуры она обнаружила тонкость и определенность выбора, то искать стало бы ее делом, а отвечать отказом делом мужчины; а это совершенно понизило бы достоинство женщины даже в главах мужчины. В любви она должна казаться холодной, а мужчина должен быть пылким. Не слушаться призыва любви не к лицу мужчины, а легко поддаваться этому призыву позорно для женщины. Желание последней распространить свои чары на всех культурных мужчин — это кокетство, аффектированное стремление казаться влюбленным во всех женщин — это галантерейность; как то, так и другое может быть делом одной моды без всяких серьезных последствий; так чичисбейство — это была преувеличенная свобода женщины в браке. Сюда же относятся прежде бившие в Италии куртизанки (в «Истории тридептского собора», между прочим, говорится: «Erant ibi 300 honestae meretrices, quas corteguanas vocant = было там 300 почтенных блудниц, которых называли куртизанками); об этих куртизанках рассказывают, что они проявляли больше тонкой культуры в изысканном светском обществе, чем женщины смешанного общества в частных домах. Мужчина в браке хлопочет только о благосклонности своей жены, женщина же о благосклонности всех мужчин: она наряжаемся только для глаз своего пола, из ревнивого желания превзойти других женщин по красоте или по знатности; мужчина же наряжается ради женщины, если можно назвать нарядами то, что он делает, чтобы своим внешним видом не заставить стыдиться свою жену. Мужчина говорит о недостатках женщин мягко, а женщина (в обществе) очень строго, и молодые женщины, если бы им был предоставлен выбор, перед каким судом предстать со своими проступками, перед мужским или женским, — конечно, выбрали бы своими судьями мужчин. Если утонченная роскошь поднимается очень высоко, то женщина бывает нравственной из внешнего принуждения и, не скрываясь, высказывает свое желание, что она больше хотела бы быть мужчиной, ибо тогда она могла
160
бы иметь больше простора и больше свободы для своих наклонностей; но ни один мужчина не пожелал бы быть женщиной.
Она не спрашивает о воздержности мужчины до брака; но для мужчины в этом отношении целомудрие женщины представляет, конечно, больше значения. В браке женщины смеются над нетерпимостью (ревностью) мужей вообще; но это только их шутки; незамужняя девушка судит об этом с большею строгостью. Что же касается до ученых женщин, то у них книги играют такую же роль, как и их часы; а часы они носят только для того, чтобы показать, что часы у них есть, хотя сплошь я рядом эти часы у них не ходят или ходят совсем неверно.
Женские добродетели пли пороки отличаются от мужских не столько по существу, сколько по мотивам. Она должна быть терпеливой, он должен быть терпимым. Она чувствительна, он впечатлителен. В хозяйстве дело мужчины приобретение, дело женщины бережливость; мужчина ревнует, когда он любит; женщина ревнует и не любя, ибо она теряет из круга своих поклонников всех тех мужчин, которые ухаживают за другими женщинами. Мужчина имеет вкус для себя, женщина делает себя предметом вкуса для каждого. «То, что говорит свет, верно, и то, что он делает хорошо», — вот принцип женщины, который едва ли совместим с характером в строгом смысле слова. Но бывают и дельные женщины, которые в сфере своего домашнего хозяйства с большим достоинством проявляют характер, вполне соответствующий их назначению. Жена Мильтона уговаривала своего мужа, чтобы он после смерти Кромвеля принял предложенное ему место латинского секретаря, хотя его принципы и не позволяли ему признать в данное время законным то правительство, которое прежде он признавал незаконным. «Ах, — ответил он ей, — ты, моя милая, как и другие женщины хочешь разъезжать в каретах, а я должен быть и честным человеком». Жена Сократа, а может быть и Ева, благодаря честности и доблести их мужей, также терпели бедность, но в их характере отразилась мужская доблесть, отнюдь не уменьшая и женской их заслуги в тех обстоятельствах, в которых они оказались.
Прагматические выводы.
В прагматическом отношении женщина сама должна создать и дисциплинировать себя; мужчины понимают в этом мало.
Молодой муж имеет перевес над своей более старой женой. Это основывается на ревности, по которой сторона, в половой способности подчиненная другой, опасается вторжения другой половины в свои права и в виду этого видит себя вынужденной прилаживаться к другой (обнаруживать перед нею внимание и добровольную заботливость). Поэтому каждая опытная женщина не даст совета выходить замуж за молодого человека, но только за человека одинакового возраста. С течением времени женщина всегда старится раньше, чем мужчина, и, если
161
позабыть о неравенстве в этом отношении, то нельзя с уверенностью рассчитывать на согласие, которое основывается на равенстве; и молодая разумная женщина легче может устроить свое семейное счастье с здоровым человеком, который значительно старше ее. Но мужчина, который может быть еще до брака заметно ослабил свою половую способность, в своем доме должен быть молодцем; ибо только тогда он и может быть полным господином дома, если он в состоянии удовлетворить всем законным требованиям.
Юм замечает, что женщин (даже старых дев) больше раздражают сатиры на брак, чем сатирические нападки на их пол. В последних дело никогда не имеет серьезного значения, а в первом случае дело представляется очень серьезным, если как следует осветить все неприятности того положения, когда женщине не удается выйти замуж. Вольнодумство в этом отношении может иметь дурные последствия для всего женского пола, ибо в таком случае он может опуститься до простого средства удовлетворения желаний другого пола; а это легко может повести к пресыщенности и непостоянству. Женщина в браке становится свободной, а мужчина утрачивает в нем свою свободу.
Высматривать моральные свойства мужчины, особенно молодого мужчины до брака — это всегда не дело женщины. Она всегда думает, что в состоянии исправить человека; разумная жена, — говорит она, — всегда может поставить на настоящую дорогу испорченного мужа; но в этом убеждении в большинстве случаев она обманывается самым печальным образом. Сюда же относится и убеждение тех доверчивых жен, будто бы можно не обращать внимания на увлечения данного человека до брака, ибо он, если только не совсем истощен, достаточно силен со стороны итого инстинкта для своей жены. Эти добрые дети не думают о том, что распутство в этом отношении состоит в смене наслаждения и что в брачной жизни всегда одно и то же скоро доводит мужа до прежнего образа жизни1).
Кто же должен иметь в доме высшую власть? Иметь ее может только один, который всем делам дает общее направление, соответствующее его целям. Я сказал бы на языке светской любезности, но не без правды, что женщина должна властвовать, а мужчина должен управлять, ибо властвует склонность, а управляет рассудок. Муж всем своим поведением должен показывать, что больше всего он заботится о благе своей жены. А так как муж должен лучше всех знать, в каком положении дела и что в данном случае можно сделать, то он, как министр при монархе, занятом исключительно своими удовольствиями, когда тот затевает праздник или постройку нового дворца, прежде всего должен обнаружить свою полнейшую готовность повиноваться этому царственному приказанию; он может уповать только на то, что в казначействе нет денег, что прежде надо как-
———————————————
1) Следствием этого бывает то, о чем Вольтер рассказывает в путешествии Скарментадо: «наконец, говорит он, я возвратился в Кандию, на свою родину, взял там жену, стал рогоносцем и нашел, что это в сущности самый удобный и спокойный образ жизни».
162
нибудь справиться с некоторыми настоятельными делами и потребностями и т. д. Таким образом верховный повелитель может делать все, что ему угодно, — только с тем условием, чтобы эту волю подсказал ему его министр.
А так как женщина всегда должна быть предметом исканий (так как она должна отвечать отказом на домогательства со стороны других), — то и в браке она должна стараться нравиться всем, чтобы, если она останется молодой вдовой, она могла найти для себя поклонников. Мужчина, раз он женат, отказывается от всех подобных притязаний. Поэтому ревность, основанная на стремлении женщины нравиться другим, несправедлива.
Но брачная любовь уже по своей природе нетерпима. Женщины иногда смеются над этим, но, как уже было замечено выше, не серьезно, ибо, если мужчина при вторжении постороннего в свои права окажется терпимым и уступчивым, последствием этого должно быть презрение со стороны всех женщин, а вместе с тем и ненависть к такому мужу.
То обстоятельство, что обыкновенно отцы прощают своих дочерей и матери своих сыновей, и в последнем случае даже самый буйный молодой человек, если только он смел, обыкновенно находит себе прощение у матери, — по-видимому, имеет свою основу в представлении о будущих потребностях обоих родителей в случае смерти кого-нибудь из них; ибо, если у мужа умирает его жена, то в своей старшей дочери он находит поддержку и заботливость, а если у матери умирает ее муж, то взрослый благонравный сын берет на себя ее обязательства и обнаруживает естественную наклонность оказывать своей матери почтение, поддерживать ее и сделать ее жизнь в ее вдовстве приятной.
——————————
На этой рубрике в своей характеристике я остановился несколько подробнее, чем это казалось бы нужным, в сравнении с остальными отделами антропологии; но природа и в этой ее экономии обнаружила такое богатое сокровище средств для этой цели, — а это серьезная цель сохранения породы, — что при более подробных и ближайших исследованиях все еще будет оставаться достаточно материала для изучения проблем, чтобы удивляться мудрости наших естественных задатков, развивающихся мало по малу, и чтобы практически пользоваться ими.
163
С.
Характер народа.
Под словом народ (populus) понимают известное количество людей, соединенных в той или другой местности, поскольку они составляют одно целое. Это целое, или и часть его, которая в силу одинаковости происхождения, является объединенной в одно общественное и государственное целое, называется нацией (gens); — а та часть, которая не подчиняется этим законам (дикая толпа в этом народе) называется чернью (vulgus)1), противозаконные сборища которой называются скопищем (age per turbas); — это поведение, которое лишает их достоинства граждан государства.
Юм думает, что, если в пределах нации каждый отдельный человек старается выработать свой собственный особый характер, как у англичан, то сама нация уже не имеет характера. Мне кажется, что в этом он ошибается, ибо аффектация характера и есть именно общий характер народа, к которому он сам принадлежит; это прежде всего презрение ко всему иноземному, особенно потому, что, как ему кажется, он только один может гордиться настоящей государственной и общественной свободой внутри государства с таким строем, который обнаруживает достаточно силы против внешних врагов. Такой характер — это гордая грубость в противоположность вежливости, в которой легко допускается фамильярность; это упрямое отношение к каждому другому из сознания мнимой полной самостоятельности, где каждый думает, что он ни в ком другом не нуждается, а следовательно, ему и не зачем угодничать перед другими.
Таким образом два самых культурных народа на земле2), которые во взаимных отношениях обнаруживают противоположность характера и может быть, главным образом именно поэтому находятся между собою в достоянной вражде, — англичане и французы — различны уже
———————————————
1) Бранное слово la canaille du peuple вероятно ведет свое происхождение от canalicola, т. е. от толпы праздных людей, которые на канале в старом Риме насмехались над занятыми людьми, проходившими мимо их (cavillator Arudicularius, vid. Plautus, Сurcul).
2) Само собой понятно, что при этой классификации нет речи о немецком народе, ибо похвала немцам со стороны автора, который сам немец, могла бы показаться самохвальством.
164
по их прирожденному характеру, по отношению к которому приобретенный и искусственный характер есть только следствие; — может быть, это два единственные народа, которые могли выработать себе определенный характер и, пока они путем войны не смешаются в нечто общее, характер неизменный. То обстоятельство, что французский язык стал общим языком общественных сношений, главным образом в изысканном женском обществе, а английский язык стал самым распространенным деловым языком1) языком людей коммерческих, заключается в различии географического положения этих двух нардов; — Один живет на континенте, другой на острове. Что же касается естественных данных, которыми они действительно обладают в настоящее время и которые развиваются путем языка, то это ведет свое происхождение от прирожденного характера первобытного народа; но для разъяснения этого у нас нет нужных документов. В антропологии с прагматической стороны нашей обязанностью является только систематическое обозрение характера обоих пародов, как они существуют в настоящее время в нескольких примерах и, насколько возможно подробно; а это дает нам возможность судить о том, чем эти народы отличаются друг от друга и как один из них может пользоваться другим в своих интересах.
Попытка показать прирожденные или, благодаря долгой практике, как бы превратившиеся во вторую природу и привитые к ней максимы, которые выражают чувственный характер народа, — это слишком рискованная попытка классифицировать разновидности естественных наклонностей у целых народов, скорее для биографов эмпирически, чем для философов по соображениям разума2).
Утверждать, будто бы от формы правления, зависит какой характер имеет данный народ, — это ни на чем не основанное и ничего не объясняющее утверждение, ибо откуда же сам этот образ правления получил свой своеобразный характер? — Климат и почва тоже не дают нам ключей для этой загадки, ибо переселения целых народов
———————————————
1) Торговый дух обнаруживает известную модификацию своей гордости, которая употребляет различные слова для своей собственной оценки. Англичанин говорит: «этот человек стоит миллион»; Голландец: «он распоряжается миллионом»; Француз: «он обладает миллионом».
2) Турки, которые христианскую Европу называют Франкистаном, когда они отправляются в путешествие, чтобы познакомиться с людьми и их национальным характером (чего не делает ни один народ, кроме европейских пародов, что и доказывает духовную ограниченность всех других), определяя каждый национальный характер и его недостатки, может быть деление Европы представили бы следующим образом: 1) Страна моды (Франция). 2) Страна причуд (Англия). 3) Страна предков (Испания). 4) Страна роскоши (Италия). 5) Страна титулов (Германия вместе с Данией и Швецией, как населенными германскими народностями). 6) Страна господ (Польша), где каждый гражданин хочет быть господином и никто не хочет быть подданным этих господ, кроме тех людей, которые не пользуются правами гражданства. Россия и Европейская Турция, обе в значительной части азиатского происхождения, лежат вне пределов этого Франкистана. Первая славянского, вторая арабского происхождения, — от двух первобытных пародов, которые подчинили своей власти более значительную часть Европы, чем это мог» сделать какой-нибудь другой народ, и выработали себе такой общественный строй, гдеесть закон, но нет свободы и где, следовательно, никто не пользуется правами гражданина.
165
доказывают, что эти народы на новых местах не изменяли своего характера, но только старались применить его к новым условиям, и что при этом в языке, в промышленности, даже в одежде всегда сохраняли следы своего происхождения, а через это сохраняли и свой характер. — Главные черты в их характере я попытаюсь отметить скорее со стороны их недостатков, и со стороны уклонения их от правил, чем с более выгодной стороны (хотя отнюдь и не в карикатуре); ибо, помимо того, что лесть портит людей, а порицание исправляет их, критик менее погрешает против самолюбия народов, без исключения показывая их недостатки, тогда как более или менее похвальными замечаниями он может возбудить только зависть среди людей, подлежащих обсуждению.
1) Французский народ среди всех других характеризуется большим вкусом в общественной жизни; в этом отношении французы являются образцом для всех других. Они вежливы, главным образом к тому иноземцу, который их посещает, хотя в настоящее время уже вышла из моды прежняя придворная утонченность. Француз сообщителен не из какого-либо личного интереса, но из непосредственной потребности хорошего развитого вкуса; а так как этот вкус главным образом проявляется к общении с женщинами высшего круга, то французский язык стал общим для всех дам; и вообще нельзя оспаривать того положения, что склонности этого рода имеют влияние на любезность в оказании услуг, на желание оказать всем помощь; и мало по малу они ведут к общей любви ко всем людям по основоположениям, что в общем делает такой народ вполне достойным любви.
Оборотная сторона медали это их живость, недостаточно сдерживаемая обдуманными принципами, и при светлом и ясном разуме легкомыслие, в силу которого известные формы жизни, только потому, что они стары или были прославлены свыше всякой меры, у них не могут существовать долго, хотя бы при этих формах они чувствовали себя хорошо; сюда же относится и заразительный дух вольности, который увлекает в свою игру даже разум и в отношениях народа к государству производит всепотрясающий энтузиазм, который переходит самые крайние границы. Особенности этого народа, обрисованные соответственно действительной жизни, и без дальнейшего описания могут дать нам представление о целом, уже путем отдельных и разрозненных отрывков, как материалов для характеристики.
Слова: esprit (вместо bon sens), frivolité, gaganterie, petit maitre, coquette, étourderie, point d’ honneur, bon-ton, bureau d'esprit, bonmot, lettre de cachet и т. п. — нелегко перевести на другой язык, ибо они обозначают скорее своеобразные особенности того народа, который им пользуется, чем тот предмет, который предносится мыслящему человеку.
2) Английский народ, старое племя Бритов1) (кельтического народа), по-видимому состоял из деятельных и сильных людей; но
———————————————
1) Как эхо правильно пишет профессор Бют (по слову Britanni, а не Brittanni).
166
вторжение немцев и французских народностей (ибо кратковременное пребывание римлян там не могло оставить заметных следов), как это доказывает их смешанный язык, сгладило оригинальность этого народа; и, так как положение англичан на острове, которое не только не защищает от внешних нападений, но скорее как бы приглашает завоевателей, сделало их могущественным торговым народом моряков, то вследствие этого они приобрели характер, который они выработали себе сами, хотя природа и не дала им такого характера. Следовательно, характер англичанина не даст нам ничего другого, кроме принципа, который рано усваивается по урокам жизни и на примерах, — того принципа, что человек должен выработать себе характер и иметь его; при этом создается непреклонность духа, чтобы оставаться верным добровольно принятому принципу и не отступать от известного правила (все равно какого); это дает значение человеку, так как тогда становится достоверно известным, чего могут ждать от него другие и чего сам он может ждать от других.
То обстоятельство, что этот характер более противоположен характеру французского народа, чем какого-либо другого, — ясно уже из того, что он отрекается от всех любезностей, как самого лучшего свойства в обращении этого народа со всеми другими и даже между собою, и имеет в виду только одно уважение, причем каждый хочет жить по своему собственному разумению. Для своих земляков англичанин создает огромные благотворительные учреждения, о которых не имеют понятия другие народы; но чужеземец, которого судьба бросила па английскую почву и который неожиданно попадает в большую нужду, всегда может умереть на навозной куче, ибо это не англичанин, т. е. не человек.
Но и в своем собственном отечестве, где он ест за свои деньги, англичанин держит себя особняком. Он за те же деньги охотнее станет обедать в особой комнате и один, чем за общим столом, ибо в последнем случае от него требуется известная вежливость; и на чужбине, как например, во Франции, куда англичане едут только для того, чтобы выругать все дороги и гостиницы (например, доктор Шарп), как нечто отвратительное, они собираются в гостиницах только для того, чтобы быть в своем же, исключительно английском обществе. Но странно, что француз обыкновенно любит, уважает и хвалит английский народ, а англичанин (который не выезжал из своей страны) в общем ненавидит и презирает француза; в этом виновато не соперничество двух соседей (ибо в этом отношении Англия без всякого спора превосходит Францию), но деловой дух англичан вообще, который, при надежде рано или поздно добиться самого высокого положения, делает англичан особенно необщительными1). А
———————————————
1) Деловой дух вообще и сам по себе так же необщителен, как и дух дворянский. Дом (так купец называет свою контору) отделяется от других своей деловой сферой, как рыцарский замок был отделен от окружающей местности подъемными мостами; и здесь всякие дружественные сношения без церемонии устраняются: так стоит дело и с теми, кому они дают охрану, но на кого нельзя смотреть, как на его членов.
167
так как оба народа своими берегами очень приближаются друг к другу и отделяются друг от друга только каналом (который, впрочем, можно называть и морем), — то соперничество их дает их вражде политический характер, который модифицируется различным образом; а именно, с одной стороны является опасение, а с другой ненависть: это два вида их несовместимости, причем с одной стороны имеется в виду самосохранение, а с другой подчинение, или в противоположном случае уничтожение себя самого.
Теперь мы можем в немногих чертах представить характеристику остальных народов, своеобразные национальные особенности которых в большинстве случаев возникают не столько из особенности их различной культуры, как у двух предшествующих народов, сколько из их природных свойств и путем смешения в первобытном состоянии различных племен и поколений.
2) Испанец, который происходит от смешения европейской и арабской (мавританской) крови, в своей общественной и частной жизни обнаруживает известную торжественность; даже крестьянин имеет чувство собственного достоинства по отношению к высшим лицам, которым он по закону должен повиноваться. Испанская grandezza и велеречие, даже в их обыкновенном разговоре, свидетельствуют о благородной национальной гордости. Поэтому французское доверчивое добродушие для испанца совершенно невыносимо. Это человек умеренный, сердечно преданный законам, особенно законам своей старой религии. Но эта серьезность не мешает испанцу в дни забав и развлечений (например, при окончании жатвы) забавляться танцами и пением; и когда летним вечером музыканты заиграют фанданго, никогда не бывает недостатка в крестьянах, теперь свободных от работы, которые начинают танцевать под эту музыку на улицах. Это их хорошая сторона.
Более дурная сторона это та, что испанец ничего не перенимает от иностранцев, не выезжает из дому, чтобы познакомиться с другими народами1), и в науках отстал от других на целые века; он враждебно относится ко всякой реформе и гордится тем, что может и не работать; он обнаруживает романтическое настроение духа, что доказывает бой быков; он жесток, как об этом свидетельствуют прежние auto-da-fé и в своих вкусах обнаруживает отчасти внеевропейское происхождение.
4) Итальянец соединяет французскую живость (веселость) с испанской серьезностью (устойчивостью); его эстетический характер отличается вкусом на почве аффекта, как и вид с его Альп на прекрасные долины с одной стороны дает материал для сильных и смелых впечатлений, а с другой — для спокойного наслаждения. Его темперамент не есть что-либо смешанное, или идущее скачками (ибо в
———————————————
1) Оригинальность духа всех народов, которые не одержимы бескорыстнымлюбопытством, чтобы собственными глазами взглянуть на внешний мир и еще того меньше, чтобы самому (как гражданину мира) переселиться туда, — это очень характерная национальная черта и в этом отношении англичане и немцы выгодно отличаются от других.
168
таком случае не было бы и характера), но обнаруживает его наклонность к чувственности, к чувству высокого, поскольку оно вместе с тем соединено и с прекрасным. В чертах его лица резко отражается игра его ощущений и это лицо полно выражения. Речи его адвокатов перед судом полны такого чувства, что кажется, будто слышишь декламацию актера на сценических подмостках.
Если французы отличаются тонким вкусом в общественной жизни, то итальянец поражает тонкостью художественною вкуса. Первый любит больше частные развлечения, второй более общественные: нынешние выходы, процессии, парадные спектакли, карнавалы, роскошь общественных зданий, картины, сделанные кистью, или мозаические изображения, руины римских древностей в строгом стиле; он любит посмотреть и себя показать в большом обществе. Но при этом (чтобы не забыть его своекорыстие) им изобретены векселя, банки и лотереи. Это его хорошая сторона, как и та свобода, которую обнаруживают гондольеры и lazzaroni по отношению к высшим.
Более слабая их сторона состоит в том, что они, как говорит Руссо, собираются для разговора в роскошных залах, а спят в кротовых норах. Их общественные салоны подобны бирже, где хозяйка дома из большого света подаст что-нибудь для гостей, чтобы, прогуливаясь по залам, поделиться друг с другом новостями дня, для чего вовсе ненужно между ними дружбы; и только с небольшою избранною частью этого общества едят перед сном. Их дурные стороны это привычка хвататься за нож (бандиты), право убежища для убийцы в священных местах, позорная деятельность сбирров и т. п., что следует приписать не столько римской крови, сколько скорее его двухголовому правительству. Впрочем, я отнюдь не беру на себя ответственности за эти обвинения; их выдвигают обыкновенно англичане, которым не может понравиться никакое другое общественное устройство, кроме их собственного.
5) Немцы пользуются репутацией людей с добрым характером, особенно со стороны честности и семейственности, т. е. таких свойств, которые не ведут к блеску. Немец среди всех цивилизованных народов легче всего и терпеливее всего подчиняется правительству, под которым он живет, и слишком далек от жажды перемен и противодействия существующему порядку. Его характер — это флегма в соединении с рассудительностью, причем он как не пускается в рассуждения относительно уже существующего, так и не пытается придумать что-нибудь новое. Но при этом это человек всех местностей и всех климатов, легко переселяется в другие места и не имеет страстной привязанности к родине; но там, в чужих землях, куда он приходит, как колонист, — он скоро заключает с своими земляками что-то вроде гражданского союза, который благодаря единству языка, а отчасти и религии, превращает этот поселок в небольшой народец; и этот народец, подчиняясь высшей власти, при спокойном и справедливом управлении выгодно отличается от переселенцев других народов прилежанием, чистоплотностью и бережливостью. Такова похвала, в которой даже англичане не отказывают немцам в северной Америке.
169
А так как флегма (принимая это олово в хорошем смысле) есть темперамент холодной рассудительности и выдержки в преследовании своей цели, а в то же время перенесение затруднений, соединенных с этим, — то от талантов его здравого рассудка и глубокомысленного серьезного разума можно ожидать ровно столько же, как и от каждого другого народа, способного к значительной культуре. Здесь надо только исключить область остроумия и художественного вкуса, где, может быть, ему не сравняться с французами, англичанами и итальянцами. Это его хорошая сторона в том, чего можно достигнуть настойчивым прилежанием и для чего не нужно гениальности1). Но эта последняя далеко не приносит той пользы, как немецкое прилежание в соединении с их здоровой рассудительностью. Главная черта его характера - это скромность. Он больше, чем каждый другой народ, изучает чужие языки и является (по выражению Робертсона) оптовым торговцем в делах учености и в области наук; иногда первым нападает на такие следы, которыми впоследствии пользуются другие: у него нет национальной гордости и он, как какой-то космополит, не привязан к своей родине; он гостеприимно встречает чужеземцев из любой чужой страны (как сознается и Босвелль); в суровой дисциплине он приучает своих детей к нравственности, как и сам при своей склонности к порядку и правилам охотнее подчинится деспотической власти, чем рискнет на какие-нибудь новшества (на самовластные реформы в области правления). Это его хорошая сторона.
Его невыгодная сторона — это наклонность к подражанию и невысокое мнение о себе, когда дело идет об оригинальности (в чем он составляет прямую противоположность упрямому англичанину), а главным образом какая-то страсть к методичности, в силу которой он не стремится к равенству с другими гражданами государства но принципу сближения, но допускает мучительную классификацию по ступеням почестей и рангов; и в этой схеме табели о рангах он неисчерпаем по части изобретения титулов (благородных и высокоблагородных, высокородных и т. д.) и таким образом рабствует из простого педантизма; все это можно отнести на счет формы имперского германского устройства, но при этом нельзя не сделать замечания, что появление этой педантической формы идет из духа нации и из естественной склонности немцев — между теми, кто властвует, и теми, кто должен
———————————————
1) Гениальность — это талант изобретения того, чего нельзя изучить и чему нельзя научиться. Так можно научиться от другого, как следует делать хорошие стихи; но от других нельзя научиться тому, как сделать хорошее стихотворение, ибо последнее само собою должно возникать из природы автора. Отсюда, его нельзя получить на заказ и за хорошую плату, как фабричный продукт, но надо ждать как бы внушения, о котором сам поэт не может сказать, каким образом оно приходит; т. е. надо ждать случайного расположения, причина которого ему неизвестна. (Scit genius natale comes qui temperat astrum, —знает это природный гений — спутник, который управляет звездами). Гений поэтому блестит, как мгновенное, возникающее через промежутки и снова исчезающее явление; это не тот свет, который можно зажечь, когда угодно, и можно поддержать, пока это нужно; он блестит, как мелькающая искра, которую счастливое настроение души вызывает из продуктивного воображения.
170
повиноваться, ставить целую лестницу, на которой каждая ступень отмечается особою степенью уважения, ей подобающего; и тот, кто не имеет никакого ремесла, тот не имеет и никакого титула и, как говорят, есть ничто; это, конечно, кое-что дает тому государству, которое раздает эти почести, но это действительно недостаток природного таланта, как мелочность и потребность методического деления, чтобы понять целое под одним понятием.
——————————
Россия еще не представляет того, что нужно для определенного понятия об естественных задатках, готовых к дальнейшему развитию, а Польша уже не является такою; национальности Европейской Турции никогда не будут тем, что нужно для усвоения определенного народного характера; в виду этого очерк характера этих народностей по справедливости здесь можно опустить.
А так как вообще здесь речь идет о прирожденном естественном характере, который, так сказать, заключается в кровном смешении людей, а не о характеристических особенностях, приобретенных искусственными нациями, то при описании их надо много осторожности. В характере Греков под жестоким угнетением Турок и при суровом правлении их калугеров, точно так же мало проявляется их физический характер (живость и легкомыслие), как они утратили строение своего тела, фигуру и черты лица. Но эти особенности вероятно вновь проявятся в действительности, когда форма религии и правления, благодаря счастливым обстоятельствам, снова вернет им возможность возродиться по прежнему. Среди других христианских народов у Армян господствует какой-то деловой дух особого рода; а именно, они пешком идут от границ Китая до мыса Корсо на Гвинейском берегу, занимаясь своими делами; это укалывает на особое происхождение этого разумного и трудолюбивого народа, который по направлению от северо-востока к юго-западу проходит почти всю площадь старого света и умеет найти радушный прием среди всех народов, к которым попадает; это доказывает превосходство их характера перед поверхностным, ветреным и пресмыкающемся характером современных Греков, — того характера, первые моменты образования которого мы не в состоянии изучить. Таким образом, если судить с достаточной правдоподобностью, смешение племен (при больших завоеваниях), которое мало по малу сглаживает характеры, вопреки всякой мнимой филантропии, невыгодно для человеческого рода.
——————————
171
D.
Характер расы.
По этому вопросу, я могу сослаться на то, что для его пояснения и разработки прекрасно и основательно сказал в своем труде (соответственно моим основоположениям) Гиртаннер; здесь я хочу отметить только кое-что о фамильном сходстве и о разновидностях или подвидах, которые можно наблюдать в одной и той же расе.
Здесь вместо уподобления, которое природа имеет в виду при слиянии различных рас, она делает своим законом нечто как раз противоположное; а именно, в народе той же расы (например, среди белых) вместо того, чтобы в их образовании постепенно и все дальше сближать их друг с другом по характеру, причем в конце концов, появился бы только один и тот же портрет, как бы в виде оттисков одной и той же гравюры, — природа в том же племени а даже в той же самой семье как в телесном, так и в духовном отношении, стремится к бесконечному разнообразию. Правда, няньки, чтобы польстить родителям, говорят, что вот это у ребенка от отца, а это от матери; но, если бы это было верно, все формы человеческой фигуры давным-давно уже были бы исчерпаны и, так как плодливость в брачных сочетаниях освежается разнородностью индивидуумов, то дальнейшее движение поколений уже давно бы остановилось. Так пепельно-русые волоса (cendres) никогда не появляются от смешения брюнета и блондинки, но обозначают какую-то особую породу; и природа имеет в себе достаточно запасов, чтобы, вследствие бедности на заготовленные ею формы, послать в мир человека, который в нем был уже когда-то, как и родственная близость между супругами заметно влияет на бесплодие.'
172
Е.
Характер породы.
Для того, чтобы указать характер породы известных существ, нужно, чтобы она стояла под одним понятием с другими, нам известными, — и чтобы то, чем она отличается от других, было дано нам и применено к делу, как особенность (proprietas) и основа различия. Но, если мы будем сравнивать один вид существ, которых знаем (А), с другим видом существ (non А), которых мы не знаем, то как можно ожидать или требовать тогда, чтобы мы указали характер первых, если у нас нет среднего понятия для сравнения (tertium comparationis)?
Высшее понятие породы может быть понятием о земном разумном существе, но таким образом мы отнюдь не можем определить его характер, ибо мы ничего не знаем о разумном неземном существе, чтобы путем сравнения с ним указать особенности первого и таким образом характеризовать земное существо среди разумных существ вообще. Таким образом, кажется, что проблема определить характер человеческой породы — безусловно неразрешима, ибо решение должно быть дано путем сравнения двух видов разумных существ в опыте, а последний для этого не дает нам никаких данных.
Таким образом для того, чтобы указать человеку его класс и таким образом охарактеризовать его, у нас ничего не остается, кроме того, что он имеет характер, который он создает себе сам, так как он имеет возможность совершенствоваться по своим, лично для себя поставленным, целям; и через это он, как животное, одаренное способностью быть разумным (animal rationabile), может сделать из себя разумное животное (animal rationale); но при этом он, во-первых, сохраняет себя и свою породу, во-вторых, упражняет ее, учит и воспитывает для домашнего общения, и, в третьих, управляет ею, как систематическим (организованным по принципам разума) и имеющим в виду общение целым, причем характерная черта человеческой породы в сравнении с идеей возможных разумных существ вообще, есть следующая: природа заложила в ней зерно раздора и хотела, чтобы ее собственный разум из этих элементов создал в этом состоянии то согласие (гармонию), по крайней мере постоянное приближение к нему, соответственно которому первое (раздор), хотя в идее и цель, на деле, в плане природы, есть средство высшей и неизвестной мудрости, чтобы достигнуть совершенствования человека путем дальнейшего развития культуры, хотя бы с известным пожертвованием некоторых радостей жизни.
173
Среди живых земных обитателей человек, в силу своих технических (механических, соединенных с сознанием) задатков, для подчинения себе вещей и в силу прагматических (искусства пользоваться другими людьми для своей цели) и моральных задатков для своего существа (поступать по принципу свободы при соблюдении известных законов как с собой, так и с другими), заметно отличается от всех остальных естественных существ; каждая из этих трех ступеней может уже одна, сама по себе, характерно определять людей в отличие их от других земных обитателей.
I. Технические задатки. Ответ на вопросы, — был ли предназначен человек первоначально ходить на четырех ногах (как предполагал Маскати, может быть только ради тезиса для диссертации), или на двух; — предназначены ли к тому же и гиббон и орангутанг, шимпанзе и т. д. (в чем Линней и Кампер расходятся друг с другом); плотоядное это животное (в виду того, что имеет простой настоящий желудок), или не плотоядное; есть ли это от природы хищное или мирное животное, так как он не имеет ни копит, ни клыков, следовательно (за исключением разума), не имеет никакого оружия, — ответ на эти вопросы не допускает никаких колебаний. Во всяком случае можно предложить только вопрос, — общежительное ли это от природы животное, или одинокое и избегающее соседства? Последнее предположение кажется наиболее вероятным.
Первая человеческая пара, уже при полном ее развитии, т. е. поставленная природой перед средствами пропитания, если бы в то же время не была одарена и естественным инстинктом, которого в нашем современном естественном состоянии, конечно, у нас уже нет, при всей заботливости природы, едва ли могла бы достаточно обеспечить сохранение рода. Первый человек утонул бы в первом же пруде, который бы он перед собою увидел, ибо плавать — это уже искусство, которому надо научиться; или он стал бы есть ядовитые корни и плоды и таким образом постоянно подвергался бы опасности погибнуть. Но если природа внушила, этот инстинкт первой человеческой паре, то каким образом могло случиться, что этот инстинкт не перешел по наследству к детям? А в настоящее время такого инстинкта мы нигде не видим.
Правда, певчие птицы обучают своих детенышей некоторым напевам и таким образом удерживают эти напевы путем традиции; но одинокая птица, которая еще слепой взята из гнезда и выкормлена, когда она вырастет, не знает птичьих напевов, а только издает какой-то прирожденный органический звук. Но откуда идет первая птичья песня?1). Если бы этому не надо было учиться и она возникла бы инстинктивно, то почему она не переходит по наследству к детенышам?
———————————————
1) Можно вместе с Линнеем для археологии природы допустить гипотезу, что из беспредельного моря, которое покрывало всю землю, прежде всего поднялся под экватором, как гора, один остров, на котором мало по малу возникли все климатические ступени теплоты, от знойного жара на его побережье, до арктического холода на его вершине, вместе с соответствующими каждому климату растениями и животными. Что же касается до птиц, то певчие птицы природным органическим звуком подражали различным и мно-
174
Характеристика человека, как разумного существа, дается уже в фигуре и организации его руки, его пальцев и оконечностей. Отчасти в строении пальцев, отчасти в их нежной впечатлительности природа сделала человека, способным не только для одного какого-нибудь способа пользоваться предметами, но неопределенно для всех; значит для разумной деятельности отметила техническими задатками или навыками, как представителя породы разумных животных.
II. Прагматические задатки цивилизации через культуру, главным образом особенности обихода и естественная наклонность этой породы для общественных сношении выходить из грубого состояния простого насилия и становиться закономерным (хотя еще и не моральным), существом, предназначенным для гармонического общения с другими, — это уже более высокая ступень развития. Человек способен к воспитанию и нуждается в нем, как в обучении, так и в дисциплине. — Здесь возникает (вместе с Руссо или против него) вопрос: бывает ли характер этой породы по ее естественным задаткам лучше при первобытной грубости ее натуры, чем он может быть при искусствах культуры, которым не видно и конца? Прежде всего следует заметить, что у всех остальных животных, предоставленных самим себе, каждый индивидуум достигает своего полного назначения; а у людей во всяком случае такого назначения достигает только порода, так что человеческий род может подняться до этого своего назначения только путем постепенного последовательного движения вперед, в ряду необозримо многих поколений; здесь цель перед ним всегда остается только в перспективе, но тенденция стремиться к этой конечной цели, хотя она часто и встречает на своем пути задержки, никогда не может повернуть назад.
III. Моральные задатки. Вопрос здесь в том, добр ли человек от природы, или от природы он зол, или же от природы одинаково восприимчив как к тому, так и к другому, смотря по тому, в руки какого мастера он попадает (cereus in vitium flecti — как воск, склонный к дурному)? В последнем случае порода не имела бы никакого характера. Но этот случай противоречит себе самому, ибо существо, одаренное способностью практического разума и сознанием свободы своего произвола (личность), видит себя в этом сознании, даже в самых темных своих представлениях, под законом долга и видит в чувстве (которое тогда называется моральным чувством), когда с ним, или с кем-нибудь другим поступают справедливо, или не справедливо. Это уже интеллигибельный характер человечности вообще и в этом отношении человек по своим природным задаткам (от природы) добр; но, так как все-таки и опыт пока-
———————————————
гочисденным голосам, каждая, поскольку ей позволяла ее глотка, соперничала с другими и в виду этого каждая порода создала себе свой определенный напев, который впоследствии путем обучения (как бы путем традиции) одна из них передавала другой; и теперь замечают, что зяблики и соловьи в различных странах обнаруживают некоторое различие в своих напевах.
175
зывает нам, что в нем ость наклонность деятельно стремиться к недозволенному, хотя он и знает, что это не дозволено, т. е. к злу,наклонность, которая пробуждается так неизбежно и так рано, как только человек начинает пользоваться на деле своей свободой, и эта наклонность кажется как бы прирожденной, то человек по своему сенсибельному характеру может быть признан (от природы) злым: причем это не противоречит и первому положению, если речь идет о характере породы, ибо можно допустить, что ее естественное назначение стоит в беспрерывном движении вперед к совершенствованию.
Сумма прагматической антропологии в ее отношении к назначению человека и характеристике его развития, следующая. Человек своим разумом определяется быть в общении с людьми и в этом общении, путем искусства и науки, культивироваться, цивилироваться и морализироватъся; как бы ни были сильны его животные наклонности, пассивно предаваться побуждениям бездеятельности и роскошной жизни, которую он называет благополучием, — он скорее деятелен в борьбе с препятствиями, которые присущи ему, благодаря грубости его природы, чтобы стать достойным человечности.
Человек, следовательно, должен воспитываться для добра; но тот, кто должен его воспитывать, в свою очередь снова человек, который еще не свободен от грубости природы и в то же время для других должен делать то, в чем он сам для себя нуждается. Отсюда постоянные отклонения от своего назначения и постоянные попытки снова вернуться на свою дорогу. Мы хотим отметить трудности при решении этой проблемы и затруднения в этом отношении.
А.
Первое физическое назначение человеческого рода состоит в стремлении людей к сохранению своей породы, как животной породы. Но здесь естественные эпохи его развития не хотят совпадать с гражданскими эпохами. На основании первых он в естественном состоянии, в крайнем случае на пятнадцатом году, чувствует в себе половой инстинкт, а также и способность производить себе подобных и поддерживать свой род. По вторым условиям он едва ли может рискнуть на это (в среднем выводе) до двадцатилетнего возраста. Если молодой человек довольно рано получает способность удовлетворять половым склонностям как своим, так и своей жены, как живое существо, то, как член общества, он еще не скоро получает возможность содержать свою жену и своего ребенка. Он должен изучить какое-либо ремесло, должен приобресть себе заработок, чтобы вместе с женой зажить своим домом; но для этого в более образованных слоях общества, часто проходит и двадцать пятый год, прежде чем он становится достаточно зрелым для своего назначения. Чем же наполняется этот период вынужденной и неестественной воздержности? Конечно, ничем другим, как только пороками.
176
В.
Стремление к науке, как к культуре, облагораживающей человечество, в общей жизни породы не соответствует продолжительности жизни отдельного индивидуума. Ученый, как только в области культуры он поднимается до той ступени, когда он сам мог бы расширять ее область, умирает, а его место занимает ученик, только что начинающий азбуку науки; и этот ученик перед концом своей жизни, как только он в свою очередь сделал один небольшой шаг вперед, снова должен уступать свое место другим. Какая масса незнаний, сколько открытий новых методов, было бы предположительно уже сделано за это время, если бы Архимед, Ньютон и Лавуазье, при их прилежании и талантах, без ослабления жизненной силы, получили бы от природы на свою долю один лишний век жизни? Но теперь успех человеческого рода в науках всегда представляется по времени только в отрывках и мы не имеем никакой уверенности в невозможности обратного движения, при чем нам всегда угрожает варварство, обрывающее движение культуры и ниспровергающее государства.
С.
Так же мало, по-видимому, порода может достигнуть своего назначения и по отношению к счастью, стремиться к которому ее всегда побуждает ее природа, а разум ограничивает это стремление условием нравственности, чтобы быть достойным этого счастья. Но слишком мрачное (причудливое) представление Руссо о человеческом роде, когда он позволяет себе выйти из своего естественного состояния, и его прославление первобытной жизни в лесах едва ли можно признавать за его действительное убеждение; в этом он хотел отметить только, как трудно для нашей породы идти в колее постоянного приближения к ее истинному назначению; но не следует хватать этого и с ветру; опыт старых и новых времен приводит в немалое замешательство по этому вопросу каждого мыслящего человека, так что делает сомнительным, окажется ли когда-нибудь дело пашей породы в лучшем положении.
Три его положения о тех вредных явлениях, которые производят: 1) выход нашей породы из естественного состояния и переход в состояние культуры на основе ослабления наших сил; 2) цивилизация на основе неравенства и взаимного угнетения и 3) мнимая морализация, которая создается на основе противоестественного воспитания и извращения образа мыслей; — эти три положения, говорю я, которые естественное состояние рисуют нам как бы состоянием невинности (вернуться в которое нам мешает сторож у ворот рая с пламенным мечем), должны служить только руководящей нитью для понимания его «Социального контракта», его «Эмиля» и его «Савойского викария», — его стремления как-нибудь выпутаться из заблуждений зла в которые наша порода запуталась по своей собственной вине. Руссо в сущности вовсе не хотел, чтобы человек снова вернулся в свое естественное состояние; но он хотел только, чтобы с той ступени, на ко-
177
торой он стоит теперь, он оглянулся назад на свое прошлое. Он допускал, что человек от природы (как она передастся по наследству) добр, но отрицательным образом; а именно сам по себе и преднамеренно он не зол, но только в опасности он может поддаться злым или неискусным вождям и примерам и может погибнуть. А так как для этого снова нужны добрые люди, которые сами должны быть воспитаны для этого и среди которых нет ни одного, кто бы сам в себе не носил (прирожденной или благоприобретенной) испорченности, то проблема морального воспитания для нашей породы остается неразрешимой, даже по качеству принципа, а не только по степени, ибо ее прирожденные дурные склонности, хотя и встречают порицание со стороны всеобщего человеческого разума и даже укрощаются, но этим путем никогда не уничтожаются совершенно.
В гражданском устройстве общества, которое представляет высшую степень искусственного подъема добрых задатков в человечестве для конечной цели его назначения, все-таки животность первоначальнее и в сущности сильнее, чем чистая человечность в ее проявлениях; и укрощенный скот, уже благодаря ослаблению его сил, более полезен для человека, чем дикий скот. Собственная воля всегда обнаруживает готовность прорваться в противодействие по отношению к другим людям и в своих притязаниях на безусловную свободу, всегда стремится не только к независимости, но даже к тому, чтобы стать повелителем над другими существами, равными с ним по природе; это можно заметить уже на самых маленьких детях1); ибо природа в них идет от культуры к моральности, а не (как это предписывает разум) от моральности и, исходя от ее законов, не стремится достигнуть предназначенной для нее целесообразной культуре, соответствующей моральности; а это неизбежно возбуждает извращенную и противную цели тенденцию; например, когда религиозное обу-
———————————————
1) Крик, который издает новорожденный ребенок, имеет в себе звуки не горя и боли, а раздражения и сильного гнева; он плачет не от страданий, но от того, что на что-то сердится, — вероятно, на то, что он хочет двигаться и свою неспособность сделать это чувствует, как оковы, которые лишают его свободы. Какую цель могла иметь природа в том, что ребенок является на свет с громким криком и этот крик, как для него, так и для матери в грубом естественном состоянии представляет величайшую опасность? Волк, даже свинья, привлеченная этим криком в отсутствии матери или при ее бессилии после мучительных родов, могут прямо сожрать ребенка. Но ни одно животное кроме человека (каков он теперь) при своем появлении на свет не заявляет громко о своем существовании; а это мудрой натурой, по-видимому, должно быть сделано для того, чтобы сохранить вид. Следовательно, надо допустить, что в ранние эпохи природы, в этом классе животных (а именно в периоде его первобытной грубости) еще не было таких громких криков ребенка при его рождении; следовательно, только позднее наступила вторая эпоха, когда родители уже достигли той культуры, которая необходима для домашней жизни, хотя мы и не знаем, каким образом и путем каких содействующих причин природа осуществила эту фазу развития. Это замечание ведет далеко; оно ведет, например, к мысли, не должна ли следовать за этой второй эпохой великой революции природы еще третья; тогда орангутанг или шимпанзе, который будет иметь орган для ходьбы, для ощупывания предметов или для разговора, по строению тела разовьется до человека, получит внутренний орган для применения рассудка и мало по малу разовьется путем общительности и культуры.
178
чение, которое неизбежно должно быть моральной культурой, начинается с исторической части, а это только культура памяти; и отсюда напрасно было бы стараться получить в результате моральность.
Воспитания человеческого рода, во всем объеме его породы, т. е. взятого коллективно (universorum), а не всех в отдельности (singulorum), где толпа дает не систему, а только сваленный в кучу агрегат; которое имело в виду стремление к гражданскому устройству, покоящемуся на принципе свободы, но вместе с тем и на закономерной принудительности, — такого воспитания человек ожидает только от провидения, т. е. от мудрости, которая есть не его мудрость, но лишь (благодаря его собственной вине) бессильная идея его собственного разума; — это воспитание сверху вниз, говорю я, полезно, но сурово и грубо, идет через большие затруднения и близко подходит к такой переделке природы, которая представляет почти разрушение всего рода, — а именно, осуществление блага, которого человек не имел в виду, но которое, раз оно есть, будет сохраняться и дальше, — осуществление блага из зла, которое внутренним образом всегда будет расходиться с самим собою. Провидение обозначает ту же самую мудрость, которую мы с удивлением воспринимаем в сохранении видов организованных существ в природе, — которые постоянно работают над своим разрушением и все таки сберегают себя от гибели; при этом в этой заботливости мы не должны допускать более высокого принципа, чем тот, который мы уже допускаем для сохранения пород растений и животных. Впрочем, человеческая порода должна и может быть созидательницей своего счастья; но только то, что она будем такой, нельзя заключать а priori, — из тех естественных задатков, которые мы в ней знаем; об этом можно заключать только из опыта и истории, считая это настолько обоснованным ожиданием, насколько это необходимо для того, чтобы не приходить в отчаяние в этом ее движении вперед к лучшему; но всем своим умом и всем своим моральным озарением мы должны содействовать приближению этой цели (каждый постольку, поскольку это касается его).
Следовательно, можно сказать, что первая характерная черта человеческой породы — это способность вообще создавать себе, как разумному существу, характер, и для своей личности, и для того общества, в которое поставила нас природа; но это уже предполагает благоприятные естественные задатки в нем и наклонность к добру, ибо злое (так как оно вводит раздвоение с самим собой и не допускает в себе никакого устойчивого принципа) собственно лишено характера.
Характер живого существа — это то, из чего заранее можно знать его назначение. Но для целей природы можно признать, как ее принцип, что она желает, чтобы каждое творение достигало своего назначения через то, чтобы для этого назначения целесообразно развивались все задатки его природы, чтобы таким образом, если и не каждый индивидуум, то целый вид осуществил ее намерения. У неразумных животных это действительно так и бывает; и это мудрость природы; но у людей этого достигает только порода и пример этого среди разумных существ на земле мы знаем только один, а именно, человеческую
179
породу; по и в ней мы знаем только тенденцию природы к этой пели; а именно стремление путем ее собственной деятельности некогда осуществить возникновение добра из зла, — перспектива, которой, если революция природы не оборвет ее резко и сразу, можно ожидать с моральной (достаточной для обязанности содействия этой цели) достоверностью. Бывают люди, хотя и с злобными задатками, но богатые изобретательностью, а вместе с тем и одаренные моральными задатками разумные существа, которые при каждом подъеме культуры только все сильнее и сильнее чувствуют то зло, которое они эгоистически причиняют друг другу и при этом не видят перед собою никакого другого средства против этого, кроме подчинения личного понимания (отдельных людей) общему уму (всех вместе); они хотя и не охотно, но подчиняются дисциплине гражданского гнета, которому они подчиняются только по законам, данным ими самими; через это сознание они чувствуют себя облагороженными, — а именно через сознание принадлежности к породе, которая соответствует назначению человека, так как разум представляет ее ему в идеале.
Основные черты изображения характера человеческого рода.
1) Человек не был предназначен, подобно домашнему животному, к жизни в стаде, но, как пчела, был приурочен к улью; — это необходимость для него быть членом какого либо гражданского общества.
Самый простой, менее всего искусственный способ достигнуть этой цели — это иметь матку в этой коробке (монархия). Но много таких ульев, поставленных рядом друг с другом, начинают враждовать между собой, как хищные пчелы (война), — не так, как делают это люди, чтобы усилить свои ульи путем соединения с другими, ибо здесь наше уподобление уничтожилось бы, — но только для того, чтобы хитростью или силой воспользоваться чужим трудолюбием для себя. Каждый народ усиливает себя путем подчинения себе своих соседей; — и в виду ли страсти к расширению, или страха быть поглощенными другими, если этого другого не предупредить, — внутренние или внешние войны в пределах нашей породы, каким бы великим злом они не были сами по себе, все таки являются побуждением перейти из грубого естественного состояния к гражданской общительности; это как бы какая-то машина Провидения, где силы, стремящиеся в противоположных направлениях, хотя и мешают друг другу путем трения, но, посредством толчка или движения других пружин в течение долгого времени, поддерживают механизм в его правильном движении.
2) Свобода и закон (где второй ограничивает первую) — это два стержня, вокруг которых вращается гражданское законодательство. Но, чтобы последний имел силу и не был бы пустым притязанием, к этому должно присоединиться нечто среднее1), а именно принудительная сила, которая в соединении с законом дает значение этим принци-
———————————————
1) Аналогично с medius terminus в силлогизме, который в соединении с субъектом и предикатом суждения дает четыре силлогистических фигуры.
180
пам. Но нужно мыслить разнообразные комбинации последней (силы) с двумя первыми началами.
A) Закон и свобода без принуждения (анархия).
B) Закон и принуждение без свободы (деспотизм).
C) Принуждение без свободы и закона (варварство).
D) Принуждение с свободой и законом (республика).
Ясно, что только последняя заслуживает названия действительно гражданского общественного строя; при этом имеют в виду не одну из трех государственных форм, демократию, но под республикою понимают только государство вообще; и старое изречение: salus civitatis (не civium) suprema lex esto, — не значит еще, что материальное благо общего существа (благополучие граждан) должно служить высшим принципом государственного устройства; ибо это благополучие, которое каждый рисует сeбе соответственно своим частым наклонностям, так или иначе не годится для того, чтобы быть объективным принципом, который требует всеобщности; но эта сентенция говорит только то, что рассудочное благо, т. е. сохранение уже существующего государственного устройства, есть высший закон гражданского общества вообще, ибо это общество существует только в силу этого закона.
Характер породы, как он проявляется из опыта всех времен и всех народов, следующий: люди, взятые коллективно (как целое всего человеческого рода), представляют из себя множество лиц, существующих в смене или одновременно, которые не могут обойтись без мирного общения друг с другом, но которые не могут избежать, чтобы постоянно не противодействовать друг другу; следовательно, в силу взаимного угнетения, под законами, исходящими от них же самих, они от природы чувствуют себя предназначенными для коалиции, постоянно угрожающей разладом, но в общем идущей вперед, т. е. для всемирного общества (cosmopolitismus); но эта сама по себе недостижимая идея есть не конститутивный принцип (ожидание мира, существующего среди людей в их крайне оживленном действии и противодействии), но только принцип регулятивный: усердно работать для этого, как для назначения человеческого рода, не без основательного предположения о существовании естественной тенденции к этому.
Если спросят, — следует ли на породу людей (которую, если смотреть на нее, как на породу разумных земных существ, в сравнении с разумными существами на других планетах, когда мыслят ее, как известное количество творений, созданных Демиургом,, можно называть и расой), — следует ли, говорю я, смотреть на нее, как на хорошую, или как на худую расу, — то я должен признаться, что много хвастаться нам нечем. Каждый, кто изучает поведение людей не только по старым историям, но и по истории текущих дней, хотя часто пытается в своих суждениях мизантропически играть роль Тимона 1), но гораздо чаще и более основательно Момуса2), и легко найдет, что в харак-
———————————————
1) Тихон афинянин стал обычным синонимом человеконенавистника. Прим, перев.
2) Момус, сын ночи, олицетворение злоречия; он лопнул с досады, когда не мог сказать про Афродиту ничего дурного. Прим. перев.
181
терных чертах нашего рода обнаруживается больше глупости, чем злобы. Но, так как глупость в соединении с признаками злобы (которая тогда называется безумием) нельзя не отметить в моральной физиогномике нашей породы, то, уже из утайки доброй половины интимных мыслей, достаточно ясно можно видеть, что каждый разумный человек считает необходимым — не быть на распашку, и не позволять вполне рассмотреть себя, каков он на самом деле; а это уже выдает наклонность нашей породы питать дурные чувства друг против друга.
Было бы хорошо, если бы на какой-нибудь из других планет существовали разумные существа, которые могли бы думать только громко т. е. наяву, как и во сне, в обществе и в одиночестве они не могли бы иметь мыслей, которых сразу же не высказывали бы громко, какое бы действие это ни имело для отношений друг к другу существ, отличных от нашей человеческой природы. Если бы все они не были ангельски чистыми, то стоило бы посмотреть, как они стали бы обходиться друг с другом, сколько уважения каждый из них имел бы к другим и как бы они могли уживаться вместе? Следовательно, уже к первоначальной сложности человеческого творения и к его родовым понятиям относится — выведывать мысли других и прятать свои собственные; это любопытное свойство впоследствии мало по малу благодаря притворству переходит к преднамеренному обману, пока наконец не дойдет и до лжи. Это дало бы тогда нам карикатурный рисунок нашей породы, которой не только служил бы к добродушной насмешке над ней, но и к презрению ее в том, что создает ее характер, и к признанию, что эта раса разумных мировых существ среди других (нам незнакомых) заслуживает отнюдь не почетного места1), если бы именно это укоризненное суждение не выдавало в нас моральных задатков, прирожденного требования разума противодействовать этой наклонности и, значит, изображать человеческий род, не как злой, но как род разумных существ, поднимающийся от зла к
———————————————
1) Фридрих II спросил однажды превосходного Зульцера, которого он ценил по заслугам и которому он поручил управление учебными заведениями в Шлезвиге, как там идут дела. Зульцер отвечал: «с тех пор, как мы начали действовать на основании принципа (Руссо), что человек от природы добр, дело стало идти лучше». «Ах, — сказал король, — mon cher Sulzer, vous ne connaissez pas assez cette maudite race à laquelle nous apparterons». — К характеристике нашей породы относится также и то, что она, домогаясь гражданского строя общества, нуждается также и в дисциплине путем религии, чтобы таким образом то, чего нельзя достигнуть путем внешнего гнета, достигалось путем внутреннего, причем моральными задатками человека законодатели пользуются в политических видах; это тенденция, которая тоже относится к характеру породы. Но если в этой дисциплине народа мораль не предшествует религии, то религия становится образцом для морали и установленная религия становится орудием государства (политики) при деспотизме в области веры; это зло, которое неизбежно портит характер и соблазняет других управлять при помощи обмана (называемого государственной мудростью): в этом отношении великий монарх, когда он публично признается, что он лишь высший слуга государства, в тайных своих частных признаниях не может не признаться в противоположном, но с тем только извинением своей личности, что эту испорченность следует приписать той дурной расе, которая называется человеческим родом.
182
добру, в постоянном движении вперед, среди всевозможных препятствий; при этом воля человека в общем добра, а ее осуществление затрудняется тем, что достижения цеди можно ожидать не от свободного соглашения отдельных людей, но только путем прогрессивной организации граждан земли в породе и для нее, как для системы, объединенной космополитически.
183
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
