13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Волков С. А.
Волков С. А. Архиепископ Иларион (Троицкий)
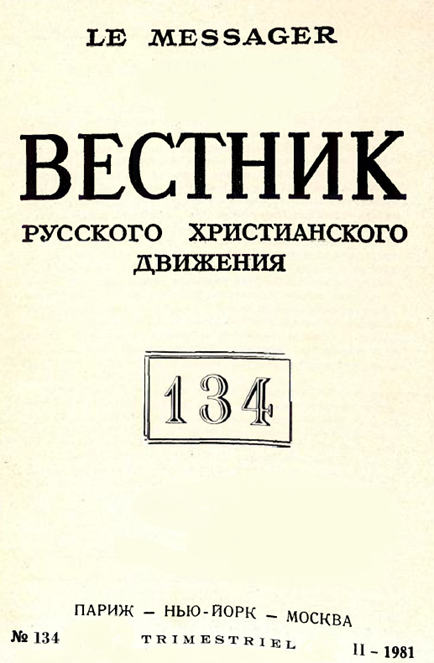
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
С. А. ВОЛКОВ
АРХИЕПИСКОП ИЛАРИОН (ТРОИЦКИЙ) *
Архиепископ Иларион Троицкий (1886-1929) был арестован впервые в 1920 г., затем в 1923 приговорен к трем годам Соловков, где получил добавочный трехлетний срок. Его инициативе принадлежит знаменитое послание Соловецких узников в ЦК большевистской партии, попытка установить отношения между Церковью и властью на почве декрета об отделении Церкви от государства. В 1929 г., по пути в Алма-Ату, архиепископ Иларион скончался от сыпняка в Ленинградской тюрьме.
Это было исключительное лицо среди академического не только монашествующего, но вообще всего профессорского коллектива.
Профессор-архимандрит, проректор Академии, интереснейший лектор, первоклассный оратор, он выделялся среди остальных. Помню его блестящие публичные лекции о России, о церкви, которые я приходил слушать, будучи еще гимназистом 7—8 классов. Он придерживался славянофильских взглядов, обильно сдабривая их почти католическими церковными тенденциями, измененными на православный лад и примененными к русской обстановке. С особенной страстью он говорил о взаимоотношениях государства и церкви, бранил «нечестивого царя Петра» (его обычное наименование и до февраля 1917 года), Синод, который, по его мнению, был учреждением совсем не каноническим, ратовал за восстановление патриаршества. Недаром во время Всероссийского собора, как мне тогда приходилось слышать, его — единственного не епископа — называли в кулуарных разговорах в числе желательных кандидатов на патриарший престол. Честь для молодого архимандрита немалая... Хотя это были всего только частные беседы, но они показательны в отно-
* Из рукописи «Конец старой Академии», Самиздат 1965.
227
тении авторитета и славы, которой он и тогда уже пользовался. Тогда в Академии среди монашеских и примыкавших к ним светских кругов профессуры и студенчества были сильны тенденции перенести на русскую православную почву некоторые католические порядки и установления; в частности высказывались мысли о том, что недурно было бы иметь и у нас нечто вроде орденов болландистов или бенедиктинцев, собрав воедино всех ученых монахов, которые в наших условиях как бы распыляются среди общей массы монашества и при этом теряют понимание своих специальных целей и интересов. Самого католичества Иларион не любил, можно сказать даже не выносил, и отзывался о нем, особенно о Римском папе, резко отрицательно. Когда в 1919 году (кажется) в Москве проходили какие-то совещания представителей русской церкви с католическими духовными лицами, на которых нащупывалась почва для возможности сближения, я однажды спросил Илариона, во время одного из его редких наездов в Посад, не предвидится ли в дальнейшем соединения церквей? Он ответил иронически и многозначительно: «Эти собрания проходят под моим председательством, а поэтому вряд ли может быть от них какой-нибудь положительный результат... Впрочем, если Рим покается, то...» Он не кончил фразы. Было ясно, что Рим «каяться» не захочет, но и мы, несмотря ни на какие трудности переживаемого времени, не пойдем в Каноссу. Здесь чувствовалась вековая вражда к католическому миру и вместе с тем опасение попасть ему в лапы и оказаться на положении пасынков, которых будут третировать и эксплуатировать как вздумается.
Иларион читал лекции по Священному Писанию Нового Завета, в частности — о Евангелиях. Я мало их слышал, хотя не пропустил ни одной, так как в мое время он был членом Собора, постоянно проживал в Москве и в Академию заглядывал нечасто, особенно после того, как ректором был избран А. П. Орлов и Иларион был освобожден от исполнения обязанностей временного ректора, которые были на него возложены после удаления епископа Федора. Помню, что слышанные мною лекции, представлявшие введение в изучаемую дисциплину, были прочитаны прекрасным языком. В них много было того, что можно назвать «публицистическим элементом", откликов на современность, что мне не особенно нравилось после глубоко научных лекций о. Евгения Воронцова. Думаю, что у Илариона этот элемент проникал в лекции не из-за желания прикрыть им недостаточность ученых познаний, которые у него, как и феноменальная память, были поразительны и очевидны, а скорее от его темперамента: он не мог спокойно повествовать, как это делал,
228
например, Серебрянский, или самозабвенно углубляться в древние века, как Воронцов или Д. А. Лебедев, а должен был гореть, зажигать своих слушателей, спорить, полемизировать, доказывать и опровергать. Мне думается теперь, что ему по характеру скорее подошла бы апологетика, а не экзегетика! Он не был только теоретиком, теорию он всегда соединял с практикой. Это был человек, который требовал действия, реального дела. Он, как мне кажется, принадлежал к роду таких лиц, как патриарх Никон, митрополит Арсений (Мацеевич) или архимандрит Ириней (Нестерович), описанный Лесковым в «Мелочах архиерейской жизни» и «Кадетском монастыре». Илариону нужен был простор исторической арены, чтобы «размахнуться» чисто по-русски, широко, безудержно и властно творить. Увы! Жизнь не даровала ему такой возможности!
Помню, как Глаголев рассказывал мне, что однажды Иларион при встрече с известным В. В. Розановым, который после 1917 г. проживал в Сергиевом Посаде, сказал тому между прочим: «Да где уж нам, «людям лунного света», понять какие-нибудь бодрые настроения!»... Любопытен был контраст: слабенький, щупленький Розанов — носитель, выразитель земного ощущения жизни, поклонник плотяного юдаизма, чадородия, плодородия, и Иларион чисто русский богатырь, иронически говорящий о себе как об одном из «людей лунного света», пользуясь терминологией и образом Розанова!
Высокий и стройный, с очень умеренной и пропорциональной полнотой, с ясным и спокойным взглядом прекрасных голубых глаз (он был немного близорук, но никогда не пользовался очками), всегда смотревший уверенно, с высоким лбом и волосами, которых никогда не завивал, с небольшой, но окладистой русой бородой, с звучным голосом и отчетливым произношением, — он производил обаятельное впечатление. Нельзя было им не любоваться. Несколько портила его привычка иногда слегка пофыркивать носом, но и эта мелочь как-то скрадывалась и почти не замечалась в сильном облике чисто русского человека, прямо-таки богатыря, одухотворенного глубоким интеллектом и чистой благородной душой. Тот же Глаголев не раз говорил мне про него: «Самый настоящий мужик-красавец. Бабы без ума бывают от таких!..» Я не знаю его личной жизни, но не было о нем никаких сплетен, и к его имени не примешивали никаких «магдалин». Все преклонялись перед ним и глубоко уважали его.
Необычайно красиво и величественно совершал он служение в храме. Нечто возвышенное, легкое и прекрасное в его чтении Еван-
229
гелия и произнесении возгласов и молитв звучным и раскатистым голосом, властно наполнявшим все пространство нашего обширного академического храма. Но не менее звучно и прекрасно звучал этот голос и в Успенском соборе Лавры, и в храме Христа Спасителя в Москве. Была некая восторженность в его служении, вполне искренняя, без малейшей тени театральности, увлекавшая молящихся и запомнившаяся мне на всю жизнь. Видно было, что он отдавался богослужению всецело, всею душою, всем существом своим, жил и дышал им, что оно было для него самым главным делом его жизни. Все его движения были свободны и в то же время плавны и красивы естественной красотой, а мягкий, но сильный баритон пленял своим звуком в хоре священнослужителей и в сольном пении и чтении. Дивно он пел «Чертог Твой, Спасе мой, вижду украшенный», дивно произносил: «Мир всем», «Слава Тебе, показавшему нам свет!» Он страстно любил Академию и ее храм. Однажды он мне сказал, что церковное богослужение, исполненное по уставу, как следует, с любовью и тщанием, прекрасней всякой лучшей оперы с ее нелепыми руладами (точное его выражение) и часто посредственным смыслом.
И я согласен с ним вполне. И тогда и всегда, вплоть до настоящих дней. Никакие оперы и концерты не пленяли меня так, как церковные службы, особенно пасхальные в Академии и великопостные в Лавре. Опера, театр не захватывают меня всего. Я все время чувствую себя только зрителем, слушателем пускай даже прекрасной музыки и пения в исполнении лучших артистов. Но я не сливаюсь со всем этим воедино. А в храме чувствуешь себя единым существом вместе со священнослужителями, хором, всеми молящимися. Правильно назвал Флоренский богослужение синтезом искусств. Мелодии многих молитв и песнопений очаровывают человека то своим величием и мощью, то небывалым сверкающим восторгом, то исключительной лирической грустью и даже сверхчеловеческой тоской, а то столь же сверхчеловеческим успокоением и небесной ясностью. Они не только пленяют, радуют, вызывают раздумье и умиление, они преобразуют человека всего, дают силы жить и дышать в самые казалось бы непереносимые моменты жизненных невзгод и печалей. Вот эта-то красота и привлекла меня в Академию. Вместе с курсом проходимых наук она давала мне ответы на те вопросы внутреннего моего существа, которые волновали меня. И я был счастлив, что моя жизнь сложилась так.
Эта красота церковного богослужения сильно и глубоко чувствовалась Иларионом. Мне часто удавалось беседовать с ним на эту
230
его любимую тему, и его высказывания были проникнуты глубоким религиозным и вместе с тем проникновенно эстетическим чувством и пониманием. Он верно и четко замечал различие между католическим и православным ритуалом, отчасти изложенное им в его «Письмах о Западе», тонко постигал могучую силу церковного пения в православии и указывал на совершенную неуместность органов в православном храме. Понимал он и значение иконописи, всего церковно-вещественного обихода, умел все это не только осмыслить для себя, но и представить другим в ярких образах удивительно целостно, проникновенно и стройно. И его слова навсегда оставались в сознании и памяти его благодарных слушателей.
Он не был похож на тех усталых и как бы бескостных интеллигентов, которые не умели постичь все это здоровым и смелым умом, а как бы прятались в церковность от своей немощи, от бессилия и оскудения в них высокого духа... Он не был схоластом-начетчиком, который не может выкарабкаться из книжных загромождений, не имея своих ни слов, ни мыслей... Этот смелый и исключительно талантливый человек все воспринимал творчески. Я мало его знал, никогда мне не доводилось с ним интимно говорит о вопросах веры и основах христианского мировоззрения. — Он все-таки был профессор, проректор Академии, архимандрит, а я лишь зеленый юноша-студент, к которому он, кандидат в «князья церкви», относился с добродушной и покровительственной улыбкой, не лишенной иногда некоторой доли иронии, уделявший ему малую толику своих мыслей в редкие свободные минуты. Поэтому я не могу сказать что-либо глубокое и тем более обстоятельное о его идеях. Внешнее изложение этих идей на лекциях и в беседах было блестящее. Они преподносились талантливо и ярко, и сам их выразитель был талантливой и яркой личностью, цельной и твердой натурой. Но внутренний мир его для меня оставался тайной. Он не высказывался вполне ни в его сочинениях, ни в публичных лекциях, ни в частных беседах за чашкой чаю или во время прогулки по академическому саду. Он не был мыслителем; по крайней мере, я в нем этого не чувствовал. Он прежде всего был практиком, которому неблагоприятные исторические условия не дали возможности развернуться во всю ширь, как он того хотел и что для него было жизненно необходимо. Если немногие мои беседы с Флоренским и частые — с Глаголевым и Воронцовым раскрывали для меня необозримый мир мысли, то Иларион благодатно влиял на меня как выдающаяся личность, как человек, — своей прямотой и властностью в отстаивании своих убеждений, благолепием неподражаемо совершаемого им богослужения, сильной
231
и талантливой, захватывающей и покоряющей речью (у него, а также у Вассиана [Пятницкого] я учился говорить публично) и, наконец, своей исключительной бодростью, энергией и жизнерадостностью. Он любил говорить, что насколько христианин должен сознавать свои грехи и скорбеть о них, настолько же он должен радоваться бесконечной милости и благости Божией и никогда не сомневаться, не отчаиваться в своем жизненном подвиге. У него самого была поразительная восторженность по отношению ко всем)*, что было ему дорого и близко — к церкви, к России, к Академии, и этой бодростью духа и прямо-таки энтузиазмом он заражал и ободрял, укреплял окружающих.
Стоит рассказать такой случай. Я уже упоминал, что в 1917— 1919 гг. Иларион большую часть своего времени проводил в Москве, принимая участие в деяниях Церковного собора. Ими глубоко и живо интересовались в Академии и профессора и студенты. Можно сказать, что жили ими. И вот до Илариона дошли слухи, что среди части профессуры и студенчества идут разговоры о том, что предполагаемое собором восстановление патриаршества мало желательно, что это будет поставление «церковного царя», взамен удаленного царя гражданского, что патриаршая власть будет как бы соперничать с властью соборной, что надо только чаще созывать соборы, а в промежуточное между ними время церковью может управлять и Синод, при условии расширения его состава, особенно путем включения в него представителей белого духовенства, не только в лице протопресвитеров, но и простых священнослужителей от приходов. Иларион тотчас же примчался в Академию и вечером экстренно прочел лекцию на тему: «Нужно ли восстановление патриаршества в русской церкви?» На лекции присутствовало большинство профессуры, кроме только проживающих в Москве, и все студенчество. Лекция продолжалась часа 2—3. Конечно, она была прочтена так, как мог это сделать один Иларион. Ведь восстановление патриаршества издавна было его заветным желанием, даже как бы смыслом его жизни, которому он издавна посвящал все свои силы.*
В своей лекции Иларион вкратце рассказал о патриаршем периоде в русской церкви и, конечно, идеализировал его. Между прочим, он заметил, что не будь патриаршества и такого его выразителя, как патриарх Никон, человека умного, талантливого и при этом властного
* Очевидец А. Н. (точно не помню имя и отчество) Троицкий, однокурсник Илариона, рассказывал, что Иларион плакал во время крестного хода, когда избран был Патриарх Тихон.
232
и энергичного, то вопрос о реформе церковных книг еще долго, пожалуй, ждал бы своего осуществления. «Ведь эта реформа была проведена исключительно благодаря смелой и настойчивой деятельности Никона, против которой боролось огромное количество духовенства и прочих ревнителей «старины». Они упорно сопротивлялись Никону и породили раскол, — говорил Иларион. — А что было бы, если бы не было единого главы, который сумел осуществить начатое дело?!”
Далее, говоря о будущем русской церкви после восстановления патриаршества, Иларион сказал, что кончились времена, когда в церковные дела вмешивались не только цари, но и их чиновники, среди которых были и иноверы, карьеристы, готовые забыть о Царе Небесном ради угождения царю земному, и даже совершенно неверующие люди. Он говорил также, что будущие патриархи не будут помышлять о неограниченной власти, над ними будет высший орган — Собор. «Теперь наступает такое время, — говорил он, — что не «царским венцом» будет венец патриарший, а скорее венцом мученика и исповедника, которому придется самоотверженно руководить кораблем церкви в его плавании по бурным волнам моря житейского».
Лекция закончилась всеобщими аплодисментами, «перешедшими», как теперь выражаются, «в овацию». Ясно было, что подавляющее большинство было согласно с докладчиком. И Иларион мог спокойно на другой день возвратиться в Москву.
Позднее я слышал, что став епископом, он имел большое влияние и значение в церковных делах, а за твердость в делах веры, за преданность церкви его именовали в церковных кругах «Иларионом Великим»,
Последний рассказ, который я слышал от самого Илариона, был о посещении патриарха Тихона А. М. Горьким. Дело обстояло так. Во время страшного голода в Поволжье в советских кругах нашли полезным, чтобы патриарх обратился к главам инославных церквей с воззванием о помощи голодающим. Переговоры с патриархом на эту тему поручили А. М. Горькому. Он запросил по телефону секретаря патриарха, примет ли его патриарх, если он к нему прибудет. Секретарь ответил, что патриарх принимает всякого человека, который имеет необходимость с ним встретиться. Иларион присутствовал при этой встрече. «Когда Горький вступил в «голубой кабинет», патриарх встретил его, рассказывал Иларион. Горький немного смутился. Он не знал, как ему поздороваться с высоким хозяином. Принять благословение он считал фальшью, так как всем присутствующим было известно, что он человек иррелигиозный, а про-
233
тянуть руку доя приветствия он считал дерзким. Он замялся на минуту. Патриарх приветливо улыбнулся и сказал: «Давайте поздороваемся» и сам первый подал Горькому руку. После этого состоялась беседа, в результате которой патриарх Тихон направил соответствующее послание Римскому папе и архиепископу Кентерберийскому и, кажется, верховному управлению Евангелической церкви. Послание было написано по-латыни. Латинский текст составлял, кажется, И. В. Попов.
234
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
