13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Франк Семён Людвигович
Франк С.Л. Предсмертное. Воспоминания и мысли. [Автобиография и автобиблиография]
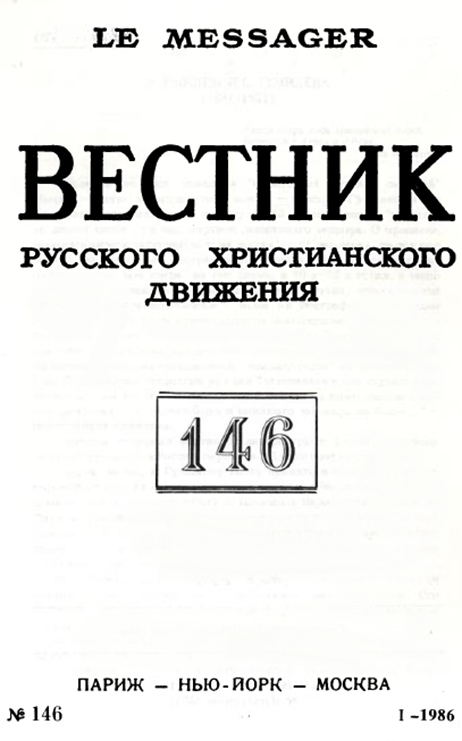
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
ФРАНК С. Л.
ПРЕДСМЕРТНОЕ. *
Воспоминания и мысли.
[Автобиография и автобиблиография]
Приближаясь к концу шестого десятилетия моей жизни и остро чувствуя близость смерти, я испытываю потребность обозреть свою духовную жизнь, подвести некоторый итог своему «духовному хозяйству» и вместе с тем оставить своим близким некоторую более живую память о себе. Что касается этого последнего желания, то ему, правда, противостоит иное, тоже очень живое чувство: чувство вседостигающего и всепоглощающего характера времени — того непостижимого потока, который уносит все земное в бездну забвения. Перед лицом вечности — один год, 10 лет, 1000 лет и миллион лет есть одно и то же; здесь исчезает всякое различие между близким и отдаленным, даже «бесконечно» отдаленным будущим. Столетия и тысячелетия мелькают так же быстро, как дни и годы. Самое отдаленное будущее непременно и неукоснительно когда-нибудь наступит — станет настоящим; — и поэтому духу, способному оторваться от чувственной навязчивости того настоящего, которое есть именно теперь, в данный момент — или, вернее, которое именно теперь проносится мимо нас — самое отдаленное будущее так же осязательно очевидно в неизбежности его наступления, его превращения в настоящее и прошлое, как завтрашний день. Если бы мы знали, что какая-нибудь историческая или космическая катастрофа завтра сметет с лица земли не только нас, но и всякую память о нас, — стали ли бы мы заботиться о том, чтобы оставить по себе воспоминания после смерти? Но ведь через 100, 300 или 500 лет все равно всякая живая память о нас изгладится. Поэтому для зрячего сознания, не скованного чувственной реальностью настоящего, желание оставить память о себе есть бессмысленное чувство. Но с этим конкурирует и обратное сознание. Наш дух, как
* Печатается по машинописной копии с автографа, сделанной Виктором Семеновичем Франком (1909-1972). Ему же принадлежат примечания к библиографии. Машинопись хранится у Василия Семеновича Франка (Мюнхен), любезно предоставившего «Вестнику РХД.» право на ее опубликование.
103
конкретное существо, осуществляет свою сверхвременную сущность только во времени, связан с историей, определен моментом своего бытия в историческом целом. Понять самого себя — значит понять свое прошлое, свое возникновение и развитие, свою связь с прошлым, с предшественниками и предками. Но эта конкретная жизнь каждого из нас есть жизнь предшественника и предка для следующих за нами поколений. Духовный лик каждого человека даже самого ничтожного или малозначительного — будучи образом Божиим, отражением Вечного в слабом и шатком временном подобии, имеет свою ценность, и очень значительную, для других людей. Если смерть, как возвращение к Богу, с одной стороны, есть отрыв от всего земного, «бегство одинокого к одинокому» (φυγὴ τοῦ μόνου πρὸς τ[ον μόνον) — то, с другой стороны, чувство смерти и приближает нас к другим, к близким и ближним, и чувствуешь потребность, в меру возможности, одолеть смерть любовью, ощутить себя нераздельной частью великой цепи живых существ, соприкасающихся с тобой во времени — прошлом и будущем. И для самого себя, и для других хочется себя как-то все же «увековечить» — свою индивидуальную жизнь не отрывать от общей жизни, а, напротив, воспринимать и иметь в ней. Это значит: вне всякой «философии», чувство близости к «своим» вызывает потребность как-то оставить свой духовный образ тем, кто тебя переживет и захочет тебя вспомнить — своей вдове, своим детям, будущим внукам, и всем другим, кто как-либо тебе или был близок, или даже уже только после твоей смерти может почувствовать свою близость к тебе.
Вот чувства, с которыми я приступаю к записи этих «воспоминаний и мыслей». Они предназначаются ближайшим образом не для «опубликования», а для личного чтения — для моей вдовы, моих детей и будущих внуков. Впрочем, если они найдут нужным и желательным опубликовать эти записки, — я ничего не имею против этого, под условием, что все интимно-автобиографическое будет исключено — и что опубликование последует лишь много лет после моей смерти.
Характер этих записей дает мне возможность выразить мои мысли, мое духовное существо в конкретной, личной форме. Такого рода творчество, вообще говоря, мне совершенно чуждо. По натуре я не склонен к рефлексии, к самопознанию, а всегда
104
стремился, отрешаясь от всего субъективно личного, познавать реальность в ее объективности — думать и говорить не о «себе», а о том, что узнал. Но именно теперь я испытываю потребность, оставшуюся как-то неудовлетворенной в течение всей жизни, осознать, объективное, ставшее моим достоянием, именно как свое — в связи с неповторимой индивидуальностью своей личности. Я сделаю это, вероятно, плохо, потому что не привык и не умею это делать. Но так как эти строки пишутся для себя самого и для тех, кто меня любит, и кому я близок таков, каков я есть, — то мне все равно, как это будет сделано. Сама неумелость выражения того, что я хочу сказать, адекватна моему существу и, следовательно, будет о нем свидетельствовать.
Мысли, как выражения личности и личной жизни, неизбежно переплетаются с воспоминаниями. Воспоминания, которые я здесь буду записывать, вряд ли будут особенно интересны сами по себе, своим содержанием. Я жил в эпоху, полную бурных и многозначительных событий; и судьба сталкивала меня с людьми, о которых будущий историк скажет, что это были самые значительные люди этой эпохи — личности, игравшие в эту эпоху примерно ту же роль, какую в 30-40 гг. XIX века играли тогдашние идеалисты, члены кружков Станкевича и Герцена. Но мои воспоминания о них будут недостаточно отчетливы и подробны. Озираясь назад на свою жизнь, я сознаю, что я всю свою жизнь блаженно промечтал. Впечатления конкретной действительности и живых людей входили в мою душу без того, чтобы я отчетливо направлял свое внимание на эту конкретную реальность и познавал ее мыслью — моя мысль всегда была направлена на общее. Мои воспоминания не могут претендовать на значение исторически ценных мемуаров. И в них я буду говорить, в сущности, о себе, и упоминать других лишь поскольку я был с ними внутренне связан. Благодаря недостатку внимания к конкретному, память моя о нем неполна, многое забыто. В одном только я уверен — то, что я помню, я помню точно, и воспоминаний я не спутаю с фантазиями.
Буду писать непринужденно, в том порядке, или беспорядке, в каком мысли и воспоминания будут возникать во мне, не придерживаясь ни хронологической, ни систематической связи.
Берлин, 26 дек. 1935
105
*
Расскажу прежде всего известные мне данные о моем происхождении и сохранившиеся в памяти впечатления первых лет жизни. Я родился 16 января 1877 по стар, стилю (тогда — 28,1, а по нынешнему счету — 29.1 по европейскому стилю) в Москве, в Замоскворечьи, на Пятницкой улице. Воспоминаний о жизни в Замоскворечьи у меня нет: мои родители переселились, очевидно, скоро после этого в другую часть Москвы, и все мое детство я провел около Маросейки и Покровки (а также Мясницкой), в переулках, между которыми мы жили. (Первое место моих детских прогулок с няней или немецкой бонной — «Чистые Пруды”), Отец мой, врач Людвиг Семенович Франк, род. в августе 1844, умер, долго болея лейкемией (злокачественным малокровием) 1 марта 1882 г., когда мне было 5 лет. Отец мой был уроженцем Западного края, где его отец, мой дед (умерший до моего рождения), был — кажется в Виленской губернии — управляющим имением. У него (деда) было много детей, но несколько человек из них умерли в юности от скоротечной чахотки. Из дядей и теток моих (братьев и сестер отца) я знал: старшего в семье — Иосифа — человека, кажется, беспутного, авантюристического склада, проживавшего долго в Болгарии, в Софии (бывшего одно время там поставщиком мебели и внутреннего убранства дворца Фердинанда Кобургского, а м. б. еще раньше — Александра Баттенбергского) и кончившего жизнь бедняком-холостяком в Варшаве. Несколько моложе моего отца был другой дядя — Сигизмунд, провизор, прослуживший всю жизнь в аптеке Феррейна у Красных Ворот, — благодушный, добрый и недалекий человек. Под конец жизни он женился на простой русской женщине, с которой долго был в связи. Он имел от нее сына — Дмитрия (теперь, кажется, в чине поручика где-то в Сербии). И были еще две тетки, Теофилия и Ева, обе уже в зрелых летах вышедшие замуж и обе довольно скоро овдовевшие. Тетя Ева, по мужу Кан, играла довольно большую роль в моем детстве: она часто и долго жила в нашем доме и иногда заменяла нам мать (когда моя мать уезжала — обычно лечиться в Карлсбад) — тоже очень неумная, но очень добрая женщина, которая нас, своих племянников, страстно любила. (Она вышла замуж и вскоре переселилась в Варшаву уже на моей памяти — мне было тогда лет 11 или 12). Но очень интересным человеком была,
106
кажется, моя бабушка со стороны отца, Фелиция Франк (урожд. Френкель). Она дожила до глубокой старости и умерла в Варшаве, кажется, в 1903 году или около этого. В Москве она жила с двумя упомянутыми тетками, своими дочерьми — а потом, когда тетя Теофили я вышла замуж, с тетей Евой, в Введенском переулке (между Покровкой и Воронцовым полем). Она владела языками, французским и немецким, еще в глубокой старости читала газеты, интересуясь почему-то семейной хроникой европейских царствующих родов, играла на рояли и была гораздо образованнее и умнее своих детей (по крайней мере тех, кого я знал). Сохранилось у меня воспоминание об ее комнате, обставленной мебелью и безделушками в стиле рококо — первое художественное впечатление моего детства, вообще бедного художественными впечатлениями.
Мой отец, как мне рассказывали, по окончании гимназии, где-то в Западном крае (вероятно в Вильне) поступил в тогда существовавший виленский университет; но как раз около этого времени вспыхнуло польское восстание 1863 года (о подробностях его мне рассказывала моя мать, которая девочкой была его свидетельницей и присутствовала даже однажды при публичном расстреле повстанцев). Так как повстанцы уводили в лес (”до лесу!» — был их лозунг) всю молодежь, очевидно, оказывая сильнейшее моральное давление, а м. б. и прямое принуждение, то мой дед заставил моего отца перевестись в московский университет — который он и кончил по медицинскому факультету, вероятно в конце 60-х годов. Он остался в Москве, и, после смерти деда, к нему переселилась его мать с дочерьми — так произошло обоснование в Москве семьи моего отца. Отец мой был военным врачом на турецкой войне 1877-78 гг. — в иллюстрированной летописи этой войны я нашел упоминание его имени и подвига, ухода за ранеными под огнем неприятеля. Он получил за это орден Станислава, кажется, 3-ей степени — единственный орден, дававшийся евреям. Потом он был чиновником Медицинского Департамента — но подробностей его службы я не знаю. Я помню его как сквозь сон только уже прикованным к постели, тяжелобольным — нас, детей, водили в его комнату только на несколько минут, мы целовали его руку и он давал нам конфеты. Отчетливо помню лишь день его смерти и его уже в гробу. Нас, детей, повели через залу в его комнату, я по привычке старался идти тихо, на цыпочках — так нас приучили,
107
чтобы не нарушить тишины, и мне сказали, что теперь этого уже не нужно делать. Я хотел, как обычно делал, поднять его руку, чтобы поцеловать ее, но холодная и тяжелая рука не подымалась, и это меня поразило. Это было первым впечатлением смерти в моей жизни. Помню плач моей матери и ее слова к нам, детям: «хоть слезинку пролейте над ним» — мы еще не понимали, что значит смерть. Мне было тогда пять лет, моей сестре — 6 1/2, а брату Мише — 3 года. На похороны нас не взяли, а отвезли к бабушке Франк. Похоронен мой отец в Москве на Дорогомиловском еврейском кладбище (там же лежит прах моего деда со стороны матери, М. М. Россиянского, о котором расскажу сейчас дальше, и в двух могилах под общим памятником — моей матери Розалии Моисеевны, по второму мужу Зак, и ее матери, моей бабушки Сары Росси янской. Мне хотелось бы, чтобы мои дети, если им суждено вернуться в Россию, навестили эти могилы.
Перехожу теперь к семье моей матери. Мой дед, Моисей Миронович Россиянский, происходил из Ковно. Он женился на бабушке, которая была родом из Тильзита (пограничного немецкого городка). Ее девичья фамилия была Добринер — ее родственники (за исключением одного брата, жившего в Москве) остались в Германии, я еще встречался в 1899-1900 гг. с двумя ее братьями и их детьми в Берлине. Моя мать — единственное дитя моего дедушки — родилась 17 января 1856 г. в Ковно (когда я родился — накануне дня ее рождения — ей был 21 год). Так как я знаю, что моя мать 9-ти или 10-тилетней девочкой переселилась в Москву, то очевидно мой дед переехал в Москву в 1865-66 г. Моя мать кончила 1-ую московскую женскую гимназию, и вскоре, 18-летней девушкой, вышла замуж за моего отца. Она уже свободно говорила по-русски и имела общее литературное образование обычного русского буржуазного уровня. Она была очень энергичной и практически умной женщиной. Но самым замечательным человеком в семье, который заложил во мне основы моего духовного и умственного развития, был мой дед, М. М. Россиянский. После смерти моего отца в 1882 г. и вплоть до смерти деда в декабре 1891 г. мы жили вместе с ним — сперва в разных местах, как я уже сказал, в районе Покровки и Мясницкой (помню жизнь в доме в Лялином переулке, где зимой случился пожар и нас, детей, поздно вечером вывели из дома среди удушающего дыма), а потом, кажется с 1888-89 года, в особняке,
108
который купил мой дедушка в Кривом (позднее Мельниковом) переулке. Одним концом он выходил в Харитоновский переулок, другим в Машков переулок в районе Чистых Прудов.
Мой дед, плохо говоривший и совсем не писавший по-русски, был по-своему очень образованным человеком. Не только владел он, как большинство евреев, воспитанных в Западном крае, еврейским богословием (знанием Библии, Талмуда и еще знаменитого средневекового комментария к Библии, так наз. «Kaschi”), но и самоучкой был осведомлен в светских знаниях — главным образом в политической истории XIX века. По профессии чайный маклер — посредник между китайскими фирмами и московскими чаеторговцами, — не получив никакого общего образования, он был живым, умным и интеллигентным человеком, сочетавшим преданность традициям еврейской веры (без фанатизма) с широким общим умственным горизонтом. Он был одним из основателей еврейской общины в Москве в 60-70 годах. Соображая о наследственности моего собственного склада, я думаю, что вкус к мысли и остроту мысли я унаследовал от него, тогда как созерцательность моей натуры идет очевидно из семьи отца. Мой дедушка был первым моим воспитателем. Он заставил меня научиться древнееврейскому языку (который я теперь забыл) и читать на нем Библию. Он водил меня в синагогу (по большим еврейским праздникам — субботние дни, как и все сложные мелочи обрядового устава, он не соблюдал), где я получил первые, запавшие на всю жизнь религиозные впечатления (рядом с этим шли, через нянек и окружающую русскую среду, и религиозные впечатления русского православия). Благоговейное чувство, с которым я целовал покрывало Библии, когда в синагоге обносили «свитки завета», в порядке генетически-психологическом стало фундаментом религиозного чувства, определившего всю мою жизнь (за исключением эпохи неверующей юности, примерно от 16 до 30 лет). Рассказы дедушки по истории еврейского народа и по истории Европы стали первой основой моего умственного кругозора. Умирая, он просил меня — тогда 14-летнего мальчика — не перестать заниматься еврейским языком и богословием. Этой просьбы я в буквальном смысле не выполнил; думаю, однако, что в общем смысле я — и обратившись к христианству, и потеряв связь с иудаизмом — все же как-то остался верен завету дедушки, потому что остался верен религиоз-
109
ным основам, которые он во мне заложил; или, вернее, я вернулся к ним в зрелые годы. Мое христианство я всегда сознавал, как наслоение на ветхозаветной основе, как естественное развитие религиозной жизни своего детства.
*
Вторым человеком, имевшим на меня влияние в возрасте переходном от отрочества к первой юности, был мой отчим Василий Иванович Зак. Он появился в нашем доме в 1890 году и женился на моей матери весной 1891 г., когда мне было 14 лет. Он провел молодость в русской революционно-народнической среде, был участником революционного движения конца 70-х годов и был сослан в восточную Сибирь. Он ввел меня в идейный мир русского народнического социализма и политического радикализма. Первая «серьезная» книга, которую я прочитал по его указанию — были некоторые сочинения Михайловского («Что такое прогресс?» и др.); потом я прочел Добролюбова, Писарева, Лаврова и пр. Влияние этих идей было на меня неглубоко; как теперь сознаю, они не соответствовали объективно-познавательному складу моей природы; скорее подействовала на меня лишь общая атмосфера идейного искания, от них веявшая, и укрепила во мне сознание необходимости иметь «миросозерцание».
Третье влияние, мною испытанное, шло от гимназического кружка в 7-м и 8-м классе нижегородской гимназии, куда я перешел именно в 7-ой класс, осенью 1892 г. Из этого кружка — всего 5-6 человек — позднее в общественной жизни обнаружил себя только один человек — Алексей Максимович Никитин, социал-демократ меньшевик, бывший министром внутренних дел в кабинете Керенского — пожалуй, один из самых бездарных членов этого кабинета интеллигентов-дилетантов. Кружок этот представлял зарождавшийся тогда «марксизм», об истории которого постараюсь рассказать позднее. Под влиянием этого кружка я прочел еще гимназистом «Капитал» Маркса (1-ый том, в котором выражено миросозерцание «марксизма», и скучный 2-ой том; третий том, который должен быть разрешить противоречия первого, был опубликован, как известно, лишь в 1894 г.). Марксизм увлек меня своей наукообразной формой, именно в качестве «научного» социализма.
110
Меня привлекала мысль, что жизнь человеческого общества можно познавать в его закономерности, изучая его, как естествознание изучает природу. Когда я впоследствии прочитал в «Этике» Спинозы фразу: «я буду говорить о человеческих страстях и пороках, как если бы дело шло о линиях, плоскостях и телах», я увидал в них выражение того заветного тогда настроения, которое я ощущал при изучении теории Маркса. Естественно, что собственно революционную и этическую тенденцию марксизма я хотя и принимал, как что-то верное и необходимое, но душа моя к ней не лежала. Под влиянием этого гимназического кружка я находился и первые два года студенческой жизни в московском университете. Лекций (на юридическом факультете, куда я поступил для изучения политической экономии) я не слушал, а занимался кружковыми дебатами по вопросам социализма и политической экономии и — «революционной деятельностью» в конспиративных кругах нарождавшейся тогда социал-демократической партии, ходил даже (переодетый в штатское платье, чтобы форменная одежда студента не обратила на себя внимания) в Сокольники «пропагандировать» среди рабочих. «Рабочие» и вообще конкретная социальная реальность, среди которой должен действовать революционер, отчетливо мною не воспринимались, я действовал скорее, как загипнотизированный, как бы во сне. От ареста спасло меня случайное обстоятельство: в мае 1896 г. в Москве должна была состояться коронация Николая II, по этому случаю, чтобы очистить Москву от студентов, лекции и экзамены кончились уже к началу мая, и я уехал к родным в Нижний Новгород; через несколько дней или недель после моего отъезда группа моих сподвижников по революционной деятельности была прослежена, арестована и потом сослана в восточные губернии или в Сибирь; я легко мог бы 19-летним мальчиком попасть туда же. Но уже в течение второго университетского года 1895-96 во мне начал созревать духовный перелом, приведший меня осенью 1896 г. к решению окончательно порвать с революционной средой и деятельностью и заняться наукой. Я чувствовал раздражение от скороспелых и категорических юношеских суждений и от скрывавшегося за ними невежества; и я ловил себя на том, что, оставаясь наедине с собой, я думал о чем угодно, только не о революции и практической революционной деятельности. Собственная духовная натура требовала для себя удовлетворения. Это сознание и чувство неудовлетворенности было так велико, что
111
при всей присущей мне слабости моего характера (основном препятствии всей моей жизни) я сразу и круто порвал со своими товарищами, хотя и заслужил этим у них кличку «предателя» м «дезертира» (ибо полагалось, что всякий мужественный человек должен быть революционером, и выход из их состава объяснялся только трусостью, отказом от подвига). Я был тогда духовно еще настолько несамостоятелен, что ни другим, ни даже себе самому не мог объяснить истинных мотивов. Я объяснял себе и другим дело так, что разочаровался в революционном миросозерцании и что не могу практически работать, не проверив предпосылок, этого миросозерцания. На самом же деле это был бунт моего? существа против умонастроения и деятельности, ему не соответствовавших, и страстная жажда чистого, бескорыстного теоретического познания. С того момента, с 1896 г., я иду вот уже 40 лет, хотя и с уклонениями и шатаниями, по пути, мне предуказанному самим Богом — по пути мысли. Вся остальная жизнь была медленным, часто прерывавшимся, движением по этому пути, на который я вступил, порвав с революционной средой и войдя тогда (осенью 1896 г.) в кружок студентов, изучавших серьезно политическую экономию в семинаре незабвенного проф. Александра Ивановича Чупрова, о котором надеюсь еще рассказать подробнее.
*
Запишу теперь внешний ход моей жизни, чтобы потом уже к нему не возвращаться и сосредоточиться на духовном ее содержании. До 15-летнего возраста я жил в Москве. Без малого 10 лет, осенью 1886 г. поступил в гимназию при Лазаревском Институте восточных языков (в Армянском переулке), во 2-ой класс. Когда моя мать весной 1891 г. вышла замуж за В. И. Зака, я был оставлен у дедушки (мать с сестрой и братом переселилась в Нижний Новгород). Но дед мой умер уже в декабре 1891 г., я жил еще год у родственников, но был выслан из Москвы за неимением «права жительства» (я мог жить только при родителях) и перевелся в нижегородскую гимназию осенью 1892 г. (в 7-ой класс). Весной 1894 г. кончил ее и поступил на юридический факультет московского университета. «Выпускное свидетельство» об окончании 8 семестров получил в 1898 г., но не захотел тогда же держать государственные экзамены, а отложил их на год (руководился
112
я, помню, суеверным чувством, что с концом студенческой жизни собственно кончается молодость и начинается «жизнь», которой я боялся, и казалось, что таким внешним способом я как-то отодвигаю начало этой «жизни» на год). Но сдать государственных экзаменов в следующем, 1899 году, мне не удалось. Весной произошли известные студенческие беспорядки, захватившие большинство университетов; активного участия в них я не принимал, но по чьей-то просьбе сочинил какую-то «прокламацию»; это по-видимому дошло до сведения охранного отделения, я был арестован весной 1899 г., просидел одну неделю в полицейском доме и был выслан на два года без права проживания в университетских городах. Я уехал к родным в Нижний Новгород, а осенью уехал за границу, где слушал лекции по политической экономии и философии в берлинском университете и написал первую свою научную работу «Теория ценности Маркса и ее значение. Критический этюд». Издана в Москве 1900 М. И. Водовозовой. (До этого, впрочем, я напечатал в августе 1898 г. в «Русской Мысли» статью «Психологическая теория ценности» — мою кандидатскую работу, поданную для получения выпускного свидетельства). Весной 1901 г. я получил право сдать государственный экзамен — значит, до истечения двухгодичного срока высылки — в любом университете, кроме московского. Сдал государственный экзамен в казанском университете. Зиму 1901 -02 г. я провел с матерью и младшим единоутробным братом Львом Васильевичем Заком — тогда 9-летним мальчиком, теперь художником — в Крыму, в Ялте. Весной 1902 г. написал первую свою философскую работу «Фридрих Ницше и этика любви к дальнему». Лето 1902 г. провел с родителями в Бердянске, на берегу Азовского моря, где мой отчим купил аптеку (аптеку в Нижнем Новгороде, которой он раньше владел, он продал). Осенью собрался опять поехать заграницу, где в Штутгарте П. Б. Струве основал нелегальный журнал «Освобождение» и куда он меня звал для сотрудничества (о знакомстве и дружбе со Струве расскажу позднее). Но в Москве я получил известие, что декан экономического факультета основанного тогда (осенью 1902 г.) Политехнического Института А. С. Посников хочет со мной повидаться — моя книга по теории ценности привлекла его внимание, и он мне предлагал подготовку к профессуре и позднее профессуру в Политехническом Институте. Дело расстроилось из-за моего вероисповедания, но я прожил зиму в Петербурге, а потом в Царском Селе, и лишь
113
весной 1903 г. выехал за границу, где опять провел, живя в Мюнхене, зиму 1903-04 г. Весной 1904 г. участвовал в первом заграничном съезде «Союза Освобождения». Зиму 1904-05 г. провел в Петербурге. Зарабатывал я на жизнь преимущественно переводами немецких философских книг на русский язык ("Прелюдии» Виндельбанда, «История новой философии» Куно Фишера, т. II — Спиноза, «Введение в философию» Кюльке и др. До этого, еще в студенческие годы, я переводил экономические книги для издательства М. И. Водовозовой. Летом 1905 г. опять был заграницей, в Гейдельберге, откуда проехал в Париж к переселившемуся туда П. Б. Струве, но осенью был вызван матерью в Москву (куда они тем временем переселились, купив аптеку у Мясницких ворот, около главного почтамта) по случаю тяжелой болезни отчима. В Москве пережил революцию 1905 года и участвовал в первом съезде конституционно-демократической партии (октябрь 1905) во дворце князей Долгоруких Петра (живущего еще сейчас в Праге) и Павла (вернувшегося из эмиграции в советскую Россию и расстрелянного большевиками). С осени 1905 г. переселился в Петербург, ездя однако летом заграницу, именно в Германию (в 1904 г. я совершил путешествие по северной Италии — был в Милане, Вероне, на Гардском озере и месяц прожил на Лидо в Венеции). С января 1906 г. начал свою лекторскую или профессорскую деятельность курсом «социальной психологии» (науки, которую я сам придумал и которая была для меня переходной областью от политической экономии к философии) на вечерних высших курсах при гимназии Стоюниной в Петербурге. Потом читал лекции на фребелевских курсах и в других частных высших учебных заведениях (уже по философии). 13 октября 1907 г. я познакомился с моей будущей женой Татьяной Сергеевной Барцевой; уже 5 декабря того же года мы объяснились, и 22 июня 1908 г. я женился (в Саратове). С того времени кончаются мои Wanderjahre и начинается семейная жизнь в Петербурге. В 1911-12 гг. сдал магистерский экзамен по кафедре философии при петербургском университете и с осени 1912 стал приват-доцентом. Весной 1913 г. до осени 1914 (до начала войны) имел научную командировку в Германию (летом жил в Марбурге, зиму 1913-14 в Мюнхене, а лето 1914 — в Хершинге под Мюнхеном, и написал книгу «Предмет знания» (вышла весной 1915, защищена как магистерская диссертация в мае 1916). Годы 1914-17 прожил в Петербурге, читал лекции в университете, на высших женских курсах,
114
«Раевских» женских курсах, в Политехническом Институте, в Психо-неврологическом Институте.
*
Упомяну здесь и о моей литературной деятельности за эту петербургскую эпоху моей жизни. С января 1906 г. я вместе со Струве редактировал политический еженедельник «Полярная Звезда». Помнится, около мая 1906 этот еженедельник был запрещен, но продолжал выходить под другим заглавием, «Свобода и Культура», ответственным редактором которого был обозначен я. Но вскоре журнал этот прекратился. В «Полярной Звезде» и «Свободе и Культуре» помещен ряд моих статей, которыми я однако не дорожу — в политической мысли я никогда не был оригинальным и творческим. Единственная статья, которая заслужила бы внимания и теперь, это написанная мною вместе со Струве и помещенная в двух номерах «Полярной Звезды» статья «Очерки по философии культуры». Мы задумали совместно написать такую книгу еще в бытность Струве в Париже, летом 1905 г., распределили ее по отделам между собой, вступление же писали так, что оба делали наброски, и, сравнивая их, составляли окончательный текст. Это вступление и было напечатано в «Полярной Звезде»; главная часть текста-его принадлежит мне. Книга никогда не была написана.
В конце 1906 г. во владение и редактирование Струве перешел журнал «Русская Мысль», которую прежний бездарный редактор Виктор Гольцев довел до банкротства; некоторое время соредактором и соиздателем при Струве был Александр Александрович Кизеветтер, но он скоро ушел, по несогласию с направлением Струве. «Русская Мысль» в издании и под редакцией Струве просуществовала до большевистской революции 1917, значит более 10 лет. Все это время я был членом редакции, вел философский отдел, по временам читал и всю беллетристическую часть (после того, как опыт редактирования ее сначала Вал. Брюсовым, а потом Мережковским и Зин. Гиппиус оказался несостоятельным, и Струве должен был расстаться с ними). В «Русскую Мысль» я поместил ряд статей, которые (вместе со статьями в газетах «Речь» и «Слово») я издал отдельным сборником в 1910 г.: «Философия и жизнь», СПб изд. «Общественная польза». В 1904-05 г. сотрудничал в журнале «Новый Путь» (последней редакции) и сменившем его журнале «Вопросы Жизни". Оба журнала редактировались группой молодых
115
идеалистов — Бердяевым и Булгаковым. Из статей, там мною помещенных, серьезное значение имеет статья «Проблема власти», помещенная весной 1905 (тоже вошла в сборник «Философия и жизнь”). В годы 1907-17 был также деятельным участником петербургского «Религиозно-философского общества». В 1916 г. написал и в 1917 издал (Москва, изд. Г. А. Лемана) книгу «Душа человека», которая должна была быть докторской диссертацией, но из-за революции и отмены ученых степеней не была защищена.
Возвращаюсь к дальнейшему описанию внешнего хода моей жизни. Летом 1917 г. при временном правительстве было решено основать новые факультеты при саратовском университете (до того там существовал только медицинский факультет). Это было, когда министром народного просвещения был Сергей Федорович Ольденбург, товарищем министра по делам высшей школы — Влад. Ив. Вернадский, а председателем комиссии по устройству новых факультетов был назначем Ив. Мих. Гревс. Так как все трое меня хорошо знали, а И. М. Гревс любил и ценил меня, то мне было предложено стать первым деканом (и ординарным профессором) нового историко-филологического факультета. В Петербурге становилось голодно, Саратов был родной город моей жены, там жили ее родители — и хотя я совсем не склонен был при нормальных условиях покидать Петербург и уезжать в провинцию, но теперь я принял предложение. Первый состав факультета состоял из меня (философия), В. М. Жирмунского (германистика), В. А. Бутенко (всеобщая история), В.И. Веретенникова (из Харькова, русская история) и Н. К. Пиксанова (русская литература). Осенью 1917 среди всеобщей разрухи мы переселились в Саратов. Работа шла в общем дружно и хорошо, жилось неплохо. Но большевистское разрушение продолжалось. С осени 1919 г. я переселился в немецкую колонию Ровное (100 верст к югу от Саратова на левом берегу Волги), — под видом организации педагогического института для немцев, на самом деле — чтобы в деревне прокормить семью (из трех детей; четвертый, Василий, родился в июле 1920 г.). Но вскоре пришлось вернуться в Саратов — сначала мне, а потом семье. Осенью 1921, в расцвет НЭПа, вернулся в Москву, где устроился членом «Философского института» при московском университете (философия тогда была выделена из общей университетской программы в особый «институт», нечто вроде академии,
116
но при университете). Читал в университете лекции студентам последнего курса закрывавшегося философского отделения. Одновременно, вместе с Бердяевым, основал и вел, в качестве декана, вольный факультет гуманитарных наук под именем «Академии духовной культуры» серию публичных курсов, имевших тогда большой успех. В 1921-22 г. издал в основанном с группой близких людей (Я. М. Букшпан и Л. Н. Юровский) издательстве «Берег» свое «Введение в философию» и книжку «Методология общественных наук» (первый набросок социальной философии, над которой я работал). Осенью 1922 г. я был арестован и вместе с большой группой ученых и писателей из Москвы, Петербурга и других университетских городов выслан за границу, и поселился в Берлине. Отселе начинается последний (насколько можно предвидеть) — именно эмигрантский период моей жизни. Участвовал в основанном группой высланных «Русском Научном Институте в Берлине» (где читал лекции и по-русски, и по-немецки), последний год его существования (1932) был его директором. В “Религиозно-философской Академии», основанной в Берлине группой русских философов во главе с Бердяевым (она перешла в 1924г. в Париж, но от ее имени я еще несколько лет читал лекции в Берлине) и в Студенческом христианском русском движении за границей, финансировавшемся YMCA (американским союзом христианских молодых людей). С 1931 г. читал лекции по-немецки в берлинском университете при кафедре славянской филологии (М. Р. Фасмер) по истории русской мысли и русской литературе. (Устранен от преподавания новым немецким правительством в апреле 1933 г.). Много разъезжал для чтения публичных лекций и по-русски, и по-немецки (обычно от Kant-Gesellschaft). Побывал в качестве лектора таких публичных лекций неоднократно в Чехии, был в Италии, много раз в Голландии, в Швейцарии, в Сербии и Болгарии, в Литве, Латвии и Эстонии. Был участником съезда славянских философов в Варшаве (не помню точно, в каком году — кажется 1928) и на всемирном философском конгрессе в Праге (1934).
За время эмигрантской жизни написал книги:
а) по-русски: 1. «Крушение кумиров», Берлин, 1923; 2. сборник статей «Живое знание» (и переиздал «Введение в философию”), оба в изд-ве Петрополис, они же Обелиск, Берлин, 1923; 3. «О смысле жизни», Париж 1926; 4. «Основы марксизма», Евразийское
117
изд-во, кажется тоже 1926; 5. «Духовные основы общества», Париж, YMCA-PRESS 1930.
b) по-немецки: «Die russische Weltanschauung", Pan-Verlag, Charlottenburg 1926 (расширенный доклад в Kant-Studien) и большую книгу «Das Unergründliche", только что (в декабре 1935) законченную и еще не напечатанную.
Кроме того, множество статей по-русски, по-немецки, по-голландски — список всех моих работ находится у меня на особом листе и здесь его не повторяю.
Такова в краткой записи на 12 страницах тетрадки — вся моя жизнь в ее внешнем течении, теперь близящаяся к концу.
*
Эта запись — не исповедь. Интимно-личное, субъективное содержание моей жизни касается только меня одного и должно умереть вместе со мной. Я буду записывать только то, что в моей жизни либо относится к ее духовному содержанию, либо соприкасалось с общественной и духовной жизнью моего времени.
В Нижнем Новгороде, еще гимназистом (1892-94 гг.) и потом студентом, во время наездов на каникулы, я имел, кроме упомянутого гимназического марксистского кружка, еще общение с жившей там группой интеллигентов-писателей старшего, в отношении меня, поколения. Через моего отчима, В. И. Зака, я сблизился с семьей д-ра Серг.Ив. Елпатьевского, в свое время довольно известного писателя (мой отчим был связан с ним своим революционно-народническим прошлым). С. И. Елпатьевский и его жена Людмила Ивановна полюбили меня, я иногда даже живал у них, будучи гимназистом (мы жили на другой стороне Оки, в «Канавине", и во время осеннего и весеннего ледохода, когда сообщение с городом было затруднено, я, как и мой брат и сестра, переселялся к знакомым в город). Дом Елпатьевских был средоточием либеральной и радикальной интеллигенции Нижнего Новгорода. В то время там жил Вл. Гал. Короленко, а также Ник. Фед. Анненский, оба — члены редакции «Русского Богатства". С ними я познакомился у Елпатьевского. Видал я там и приехавшего однажды погостить, уже не вполне нормального Глеба Ив. Успенского. Еще гимназистом
118
я был если не участником, то свидетелем политических и общественных дебатов в доме д-ра Елпатьевского. Во время чествования Короленко по случаю его отъезда в Петербург (кажется, в конце 1896 г.) был на банкете и поднес ему составленный мной «адрес» от имени «учащейся молодежи". Особенное оживление царило в Нижнем Новгороде летом 1896 г., во время всероссийской выставки. (Мельком я видел там, единственный раз в жизни, царя Николая II и царицу). В Нижний наехало тогда множество «интеллигенции”: помню благообразного, седого, патриархального вида старика — статистика Вас. Ив. Покровского (старого приятеля моего отчима), сибирского газетного деятеля Ив. Ив. Попова; обаятельную и умную московскую общественную деятельницу Анну Вас. Погожеву (жену фабричного инспектора и писателя по рабочему вопросу Ал. Вас. Погожева) — с последней я и позднее встречался в Петербурге. Несколько позднее, кажется с 1897 или 1898 г., поселился в Нижнем и Максим Горький (Ал. Макс. Пешков), тогда — молодой, только что входивший в славу писатель. Тогда он казался очень славным, скромным, симпатичным человеком — позднее он не выдержал искушения славы; с ним сближало и то, что он причислял себя к «марксистам". Весь этот круг людей духовно на меня не действовал особенно глубоко; у меня уже тогда была какая-то, правда лишь потенциальная, духовная жизнь, и я смутно ощущал внутреннее разногласие или, вернее, разночувствие с господствующим в этом кругу умонастроением русской радикальной интеллигенции. Но внешне я был до некоторой степени «ошлифован» и как бы посвящен в избранный круг «интеллигенции» и притом ее «сливок» именно в этом кругу, когда я был еще совсем мальчиком, в возрасте от 16 до 21 года. С Елпатьевским я снова встретился в Крыму, в Ялте, зимой 1901-02 года (они туда переселились). Отчасти среди них, отчасти через Мар. Ив. Водовозову, которая жила в имении своих родителей Токмаковых «Олеиз", у станции Кореиз, и с которой я был платонически близок в годы 1897-1903, я опять вошел в круг интеллигенции — общался -Ç. Горьким, который жил тогда в Олеизе, однажды встретился у него с А.П. Чеховым, познакомился с детьми Льва Толстого (жившего тогда по соседству с Олеизом в Гаспре) — со старшим сыном, музыкантом Серг. Львовичем и с Андреем Львовичем, — издали несколько раз видал Толстого — но не решился подойти к нему, хотя имел к тому возможность. О Толстом, его личности,
119
его жизни в Гаспре, много слышал тогда от Елпатьевского и д-ра И. Н. Альтшулера, которые оба тогда его лечили.
В Ялте, в эту зиму 1901-02 года, которую я, окончив университет, провел в уединении с моей матерью и младшим братом Левой, без всякой деятельности, даже без научной работы, предаваясь только размышлению и созерцанию, — впервые проснулась и стала актуальной моя духовная жизнь. До этого времени я был существом чисто интеллектуальным (после того, как религиозное чувство годам к 14-15-ти замерло во мне). Мой главный интерес политическая экономия — уже раньше понемногу стал ослабевать во мне. Политическую экономию я всегда изучал чисто теоретически, не имея ни интереса, ни способности к восприятию конкретной экономической жизни. Меня привлекало в политической экономии всегда лишь то, что в ней было предметом, так сказать, интеллектуального созерцания — возможность усмотреть в скрещении конкретных индивидуальных действий и отношений, в океане человеческой жизни, действия неких незыблемых общих законов. Постепенно я от этой теоретической экономики пытался восходить к еще более высоким обобщениям; так складывался замысел «социальной психологии", под которой я мыслил некую общую (понимавшуюся мною тогда в психологических категориях) науку об отношениях между людьми. Одновременно — и еще раньше, в сущности еще с гимназических лет — я интересовался чистой философией. Помню надолго определившее мои философские идеи знакомство с системой Спинозы (сперва по истории философии Куно-Фишера, прочтенной еще в гимназии, а потом по «Этике» Спинозы). В «интеллектуальной любви к Богу», в созерцательном пантеизме, в мистическом чувстве божественности всеединства — всего бытия, ощущаемого как единство, — я уже рано почувствовал что-то, что отвечало глубочайшему существу моей личности. Даже еще в детстве, глядя на небо, я испытывал это пантеистическое чувство, и оно тогда как-то без коллизии укладывалось в религиозное сознание обычного типа, совмещаясь с молитвой к личному Богу. Этот синтез, ставший много позднее основой моего бытия, тогда без размышления сложился во мне. Но это детское сознание и духовная жизнь, в нем проявлявшаяся, ушли вместе с детством. В юношеские годы философия меня интересовала тоже лишь отвлеченно. В те времена (гл. обр. под влиянием Струве) «марксизм»
120
стал сочетаться с «ново-кантианством». Уже студентом в Москве я изучил Канта, а потом в Берлине слушал лекции обаятельного и умнейшего скептика-кантианца Зиммеля, читал Виндельбанда («Прелюдии» которого позднее, в 1903 г., перевел по-русски); Рил я и других новокантианцев. Но душа моя не лежала к кантианству; оно было для меня лишь умственной конструкцией, внутренне никогда меня не удовлетворявшей. Пробуждением духовной жизни и настоящим интересом к философии во всей полноте и глубине ее, как знания сверхнаучного, я ближайшим образом обязан внешнему событию моей жизни — одному неудачному роману, который я начал переживать с лета 1900 г. и который затянулся надолго и заставил меня много перестрадать. Тут на мне обнаружилось углубляющее значение страдания именно пробуждение через него духовной жизни. Это оформилось во мне именно зимой 1901-02 г., когда мне случайно попала в руки книга Ницше «Так говорил Заратустра». Я был потрясен — не учением Ницше (хотя как раз тогда я написал духовно очень незрелую, имевшую большой успех статью «Этика любви к дальнему», в которой пытался сочетать этику Ницше с политическим и этическим радикализмом), — а атмосферой глубины духовной жизни, духовного борения, которой веяло из этой книги. С этого момента я почувствовал реальность духа, реальность глубины в моей собственной душе — и без каких-либо особых решений моя внутренняя судьба была решена. Я стал «идеалистом», не в кантианском смысле, а идеалистом-метафизиком, носителем некоего духовного опыта, открывавшего доступ к незримой внутренней реальности бытия. Я стал «философом», хотя постоянно в течение всей своей жизни уклонялся из этого слоя бытия в участие в политике, общественности, в внешнем бытии. Философское оформление этот переворот получил лишь много позднее, в течение многих годов, когда я обдумывал и потом писал главную работу моей жизни «Предмет знания», а последнее, конкретное религиозное или религиозно-философское оформление — еще позже. Но фундамент моего духовного бытия был заложен или, вернее, открылся мне сознательно именно тогда, зимой 1901-02 г. Это совпало замечательным образом с общим сдвигом идей «от марксизма к идеализму», наметившимся в эти годы. Струве, который уже в первой своей книге «Очерки по экономическому развитию России» (1894) заменил материализм несколько неопределенным кантианством, выступил в предисловии
121
к изданной им первой книге Бердяева «Субъективизм и индивидуализм в социальной философии Михайловского» (1900) с призывом к метафизике. В лице Бердяева и этой его первой книги тоже был документирован переход от марксизма к «идеализму». Молодой тогда экономист-марксист Булгаков пережил аналогичный внутренний перелом — помню его первую философскую статью «Русский Фауст — Иван Карамазов» в «Вопросах философии и психологии» в 1901 или 1902 г. И одновременно молодой тогда философ права Пав. Ив. Новгородцев в своей диссертации «Историческая школа права» пытался реабилитировать на идеалистической основе понятие «естественного права» (он перешел не от марксизма, в котором не участвовал, но от позитивизма тоже ко идеализму”). Зимой 1901-02 г. было задумано, по инициативе Струве (переехавшего тогда уже в Штутгарт для издания «Освобождения”) и П. И. Новгородцева, издание сборника «Проблемы идеализма», вышедшего в 1902 г. По указанию Струве, Новгородцев, редактировавший сборник, обратился и ко мне, и я дал туда свою статью об «Этике Ницше». Так, без определенного и определимого влияния отдельных людей (влияние Струве, впрочем, в общем играло здесь некоторую роль), как-то спонтанно родилось течение «идеализма», которое, скрестясь с течением, шедшим и от Вл. Соловьева и московских метафизиков (бр. Трубецких и Лопатина), и от поэтов-символистов (Мережковского, Бальмонта — упоминаю только родоначальников — А. Белый и А. Блок ощущались уже как более молодое поколение, хотя Блок моложе меня только на три года) — сложилось религиозно-философское движение русской мысли первых десятилетий XX века — движение, преодолевшее традиционный духовный тип интеллигентного миросозерцания XIX века и давшее очень значительные духовные плоды. Мы ощущали его тогда в известном смысле, как возврат от отцов-шестидесятников и семидесятников к дедам — к идеалистам 30-40-х годов.
Приписка 1946 г. Лондон.
На этих отрывочных записях 1935 г. и обрываются мои воспоминания. Не имею ни сил, ни охоты их продолжать. Да и нужно ли? В них рассказано мое развитие в течение первых 25 лет жизни — времени, когда складывается духовный и умственный характер
122
человека и определяется направление всей его жизни. Все остальное есть лишь использование более или менее удачное или неудачное — плодов, которые если не созрели, то уже наметились в эту определяющую эпоху жизни.
Приложение
Моя литературная деятельность началась в 1896 г. (когда мне было 19 лет) с статьи «Внешняя торговля России» в «Нижегородском Листке» — отчета о соответствующей статистической диаграмме на всероссийской нижегородской выставке летом 1896 — статьи совершенно ничтожной, заслуживающей забвения. Первая самостоятельная и серьезная научная работа была статья «Психологическая теория ценности»,1 «Русское Богатство", август 1898 г., написанная еще в духе теории Маркса. Но уже тогда у меня начались сомнения в «правильности марксовой экономической и социологической теории. Арестованный весною 1899 г. (по-видимому, в связи с студенческими беспорядками в московском университете этого года) и высланный на 2 года из университетских городов, я уехал в Берлин, поступил в берлинский университет и в зимнем семестре 1899-1900 г. написал книгу «Теория ценности Маркса. Критический этюд» — критику экономического учения Маркса (напечатанную в 1900 г. в издательстве М. И. Водовозовой). За годы 1898-1900 я писал много (незрелых) рецензий на экономические книги для журналов «Мир Божий» и «Начала» и перевел много экономических книг — был участником переводных сборников статей из «Handwörterbuch der Staatswissenschaften", издававшихся тоже М. И. Водовозовой. После 1900г. я отошел от изучения политической экономии (хотя еще писал рецензии) и перешел к философии (Канта я изучил еще раньше). Зимой 1901-02 г., живя в Ялте, я случайно напал на Ницше и был потрясен его «Also sprach Zarathustra». Это было первым пробуждением моей духовной жизни. Плодом его была статья «Ницше и этика любви к дальнему» в сборнике «Проблемы идеализма», 1902 (под ред. Новгородцева) восхваление этики героизма, перепечатана в сборнике «Философия и жизнь».
С этого началась моя философская литературная деятельность. Помнится, в 1904 (?) году, в «Мире Божием» была напечатана
123
статья «О критическом идеализме», кантианского направления. За годы 1904-12 перевел много философских книг: «Прелюдии» Виндельбанда, «Введение в философию» Кюльке, 2-ой том истории новой философии Куно-Фишера (о Спинозе), редакция (плохого) перевода Гуссерля «Логические исследования”; был одним из редакторов перевода полного собрания сочинений Ницше ("Московское книгоиздательство”) и перевел сам два тома «Menschliches-Allzumenschliches» (кажется, в 1909-10 гг.). В 1904 г. напечатал в «Новом Пути» статью «Государство и личность», и в 1905 г. одну из самых значительных работ юности — статью «Проблема власти» (в «Вопросах жизни», журнал под ред. Бердяева и Булгакова) перепечатана в моем сборнике «Философия и жизнь». В течение 1903-05 гг. сотрудничал в политическом журнале Струве «Освобождение» (Штутгарт и Париж); много статей анонимных, другие подписаны буквами Н. К. Одна статья — «Друг Италии”;2 в одной из книг «Освобождения» статья «Отцы и дети». Весной 1906 г.3 был сотрудником и членом редакции политического еженедельного журнала «Полярная Звезда» под ред. Струве, а после закрытия его — редактором заменившего его журнала «Свобода и культура"; во многих №№ обоих журналов мои статьи — большей частью незрелые. В 1909 — статья «Этика нигилизма» в сборнике «Вехи». В 1910 г. издал сборник наиболее существенных статей (отчасти даже газетных — из газеты «Слово», так, о Толстом) под заглавием «Философия и жизнь», СПб. Изд. «Общественная Польза», 1910. Это — первая философская книга. С 1907 по 1917 (год закрытия) был сотрудником и членом редакции журнала «Русская Мысль» (ред. Струве), напечатал много статей, заметок и рецензий. В 1912 (?) г. участвовал в сборнике в честь Л. М. Лопатина статьей «О конкретном познании”4 (первый, еще незрелый набросок идей, позднее разработанных в книге «Предмет знания”). В 1903(?) г.-в «Вопросах Философии и Психологии» статья о Лассале (по поводу его писем, тогда опубликованных). В 1912 (или 1913)5 там же статья «Учение Спинозы об атрибутах» (существенная! Позднее я изложил мое понимание Спинозы в статье «Spinoza als Mystiker» для немецкого журнала «Логос", осталась ненапечатанной и находится в архиве издательства «Mohr-Siebeck», Tübingen. В 1908-10 гг. печатал много статей (фельетонов) в газете «Слово» (изд. Н. Н. Федоровым). В 1908-09 гг. одно время печатал ежемесячно этюды о новых книгах в приложении к журналу «Критическое Обозрение», изд. в Москве.6
124
В 1909 г. статья «Этика нигилизма» в сборнике «Вехи». В 1917 г. (март-август, эпоха временного правительства) напечатал много статей в еженедельном журнале «Русская свобода», изд. Струве, В 1918 вышел в немногих экземплярах, величайшая библиографическая редкость — один экземпляр есть у Бердяева, другой — у проф. Бруно Бор. Беккера в Амстердаме антибольшевистский сборник «Из глубины”; в нем — моя статья того же заглавия. В 1922 г. напечатал в Москве, в изд. «Берег», «Введение в философию» (2-е изд. в Берлине 1923, Петрополис) и «Методологию общественных наук». Кроме того, в философском журнале в Петербурге — «Мысль», статью по социальной философии.7
Список моих работ, статей и книг, за время эмиграции, начиная с 1922-23 гг. — на особом листе.
Список всех работ, вышедших как отдельные книги:
1. Теория ценности Маркса и ее значение. Критический этюд. Москва, 1900.
2. Философия и жизнь. Сборник статей. СПб, «Общественная Польза», 1910.
3. Введение в философию. Москва 1922, изд. «Берег» и Берлин 1923, «Петрополис» (переведено на латышский, Рига).
4. Методология общественных наук. Москва, «Берег» 1922.
"5. Живое знание. Сборник статей 1910-17 гг. Берлин, «Петрополис» 1923.
6. Крушение кумиров. Изд. «YMCA», Берлин 1923.8
7. О смысле жизни. YMCA, Париж 1925 (1926?).9
8. Религия и наука. «Евразийское издательство», 1924 (25?),10 переведена на болгарский язык.
9. Основы марксизма, там же 1926.
10. «Russische Weltanschauung». Vorträge der Kantgesellschaft. Charlottenburg 1926.11
11. Духовныеосновыобщества. YMCA, Париж 1928.12
12. Непостижимое. Онтологическое введение в философию религии. Париж, «Дом книги» 1938. (По-немецки Das Unergründliche, в рукописи у д-ра Бинсвангера в Kreuzlingen).
13. Свет во тьме. Рукопись. Написано 1939-40.13
14. С нами Бог. Три размышления. Рукопись. 1941.14
125
ПРИМЕЧАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ (Составлены В.С. Франком)
1 "Психологическое направление в теории ценности".
2 "Русское самодержавие и итальянское общественное мнение», «Освобождение", №24, 2.6.1903.
3 Журнал «Полярная звезда» выходил с 15 декабря 1905 до 12 марта 1906.
4 "К теории конкретного познания".
5 1912, кн. 14.
6 И в тексте, и в списке работ пропущено указание на книги Предмет знания и Душа человека (1917),
7 ”0 задачах обобщающей социальной науки», «Мысль», №3,
8 1924.
9 "Смысл жизни», 1926.
10 1925.
11 Переведено на голландский (1932).
12 1930.
13 Издано в 1949 г. в Париже, YMCA.
14 Издано по-английски, Лондон, 1946,
126
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
