13776 работ.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Без автора
Автор:Булгаков Сергий, протоиерей
Булгаков С., прот. Богословие Евангелия Иоанна Богослова
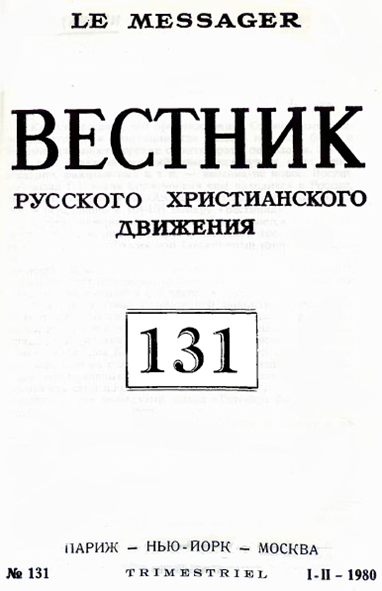
Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Прот. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ
Богословие Евангелия Иоанна Богослова*
1.Чудо Четвертого Евангелия.
Все Евангелия чудесны, поскольку они содержат — каждое по-разному и по-своему — нерукотворный образ Христа, хотя и изображаемый словом человеческим во всей его ограниченности и со всеми чертами, свойственными месту, времени, первоисточникам, составителю. Над всеми этими чертами, в них и чрез них, веянием Духа Божия, сияет лик Христов, происходят словесные явления Христа на земле. Эти явления совершаются в Церкви и для Церкви чрез очередные установленные чтения, хотя непосредственно они и не содержатся в Евангельском тексте, рассматриваемом и изучаемом средствами научного, литературно-критического исследования. Последнее имеет свои права и свою правду, оно оправдывается не только человеческою пытливостью, но и благоговейным вниманием к словесному кивоту иконы Христовой (однако он не есть сама икона), которая имеет в себе нечто чудесное, сверхприродное. И из всех Евангелий четвертое особо выделяется именно этой своей иконностью и чудесностью, в этом смысле оно есть чудо из чудес всего Четвероевангелия, в нарочитости и полноте божественного откровения. Как будто она даже спорит с внешними чертами его повествования, с нарочитой как будто скудостью и иногда даже беспомощностью словесной. Однако это соединяется с небесными взлетами в одних случаях и с потрясающей силой изобразительности в других. Если бы четвертого Евангелия вовсе не было в каноне, в котором оно и появилось лишь последним по времени, как бы с большим запозданием (около начала II века), то мы имели бы синоптический образ Христа во всей яркости и конкретности изображения, чрез которое просвечивала бы и Его божественность. Но именно в этом очеловечении вочеловечившегося Бога проявилась бы и вся ограниченность такого созерцания, которая становится для нас очевидностью в небесном свете четвертого Евангелия. Последнее же предполагает уже ведомым, подразумевает содержание синоптических Евангелий, однако оно его не столько восполняет, сколько по-новому освещает, пронизывая своим собственным светом. Оно отнюдь не есть некий придаток к синоптикам, к ним дополнение, но является их средоточием, как богословие Евангелиста Богослова по данным всего евангельского повествования. Оно есть самое существо всего Четвероевангелия, Евангелие Евангелий. Но оно изумительно и единственно именно как евангельское богословствование. Все Евангелия, как и другие свя-
* Печатается впервые по машинописи с исправлениями неизвестной рукой (несколько мелких исправлений рукой автора).
10
щенные книги, боговдохновенны в содержании своем, как касания истины божественной. Но о них повествуется священными писателями человеческими вещаниями, по силе их личных человеческих возможностей. Им присущи поэтому черты личного творчества, в их многоообразии, но и в ограниченности. Таково собрание священных книг, Св. Библия. Что же можно сказать о таинственном и много оспариваемом, по-разному определяемом лице составителя четвертого Евангелия, Евангелисте Богослове? Церковь свидетельствует о нем, как апостоле Иоанне, сыне Зеведеевом, одном из двенадцатерицы, «возлюбленном» ученике Христа, галилейском рыбаре, призванном к апостольству Им прямо от челна и сетей. Этот юноша был дитя природы. В нем, самое большее, можно предположить черты известного церковного, воспитания, свойственного эпохе и стране, хотя они почти и не проявляются в нем во время его пребывания около Христа. За свою горячность, очевидно, вместе с братом Иаковом, он останется «Сыном громовым» (Мф. 3,17). И вот этот рыбарь предстает пред нами как Евангелист Богослов, составитель Четвертого Евангелия, чуда богословия. На нем не приметно и следов философского просвещения и вообще влияний, свойственных эпохе, ее философии, хотя последняя и призвана переводить его содержание на свой собственный язык, постигать его религиозно-философски. Но четвертое Евангелие именно есть богословие: созерцание и богомыслие, с творческим ведением вещей божественных. В этом с совершенной очевидностью проявляется особый дар четвертого евангелиста, его богословский гений, в соединении с пророческими озарениями и ведением апостольским. Ученик Христов, духовно возлежавший на персях Его, провел около Него, в общении с Ним все Его земное служение, а также увидал Его явление и откровение по воскресении и вознесении. Итог же всего этого опыта жизни· он выражает не только как свидетель, но и богослов. И в этом его единственность среди других евангелистов и апостолов. В известной степени сближается с ним в последнем смысле ап. Павел, который однако не был и не мог быть евангелистом, как не бывший учеником Христовым во дни земного Его служения, но призванный Им к апостольству лишь после него.
Гениальность всегда таинственна, как и творчество ее. Среди апостолов, окружавших Христа, как и других лиц, с Ним духовно соприкасавшихся (как Никодим, самарянка, Марфа и Мария), каждое по-своему, творчески отзывавшихся на зов Христов, только Иоанн имел этот дар богословского созерцания. С чем же это в нем было связано? Синоптики не усмотрели в нем богослова, да они и не были призваны к распознанию этого дара. Напротив, те черты, которые ими в нем отмечаются, относятся скорее к ограниченности, хотя и неизменно свидетельствуют о горячем
11
сердце и пылком темпераменте «сына Громова»: таково и обращение ко Христу, чтобы огнем с неба попалить селения самаринские, отказавшие в гостеприимстве (Лк. 51-6), и ревнивое желание запретить человеку, изгонявшему бесов, но не ходившему с Иисусом (Мк. 9,38; Лк. 9,49) и даже как будто себялюбивая просьба Иакова и Иоанна (Мк. 17,35) вместе с матерью их (Мф. 27-27) о почетных местах в царствии Божием. Последняя могла выразить и особую ревность к Нему и была именно в эту сторону обращена Христом словом о чаше и о крещении. Однако и эта природная горячность в четвертом Евангелии получает уже совсем новую характеристику: Иоанн здесь является «возлюбленным учеником» Христовым, как бы личным Его другом (наряду с Лазарем и сестрами его Марфой и Марией, «их же любляше Иисус»), Но даже и эта личная дружба, о которой впрочем мы так мало знаем, не идет в сравнение с совершенно исключительной близостью возлюбленного ученика, который на Тайной Вечери возлежал на груди Иисуса, не оставил Его, когда все ученики бежали, стоял у креста вместе с Матерью Его, приняв от Него последнюю Его о ней волю (Ио. 19; 22, 6-7), наконец, был пророческим тайнозрителем грядущих Его свершений (Откровение). Все это ставит апостола Иоанна в положение единственного, первого в апостольской двенадцатерице, хотя в особом смысле, отличном от первенства Петрова.1
Совершенно очевидно, что Иоанн не только был возлюбленным учеником Христовым, но и сам Его любил беззаветной, ответной любовью. Такого дара не имели другие апостолы (что и проявилось в их оставлении Христа в Гефсиманскую ночь), не исключая и Петра. Восстановление последнего в апостольстве после отречения совершается Христом чрез троекратное вопрошание именно о любви его, как бы чрез ее проверку. Таковой не было и не могло быть в отношении к Иоанну.
Но именно этот дар любви для Иоанна является источником и его богословского вдохновения. Она дает ему способность созерцательного проникновения в тайны Божии, есть сила богословской его гениальности, окрыление орлиного ее взлета. Она сообщает и особую глубину, и интимность его общению со Христом, эту личную дружбу с Ним. И невольно думается в связи с этим последним не только о поведанном в Евангелии, но и о том, что, хотя и не будучи поведано, все же чувствуется как бы поверх письмен Евангельских: так может говорить о Христе только друг Его возлюбленный.
Мало того, Евангелие Иоанна обычно именуется духоносным, пневматическим, оно и есть таковое. Но ипостась Любви во Св. Троице, в триединстве любви, есть Дух Св., и ученик Христов,
1 См. наш очерк: «Петр и Иоанн, два первоапостола», Имка-Пресс, Париж 1926, 91 стр.
12
возлюбленный и Его особливо возлюбивший, есть и нарочитый духоносец, избранный самой ипостасной любовью, Духом Св., подающим вдохновение к богословствованию, можно сказать, благодатную гениальность в нем. Чрез это для нас полнее раскрывается тайна богословского Евангелия в его единственности и несравнимости. Богословский гений может быть только гением любви к Богу, в богожитии, а чрез то и в боговедении во всей той непосредственности, какая и свойственна Иоаннову Евангелию.
Но даже и этого еще мало. Духоносное Евангелие возлюбленного ученика Христова является таковым еще и в особом смысле: оно есть Евангелие не только друга Христова, но сына Матери Его чрез усыновление, которое было, конечно, ответно принято и разделено и самой Духоносицей. Евангелие от Иоанна чрез это становится в некоем смысле и Евангелием от или чрез Марию. Кольцо триединой любви, которое сомкнулось у креста, когда раздалось с него слово Христово: «Жено, се сын Твой» — «се Мати твоя» содержит неизреченную тайну любви богочеловеческой, молчаливой и неизреченной, совершившейся чрез это усыновление. Она и поведана лишь самим Иоанном. Им одним только она, конечно, и могла быть возвещена, ему одному ведомая. Она совершалась и во всей дальнейшей жизни его, потому что он «от сего часа приял ее в дом свой» (Ио. 19-27). Это значит, что всю свою жизнь оттоле Иоанн проводит в общении с Пресв. Богородицей, в Ее поучениях, вдохновениях, откровениях о Сыне Ее как и о Ней самой, начиная от Благовещения (и даже ранее его) и кончая блаженным Ее Успением. Таким образом, после земного общения со Христом, Богочеловеком, воплотившимся Сыном Божиим, он переходит к общению с Матерью Его, Его человечеством в ипостаси Марии, которая и сама является вместилищем Духа Св., Духоносицей. Никакая человеческая одаренность своею силою не может соответствовать такому призванию и служению, только дар любви и чистоты сердца освящением своим позлащают человеческую главу орла богословия.
Вместе с другими писаниями Иоанна, четвертое Евангелие, есть свидетельство о том, что было от начала, что мы видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши (1 Ио. 1,1). Но все это, написанное в глубокой старости, в перспективе как будто уже остановившегося времени, в ясности светлого старчества, сохранившего всю юношескую свежесть восприятия. Дорогие сердцу воспоминания о самом дорогом, интимном и потрясающем — тайная вечеря, распятие, явления Воскресшего — всегда горят в нем огнем просветляющим, всегда хранятся памятью слова и поучения Господа, которых небесная музыка и слагается в божественную симфонию. Конечно, это не может быть стенографической записью, протоколом событий. Впрочем, последнего и вообще нет, да и не может быть, этого не должно искать даже
13
и у синоптиков. Четвертое Евангелие явно есть повествование «своими словами» и «по своему слуху», со всей личной окрашенностью, которая однако не препятствует глубокой и существенной правде боговдохновенного рассказа. Здесь (впрочем, опять-таки как у синоптиков в нагорной проповеди, притчах, речах) мы имеем не столько буквальную запись сказанного Христом, сколько художественно-богословское творчество, притом глубоко интимное и индивидуальное. Здесь перегоревшая страстность юности стала уже благодатной огненностью, орлиный взлет к солнцу не сожигает и не опаляет, но просветляет. Но поразительна при этом чисто художественная изобразительность повествования, способность немногими словами и в особенности силою композиции, ее контекстами достигать выразительности. Здесь с четвертым евангелистом сравнивается только другой ее мастер — св. Лука в своих высших повествовательных достижениях, как рассказ о жене блуднице, помазавшей ноги Спасителя, (7) об явлении Его двум ученикам, шествующим в Эммаус (24). Но не подобны ли по силе изобразительности и рассказ о воскресении Лазаря с нарастанием волнения всех и самого Христа, достигающий силы в двух кратких словах «прослезился Иисус», вмещающих в себе всю напряженность предыдущего и последующего повествования, или же явление Христа Магдалине, или последнее явление апостолам на море Тивериадском (это самый краткий стих во всем Четвероевангелии). .
Другую особенность изложения Евангелия Богослова составляют не только богословские истины, которыми оно беспредельно насыщено, но и наличие целых богословских речей, в отличие от других евангелий, этого или вовсе не имевших, или же в виде единичного исключения (у Мф. 22-25 с параллелями). Вершина евангельского богословия в этом смысле есть, конечно, прощальная беседа Христа с учениками (XIII, 31-XVII), это чудо из чудес четвертого Евангелия. Само собою очевидно, что и это не есть стенограмма или даже только запись сказанного Христом, хотя бы «своими словами», но творческая композиция, пересказ откровений Христовых... Но это сделано, однако, с такой внутренней верностью, что он имеет качество собственных слов Христовых: «сказал Иисус». Мы слышим здесь истинные слова Христовы, во всей силе своей пленяющие мысль и проникающие в сердце и в то же время переданные голосом и речью Евангелиста, притом более чем через полвека после их произнесения. Такой пересказ может быть лишь делом художественного вдохновения и постижения богословского. Повествователь нашел для него соответствующую форму и ритм и слова.
Евангелие от Иоанна состоит из двух неравных по размеру частей: повествовательной, в которой по-своему восполняются повествования синоптиков, притом почти без повторений, так что
14
они предполагаются уже известными и само собою разумеющимися, и из богословской, в которой излагаются истины вероучения из уст самого Господа, обычно получая отправное начало в каких-либо событиях служения Спасителя или Его чудесах. Последние, как «знамения», имеют также богословски-учительное значение или же получают таковое истолкование из уст Господа. В этом смысле можно сказать, что все четвертое Евангелие есть богословие, выражаемое или в прямом изложении, или же символически содержащееся в делах и событиях. Излишне говорить, что и по плану, и по общему содержанию оно отличается от синоптических Евангелий, представляет собой как бы другой мир. Это отличие не есть противоположность или тем более противоречивость, которая бы заставляла сделать выбор чрез или-или: или синоптики, или Евангелие Богослова; напротив, это есть взаимное восполнение: и-и, которое вполне естественно и совместимо (если не считать отдельных черт повествования, хронологии и топографии, которые требуют нарочитых усилий для их взаимного согласования).
Экзегетический анализ текста IV Евангелия совершенно не входит в задачу настоящего очерка, как и его содержания с исторической стороны. Мы хотим лишь изучить основные черты евангельского богословия, не в порядке последовательного изложения, но основных тем и содержания. Оно в этом отношении поддается приведению в известную богословскую систему, и даже более того, оно напрашивается на такое изложение по доктринальному своему содержанию. Оно содержит в себе полноту богословия христианского богословия, которая и может быть раскрыта и показана в систематическом изложении. Разумеется, это не есть полнота, свойственная школьному богословию, которое стремится привести содержание откровения в систематическую доктрину. Полнота здесь относится к содержанию откровения. Эту-то полноту догматики богословского Евангелия мы и -стремимся раскрыть в настоящем кратком очерке.
2. Пролог Евангелия от Иоанна: 1,1-2,6
(Тринитарная софиология)
Самое наличие его в четвертом Евангелии уже возбуждает недоумения и разногласия. Каково его место в общем плане Евангелия, насколько таковой вообще существует? Не является ли это вступление излишним и произвольным нагромождением мыслей, совершенно не связанных со всем повествованием? Как понять и оправдать самое его существование? Такому сомнению, предъявляемому со стороны критического рационализма, однако, совершенно противоречит та исключительная оценка, которая
15
дается Прологу Церковью литургически: он почитается наиболее священным и значительным евангельским текстом, почему и избирается для литургического чтения в самый торжественный и радостный богослужебный час: именно он есть Пасхальное Евангелие, чтомое на литургии. Церковь свидетельствует этим молчаливым литургическим жестом, что он для нее есть Евангелие в Евангелии.2 Есть ли связь между этим Прологом и всем содержанием четвертого Евангелия, как и синоптиков? И не есть ли он, напротив, некий гностический фрагмент, странным образом к нему прилепившийся? Конечно, для нас и не может возникнуть подобного вопроса, на который с такой силою ответила уже церковь в предании и в жизни своей, да, по правде сказать, его не может явиться и для критического здравого смысла, не отравленного скептицизмом и предубеждением. Нам надо только, исходя из наличия Пролога в Евангелии, богословски его осознать. И наше суждение о Прологе может быть лишь таково, что он есть чудо из чудес всего богословского Евангелия. Он одинаково изумляет и потрясает сжатостью и содержательностью, ибо он в предварении выражает все основное содержание евангельского богословия. Он есть некий божественный иероглиф, священная криптограмма, которую надлежит богословски выявить. О чем же гласит эта криптограмма? Как можно ее обозначить? Каким именем наименовать? Она, конечно, есть в известном смысле евангелие об Евангелии Христовом, а потому и о Христе самом. Однако и этого недостаточно для того, чтобы выразить полноту его содержания, ибо Христос есть «един сый Св. Троицы» и потому учение о Нем включает всю полноту и тринитарного богословия. Обычным и распространенным определением Пролога, характерным его заглавием, является именование его логологией, учением о Логосе. Это связано и с тем внешним впечатлением, которое производит его начальный стих: «в начале бе Слово (ἐν ἄρχῇ ἦν ὁ Λόγος). Поражаются прежде всего единственностью этого именования, которое дается Христу именно в данном тексте, на фоне всего Четвероевангелия.3 Суждения о происхождении этого наименования (чрез заимствование у Филона или из других источников) представляют излюбленный, но вместе и совершенно бесплодный сюжет экзегетических домыслов.4 Однако следует осво-
2 О подобном же к нему отношении и лишь по-иному выраженном, свидетельствует и западная церковь, читающая его неизменно в конце каждой мессы, как свидетельство о боговоплощении.»
3 Правда, именование Христа Логосом встречается еще и в других текстах, однако тоже принадлежащих евангелисту Богослову, именно 1 Ио. 1,1; 5,7, Откровение 19,3. Это как бы отголосок Пролога (если не самостоятельное словоупотребление, по крайней мере в последнем случае).
4 См. кн. С. Н. Трубецкой. «Учение о Логосе».
16
бодиться от некоего словесного гипноза, связанного с этим выражением, чтобы обратиться ко всему содержанию Пролога. Из него без труда можно убедиться, что главным предметом его содержания в действительности является совсем не Логос, или, во всяком случае, не только один Логос, но целая совокупность богословских идей, в их органической связи образующих, можно сказать, некий богословский монолит, включающий целую систему богословских понятий. Как определить этот монолит, каким именем назвать? Хотя это именование прямо и отсутствует в тексте Пролога, однако оно одно лишь выражает его в полноте, как это и раскроется из анализа его содержания. Это есть Богочеловечество. Пролог говорит о Боге в Себе, о Творце и творении, о Боге и человеке в их взаимоотношении и о богочеловечестве, последнее же есть истинная и исчерпывающая тема Евангельского откровения: «и слово плоть бысть». При таком понимании становится ясной вся уместность и целесообразность этого Пролога. Все Евангелия вообще посвящены в сущности этой теме, и постольку ко всем ним и относится Пролог. Однако эту задачу раскрытия учения о богочеловечестве Евангелия исполняют двояким способом: историческим повествованием о жизни Спасителя и учением о Нем, причем каждое из Евангелий делает это по-своему, различным соединением и распределением того и другого. Четвертое же Евангелие, как богословское по преимуществу и в этом качестве отдающее нарочитое внимание именно богословскому учению, имеет, в качестве своего особого введения, этот Пролог о богочеловечестве. Нельзя принять и того определения, которое дается содержанию Пролога (а далее и всего Евангелия) как «богословия воплощения».5 Оно является безусловно недостаточным и неточным: боговоплощение изъясняется в Прологе лишь как раскрытие богочеловечества в тварном мире. Но сама эта идея в полноте своей изъясняет премирное, вечное, небесное богочеловечество как основание земного боговочеловечения. Богочеловечество относится к последнему, как общее к частному, основание к последствию или выводу.
Теперь и надлежит обратитьсяк раскрытию этого комплекса богословских понятий, входящих в состав учения о богочеловечестве, как они даны в криптограмме Пролога, в полноте, хотя и в потрясающей краткости. Содержание Пролога включает в себя: софиологию, богословие, как учение о Св. Троице: Отце, Слове и Духе в Их Божестве, космологию и антропологию, христо-
5Ср. Arch. Bernard A critical and exegetical commentary on the Gospel according St. John, 12 — L. Venard. St. Jean. Diet, de Théol. cath., t. VIII, I, p. 562-6. Un prologue qui contient toute une théologie d’incarnation. Такоежемнениевысказываетсяи Loisy Le Quatrième Evangile идругими.
17
логию, пневматологию, экклезиологию. Такова его проблематика и догматика, к анализу каковых теперь и обратимся.
Первое в качестве такового и потрясающее слово Пролога есть откровение о Начале, Премудрости Божией. В начале — ἐν ἄρχῇ— было ἦνСлово. Выражение ἦν— в отличие от ἐγένετο— говорит о бытии предвечном, божественном, но не тварном, возникающем во времени или хотя бы вместе с временем (о чем говорило бы έγένετο). Потому в начале никоим образом не может быть понято, хотя — странным образом — оно обычно именно так и понимается, в отношении к возникновению, к времени, к началу во времени. Это становится очевидным, как только будет поставлен дальнейший вопрос: что же здесь означает в начале? Каково само это начало? Толковники или вовсе не дают никакого ответа, или же уклончивый, очевидно, не чувствуя громадности проблемы, здесь содержащейся. Для них остается лишь неопределенное и явно противоречивое применение понятия начала к вечности — вечного начала, которое и является здесь в качестве богословского исхода. Но это и значит молчаливо пройти мимо самого вопроса, не расслышать первого же и основоположного слова, открывающего собою Пролог. Конечно, такой образ действий свидетельствует скорее о богословском бессилии или робости, нежели о должном внимании и небоязненной ответственности. Разумеется, было бы легче и проще для толковников, если бы Пролог открывался не словами: «в начале было Слово», но «началом было Слово». Тогда можно было бы уклониться от вопроса простым отожествлением начала и слова, понять слово как начало, или же начало как слово (по аналогии с текстом Пр. Сол. 8, 22: «Господь имел меня началом путей Своих»). Однако подобная уклончивость здесь не пользует нимало, и остается необходимость прямого ответа именно на данный вопрос: что же может означать «в начале было Слово» в отношении к бытию премирному, к божественной вечности? Что означает начало в вечности? И нет сомнения, что здесь не остается другого исхода, кроме как понять начало во всей силе подлинного откровения, т. е. онтологически, как некое начало в Боге самом, божество, в котором открывают себя или суть божественные ипостаси (как это прежде всего и сказано о Второй из них, о Слове). Таким образом нам дается здесь откровение о Начале в Боге, ἀρχή, в этом смысле «археология» божественная. Но она есть софиология, ибо Начало божественное и есть София, Премудрость Божия, как это явствует и из сопоставления всех других, сюда относящихся, текстов. Триипостасный Бог имеет природу (φύσις·) или сущность (οὐσία) или Божество — Θεός(без члена, в отличие от ипостасного ὁ Θεός, с членом, как чаще всего именуется Отец). Эта божественная сущность самооткровения, по содержанию своему, есть Божественная Премудрость (по характе-
18
ру же божественного своего бытия — есть премирная, вечная слава Божия, с чем мы еще встретимся в богословии четвертого Евангелия). Но здесь, в самом вступлении в Пролог, в· качестве первого слова Евангелия для выражения той же самой мысли, стоит другое и очевидно еще синонимическое слово, именно начало — ἀρχή. Как же следует его понимать? Ответ на этот вопрос не так прост, как может казаться, и слово это содержит в себе первую и исходную богословскую криптограмму четвертого Евангелия. Именно начало здесь может быть понято и истолковано в двояком смысле, причем, однако, в последнем счете, двойственность эта сливается в единство и тожественность.
И, прежде всего, надо помнить, что начало или в начале не впервые употреблено евангелистом Иоанном, но имеет к себе существеннейший комментарий в Ветхом Завете. Оно оказывается первым не только для четвертого Евангелия, но и для всей Библии, поскольку оно начинает собою и Ветхий Завет, именно книгу Бытия: «В начале сотворил Бог небо и землю» (1,1). Конечно, и здесь прежде всего надлежит устранить хронологическое его истолкование, в качестве «обстоятельства времени», притом при всяком понимании. Прежде всего, о сотворении мира «из ничего», т. е. о самом его возникновении во всей полноте своей, как «неба и земли», не может быть сказано во времени, не приписывая тем самым временности и самому Богу в Его самоопределении. Поэтому в начале следует понимать здесь, конечно, онтологически, как определение бытия мира, содержащееся в Боге самом: берешит бара — ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεός, началом в Себе, из Начала Божественного, или в начале, на основании Начала, или просто сказать, — из Божества Своего положил Бог основание бытию мира. Творение божественно в положительном существе своем, хотя и призвано к бытию из небытия, из ничего, почему такое возникновение есть самый принцип тварности. Не-ипостасное Начало бытия соотносится с ипостасным Божеством ὁ Θεός. Обратимся теперь к тому истолкованию, которое начало бытия тварного получает в книгах, посвященных Премудрости Божией. Таковая во множестве случаев имеет предикативное значение, выражает качество или свойство, но наряду с этим имеются и священные тексты, в которых Премудрость Божия вне сомнения имеет онтологическое значение, означает самое существо Божие, Божество, причем оно принимается не только в бытийной силе своей, но и в своем содержательном определении. Именно Премудрость Божия содержит в себе основание для всех образов бытия, их первообразы.6 Точный характер этих библейских образов
6 Исчерпывающее сопоставление текстов, сюда относящихся, см. напр. у J, Göttsberger. Die göttliche Weisheit als Persönlichkeit im Alten Testament. Münster 1919.
19
не поддается определению и иногда носит черты аллегорической персонификации. Однако онтологическое понимание Премудрости не подлежит здесь никакому сомнению. Таков, прежде всего, гимн Премудрости в Пр. Сол. 8,22-31, также и Иова, 28, к которым примыкают главы неканонических книг Прем. Сол. 6,12-9,18, Прем. Иис. с. Сир. 1,1-17-24,1-29. Самое важное здесь есть отожествление Премудрости с Началом путей Божиих в творении, софиологическое истолкование этого Начала как мирозиждительного принципа, возводимого к самому бытию Божию, к Божеству: κύριος πρὸ τοῦ αἰῶνος ἐ νεμελίωσε με ἔν ἀρχῇ πρὸ τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι, Господь имел меня началом путей Своих прежде создания земли (Пр. Сол. 8,23). (Подобный же смысл имеют и соот. главы Прем. Сол. и Прем. Иисуса Сирахова).
Итак, в соединении текстов Бытия 1,1, Прем. Сол. 8,22-31 и Ио. 1,1 мы имеем общее указание, относящееся как к Началу Божественного, так и тварного бытия, причем в каждом из них оно раскрывается по-своему, различно. Именно в книге Бытия Начало обращено ко всему творению, как мирозиждительное начало. В Шестодневе его действенность раскрывается как повелевающая воля Бога-Отца, Словом Своим совершающего,—да будет мир добро зело во всех образах своего бытия. Здесь одновременно содержится, с одной стороны, криптограмма Св. Троицы, имеющей единое начало или Премудрость как двуединство действенного откровения Слова и Духа в творении. Однако тварность не относится к самому началу, которое божественно, а не тварно. Этот же предвечный и божественный характер Премудрости раскрывается и в Пр. Сол. 8,22-31, где она описывается как мир, предсуществовавший в Боге ранее его сотворения: «от века я помазан от начала, прежде бытия земли (8,23) я была при нем художницей, и· радость моя о сынах человеческих» (31), как начало Богочеловечества в Боге и мире. Премудрость, она же Начало, как принцип космоургический, обращен здесь к творению в его содержательной полноте, но не в его отношении к триипостасному божественному бытию. Бог открывается здесь просто в единосущии своем, как Творец. Однако этим не дан еще исчерпывающий ответ на вопрос: каковы же отличительные черты Иоаннова откровения о Начале? Что же есть это Начало? И к чему оно относится: только ли к миру, или же также и к Богу?
При ответе на этот вопрос с особенной, изначальной силой проявляется криптограмма двойственного смысла этого исходного стиха, постольку и Пролога. В святоотеческой (хотя и не библейской) письменности Начало применяется к Отчей ипостаси, как первой, исходной во Св. Троице,7 но, как мы только что указали, оно относится здесь к не-ипостасному Божеству, Усии или
7 Ср. мои “Главы о Троичности” (Богословская Мысль, 1).
20
Софии Божественной. Это выражение получает тем самым двойственное истолкование, которое если не противоположно, то, во всяком случае, глубоко различно: в одном смысле разумеется ипостась, именно первая, Отчая, во втором же ипостасность, неипостась.8 Тем или иным истолкованием Начала дается ключ к двоякому уразумению и всего контекста I, 1-3. В первом его истолковании смысл его получается таков: «в Начале, т. е. у Отца, было (ипостасное, Им рожденное) Слово». Далее повторяется эта же мысль, только в другой расстановке слов: «И Слово (Сыновняя· ипостась) было у Бога (Отца — πρὸς τόν Θεόν — наличие члена здесь, как и во многих подобных текстах, заставляет здесь относить это именно к Отцу), «и Слово было Богом Θεός, без члена — т. е. божественно, принадлежит к самооткровению Божества). И эта же мысль о Божественности Слова выражается еще иначе в 3 стихе: «Оно было в Начале у Бога (опять с членом πρὸς τὸν Θεόν). Отчая ипостась обозначается здесь как источник самооткровения в Боге. Таким образом начало в данном случае зараз обозначает в одном понимании Отчую ипостась, в другом же Божество, в котором и открывается Сын. Сюда следует присоединить еще мысль, подлежащую дальнейшему раскрытию, именно, что связка было ἦν должна быть понимаема не синтаксически, просто как связь, понятий, но онтологически, как выражение божественного бытия, силы и жизни. В таком смысле она может и даже должна быть применена в отношении к Святому Духу, Третьей ипостаси, которая есть ипостасное между μεταξώ, соединяя Отца и Сына. Но в таком случае и Она получает в 1 и 2-3 стихах не одинаковый онтологический коэффициент: именно в контексте стиха 1 а рядом с ипостасным обозначением Отца (Начала) и Сына (Слова) и было ἦν обозначает также ипостась Бытия именно Третью. Напротив, в 1 б стихе, где говорится о самооткровении Отца в Сыне, был означает уже не ипостась, но Божественную сущность Духа Св. и общая мысль здесь относится или к диадическому ипостасному откровению Отца в Слове и Духе Св. или же к Божественному Бытию, Божеству, которое проницается Словом, будучи словесно. Эта же сторона троичного догмата выражается и во втором стихе: «оно (Слово) было в Начале у Бога (Отца τὸν Θεὸν) — но этот же текст может быть понят и софиологически, как свидетельство о самооткровении Отца в Божестве в Начале, чрез слово Слова и бытие Бытия, Духа.
Итак, если исходить из понимания Начала как Первой ипостаси, то и Слово, и Бытие получают ипостасное значение, содержание 1 а стиха относится ко Св. Троице, триипостасному Богу, 1 6-2 стихи к ^Божественному самооткровению, в применении к которому начало понимается не в смысле Отчей ипостаси,
8 Ср. мой очерк “Ипостась и ипостасность” (в сборнике П. Б. Струве).
21
но единой божественной природы или сущности, Софии, которая, однако непосредственно берется все-таки в соотношении к Отчей ипостаси: ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν — оно было в начале у Бога-Отца. Хотя начало в этом смысле, как единая божественная сущность, принадлежит всей Св. Троице, единосущной и нераздельной, однако берется здесь в приуроченности к Первой, как начинающей божественное самооткровение, ипостаси. В таком истолковании криптограмма 1-2 стихов Пролога получает универсально-богословский характер. Именно она объемлет одновременно исходные истины как тринитарного богословия, так и софиологии, причем, однако все эти основные понятия, соответственно характеру криптограммы, завуалированы, богословски, так сказать, зашифрованы, хотя этот шифр вполне допускает истолкование, данное выше, или во всяком случае оно имеет для себя достаточное основание.
Однако, это тринитарное истолкование «начала» Пролога есть только одна из двух его возможностей. Наряду с нею стоит и другая возможность, по-своему не менее, а может быть даже и более убедительная, именно истолкование софиологическое, которое исходит из понимания «начала» не в смысле Первой ипостаси, но единосущного естества Божия, раскрывающегося в Софии. Эта сравнительно большая убедительность софиологического истолкования «начала» имеет за себя то, что первое истолкование опирается лишь на святоотеческое словоупотребление, второе же — находит для себя очень серьезные, по-своему даже решающие библейские основания во всем учении Библии о Начале и Премудрости Божией.9 При этом библейском понимании «начала» весь текст принимает софиологический характер, относится не столько к самим ипостасным подлежащим, сколько к их сказуемым, и лишь Первая ипостась удерживает свое значение в качестве первоначального источника божественного самоположения или самооткровения. В софиологическом истолковании текст 1,1-2 получает такой смысл:
В начале (т. е. Божественной Усии, она же и София) было Слово: Божественная сущность содержит в себе в божественном самооткровении своем диадическое соединение откровения Слова и бытийственной силы Св. Духа: Слово значит здесь не ипостась Слова, но слово всех слов Слова, в их многоединстве, которое проявляется в божественном бытии, «было», причем и это бытие Третьей ипостаси также берется не в ипостасном Ее лике, но Ее действенном откровении. «И Слово было у Бога»: «Слово было» и здесь не означает самих ипостасей Слова и Духа Св., но их самооткровение в Божестве, в Начале. Оно есть не ипостасное,
9 Ср. сопоставления в “Купине Неопалимой” в экскурсе о библейском и святоотеческом учении о Премудрости Божией.
22
но софийное самооткровение Божие. Это божественное сказуемое вместе со связкою отнесено к божественному подлежащему, Божественному Первосубъекту, Первой ипостаси, к Богу-Отцу,
Отец же есть трансцендентная ипостась во Св. Троице, которая, как Отец, не имеет своего самооткровения иначе, как в других ипостасях, это же последнее открывает именно Его, Ему принадлежит. Поэтому со стороны своей сущности или «начала» Отец как ипостась определяется лишь апофатически. Но ей принадлежит самооткровение других ипостасей, Его открывающих. Отец есть субъект или подлежащее, которое само не имеет собственного сказуемого, сам молчит о Себе, но Он делает своими самоопределения других ипостасей. Эти последние, отрекаясь от себя, как бы гаснут или тонут в исходной ипостаси Отчей, оставаясь сами как бы лишь сказуемым и бытийной связкой.10 Поэтому и неудивительно, если в Прологе, понятом софиологически, Отец есть как бы единственная ипостась для всей триипостасной Троицы, с которой соотносятся ипостасной окачествованностью своею две другие ипостаси. — «И Бог Θεός, без члена — (божественность) было Слово» (16), — в этом смысле выражается не ипостасная определенность божественного самооткровения: Слово было, но его божественность, тожественность божественной Софии с божественной природой или сущностью. Этот стих имеет поэтому характер исключительно софиологический. Наконец, 2-ой стих: «Оно (т. е. Слово) было в начале у Бога» (πρὸς τὸν Θεόνпредставляет собою как бы резюме или повторение вышесказанного и отличается лишь порядком слов и соединением в одной фразе вышесказанного в двух предложениях, именно: «в начале было Слово» и «и Слово было у Бога». Оба здесь соединены в одно: «оно (Слово) было в начале у Бога». Евангелию Иоанна чрезвычайно свойственны повторения, и от них он не воздерживается даже при всей лапидарной краткости и выразительности Пролога. Впрочем, это здесь даже естественнее, чем в других случаях, потому что относится по содержанию к самой основной и универсальной истине христианского богословия: к учению о Св. Троице в софиологическом его раскрытии.
Возникает естественный вопрос: как же следует относиться к этой двойственности смысла во вступлении Пролога, которая связана с возможностью двоякого значения понятия «начало»: какой из двух смыслов следует предпочитать? или же, если при отсутствии достаточно решительных оснований для определенного выбора и предпочтительного одного толкования перед другим, приходится согласиться на принятие обоих? Но в таком случае не вносится ли тем двусмысленность и в самый текст, его собою как бы опорочивая? Однако последнее опасение должно
10 См. в “Утешителе” эпилог: “Отец”.
23
но единой божественной природы или сущности, Софии, которая, однако непосредственно берется все-таки в соотношении к Отчей ипостаси: έν αρχή πρὸς τὸν Θεόν — оно было в начале у Бога-Отца. Хотя начало в этом смысле, как единая божественная сущность, принадлежит всей Св. Троице, единосущной и нераздельной, однако берется здесь в приуроченности к Первой, как начинающей божественное самооткровение, ипостаси. В таком истолковании криптограмма 1-2 стихов Пролога получает универсально-богословский характер. Именно она объемлет одновременно исходные истины как тринитарного богословия, так и софиологии, причем, однако все эти основные понятия, соответственно характеру криптограммы, завуалированы, богословски, так сказать, зашифрованы, хотя этот шифр вполне допускает истолкование, данное выше, или во всяком случае оно имеет для себя достаточное основание.
Это тринитарное истолкование «начала» Пролога, однако, есть только одна из двух его возможностей. Наряду с нею стоит и другая возможность, по-своему не менее, а может быть даже и более убедительная, именно истолкование софиологическое, которое исходит из понимания «начала» не в смысле Первой ипостаси, но единосущного естества Божия, раскрывающегося в Софии. Эта сравнительно большая убедительность софиологического истолкования «начала» имеет за себя то, что первое истолкование опирается лишь на святоотеческое словоупотребление, второе же — находит для себя очень серьезные, по-своему даже решающие библейские основания во всем учении Библии о Начале и Премудрости Божией.9 При этом библейском понимании «начала» весь текст принимает софиологический характер, относится не столько к самим ипостасным подлежащим, сколько к их сказуемым, и лишь Первая ипостась удерживает свое значение в качестве первоначального источника божественного самоположения или самооткровения. В софиологическом истолковании текст 1,1-2 получает такой смысл:
В начале (т. е. Божественной Усии, она же и София) было Слово: Божественная сущность содержит в себе в божественном самооткровении своем диадическое соединение откровения Слова и бытийственной силы Св. Духа: Слово значит здесь не ипостась Слова, но слово всех слов Слова, в их многоединстве, которое проявляется в божественном бытии, «было», причем и это бытие Третьей ипостаси также берется не в ипостасном Ее лике, но Ее действенном откровении. «И Слово было у Бога»: «Слово было» и здесь не означает самих ипостасей Слова и Духа Св., но их самооткровение в Божестве, в Начале. Оно есть не ипостасное,
9 Ср. сопоставления в “Купине Неопалимой” в экскурсе о библейском и святоотеческом учении о Премудрости Божией.
22
но софийное самооткровение Божие. Это божественное сказуемое вместе со связкою отнесено к божественному подлежащему, Божественному Первосубъекту, Первой ипостаси, к Богу-Отцу.
Отец же есть трансцендентная ипостась во Св. Троице, которая, как Отец, не имеет своего самооткровения иначе, как в других ипостасях, это же последнее открывает именно Его, Ему принадлежит. Поэтому со стороны своей сущности или «начала» Отец как ипостась определяется лишь апофатически. Но ей принадлежит самооткровение других ипостасей, Его открывающих. Отец есть субъект или подлежащее, которое само не имеет собственного сказуемого, сам молчит о Себе, но Он делает своими самоопределения других ипостасей. Эти последние, отрекаясь от себя, как бы гаснут или тонут в исходной ипостаси Отчей, оставаясь сами как бы лишь сказуемым и бытийной связкой.10 Поэтому и неудивительно, если в Прологе, понятом софиологически, Отец есть как бы единственная ипостась для всей триипостасной Троицы, с которой соотносятся ипостасной окачествовапностью своею две другие ипостаси. — «И Бог Θεός, без члена — (божественность) было Слово» (1б), — в этом смысле выражается не ипостасная определенность божественного самооткровения: Слово было, но его божественность, тожественность божественной Софии с божественной природой или сущностью. Этот стих имеет поэтому характер исключительно софиологический. Наконец, 2-ой стих: «Оно (т. е. Слово) было в начале у Бога» (πρὸς τὸν Θεόν представляет собою как бы резюме или повторение вышесказанного и отличается лишь порядком слов и соединением в одной фразе вышесказанного в двух предложениях, именно: «в начале было Слово» и «и Слово было у Бога». Оба здесь соединены в одно: «оно (Слово) было в начале у Бога». Евангелию Иоанна чрезвычайно свойственны повторения, и от них он не воздерживается даже при всей лапидарной краткости и выразительности Пролога. Впрочем, это здесь даже естественнее, чем в других случаях, потому что относится по содержанию к самой основной и универсальной истине христианского богословия: к учению о Св. Троице в софиологическом его раскрытии.
Возникает естественный вопрос: как же следует относиться к этой двойственности смысла во вступлении Пролога, которая связана с возможностью двоякого значения понятия «начало»: какой из двух смыслов следует предпочитать? или же, если при отсутствии достаточно решительных оснований для определенного выбора и предпочтительного одного толкования перед другим, приходится согласиться на принятие обоих? Но в таком случае не вносится ли тем двусмысленность и в самый текст, его собою как бы опорочивая? Однако последнее опасение должно
10 См. в “Утешителе” эпилог: “Отец”.
21
быть отстранено, как не имеющее для себя оснований. Слову Божию в известных случаях бывает свойственна двоякость смысла, — прямого или аллегорического, конкретного или духовного, в особенности же это свойственно четвертому Евангелию с его чудесами как «знамениями», с его историческими повествованиями в качестве образа духовных откровений. Такой высоты предмета, при отвлеченности и связанной с ней трудности изложения, как это свойственно прологу, не достигают другие священные книги. Поэтому является естественным и вполне допустимым, что отдельные слова и речения допускают различное понимание, если только оно не содержит в себе противоречия, чего в данном случае очевидно не имеется. При выборе двух оттенков истолкования, один с ударением более тринитарным, а другой с софиологическим, возможны не только и-и, но также и или-или. При отсутствии же терминологической точности и при возможности разных переливов богословского смысла остается возможным, хоть и не обязательным, совмещение аспектов тринитарного и софиологического, как оно дается и в самом тексте. Речь может идти только о предпочтительности того или иного толкования его некоторых черт. Нам кажется предпочтительнее принять преобладание софиологического истолкования, которое представляется и более удобным для проведения от начала и до конца.
3. Бог и мир. София тварная (Ио. 1,3-5)
Все произошло через Него, и без Него не стало быть ничего, что произошло. Тринитарная софиология I, 1-2 относится к премирности Божией, к Богу, в Себе сущем, вне и помимо отношения к миру. Стих же 3 обращает нас уже к тварному миру, который возникает к бытию чрез свое сотворение. Это выражено в слове ἐγένετο(в русском переводе «начало быть»11) в отличие от ἦν, (1-2), выражающем бытие невозникающее, но пребывающее, вечное. Однако и здесь внимание сосредоточивается не столько на акте творения мира Богом (как в Бытии, 1,1: в Начале Бог сотворил), сколько на божественной, пребывающей основе бытия. Таким основанием для творения, как Софии тварной, является София божественная, учение о которой выше дается в ст. 1-2. Установляется тожество Софии божественной и тварной, всего со стороны их содержания слов Слова, софийность бытия божественного и тварного, а вместе и свидетельствуется их различие в образе бытия, — вечного, пребывающего и возникающего. Согласно Пр. Сол. 8,21-31, Бог творит мир, имея Премудрость
11 В русском пер. прибавлено: “и без Него ничто не начало быть, что начало быть”. Подчеркнутые слова представляют ненужный плеоназм, появившийся со времен Златоуста, а “без” неточно передает смысл χωρίς.
24
как свою художницу, начало путей своих, и это соотношение между полнотой бытия божественного и тварного здесь выражено с лапидарной краткостью чрез все, сначала в положительной, а затем в отрицательной форме: «все чрез него начало быть, и вне его ничто не стало быть» (В Быт. 1,1 это «все» определяется как «небо и землю», содержащие полноту божественного замысла о творении, Софию тварную, причем этот универсальный принцип творения раскрывается в своем многообразии в шестодневии). И начало тварного бытия определяется так же, как было выше (1-2) уже определено оно для бытия Божественного: чрез Него (т. е. Логос, Слово Божие в себе и о своем), которое имеет бытие совершающим Духом Св. Это есть диадическое самооткровение Отца чрез Сына и Духа в их нераздельном двуединстве. Но начало Духа Св., выраженное в отношении к Софии Божественной чрез ἤν, «было», в отношении же к Софии тварной выражается через έγένετο, «стало быть». Этому последнему соответствует и повелительное наклонение «да будет» — «и стало так» в Шестодневе, или же псаломское: «Той повеле и создашася» Пс. 148,5; 32,9.
Творение, — все происшедшее — ὁ γεγονεν, имеющее основанием своего бытия диаду божественного самооткровения в Сыне и Духе Св., далее определяется в своем бытии изнутри: оно существует силою жизни и света. «В Нем была жизнь, и жизнь была свет человекам» (4). Сам Логос есть жизнь, которая, однако подается Отцом: как Отец имеет жизнь в самом Себе, и Сыну дал иметь в самом Себе» (5, 26). Качество же этой жизни есть ее светоносность: Христос о Себе говорит: «Я свет миру» (8,12; 9,15). Однако при этом определении Слова как света и жизни, неизбежно снова возникает все тот же вопрос — о божественной диаде. Дух Св. именуется Церковью «жизни подателем», «животворящим», и, конечно', он же является и благодатно просвещающим. Отсюда следует заключить, что и жизнь и свет подаются не одной ипостасью Логоса, по в Ее соединении с Духом Св., диадически. И то двуединство выражается здесь так же, как и выше, глагольной связкой, которая здесь имеет значение не только грамматическое, но и онтологическое, указует на почивание Духа Св. на Сыне в их нераздельности, как бытийное начало в Слове, реальность идеальности, осуществление идейного содержания. Отметим для дальнейшего, пока на этом еще не останавливаясь, что здесь уже намечается и переход от онтологии и космологии к антропологии, именно жизненное начало Софии Божественной открывается не только объективно, как сила и содержание творения, высшая его действительность, но и субъективно находит для себя личного носителя в человеке. Жизнь и свет не могут ограничить свою силу, не дойдя до человека, не проявившись в нем. Такую догматическую антисипацию имеем мы в кратком слове: «и жизнь была свет человекам» (4). Однако здесь
25
в Прологе лишь намечается, ко тут же и обрывается эта тема. Изложение возвращается к прежнему вопросу, именно к изъяснению тварности в ст. 5: «и свет во тьме светится, и тьма не объяла его». Какое значение имеют «свет» и «тьма» в данном соединении, и вместе и в противоположении? Правильно ли придавать им уже здесь характер духовного противоборства, как светлого и темного начала жизни, добра и зла, между собою борющихся и соперничающих, Ормузда и Аримана, как это обычно принято при истолковании?12 Однако в данном именно контексте к тому нет прямых оснований. Здесь, в учении о Софии Божественной и тварной как о природе тварности, понятия света и тьмы надо освободить от ценностной классификации, следует понять их в онтологическом значении, как бытия и небытия в том их соединении, которым является возникающее, тварное бытие. Иными словами, тут говорится о «сотворении мира из ничего», и если здесь усматривать какое-либо полемическое острие, то оно скорее всего направлено против пантеистического учения о самобытии мира, стирающего грань между творцом и творением, но их отожествляющего. Здесь, напротив, твердо устанавливается, что в тварном бытии мы имеем соединение, но и различение света и тьмы, как бытия и небытия, или «ничто» в качестве темной подосновы тварного мира. Эта подоснова не упраздняется положительным началом бытия, напротив, она даже получает от него отраженную бытийственность, в качестве граней бытия, всеобщей его относительности. Но такая отраженность не становится самобытностью, упраздняющей эти самые грани. Тьма в этом смысле не способна объять или поглотить свет так, чтобы установить безразличие, некоторую онтологическую серость, в которой Творец растворялся бы в творении, а последнее усвояло бы себе Его свойства. Мир софиен, в тьме небытия, в которой он возникает, он имеет начало истинного света. Однако софийность мира не есть ипостасный Бог, хотя и представляет собою и начало божественное в творении, как и вообще София не есть ипостась в Боге (не «четвертая» и не какая бы то ни было). София божественная в Боге имеет божественную вечность, она и есть в этом смысле свет истинный, в котором нет никакой тьмы. София же тварная за пределами Божества получает характер тварности именно чрез свое погружение в ничто, в тьму небытия. Именно чрез это соединение и возникает тварная София, мир, «И свет во тьме светится». Если позволить себе самое грубое и неточное сравнение, тс можно сказать, что сияние света Божественного окружено тьмой, которая бессильна проникнуть внутрь его или смешаться с ним, и в этом смысле его объять (κατέλαβεν) поскольку он сам не выходит за себя в творении мира и тем становится ему как бы
12 Ср., например, сопоставления у Бернарда, Комментарий, 5-6.
26
сопредельным. Эта метафизическая, онтологическая тьма (которая образно выражается в Книге Бытия 1, 2: «земля же бе невидима и пуста — и тьма вверху бездны») так сказать, бескачественна. Однако она качествуется в конкретном бытии мира и при этом получает и различную квалификацию, может становиться не только tohu-va-bohu, но тьмою как началом зла, потенцией отрицательного. Однако это относится к путям тварного бытия, но не к нему самому. Само же оно предназначено к полноте обожения и просветления, чтобы явить себя во всей силе и славе, хотя и при сохранении своей тварности. Последняя есть все-таки свет, светящий во тьме, которая принимает этот спет и им просветляется, сохраняя свою самобытность. Именно тьма, т. е. ничто и происхождение из ничего, сотворенность, есть основа самобытности твари, тварная вечность, в отличие от вечности Божией. Все это с богомудрой краткостью выражено в кратких словах 5-го стиха.
(Здесь Пролог как бы прерывается в своем собственном изложении, чтобы дать место небогословскому отступлению об Иоанне Крестителе: ст. 6-8, а далее и 15 в предварение исторической части I главы, отчасти посвященной именно его служению, 19-37. Однако тут имеется своеобразное выражение главной мысли Пролога, однако не в прямом, но отрицательном ее подтверждении чрез противоположение: Иоанн посылается Богом, чтобы свидетельствовать о свете, но сам же не будучи истинным светом. Отступление это может быть и выпущено без ущерба для связности изложения. Со стиха же 9 возобновляется и далее развивается мысль, выраженная в стихе 5-м13).
Начиная с 9 стиха софиология уже более определенно включает в себя учение не о мире только, но и о человеке, из космологии становится антропологией (что уже намечено было в стихе 5) «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Здесь выступает, хотя и в общих еще, предварительных очертаниях, тема о богочеловечестве: о человеке небесном (3,13: «сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах») и о земном Богочеловеке Христе. Человек земной, тварный, создан по образу Человека небесного, Сына Божия, Логоса, между ними есть нарочитое соотношение, наряду с тем, которое существует между Творцом («им же вся быша») и творением. Именно человек вообще и всякий в отдельности при своем «прихождении в мир» несет в себе свет от подлинного источника Света, Им просвещается. Это относится не к спасению человека, но именно к его бытию по сотворении, это есть истина не сотериологии только, но уже общей антропологии. Такая мысль о соотно-
13. Комментарием к Иоаннонскому повествованию о Предтече фактически являются соответствующие главы «Друга Жениха».
27
шенци Света и светов в человеках в 10-19 стихах получает дальнейшее раскрытие, именно в применении к сотериологии, здесь описывается отношение к Богу отпавшего от Него мира, который хочет, замкнувшись в себе, отделиться от Бога. Мир — κόσμος— есть, конечно, все творение в целом, но имеющее главу и средоточие в человеке, ἀνθρωποκόσμος. Эта общая мысль об отчужденности мира от Бога выражается сначала чрез противопоставление соотношения, которое существует между прозрачностью мира для света и его противлением ему, такова трагедия мирового бытия, роковая борьба и раздвоение в нем: «в мире был» как предвечная его основа, в Софии Божественной, и «мир чрез него начал быть» (ἀγένετο), как София тварная» (10). Однако это единство основы не устраняет отделения и противоборства, прежде всего в познании: «мир его не познал — οὐκ ἔγνω». Это непознание должно быть понято не в отвлеченности теоретического незнания, но жизненного, конкретного — неузнания Христа, Света миру (ср. 12; 9,5). Это далее раскрывается уже и христологически, в кратких словах, выражающих собой самую сущность неприятия Христа миром с непрестанным ему противоборством, чему посвящено все Евангелие от Иоанна, а также и других евангелистов, хотя у -последних не так явно и настойчиво, как здесь. «Пришел в область свою — τὰ ἰδια, и свои Его не приняли». Здесь можно разуметь отвержение Христа, «пришедшего» в мир, как всеобщее христоборство, находящее завершение в антихристианстве, и личных антихристах (I Ио. 2,18), так и в узком смысле отвержения Его «своими», т. е. избранным народом еврейским, в лице вождей своих навлекшим на себя ответственность за кровь Христову и Его крестную смерть. Однако эта мысль тотчас же ограничивается и уточняется вносимым разграничением принявших Христа и не принявших Его. Мир не оказался безнадежно глух к посланничеству Христа, напротив, Он нашел в нем и принявших Его, и они в ст. 12-13 определяются точнее и ближе, в терминах сотериологических: «тем, которые приняли Его, верующим во Имя Его, дам власть быть чадами Божиими, которые не от похоти плоти, не от похоти мужа, но от Бога родились» (12-13). Сотериологическая эта криптограмма содержит мысль о благодатном рождении от Бога Духом Св., об усыновлении человеков Богу во Христе, в чем и состоит дело Христово и последняя цель сотворения мира и человека ради обожения последнего. Однако она включает в себя попутно и еще одну криптограмму, именно ономатологическую: «верующим· во Имя Его». Здесь в качестве самоочевидной истины выражается сила и существо Имени Божия, как особый предмет веры, ее интенция. В других случаях выражение «Во Имя Его» (2-23), «во Имя Единородного Сына Божия» (3-18), «во Имя Сына Божия» (I Ио. 5,13) у Ио. употребляется по смыслу, как плеоназм и просто означает «в
28
Него», «в Сына Божия». Однако подобное упрощение едва ли применимо в Прологе, 1,13: «верующим во Имя Его» (—Божие). Бог открывается во Имени Своем. В Ветхом Завете это есть имя Ягве, в Новом же имя Иисусово. В этом смысле и Четвертое Евангелие окончательный свой итог и содержание определяет так: «сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во Имя Его» (20,31). Здесь уверование во Имя Христа из созерцательно-теоретического становится силою жизни. Характерно самое выражение, не обычное для текстов аналогичного содержания έυ δνόματι μου, что равнозначно: жизнь во Христе самом.14
Не останавливаясь далее на богословии Имени Божия,15 мы не можем пройти и молча мимо этой поразительной криптограммы, заключающей в себе тайну Имени. Евангелист для прямой своей цели выразить мысль о богословстве, конечно, мог свободно обойтись без распространительного выражения, сказавши просто: «верующим в Него». Если же он ставит здесь внимательного и благоговейного читателя еще пред новым, хотя и попутно выраженным откровением, ему должно быть оказано соответствующее внимание и истолкование. Надо помнить, что четвертое Евангелие, впрочем, как и все другие священные книги Библии, хотя и каждая по-своему, включено в некое целое Библии, в ее контекст, который и применяется по-разному в разных случаях. Контекстом в данном случае преимущественно является ветхозаветное учение об Имени Божием в связи с общим учением об именах. Следует еще отметить и софиологическое значение ономатологии как учения об имени: имя именуя открывает ипостасного Бога в Его самооткровении и откровении. Оно есть сказуемое, имеющее для себя ипостасное подлежащее, к которому оно потом прикрепляется бытийной связкой. Имя содержит в себе печать двуединства, диадического соединения Слова и Духа Св., открывающего Отца. Постольку имя, хотя и принадлежит Богу, как триипостасной ипостаси в тройстве и разделенности, но само оно не есть ипостась, не ипостасно, но только ей лишь принадлежит. Оно есть сущность, естество Божие, и вообще есть, а не есть только именование, звук, кличка и код. Имя есть Божество, почему и является вполне уместным и не противоречивым выражение: «верующим во Имя Божие». Одинаково можно сказать: верующим в Бога, с интенцией, направленной к ипостаси, и во имя Божие, или просто в Божество, в Божию силу и Премудрость, или в соединение того и другого, — вера в ипостасное Божество.
14 Выражение ἐν τῷ ὀνόματί μου, в смысле εἰς ὄνομά μου, во имя встречается у Иоанна в 15,16 (“даст вам в Имени Моем”); 16,23,14; 13,14,26 (всего 7 раз).
15 Ср. мою работу “Об Имени Божием”, рукопись.
29
Итак, не только мир в отпадении своем отделяется от Бога и Ему противится, но и в нем самом, именно в человечестве совершается это противоборство и раздвоение. Противопоставление между Богом и миром, намеченное в Прологе, представляет собой одну из нарочитых тем Четвертого Евангелия, оно многократно повторяется на всем его протяжении, как в устах Господа, так и самого Евангелиста: «вы от нижних, Я от вышних: вы от мира сего, Я не от сего мира» (8,23) (Ср. 7,7; 9,39; 12,31; 14,27-30; 15,18-19; 16:11,20,28-33; 17:9,14,18,36). Но все это противление мира Богу и отделение от Него не препятствует тому, что Бог сам исходит из Своего до-тварного и внетварного субботствования, чтобы соединиться с миром, вочеловечиться. Эта истина о любви Божией к созданию Своему возвещается торжественным изречением сына Громова, в котором как громом небесным она провозглашается, «и Слово плоть бысть». В этом Евангелии Боговоплощения в трех словах выражается все Четвероевангелие, ибо о чем же ином все оно повествует, как не об этом святейшем иероглифе: «и Слово плоть бысть — καὶ ὁ Λόγος σάρξ ἑγένετο» (14). Здесь космология и антропология переходят в христологию, с нею сливаются. Истина боговоплощения как соединения двух природ, божественной и тварной, человеческой при единой божеской ипостаси Логоса, — догмат Халкидонского определения возвещается здесь, как путеводная звезда для всего христианского догматствования. Слово σάρξ шире, чем σῶμα по значению, поскольку выражает начало тварного бытия вообще, как такового, телесности вообще, тогда как σώμα дало бы ему в данном случае нежелательную конкретность значения, именно как организованной плоти, тела (конечно, «плоть» свободна здесь от всякого оттенка одиозности, присущего Быт. 6,3 и даже Ио. 1,13). Слово εγένετο в отличие от ήν выражает событие тварной жизни, в этом смысле возникновение во времени, чему соответствует и формула Никейского символа: «сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы». Синоптики не имеют этой формулы энсаркозиса Логоса: ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο. То, что этому соответствует, ими описывается как историческое событие бессемейного зачатия чрез Благовещение и Рождества Христова от Девы: Мф. 1-2; Лк. 1,26-2, 1-39 (у Мр. же и это отсутствует, хотя и само собою разумеется). У Ио., конечно, молчаливо подразумевается все сообщенное у синоптиков, но это выражается догматической формулой, определяющей метафизическую сторону, онтологию события Р.Х. И умолчанное и сказанное здесь ярко выражают именно богословский характер Евангелия Богослова, обнаруживая именно богословский стиль его повествования. Однако оно может быть воспринято со всей полнотой при том лишь условии, что при нем молчаливо предполагается известным и все синоптическое повествование, которому дается здесь богослов-
30
ская глосса. Но она становится скудна и абстрактна без этого условия и, напротив, сияет всем своим блеском при его наличии.
Засвидетельствовав догматическую истину боговоплощения, четвертый евангелист спешит применить ее к уразумению земной жизни воплощенного Слова, Господа Иисуса Христа, описанию которой посвящены синоптические Евангелия. Но он делает это опять-таки ему одному свойственным образом, не через историю, но чрез ее, так сказать, философию, и притом с криптограмматической краткостью, вообще свойственной Прологу. Это выражено лишь в двух словах: «и обитало с нами», т. е. разделяло нашу жизнь, с ее горестями и заботами, ее страданиями и радостями, вообще жило человеческой жизнью, кроме греха и всего с ним связанного и из него проистекающего. Однако этого было бы недостаточно и способно ввести в заблуждение, если бы истину вочеловечения Господа Евангелист истолковал бы лишь в сторону вольного кенотического приятия ограниченности, не явив при этом и силу прославления. Поэтому он тотчас же прибавляет: «и видели Славу Его как единородного от Отца». Чрез славу вводится совсем новая тема, которою христология снова смыкается с софиологией. Ибо слава — шехина — δόξα есть понятие, существенно софиологическое, которое иначе даже и не может быть воспринято. Прославление славой во Св. Троице совершается Духом Св., Он есть ипостасная слава, так же как и полнота Ее Самооткровения. Отец исходит на Сына Духом Св., как торжествующей любовью, которая без того имела бы лишь жертвенно самоотвергающийся характер взаимножертвенной любви Отца и Сына. Таково соотношение ипостасей в предвечной жизни Св. Троицы. Но оно подобно же и в боговоплощении, в самооткровении Бога в мире и в человеке. Вочеловечение Логоса, посылаемого Отцом в мир для его спасения, ведет Его путем земного крестоношения и к крестной страсти, Отец отдает Сына Своего Единородного для спасения мира, и Сын до конца отдается чрез крестное истощание и смерть. Чрез это и совершается прославление Сына от Отца Духом Св. в Его воскресении и Вознесении, причем оно предваряется уже на земле в Богоявлении и Преображении. Однако при этом вот что надлежит здесь установить: есть не только прославляющая и прославляемая ипостаси Отца и Сына и Духа Св., но наряду с ипостасями, приемлющими участие в прославлении, есть и сама ипостасная Слава, которою ипостаси ипостасно прославляются. Слава эта, как божественная жизнь и самооткровение, есть и божественная София, само Божество, не только в своем божественном основании и его корне, но и своем проявлении в Боге. Она есть собственная слава Бога в Себе и о Себе самом, божественная радость о Себе самом. Но эта радость в творении, как в откровении Софии Божественной в тварной, или первообраза в образе, есть «о сынах человечес-
31
ких» (по свидетельству Премудрого: Пр. Сол. 8,31), т. е. о Богочеловеке, как о Новом Адаме, восстановляюшем и обновляющем Адама Ветхого. Она есть о человечестве Христове, явленном в божественной Его Славе (софиологическое приложение Халкидонского догмата). Одним словом, есть не только Славящий, Славимый и Прославляющий, но и Слава сама по себе, не только как божественное, но и божественно-тварное Богочеловечество. В пределе последнее объемлет все человечество, весь мир и творение, о чем и сказано было накануне страсти Христовой в предварении уже совершившейся ее силы: «ныне прославися Сын Человеческий, и Бог (—Отец) прославился (чрез Духа Св.) в Нем (13,31). И эта слава не есть лишь субъективная оценка или состояние, но сама объективная действительность, ens realissimum, которое становится доступным, «видимым» и нам: «мы видели славу Его, славу как Единородного от Отца, полного благодати и истины» 0,14). «Видели» — ἐθεασάμεθα означает не духовное только видение, но и созерцание земными, тварными очами (таково словоупотребление Н.З., в частности и Иоанна16). София, как Слава, не есть только идеальность, но и конкретная реальность, становящаяся доступной и человеку чрез Богочеловека, как «Божия сила и Божия премудрость» (1 Кор. 1,24). Опять-таки и здесь Евангелист, верный своему образу повествования, подразумевает поведанное не только у синоптиков, но и во всем Н.З., а также и в В.З. в явлениях Славы Божией (Исход, Иезекииль (3-я Ц.), а также и о прославлении Христовом (в Преображении). Но он дает при этом и догматическое истолкование и установляет связь между нашим тварным миром и боговоплощением и прославлением, — ософиением мира и человека. А это последнее предполагает полноту благодатной богопричастности человека, даруемую ему Духом Св. чрез боговоплощение Слова. Эта полнота, как условие обожения твари, свидетельствуется в словах: «полного благодати и истины» (14). В известном смысле можно сказать, что здесь уже подразумевается и Пятидесятница, как сошествие в мир самого Духа Истины, приносящего дары благодати Своей. Здесь следует вторая парантеза о Крестителе как свидетеле о Христе: ст. 15. После парантезы еще раз говорится о благодатности явления Христа, и на этот раз скорее в экклезиологическом смысле. Софиология переходит здесь в экклезиологию, и следует криптограмма о Церкви, содержащаяся в следующих словах: «от полноты Его мы все приняли и благодать на благодать» (16) Полнота — πλήρωμα — Христова и есть церковь Его (как и говорится в Еф. 1,22-3): «поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота наполняющего все во всем». Церковь, как полнота даров Св. Духа, получает жизненное умно-
16 Бернард, С. с. 1, 2.
32
жение их: «благодать на благодать». Криптограмма о Церкви здесь же, с обычной лапидарной краткостью включает и историческое ее свершение, в Ветхом Завете, основанном на данном чрез Моисея законе, и Новом, который мы имеем, как благодать и истину, происшедшие чрез Иисуса Христа. «Ибо закон дан чрез Моисея, благодать же и истина произошли —ἐγένετο — чрез Иисуса Христа» (17). Благодать «чрез Иисуса Христа» дается Духом Св., чрез Него в Пятидесятнице посланным, во основание Церкви новозаветной.
Этим исчерпывается универсальное богословие Пролога. Пройден весь его путь: учение о Боге, в Св. Троице сущем, о Софии —начале Божественном и тварном, о мире и человеке, об откровении Бога в мире, о боговоплощении, о спасении, о Церкви. Все это смыкается, как величественным сводом, богословским обобщением 18 стиха,17 содержащим антиномию отрицательного и положительного богословия: «Бога никто никогда не видел (апофатика), единородный Сын (вариант, более принятый в рукописях: Бог — Θεός), сущий в лоне Отчем, Он открыл ἐξηγήσατο(катафатика). Катафатическое, положительное откровение, богоявление Христово, предполагает апофатику, тайну запредельную открывающегося Божества. Сын, пребывающий в лоне Отчем, в трансцендентности Отца, является имманентным творению, Его ему открывающим, согласно сказанному выше. Этим догматическим аккордом завершается богословская рапсодия Пролога, этого чуда чудес Четвертого Евангелия.
(продолжение следует)
17 Странным и непонятным образом чтение на пасхальной литургии обрывается на 17 стихе, не включая 18-го, который существенно принадлежит Прологу и его собою увенчивает. За отсутствием внутренней логики этот перерыв можно объяснить лишь исторической случайностью, требующей исправления.
33

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Прот. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ
БОГОСЛОВИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ИОАННА БОГОСЛОВА*
1. Общий его характер.
Четвертое Евангелие, конечно, не есть богословский трактат, систематически излагающий христианское богословие и в этом смысле напоминающий в какой бы то ни было мере богословские руководства или исследования. Оно есть именно Евангелие, т. е. прежде всего повествование о земной жизни Господа, и в этой своей задаче оно не различается от других Евангелий, при всем своем отличии от них. Евангелист (или же позднейший комментатор) и сам свидетельствует о такой чисто повествовательной его задаче, правда тут же указывая и на всю его неполноту: «много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей» (Ио. 20. 30), «многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг”: (21. 25). Конечно, такая чисто повествовательная задача не исключает, но напротив, даже включает, предполагает еще и иную, высшую: «сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во Имя Его» (20. 31). Однако подобная же задача, именно проповедь о Христе, свойственна и всем другим Евангелиям, начиная даже с Маркова: «начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия». Так начинает (1. 1) и так определяет характер своего повествования сам евангелист Марк, Подобным же образом начинается и Первое Евангелие от Матфея (1. 1): «родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова». «Рождество Иисуса Христа было так» (18). Все оно есть книга о Христе, т. е. о Богочеловеке, Спасителе мира. Так и заканчивается она Его обращением к ученикам: «научите все народы» (28. 19), «крестя и просвещая их». Такова же, наконец, задача и Третьего Евангелия от Луки: «по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе.., чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты наставлен» (1. Ί, 2). Итак, общая задача всех Евангелий состоит в том, чтобы путем повествования о жизни Господа, давая Его образ, внедрять веру в Него и Его посланничество. Но тем самым она уже переходит границы истории, вступая в область вероучения. И все Евангелия в этом смысле богословствуют о Христе, каждое по-своему. Однако Четвертое Евангелие в этом отношении все-таки отличается от всех других, 'поскольку оно отводит учению Христа и о Христе больше места,
* Начало см.: «Вестник РХД» № 131.
59
нежели последние. Оно именно богословствует о Нем, притом больше чрез прямое научение, нежели чрез повествование, уже содержащееся в других Евангелиях. Отсюда проистекает и его основное свойство: сравнительно большая полнота в изложении и более широкий захват в предметах богословствования. А этому общему заданию отвечает и выбор повествовательного материала, особый вклад Четвертого Евангелия с включением одних событий, отсутствующих у других Евангелистов, и выключением других, введением обширных бесед и речей, вообще явно богословской тенденцией во всем выборе материала. Таков в частности и характер чудес — «знамений» (всего 7), которые все суть или прямые богословские символы, или же дают повод к таковому их истолкованию: таковы же и встречи и беседы Христа, как будто случайные и незначительные как события, однако в высшей степени важные по духовному содержанию; наконец, таковы же и прямые речи Господа, с поводом и даже без повода, вершина которых есть, конечно, прощальная беседа Его с учениками.
Все это заставляет иных видеть в Четвертом Евангелии и вообще более доктрину, чем Евангелие, превращая его в род богословской аллегории или символики. Это, конечно, неверно и отнюдь не оправдывается одним количественным преобладанием учения над повествованием. Но более всего не позволяет приравнять Четвертое Евангелие богословской доктрине в ее отвлеченности то, что учение, излагаемое здесь, есть все-таки самосвидетельство самого Христа о Своей жизни и служении, оно есть именно Евангелие Христово о Себе Самом, которое, однако, тем самым становится и богословием. Свидетельство о Христе, как Сыне Бога Живого, дается здесь не столько во внешних делах и событиях, сколько во внутреннем их самораскрытии. Оно не силою вещей содержит учение, которое теперь для нас является догматом веры, входит в догматику. Это-то и делает естественным ц возможным изложение вероучительного содержания Четвертого ^Евангелия именно как совокупности догматов, хотя, конечно, и неполной. Однако от других Евангелий, как легко убедиться через их сопоставление, в этом отношении оно отличается сравнительной полнотой. Целый ряд первостепенных богословских тем и учений, здесь имеющихся, просто отсутствует у синоптиков. Это, конечно, не значит, чтобы здесь имелись налицо какие-либо внутреннее противоречие или разногласие, напротив, одно подтверждает и раскрывает другое. Но при этом сказывается одна общая особенность, свойственная Четвертому Евангелию: оно не повторяет, но предполагает уже как известное и само собою разумеющееся имеющееся у синоптиков, включает его в свой догматический контекст. При этом оно определенно восполняет их содержание, или же по-своему излагает.
Во всяком случае, все вышесказанное всецело относится к первым главам, как и к 20, а также и к эпилогу, гл. 21. Особо стоит
60
повествование о страстях, где евангелист становится и повествователем, хотя, конечно, и с сохранением собственного стиля. Это относится к главам 18, 19. Здесь нужно особое сравнительное исследование и сопоставление с синоптиками, которое обычно и делается. Однако оно не входит в нашу задачу.
Относительно стиля Иоанновского Евангелия* следует отметить, как бросающуюся в глаза особенность, многочисленные повторения важнейших мыслей, в разных текстах, нередко одними и теми же словами. Это может производить впечатление даже известного многословия, может быть, свойственного старчеству. Однако этим повторениям присущи свои внутренние и внешние ритмы, а кроме того, ими достигается особая сила выразительности в отношении к важнейшим мыслям, особенно дорогим священному писателю.
2. Учение о Св. Троице.
Это учение вообще слабо выражено у синоптиков. Конечно, оно свойственно и им, как общее основание для учения о Христе как Сыне Божием, посланном от Отца и помазанном Духом Св. Вне этого просто непонятна и не существует основная евангельская проповедь. Во всяком случае учение об Отце, включающее и богословство, есть самая основная истина и в синоптических евангелиях. Не отсутствует здесь и учение о Св. Духе, в применении к таким событиям, как крещение, ниспослание Духа Св., наконец даже прямые тринитарные формулы в Мф. 28. 19. Можно сказать, что у синоптиков имеется целый ряд повествований или речений, которые не могут быть иначе поняты, как в контексте тринитарного догмата. И, однако все же приходится сказать, что здесь отсутствует самое его раскрытие, как в отношении к отдельным Ипостасям, так и в их взаимоотношении. И прежде всего, это относится к взаимоотношению Отца и Сына, в котором Отец определяется чрез Сына, Сын же чрез Отца, как ипостасный Его образ и самооткровение.** Основной характер взаимоотношения Отца и Сына у синоптиков есть тот, что Отец, трансцендентная высшая Ипостась, повелевает Сыну. Его посылает. Ему принадлежит вся полнота власти, даже если она дается Сыну, для которого Он есть не только Отец, но и Бог. Отсюда определяется и Его отношение к миру, и к самому Сыну, а также и Духу Св.
О промыслительной воле Отца читаем Мф. 10. 29: «не две ли малые птицы продаются за ассарий. И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца небесного». В 18. 10: «смотрите, не презирайте ни одного из малых сих: ибо говорю вам, что ангелы их на небесах
* Ср. обширное введение к Комментарию Бернард I.
* Общее богословское учение об Отце см. в Утешителе, эпилог: Отец.
61
всегда видят лице Отца моего небесного». «Так нет воли Отца вашего небесного чтобы погиб один из малых сих» (14). Отец уготовляет места в Царствии Божием: «дать сесть у Меня по правую сторону и по левую, не от Меня (зависит), но кому уготовано Отцом Моим» (20. 23), и даже на Страшном суде говорит Христос Судия: «приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира» (25. 34). К Отцу обращается и Сын также и с молением: «Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия, впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (26. 39). «Отче Мой, если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя» (43). «Авва Отче! все возможно Тебе, пронеси чашу сию мимо Меня, но не чего Я хочу, а чего Ты» (Мр. 14. 36). «Отче! о, если бы Ты благословил пронести чашу сию мимо Меня, впрочем не Моя воля, но Твоя да будет» (Лк. 22. 42). «Или ты думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он представит Мне более нежели двенадцать легионов ангелов» (53). Отец есть «пославший» Сына (Мр. 9. 37), и храм Божий есть место, «принадлежащее Отцу» (Лк. 2. 49). К Нему же обращен с креста предсмертный молитвенный вопль Сына: «Или! Или! лама савахфани? то есть: Боже Мой, Боже Мой! почему Ты Меня оставил? (Мф. 27. 46, Мр. 15. 34) и как мольба о прощении гонителей Своих: «Отче, прости им, ибо не знают что делают» (Лк. 23. 34). Наконец, к Отцу обращено и последнее слово Христа: «Отче, в руки Твои предаю дух Мой» (23. 46).
Из сопоставления этих текстов определяется иерархическое соотношение Отца и Сына в том смысле, что Отец повелевает, посылая Сына, который послушно внемлет этому велению. И к Нему обращается Христос молитвенно как к Отцу и Богу. Таков основной характер их взаимоотношения. Об Отце же говорится: «Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него» (Лк. 11. 13), «Отец ваш благоволил дать вам Царство» (12. 32). Конечно, наряду с этой трансцендентностью Отца в других текстах свидетельствуется, что Сын открывает Отца миру, Его Собою являет: «всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим Небесным, а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным» (Мф. 10. 33), и в особенности сюда относится торжественное слово Христово: «славлю Тебя, Господи неба и земли... все предано Мне Отцом моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф.
11. 25; 27), а также и свидетельство Отца миру о Сыне: «и глас был с небес: Ты сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение» (Мр. 1. 11). Здесь можно сказать уже предвосхищается основная тема Иоанновского богословия об откровении Отца в Сыне, хотя лишь в предварительных очертаниях, скорее именно только как тема. Отец у синоптиков есть не только и не столько Отец именно для Сына, сколько Отец ваш небесный, к которому молимся: «Отче
62
наш!» В Четвертом же Евангелии, в связи с общим тринитарным его богословием, взаимоотношение Отца и Сына раскрывается всецело на основании взаимной прозрачности и тожественности отцовского и сыновнего бытия и самооткровения, однако, при различии их ипостасных центров, а это диадическое самооткровение восполняется еще и триадически чрез Духа Утешителя, который не свое возвещает, но «от Моего возьмет», а «все что имеет Отец, есть Мое» (Ио. 16. 15).
Будучи откровением Отца, Сын есть и истина о Нем, притом не только ее откровение, но и сама ипостасная Истина. Мы имеем у Иоанна ряд текстов двоякого значения. Одни из них относятся к откровению об истине, сюда относятся следующие: «Слово... обитало с нами, полное благодати и истины (Пролог, 1. 14), «Благодать же и истина произошли через Иисуса Христа» (там же, 17). Сказано уверовавшим Ему Иудеям: «познаете истину, и истина сделает вас свободными» (8. 32), «теперь ищете убить Меня, Человека, сказавшего вам истину» (40), «Я истину говорю и вы не верите Мне» (45, 46). Наконец, сюда же относится и сказанное в Первосвященнической молитве: «освяти их истиною Твоею, слово Твое есть истина» (17. 17-19). Господь также говорит о Себе самом во время праздника кущей: «кто ищет славы Пославшему Его, тот истинен, и нет неправды в Нем» (7. 18), то же говорит фарисеям: «свидетельство Мое истинно, по тому, что Я знаю, откуда пришел и куда иду» (8. 14). Сюда же относится и самосвидетельство Христа о Себе пред Пилатом, сохраненное лишь в Четвертом Евангелии, где служение истине раскрывается как Царство, хотя и «не отсюда» (18. 36). «Пилат сказал Ему: Итак, Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то и родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине: всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что есть истина?» (37, 38), С другой стороны, в других текстах Христос сам себя именует истиной (как и Духа Св. Духом истины) (16. 13). Основным здесь является слово Его в прощальной беседе (14. 6): «Я есмь путь, и истина, и жизнь».
Этот имманентизм Отца и Сына и обоюдноипостасное «Мы» (Ио. 14. 28), в котором раздельно личные «Я» и Отец суть одно (10. 30), так что «Отец во Мне и Я в Нем» (38), раскрывается в словах самого Господа, в богословских Его речах с разных сторон и по разным поводам, при этом с повторениями, вообще свойственными Четвертому Евангелию, вместе с его характерными многословными ритмами. Мы не ставим себе задачей следить за его изложением подряд, стих за стихом, для нашей цели достаточно и сопоставлений одинакового значения текстов. «Отец любит Сына, и все дал в руку Его» (3. 35), «Тот, которого послал Бог, говорит Слова Божии» (34), «Приходящий с небес есть выше всех, и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует» (32). Так говорит — не то свидетель Господень Предтеча, не то — и более вероятно — сам Евангелист, удостове-
63
ряя всю подлинность и полноту откровения Сына об Отце. В речи 5 главы (после исцеления расслабленного) так учит Христос о Своей жизни и о Своих делах: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (17). Иудеи же искали убить Его за то, что Он «не только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бота, делая Себя равным Богу» (18). «На то Иисус сказал», — в сущности не отвергая, но скорее подтверждая это, — «Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего, ибо, что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и покажет Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих» (19—20). «Я ничего не могу творить Сам от Себя» (30). В речи 8 главы Иисус снова подтверждает Свое полное единение с Отцом в делах: «Я ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший Меня есть со Мною, Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно». (28, 29). «Я от Бога исшел и пришел, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» (29). «Я от Бога исшел и пришел, ибо Я не сам от Себя пришел, но Он послал Меня» (42). В речи о пастыре и овцах (10 гл.) говорит Иисус опять о делах Своих, как откровении Отца в Нем: «дела, которые Я творю во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне» (25). «Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне. А если творю, то когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нем» (10. 37, 38). В речи гл. 12 говорит Иисус: «верующий в Меня не в Меня верует, но в Пославшего Меня, и видящий Меня видит Пославшего Меня’ (44, 45). Это самоотожествление Себя с Отцом в мыслях, воле и делах раскрывается с последовательностью в прощальной беседе Христа. «Никто не приходит к Отцу, как через Меня. Если бы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его» (14. 7). «Я в Отце и Отец во Мне. Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя: Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне (14. 10, 11). «Я в Отце Моем» (20), «не любящий Меня не соблюдает слов Моих: слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца» (24). «Я сказал вам все, что слышал от Отца Моего» (Ио. 15. 15). Наконец самое торжественное провозглашение откровения Отца в Сыне и их в этом смысле взаимоотожествления имеем в первосвященнической молитве, торжественно заключающей прощальную беседу (гл. 17). «Я открыл Имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира (6)... все что Ты дал Мне, от Тебя есть» (7)... и все Мое Твое, и Твое Мое» (10). «Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе... Я в них и Ты во Мне» (21, 23). «Отче Праведный! и мир Тебя не познал, и Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал Меня» (25).
Все это богословие равнобожественности троичных ипостасей, в частности Отца и Сына и Их отожествление по Божеству, которое есть божественное единосущие, должно быть, однако, воспринято в
64
свете тройческого иерархизма ипостасей, именно первенства Первой ипостаси в Св. Троице. Об этом сказано только несколько слов в богословии Четвертого Евангелия, однако важности и вескости совершенно единственной. Это суть слова: «если бы вы любили Меня, то возрадовались бы что Я сказал: «Иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня», о Pater meizon mou estin (14. 28). Это meizon подвергалось разным богословским кривотолкам в духе субординационизма, конечно, в явном противоречии именно тому провозглашению божественного единосущия и отожествления между Отцом и Сыном, которое характерно для всего богословия Четвертого Евангелия. Болий не означает большую божественность Отца в отличие от меньшей Сына, ибо со всей настойчивостью говорится в нем об единстве и взаимовходности, взаимопрозрачности Отца и Сына. Болий относится к Отчей ипостаси именно как открывающейся в Сыне — и Духе Св., ипостасях, ее открывающих. Это есть «большинство» или первенство ипостасно-иерархическое, но не природно-божественное.
Все это богословие, именно богословие речи Четвертого Евангелия, и в особенности его средоточие, прощальная беседа, вовсе отсутствуют у синоптиков. Это, конечно, не значит, чтобы то было разногласием между ними и Иоанном, ибо различие не всегда есть разногласие. Напротив, уже то, что содержится у синоптиков в качестве учения о Лице Господа, получает свое завершение, договаривается до конца в Четвертом Евангелии в контексте тринитарного богословия.
В тринитарном учении Четвертого Евангелия следует особо выделить учение об Утешителе — свойственное, кроме Евангелия, также и Посланиям Иоанновым. Является вполне естественным, что нарочито духовное, пневматическое Евангелие содержит в себе особое учение о Духе Св. Здесь невольно приходит на мысль, что это откровение о Духе Утешителе воспринято Евангелистом не только от Христа, но и от Духоносицы, которая Сама есть Утешение и Слава рода человеческого и потому Ее ублажают все роды. В именовании Утешителя самом по себе содержится этот личный оттенок особой теплоты, свойственной Иоанну, как сыну Ея по усыновлению и как апостолу любви. Также естественно, что учение об Утешителе включено в прощальную беседу, которая ведь вся есть духовное утешение. Нельзя забывать еще и того, что Иоанново учение об Утешителе есть богословие Пятидесятницы, ее предполагает, как и вообще весь Новый Завет является для него контекстом. В полноте его воспринимается все учение о Духе*. Утешитель изображается как «другой Утешитель», посылаемый от Отца (14. 16, 17), «во Имя Мое, который
* Отсылаем читателя к соотв. главам и страницам Утешителя, в котором сделано исчерпывающее сопоставление текстов: стр. 194-204.
65
научит всему и напомнит вам все», сказанное Христом (14. 26). «Дух истины, от Отца исходящий» (15. 26) посылается Отцом вслед Сыну (16. 7, 13). Он же есть Дух, ’сходящий с неба как голубь (1. 32) и пребывающий на Нем». «Тот есть крестящий Духом Св.» (33). Наряду с явным откровением о Духе Св. имеется скрытое, точнее, слитное о Нем откровение в составе учения о Св. Троице и божественном «Мы». Прежде всего, в 3. 11 Мы относится непосредственно к двуединству ипостасей открывающих. Господь говорит Никодиму: «Мы говорим о том, что знаем и что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете», — выше же говорится о рождении от Духа: (3. 6, 8). Другое же Мы: «Кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое, и Отец Мой возлюбит Его и Мы придем к нему и обитель у Него сотворим» (14. 23), хотя по непосредственному контексту относится к Отцу и Сыну, но необходимо включает и Духа, который и есть самое пребывание в «обители, ея сотворение». Это же сокровенное разумение Духа Св. подразумевается и в других местах прощальной беседы (как и ранее в Прологе), где говорится о связи Первой и Второй ипостаси. Дух Св. есть и образ прославления: «Он прославит Меня» (16. 14). Он именно и есть здесь это И, или же С, или же Во: «Отец со Мною» (16. 32), «Я и Отец одно», «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе» (17. 21).
Учение об ипостасном Утешителе вводится в Четвертом Евангелии, так сказать, в тринитарный контекст. Сначала учение о Св. Троице излагается здесь преимущественно диадически, как откровение Отца в Сыне и чрез Сына, а затем оно восполняется чрез откровение Первой и Второй ипостасей в Третьей, в Утешителе. Именно о Духе Св. говорит Христос в прощальной беседе: «когда же приидет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и грядущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое, потому Я сказал, что от Моего возьмет и-'возвестит вам» (16. 13, 15). Здесь трехчленное раскрытие Божества: Отец в Сыне, а Сын в Духе: Отцовское есть Мое для Сына, а Сыновное «Мое» дается Духу Св., в триединстве Божественного самооткровения.
Особо говорится о Духе Св. в отношении к крещению Иисуса (1. 32, 33) крещаемого, который есть и крестящий Духом Св. О крещении от воды и «Духа», как и о «рождении от Духа» (3.5,6) говорит Господь и в беседе с Никодимом.
Христология
Четвертый Евангелист уже имеет пред собой все повествование синоптиков о Христе, начиная от Благовещения и Рождества Его и кончая крестной смертью и воскресением. Иоанн поэтому не повторя-
66
ет; а дополняет их. В частности, у него вовсе отсутствует Благовещение и Рождество Христово вместе с Его родословной. Все это заменяется «прологом в небе» и лишь догматическим изъяснением боговоплощения в предположении само собою разумеющегося синоптического повествования о земных, исторических событиях. Но у него зато наличествует богословие искупления. В кратких словах оно содержится уже в первом именовании Христа Агнцем Божиим, влагаемом в уста Предтечи, (1. 29 35), пространнее же во всем учении Христа о Себе, как оно излагается в речах и беседах, имеющихся в Четвертом Евангелии. Здесь прежде всего следует отметить две примечательные встречи, сопровождаемые беседой со Христом, которые имеются лишь у Иоанна и совершенно отсутствуют у синоптиков. Это именно беседа с Никодимом и с самарянкой, главы 3, 4, обе первостепенной важности именно по догматическому своему содержанию. В беседе с Никодимом Господь, говоря с ним о «небесном» (3. 12), раскрывает божественную тайну Своего схождения с неба и восхождения в него: «никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах» (13). Он в той же главе именуется и Предтечею «приходящим с небес», который есть «выше всех» (31). Эта же мысль выражена и в ином контексте в беседе евхаристической: «что ж, если вы увидите Сына Человеческого, восходящего — туда — где Он был прежде?» (6. 62). И, наконец, эта же мысль обобщается Евангелистом в собственном свидетельстве его об Иисусе: «Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его и что от Бога исшел и к Богу отходит» (13. 3). Разумеется, к Богу здесь означает: к Отцу. Это самосвидетельство повторяется Христом и от первого лица, когда Сам Господь говорит в прощальной беседе: «Я к Отцу Моему иду» (14. 12).
Догматическая истина, возвещаемая в Никейском символе веры: «сшедшего с небес», таким образом получает в этом самосвидетельстве Христове аутентическое основание. Она же, как мы уже знаем, содержится в Прологе, как высказанная от третьего лица самим Евангелистом. Но здесь она является самосвидетельством Христовым. При этом характерно еще и это свидетельство о сшествии с небес именно «Сына Человеческого». «Сын Человеческий» есть наиболее употребительное обозначение Мессии как у синоптиков, так и у Иоанна, причем оно получает разные оттенки смысла: эсхатологический, мессианский и сотериологический и др.*. Вообще оно является многообъемлющим по своему значению в евангельском применении ко Христу в общем контексте учения о боговоплощении, во всей его силе и последствиях. Однако в данном случае это соединение обеих мыслей о сошествии с небес именно Сына Человеческого полу-
* Ср. сопоставление у Бернард, Введение гл. V(CXXII-CXXIII).
67
чает особое антропологическое значение. Оно связано, очевидно, с учением о человеке, как образе Божием, как и наоборот, о Сыне Божием, как Предвечном человеке, а в таком смысле и Сыне Человеческом. Эта мысль относится вообще к Богочеловечеству — сверхтварному, но вместе и тварному. Попутно заметим, что этим лишний раз опровергается мысль римского и романизирующего богословия о том, что боговоплощение случилось по случаю «beata Adamae culpa», грехопадения Адамова, но не было начертано уже в небесах в связи с предвечным Человечеством Сына Божия. Христос является Сыном Человеческим не только по силе Своего воплощения, но Он и сходит с небес к человекам уже как Небесный Человек. «Сын Человеческий». Поэтому и воплощение Его или вочеловечение, строго говоря, не является новым для Него событием, некиим земным лишь свершением, как бы акциденцией, но «предустановлено», точнее, в вечности уже установлено и содержится в самом основании миротворения. «Вочеловечение» таким образом является двойным принятием человечества: божественного и тварного. Говоря языком Халкидонского догмата, оно есть соединение двух природ во Христе: божеской, которая есть предвечно человеческая, и тварно-человеческой, обожаемой чрез это соединение или «воплощение». Такова истина, возвещаемая данным применением выражения «Сын Человеческий», во всей парадоксии учения о соединении «сшествия с небес» с рождением человеческим. Это есть одна из Иоанновских догматических криптограмм богословия богочеловечества. Она же по-своему содержится и в свидетельстве Иоанна о том, что он «видел Духа, сходящего с неба как голубя и пребывающего на Нем» (1. 32, 33). Здесь мы имеем преднамеренную параллель синоптическому повествованию о крещении с общесиноптическим свидетельством сошествия на Христа Духа Св. «как голубя», однако оно же восполняется и осложняется истиной христологической: «и пребывающего на Нем». Это может быть понято в двояком смысле: как предвечное пребывание в небесах Духа Св. на Сыне, так и земное Его Богочеловечество, соединенное с сошествием Духа Св., Христовой Пятидесятницей: «Тот есть крестящий Духом Св., и я видел и засвидетельствовал, что Сей есть Сын Божий». (1. 33, 34). Этот текст должен быть понят, конечно, и в общем контексте учения об Утешителе.
Сошествие с небес Христа в Четвертом Евангелии получает нарочитое, христологическое обоснование. Христос именуется Предтечею, ''Агнцем Божиим, который берет на Себя грехи мира» (1. 29, 36), конечно, в созвучии с мессианским пророчеством Второ-Исаии (гл. 53). И эта мысль о жертвенном значении боговоплощения содержится и в основном христологическом тексте — догматическое значение которого не изменяется в зависимости от того, будем ли мы видеть в нем изречение самого Христа, или же голос Евангелиста: «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы
68
всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную, ибо не послал Бог Сына Своего судить мир, но, чтобы мир спасен был чрез Него» (3. 15—17). «Я пришел не судить, но спасти мир» (12. 47). Большего нельзя и сказать о Боге и мире, нежели поведано в этих кратких словах, определяющих отношение Творца к творению, к «космосу» как жертвоприносящую любовь: Отец «отдает» «единородного Сына» ради любви, которою Он возлюбил мир, причем, конечно, эта же любовь, осуществляющаяся в самоотдании Сына, таит в себе действие ипостаси Любви, Духа Св., и тем является самооткровением всей Св. Троицы. Мысль о жертвенной любви Божией к миру содержит в себе, как свое обратное последствие, и то, что не суд, и, следовательно, осуждение миру, приносится пришествием Сына в мир, но его спасение: «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (3. 15), мысль, повторенная и еще дважды (16, 17). Вера является путем усвоения спасения, причем вера во Христа определяется как вера «во Имя единородного Сына Божия». Истина имяславия выражается в этом отожествлении Имени и самого Именуемого, Сына Божия, в жизни веры. Дарование «жизни вечной» есть особое Иоанновское выражение для обозначения спасения от погибели и вечного блаженства, употребительное на языке имманентной ему эсхатологии, с этим нам еще предстоит встретиться. Связь между верой в Сына — или во Имя Его — и жизнью вечной встречается еще, кроме 3. 36, в главах 6. 47 и 17. 20, 31, самое выражение αιώνιος» встречается 17 раз в евангелии Иоанна и шесть раз в I Иоанна.
Итак, отношение между Богом и миром в Четвертом Евангелии определяется не только космологически, как Творца к творению, или вечного, изначального бытия к тварному, но и сотериологически, на путях спасения мира чрез его обожение. Но эта предназначенность мира к спасению предполагается его существующим состоянием, в выходе из которого он нуждается. Именно, самоутверждение мира, в котором последний находится, есть вражда против Бога и Христа Его.
Такое богоборческое и христоборческое состояние мира находит для себя самое резкое определение у Иоанна. «Вас мир не может ненавидеть, а Меня он ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы» (7. 7). «Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (15. 18, 19). «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому, что они не от мира, как и Я не от мира (17. 14, 16). Но при этом, и несмотря именно на это, сказано: «Я пришел не судить мир, но спасти мир» (12. 47). И все же эта антиномия отношения к миру разрешается так: «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (12.31,32). «Не молю, чтобы Ты взял их от
69
мира, но, чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира... Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир» (17. 15, 16, 18). Такова Первосвященническая молитва Христова. Это же противопоставление Себя миру находим и в повествованиях о страстях Христовых. У всех Евангелистов согласно сообщается, что врагами Иисуса возводилось на Него обвинение, как возбудителя народа против власти «мы нашли, что Он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем» (Лк. 23. 2). Оно было, конечно, сознательной клеветой, с которой, однако не мот не посчитаться правитель. Отношение Пилата к Иисусу колеблется поэтому между искренним недоверием к обвинителям и страхом за себя, чтобы не подвергнуться обвинению в бездействии власти относительно опасного заговорщика. «Иудеи же кричали (Пилату): «Если ты отпустишь Его, ты не друг Кесарю: всякий, делающий себя царем, противник кесарю» (19. 12). Формальный допрос Пилата вкратце так излагается у синоптиков: «Спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: «Ты говоришь» (Мф. 27, 11). По Мф. Иисус ограничивается лишь этим кратким ответом, хотя и утвердительным, но, конечно, в своем особом смысле. Так же и у Мр. 15. 2 и Лк. 23. 3. Но Иоанн пользуется этим торжественным случаем, чтобы выразить всю глубину противоположности между миром с его царством и царством Христовым: «Царство Мое не от мира сего: если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы (за меня), чтобы Я не был предан Иудеям, но ныне Царство Мое не отсюда. Пилат сказал Ему: итак, Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь» (18. 36, 37).
Для Четвертого Евангелия характерно, что при изложении отношения между Христом и миром, там, где противоположение достигает наибольшей остроты, Гефсиманское борение вовсе отсутствует, как и моление о чаше с его заключительным «да будет воля Твоя» (Мф. 26. 42). То, что получает столь полное богословское выражение как раз у Иоанна, именно Сыновнее послушание воле Отца, здесь в данном проявлении его отсутствует. Иоанн и здесь как бы не хочет повторять уже сказанное синоптиками. Поэтому в его изложении после Тайной Вечери «Господь вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его» (18. 1). Это и есть описанное у синоптиков «место, называемое Гефсимания» (Мф. 26. 36, Мр. 14. 32). Проходя молчанием Гефсиманскую ночь с ее борением, Евангелист прямо переходит к рассказу о появлении Иуды и взятии Христа. Последний, конечно, отличается от синоптического отдельными чертами (эти сопоставления не входят в задание нашего изложения). Но поражает при этом сопоставлении синоптиков и Иоанна то, что отсутствующий у Иоанна рассказ о Гефсиманском борении заменяется отсутствующими у синоптиков повествованиями о Тайной Вечере с омовением ног и разговором
70
(об Иуде й с ним самим), самое же главное, прощальной беседой Христа с учениками, этим средоточием всего Евангелия. Может быть ни в чем не выражается с такой силой и резкостью взаимоотношение синоптиков и Иоанна, именно насколько Четвертое Евангелие во всем своем плане представляет собою частью восполнение предполагаемого уже известным, а вместе и богословское изъяснение всего содержания Евангелий. В частности, применительно к данному вопросу о Боге и мире, о Христе, посланном для спасения мира, Ему, однако, враждебного и Его не принимающего, мы имеем здесь откровение о прославлении Христа и вообще о Славе Божией. Слава есть одна из важнейших богословских, точнее, софиологических тем всего Четвертого Евангелия, его христологии.
Слава и прославление Божества в В. 3. (Исх. 16. 7, 10; 24. 16, 17; 33. 18--22; 40. 34; Ис. 6. 3; 48. 11; Иез. 2; 3; 8; 9; 10; 11) есть конкретное Его откровение, богоявление*. С таким богоявлением в Новом Завете отчасти может быть сопоставлено прежде всего осияние славою пастырей в рождественскую ночь (Лк. 2. 9). Однако оно не имеет такой силы непосредственного богоприсутсгвия, как в В. 3., но есть скорее благодатное озарение. Второе же и совершенно особое явление славы имеется в Преображении Господнем, когда Христа «осенило светлое облако» (Мф. 17. 5, Мр. 9. 7, Лк. 9. 34, 35). Преображение было предварением прославления и явления славы Христа, «грядущего со славой» (Мф. 24. 30, Мр. 13. 26; Лк. 21. 27, — в славе Мр. 8. 38, Лк. 9. 26), О Преображении вообще прямо ничего не говорится в Четвертом Евангелии (если только не отнести к нему сказанного в Прологе: «Мы видели славу Его, славу как единородного от Отца» (1. 14). Но ему свойственно, как ив других аналогичных случаях, так сказать, богословие или, точнее, софиология славы. Слава и принятие славы, прославление ставится в центре дела Христова, как цель и свершение. Это свершение на земном Его пути достигается лишь изнутри, когда наступает /для него соответственная зрелость и полнота в служении Христовом. В этом смысле и надо понимать торжественное вступление прощальной беседы: «ныне прославился Сын Человеческий» (13. 31). К чему относится это ныне? Было время, по свидетельству самого Евангелиста, когда «Иисус еще не был прославлен» (7. 39), хотя совершившееся прославление и не отмечается никаким внешним сроком. Подобно и преображение у синоптиков совершается, как начавшееся предпрославление, на пути к страстям. Но здесь оно было все же явлено, хотя и лишь избранным трем ученикам. У четвертого же Евангелиста вовсе нет этого внешнего явления, что, однако не помешало наступле-
* См. экскурс о Премудрости в Купине Неопалимой.
71
нию внутреннего свершения. Мало того, принятие славы, от Отца прославление, является здесь главным предметом первосвященнической молитвы: «Отче! пришел час». (Таково обычное, неоднократно повторяющееся в разных случаях обозначение наступающего духовного свершения). «Прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя» (17. 1). У синоптиков при упоминании о явлении Христа в славе подразумевается, как самоочевидное, лишь совершившееся за гранью земного служения Христа Его прославление в небесах. Здесь же оно изображается как еще совершающееся. Но что же означает это прославление, которое является притом действием Отца, к Его воле относится?
Для того, чтобы понять прославление, надо исходить из понимания славы. Последнее же может быть двояко: во-первых, человеческое движение ума и сердца, молитвенное возношение к величию Божию, которое, даже будучи облагодатствованным, по существу остается субъективно-психологическим отношением твари к своему Творцу, и, во-вторых, онтологическое, божественное самооткровение, для которого Слава Божия есть само Божество, синоним Премудрости, Софии Божественной. Конечно, в данном случае первое понимание в отношении к Господу Иисусу Христу само собою отпадает. Со стороны человеческого естества может быть лишь славословие, но не прославление в смысле онтологическом. Тварь не может ничего дать и ничего прибавить к славе Божией, чтобы тем прославить своего Творца. Поэтому и прославление Христа может исходить лишь от Божественного Начала в Св. Троице, от Отца. И на этот вопрос в Четвертом Евангелии дается прямой и точный богословский ответ устами самого Господа: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде создания мира» (17. 5). Немного найдется даже в богословском Евангелии Богослова богословских изречений такой глубины и важности, такой содержательности в соединении с краткостью, как это. Оно содержит в себе всю софиологию, раскрываемую именно в софиологическом аспекте. И прежде всего, что может означать здесь это «прежде», соотносительное, конечно, с подразумевающимся «после»? Очевидно, оно определяет не хронологическую последовательность во времени, но онтологическое соотношение между вечностью Славы Отчей и временностью мирового, тварного бытия, или, в терминах софиологии, Софию Божественную и тварную. Только немощь человеческого слова заставляет прибегать для выражения этого соотношения к сопоставлению соотношений сверхвременных с заимствованными из времени. У нас же есть для этого достаточные аналогии в Ветхом Завете и в Новом. Прежде всего сюда относится самое начало Слова Божия о «Начале», в котором (или из которого) Бог сотворил небо и землю, и та же мысль, иначе выраженная, имеется в Пр. Сол. 8. 22, с неканоническими их параллелями о Премудрости, которую имел
72
Господь, как «начало пути своего, прежде созданий Своих, искони» (антропоморфически-хронологический способ выражения этой же мысли о соотношении между вечностью и временем см. также и в ст. 30: «тогда я была при нем художницей, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом Его во все время"). В Новом же Завете это же самое Начало находим в начале Четвертого Евангелия, в Прологе, 1.1. Начало же это, которое онтологически «предшествует» всему, что чрез него начало быть, и есть то, что открывается в мире в славе, как «слава Единородного от Отца» (1. 14).
Эта предвечная слава является самооткровением Отца в Сыне. С двойным ударением свидетельствуется, что Сын не Сам Себя прославляет, но Отцом прославляется: «прославь Меня, Ты, Отче, у Тебя самого (παρὰ σεαυτᾦ) славою, которую Я имел у Тебя (παρὰ σοι)» (почти тожественное повторение). Эта мысль о том, что изначально Отец имеет славу, которую и сообщает Сыну, не только во времени, но и в вечности, имеет таким образом, как тринитарное, так и софиологическое применение. В первом смысле она означает единосущие всех ипостасей Св. Троицы, которое и выражается в единстве их природы, или сущности, или премудрости, или славы (все это суть онтологические синонимы). Но оно не исключает и внутритроичных соотношений с различиями ипостасных характеров: первая ипостась все-таки остается первою, или началом, открывающимся чрез ипостаси его открывающие, хотя само это откровение для всех трех ипостасей остается единым и тожественным. Каждая ипостась при этом имеет его по-своему, в частности Сын принимает его от Отца. При этом здесь, как и во всей Иоанновской пневматологии, молчаливо подразумевается также действие и третьей ипостаси, как прославляющей Сына, на котором Она почиет, от Отца, Ею Его прославляющего. Божество, природа Божия, от Отца в Слове открывается как Премудрость, чрез Духа же становится Славою. Поэтому слова Сына о «славе, которую Я имел у Тебя» в вечности и прежде создания мира, есть криптограмма самооткровения, а постольку и самопрославления Св. Троицы, которое изначально исходит от Отца.
Софиологическое значение славы (одинаково, как и начала, что, впрочем, выражено здесь не прямо, как в В. 3. и в Прологе, но лишь контекстом понятий славы и мира: «славой... прежде бытия мира") тожественно с Премудростью и вообще с Божеством. Слава, конечно, есть не какой-либо особый принцип в Св. Троице, отличный от начала или премудрости или вообще Божества, она все та же единая самотожественная сущность. Однако, будучи определяема в соотношении с миром, здесь она сама различается как сущая в Боге от вечности, или же в творении, в мире, во временном становлении, иначе говоря, как Премудрость Божественная и тварная. Между ними, с одной стороны, существует отношение самотожества, единства божественной премудрости в Боге Самом и Его творении, но с другой имеет всю
73
силу различие между непреложной полнотой вечности и становлением, как имеющим исход и цель, начало и конец, и, главное, путь его осуществления. Это выражается в идее прославления (о чем ниже). Но неслучайно, что Божество, как самооткровение в Слове, определяется как Премудрость, в свершении же своем в творении получает определение Славы. Каждой ипостаси Св. Троицы свойствен особый софиологический лик или характер: Первая, Начало, объемлющее полноту: Царство, и силу, и славу, есть, прежде всего, божественное естество или природа, в себе замкнутая и самодовлеющая, молчание тайны, трансцендентность Отца даже в Св. Троице. Но оно же в Сыне, в Славе, есть Премудрость, полнота. Божественное все, отраженное в тварном всем (I, 3). В Духе же Св. оно есть Слава Отца в Сыне, являемая Духом Св. в Боге и в творении. Такое отношение между божественной славой в Боге самом и в творении именно и определяется как прославление, или, что то же, ософиение твари. Для него одинаково необходимо предвечное основание, как исход, и тварное осуществление, как путь и жизнь.
Но это прославление, или, что то же, ософиение, совершается во Христе, который, как Божия сила и Божия премудрость (1 Кор. 1. 24) есть ее ипостасное явление в мире чрез вочеловечение. В этом именно открывается христологический аспект учения о славе и прославлении. Прежде всего, он определяется догматом: «и Слово плоть бысть», который в Халкидонском истолковании означает двойство природ, божеской и человеческой, при единстве ипостаси, и, следовательно, и жизни Богочеловека... Такое единственное в своем роде двуединство богочеловеческой жизни во Христе предполагает общение свойств (communis idiomatum), т. е. совершающееся обожение человеческого естества чрез кенозис, в вольном самоумалении божеского. Не человеческое мерится мерою божескою, но Божеское умаляется до меры человеческой: «Себе умалил, зрак раба приим, в подобии человечестем быв и по образу став яко человек» (Фил. 2. 7). Но это самоумаление и есть путь к обожению или прославлению. Догмат прославления чрез кенозис, имеющий раскрытие в Фил. 2, проницает и все евангельские повествования. Однако со всей нарочитостью богословской он дан именно в Четвертом Евангелии с его учением о славе и прославлении Сына Человеческого. Оно имеет свою богословскую диалектику, именно одновременно соединяется имеющее совершиться, совершающееся и уже совершившееся прославление, как осияние славою вечности жизни земной и временной. Прославление это для Христа является и сознательной целью, волею к нему, и даже более, молитвою о том же. Христос молит Отца о Своем прославлении. Нужно ли говорить, что это последнее не имеет ничего общего с суетным человеческим прославлением, пустым и бессильным, но есть возвращение вечной славы, Ему присущей, к ней приобщение. Вся эта диалектика прославления естественно в
74
наибольшем напряжении появляется в конце земного пути Христа, когда сгущаются события и созревают свершения. Здесь надо вспомнить 12. 27, 28, беседу Христову после обращения эллинов*. Господь свидетельствует по этому поводу «о пришествии часа». Ранее говорится не раз на протяжении Евангелия, что «не пришел еще час» (в Кане Гал. 2. 4; 7, 30 — в храме; 8. 20 — у сокровищницы), но теперь он пришел, этот час: «Иисус сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому» (12. 23), и это приближение часа свидетельствуется молитвенным ознаменованием. При этом явно раскрывается именно то, что мы назвали диалектикой прославления, связанной двойством природ в Богочеловеке. Обе они находятся не только в согласии, но и в борении между собой (Гефсиманское борение, конечно, не исчерпывается одной лишь этой ночью, но простирается и на всю земную жизнь Спасителя). Именно непосредственно после свидетельства о пришествии часа для прославления исторгается из уст Христовых даже еще до-Гефсиманский молитвенный вопль: «душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче, избавь Меня от часа сего! Но на сей-то час Я и пришел. Отче! Прославь Имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром. А другие говорили: Ангел говорил ему. Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (12. 27—32). (Ср. 3. 13 и 6. 62). Здесь характерно соединяются свидетельства одновременно о «возмущении» души и о прославленное™; одно не исключает другого, напротив, с ним даже связано. Такова антиномическая динамика прославления.**
Эта же антиномика страстей и прославления еще полнее выявляется в прощальной беседе и первосвященнической молитве, кото-
* Мы имеем здесь характерный пример, как четвертый Евангелист молчаливо дополняет повествование синоптиков, включая его в свой собственный контекст. Именно как будто в сознательную параллель повествования о Гефсиманском борении, упоминание о котором совершенно отсутствует у Иоанна, приводятся у него эти слова Господа, Ср. Бернард, 1, с. 435, 436.
** Сюда же относится и явление славы в Преображении, которое связано с приближением часа и восхождением в Иерусалим для страдания, для ’искупления драгоценною кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас» (I Петра 1. 19—20). Об этом явлении славы говорится: «Мы возвестим вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа... бывши очевидцами Его величия. Ибо Он принял от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в котором Мое благоволение» (2 Петра 1. 16 17). Здесь характерно это различение и сопоставление «велелепной славы Отца» — Божественной Софии, и славы, принятой от Бога Отца, Софии тварной, обожение человеческого естества Господа, каковое и есть прославление.
75
рые обе посвящены этой теме прославления, ставя ее во всей ее широте.
Все настойчивее в это время повторяется то, что сказано уже изначала: «пойду к Пославшему Меня» (7. 33), «Я к Отцу Моему иду» (14. 12), «иду к Пославшему Меня» (16. 5), «ныне же к Тебе иду» (17. 11). И самое установление Тайной Вечери так изъясняет Евангелист: «Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира к Отцу»... (13. 1). Эта же мысль выражается иначе и в других текстах: «что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где Он был прежде» (6. 62). «Теперь иду к Пославшему Меня» (16. 5). «Я иду к Отцу Моему» (10). «Я исшел от Отца и пришел в мир, и опять оставляю мир и иду к Отцу» (16. 28). Все это относится, так сказать, к Иоанновскому Вознесению, есть грань, свидетельствующая о свершении дела Христова. Об этом же свидетельствуется уже и на кресте в предсмертном слове: «соверши глася».
Антиномическая динамика свершения в отношении к прославлению связана еще и с тем, что в ней разделяется внутреннее и внешнее, вечное и временное. Первое приходит ранее второго, но при этом сохраняются, чередуются и даже смешиваются оба свершения: временное и сверхвременное. Таково именно построение прощальной беседы в отношении к этому вопросу. Оно обнаруживается уже в первых же ее словах, представляющих собой как бы заголовок беседы: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его» (13. 31, 32). «Ныне прославился» — νῦν ἐδοξάσθη, прошедшее время (аорист) в соединении с «ныне» свидетельствует об уже совершившемся прославлении*. Оно имеет полную силу, потому что и «Бог прославился (тоже аористное ἐδοξασθη) в Нем». Послушание Сына в крестной страсти и смерти, принятое как внутреннее решение, а постольку и свершение, прославляет и Бога. Что может значить такое прославление? Конечно, оно имеет иное значение, нежели второе прославление, о котором говорится сейчас же далее: «Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его» (32). Прославление Бога творением, как исполнение воли Его, совершенное послушание, означает обожение, ософиение твари, достижение прозрачности и взаимопроницаемости Софии божественной в тварной, освящение (ср. Фил. 2. 7 11). Кенозис Сына является условием Его славы, но им же Он и Сам славословит Отца. В отношении к Богочеловеку при двойстве природ Его означает, что человеческое естество, достигшее полного обо-
* Бернард 1, с. 524, видит в аористной форме «а prophetic anticipation of future», но к чему же отнести в таком случае «ныне”? Не естественнее ли видеть здесь прямое свидетельство о совершившемся факте, закончившемся внутренно, хотя еще и не проявившемся внешне процессе.
76
жения, становится способным и достойным восхождения на небо в воскресении и вознесении, и этим, как тварное, оно прославляет и своего Творца. Человечество становится прозрачным для Божества, богочеловечным, а прославление здесь означает совершившееся, до конца осуществившееся богочеловечество. Поэтому два смысла прославления относятся к двум встречным онтологическим свершениям: первое исходит от Бога прославляющего к человеку прославляемому, второе же, ответное, идет от человечества, собою и в себе прославляющего Бога. Двойство это, христологически понятое, относится к Халкидонскому соединению двух природ, нераздельному и неслиянному, софиологически же оно означает соотношение божественной Софии и тварной, единой и тожественной в основании, но двойственной в бытии, причем это раздвоение преодолевается актуальным отожествлением, которое и есть прославление и обожение.
Итак, здесь свидетельствуется Евангелистом, что прославление уже произошло ранее самых последних, решающих событий, оно совершилось, очевидно, внутренно. А это означает, что оно и происходило, получило силу не только в них одних, как отдельных событиях, но во всем земном служении Христовом, в единстве Его богочеловеческой жизни. Когда и как именно это совершалось, на это в Четвертом Евангелии мы можем искать прямого ответа еще менее, нежели у синоптиков. Это есть недоступная ведению тайна жизни Богочеловека в ее свершении. Несомненно, что оно происходит в известной длительности, имеет развитие, совершается во времени, хотя и осуществляется в надвременном его интеграле. Однако это его завершение связано с наступлением времен и сроков, имеет для себя свое ныне, как бы мы его — расширенно или узко — ни понимали. Здесь есть известное несовпадение сроков внутреннего и внешнего свершения, хотя, конечно, первое для полноты своей и не отделимо от второго. Именно мы наблюдаем здесь парадоксальную антиномику времени настоящего, прошедшего и будущего в прославлении: «если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре прославит Его» (32). В предыдущем стихе исходным является уже совершившееся прославление Сына. Оно не могло быть самопрославлением, но является прославлением Его от Бога Отца, и оно-то свидетельствуется здесь как уже совершившееся. А в ст. 32 об этом же прославлении говорится только в будущем времени, даже с некоторым, хотя и приблизительным, обозначением срока: «скоро» — εὐθύς. Следовательно, оно изображается еще не совершившимся, но лишь имеющим совершиться. Очевидно, мысль здесь переходит от совершения внутреннего, уже имевшего место, к внешнему, еще не наступившему, но имеющему наступить «скоро», т. е. в ближайшие сутки. Время этого прославления связано с крестною страстью и смертью Христовой. Однако и это прославление в свою очередь остается еще внутренним, не совершившимся. Совершение его последует лишь в
77
воскресении и восхождении к Отцу. Таким образом, обожение шли ософиение Сына Человеческого имеет свои степени, и каждая из них, конечно, кроме самой последней и высшей, рассматривается одновременно и как уже совершившееся и как еще не совершившеееся, но лишь совершающееся прославление.* Важнейшее и торжественнейшее слово о прославлении Сына Отцом включено в первосвященническую молитву. Несмотря на свидетельство об уже свершившемуся прославлении, Христос здесь молится об его наступлении, как еще не совершившемся. Очевидно и здесь мы имеем продолжающуюся антиномику динамики прославления, его диалектику: «Отче! приплел час: прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя» (17. 1). Еще раз торжественно свидетельствуется наступление «часа», очевидно, внутреннее, и внешнее, для прославления (как и при обращении эллинов). Христос Сам молит Отца о прославлении Своем. Здесь оно, значит, рассматривается как еще не наступившее, но лишь имеющее наступить, и притом в обоих смыслах: как прославление Сына Отцом, и как ответное прославление Отца Сыном. Очевидно, здесь разумеется окончательное, не внутренно только предопределившеееся и приуготовленное, но и как совершившееся дело Отца над Сынсом. И основанием для этого, как и выше, является наступившая к тому готовность Сына: «Я прославил — (ἐδόξασα — снова аористная форма) Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнись» (17. 4), «и ныне прославь Меня Ты славою, которую Я имел у Тебя прежде создания мира» (5). Об онтологической природе этой славы мы уже сказали выше. В данном применении контекстом выражается софиологический характер прославления, как окончательное обожение, облечение божеством тварного человеческого естества Сына Человеческого, усвоения Им той меры, которая Ему предвечно свойственна как Сыну Божию. Эта же самая софиологическая мысль о предвечной славе Христа вторично выражена и в заключительной части молитвы: «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (17. 24). Здесь очевидно «разумеется та предвечная слава Божия, которая свойственна Сыну Божию во внутритроичной жизни, Его божество, «прежде основания мира» (ср. ст. 5). В каком же смысле здесь говорится об этой славе: «которую Ты дал Мне» (24), в отличие от той, которую «Я
* В прощальной беседе еще два раза говорится о прославлении Отца Сыном, однако, в особом смысле: 1) «да прославится Отец в Сыне» (14. 113) это относится к исполнению прошений у Отца во Имя Сына; 2) «Тем пpoславится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками» (15. 8) речь идет о богоугождении. О Духе Св. также говорится, что «Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам» (16. 14). Речь идет здесь о тожестве откровения, подаваемого через Сына Духом Святым.
78
имел у Тебя» (5)? Оба выражения в данном контексте, очевидно, не равнозначны. Если рядом с «имел» (5) сказано «дал» (24), то это и выражает два разные оттенка мысли о прославлении и славе Христовой. Одно Он приобретает силой своего служения, которое является основанием для прославления Его Отцом, в ответ на Его моление об этом прославлении. Но в то же время предвечная слава, свойственная Ему прежде сложения мира, Ему и принадлежит, Ему свойственна, как Сыну Божию, Второй Божеской ипостаси. В этом смысле Он ее имеет, и она даже и не может быть Ему дана. Поэтому если в ст. 34, уже после ст. 22, употреблено выражение дал, то в данном случае по контексту оно должно быть понято уже в отношении к вечности, совершенно в том же смысле, как и в предвечном рождении Сына от Отца говорится в глагольной форме, выражающей единократность свершения: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя» (Пс. 2,7). Предвечное рождение, которое совершается, имеет силу надвременно и всеременно, здесь соединено нераздельно с усвоением Божества в едином, тожественном акте рождения от Отца (подобно тому, как это же самое должно быть mutatis mutandis применено и к исхождению Св. Духа от Отца же).
Молитвы Сына к Отцу относятся уже не только к прославлению Его, но и учеников. Этому посвящена вся большая ее часть, начиная от 6 стиха. Бросается в глаза одна общая особенность этой молитвы, которую надо прежде всего отметить как поражающую, особенно при сопоставлении с синоптиками. Последнее общение с учениками пред разлучением их со Христом в их изображении было скорбным: Христос говорит им об этом, применяя к данному случаю пророчество Захарии (13. 7). «Вы все соблазнитесь о Мне в эту ночь, ибо написано: «поражу пастыря и рассеются овцы стада» (Мф. 26. 31; Мр. 14. 27). За этим следует заверение Петра о верности его даже до смерти и ответное предсказание Господа о троекратном его отречении от Христа (Мф. 26. 33—35, Мр. 14. 29—31, Лк. 22. 33, 34). «Подобное говорили и все ученики» (Мф. 26. 35; Мр. 14. 31). У св. Луки есть и еще одна черта в этом рассказе, отсутствующая у других. Это слова Господа, обращенные к Петру: «Симон! Симон! Се, сатана просил сеять вас как пшеницу. Но Я молился о тебе, чтобы не оскудела Вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих» (22. 32). Эта молитва также предполагает уже имеющее свершиться отпадение Петра, хотя за ним и должно еще последовать его обращение (рассказанное в эпилоге, в 22 гл. у Иоанна). В Евангелии Иоанна это обращение Христа к Петру с предсказанием об его отречении вовсе отсутствует, хотя и есть рассказ об этом отречении (18. 25—27). И далее вся ночь Гефсиманского борения изложена у синоптиков в самых печальных тонах. Христос, нарочито взяв с Собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, «начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им: душа Моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодр-
79
ствуйте со Мной» (Мф. 26. 37, 38), и «начал ужасаться и тосковать» (Мр. 14. 33). Но трижды приходя к ученикам, Христос застает их спящими «от печали» (Лк. 22. 45), «глаза их отяжелели» (Мф. 26. 43), «и они не знали, что Ему отвечать» (Мр. 14. 40), так что Он обратился к ним с невольным словом кроткого упрека, обращенным к Петру: «Симон, ты спишь? Не мог ты бодрствовать со Мною один час?» (Мр. 14. 37), «бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мф. 26. 41; Лк. 22. 40—46). Все эти скорбные подробности отсутствуют в Четвертом Евангелии, напротив, состояние апостолов пред страшным испытанием, их ожидающим, изображается самыми победными чертами. В первосвященнической молитве говорится так об учениках: «Я открыл Имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово Твое; ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю: не о мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои; и все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них» (6— 10). «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им» (22). «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там где Я, и они были со Мной. И да видят славу Мою» (24). Итак, образ учеников, который дается здесь, отличается от того упадочного состояния, которое ожидает их всех, с Петром во главе (кроме только одного возлюбленного ученика). А в то же время нет оснований полагать, что четвертый Евангелист изменяет здесь тому внутреннему контексту, в котором находится все его евангелие в отношении к синоптикам. Как же следует уразуметь этот контекст, не усматривая зияющего противоречия в обоих изображениях прощальной ночи? Есть только один способ его преодолеть: именно следует отнести оба повествования столь разного стиля и к разным событиям. Одно имеет в виду свершение сверхвременное, как духовный плод дела Христова на земле, в частности и с учениками, ^другое уже относится к земной истории данного страшного часа. Этот час не только переживается, но изживается во времени, созревающем для вечности. Учеников, спящих в Гефсимании, отделяет от их прославленного образа Христово Воскресение, Пятидесятница вместе с их собственным служением, апостольским и мученическим. Перспектива прощальной беседы и особенно первосвященнической молитвы поэтому есть совершенно иная, нежели
4 синоптического рассказа. Можно сказать, что она относится к онтологии, а не к истории, к надвременному и вечному, а не временному и преходящему, богочеловеческому, а не человеческому только. Лишь об этом прославлении славою Христовой только и может быть сказано: «да будут едино, как Мы едино, Я в них и Ты во Мне» (23). Это есть свершение, совершенное обожение, ософиение человечества, в данном случае в лице учеников. Здесь должно быть проведено все
80
различие между разными образами прославления во Христе. Сам Христос просит и, конечно, принимает от Отца премирную славу, которую имел Он прежде создания мира. Принятие этой славы означает и прославление, ософиение Его человеческого существа, совершенное богочеловечество. Но это тварнософийное прославление включает в себя и распространяется и на учеников Его, на Церковь и все человечество, однако лишь во всей длительности человеческой истории, ее апокалипсисе.
(продолжение следует)
81

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Прот. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ
БОГОСЛОВИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ИОАННА БОГОСЛОВА*
4. Любовь и радость в Четвертом Евангелии.
Наряду с учением о славе и прославлении, оно является также и нарочитым евангелием о любви, божественной и человеческой, богочеловеческой. Конечно, заповедь о любви к Богу и ближнему, данная уже в Ветхом Завете (Лев. 19, 13; Втор. 6, 5) переходит и в Новый, как сила «закона и пророков» (Мф. 22, 35-40; 5, 44; Мр. 12, 29—33). Но эта ветхозаветная заповедь вполне раскрывается лишь в Четвертом Евангелии. Здесь излагается учение о взаимноипостасной любви во Св. Троице в применении и к человеческой жизни. Главное же средоточие оно имеет в прощальной беседе, которая должна быть понимаема именно как завещание Богочеловека о любви как всеисчерпывающей основе христианства. Эта истина выражается во всем многообразии оттенков, в отношении как к любви божественной, так и человеческой. Первая уже раскрыта в учении о Св. Троице, как любви Отца к Сыну, и Сына к Отцу, и об откровении Отца в Сыне Духом Святым. Еще в беседе Предтечи Иоанна говорится (Ио. 3. 35): «Отец любит Сына и все дал в руку Его», то же и в беседе Христа после исцеления расслабленного: «Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам» (5. 20). «Потому любит Меня Отец, что Я отдаю жизнь Мою» (в беседе о Пастыре Добром: 10. 17). Но в прощальной беседе взаимная любовь Отца и Сына является основной темой, всю ее пронизывающей, «чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне Отец, так и творю». (14. 31). «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас, пребудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» (15. 10). «Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня» (16. 27). «И Я открыл имя Твое им и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (17. 26). Таково это последнее слово Христа перед страстью. Итак общая заповедь о любви получает здесь обоснование богочеловеческое, она уподобляется любви Отца и Сына, который сам будучи связан любовью с родом человеческим, и всех людей приводит в лоно отчей любви.
И с тем большей настойчивостью повторяется здесь заповедь о взаимной любви человеческой, притом именно как новая: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга» (Ио. 13. 34; 15. 17).
* Продолжение. Начало см.: «Вестник РХД» № 131, 134.
26
Но почему у синоптиков эта же самая заповедь является как „закон и пророки», а здесь как новая? Очевидно по тому новому богочеловеческому содержанию, которое в нее здесь влагается: «кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюся ему Сам» (14. 21). «Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви» (15. 10). Все по-новому повторяется — в обычном стиле Иоанновских повторений — эта же мысль: «сие заповедаю вам, да любите друг друга» (15. 17). «Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога» (16. 27). Но эта любовь к Сыну возводится к любви отчей: «Да познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил Меня... да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них» (17. 26).
Итак, любовь человеческая освобождается от своего психологического основания, но становится богочеловеческой, как жизнь в Сыне, а чрез Сына в Отце. Она получает онтологическое обоснование. Это уже не есть отвлеченная мораль, но богожитие и боговедение. На такую высоту возводится у Иоанна двуединая заповедь любви: к Богу и ближнему. Обе они, по синоптикам, между собою «подобны», здесь же они даже и более чем подобны, но тожественны, не статически, но динамически, как жизнь вечная — в экстенсивности как не знающая конца во времени, но и в интенсивности же неисчерпаемая (Ио. 17. 3). Ее дает Христос человечеству: «так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную — сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа» (17. 2, 3).
Евангелию от Иоанна свойственна еще одна заключительная тема, отсутствующая у синоптиков — именно о радости Христовой, которую Он дает Своим ученикам. Об этом торжественное обетование дается в прощальной беседе. Впрочем, и здесь говорится о радости в двояком смысле, с одной стороны как о человеческом, душевном состоянии, а с другой как о Божьем даре, радости сущей, так сказать, онтологической. В первом смысле должны быть поняты слова Господа: «доселе вы ничего не просили во Имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенной» (16. 24). «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее: но, когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет от вас» (16. 20—22). Однако в последнем тексте уже проявляется двойственность значения радости, оно колеблется и переходит из одного в другое, из психологии в онтологию. Такой переход обозначается с еще большей ясностью в 15.11: «сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет, и
27
радость ваша да совершится» (πληρωθῇ). Здесь радость Христова усвояется учениками и как совершенная человеческая радость. (Ср. также I Ио. 1,4). В первосвященнической же молитве уже прямо говорится: «ныне же к Тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость Мою в них исполнившуюся» (17. 13) (πεπληρωμένην ἐυ αὐ τοῖς).
Что означает эта исполнившаяся совершенная Христова радость? Очевидно во всяком случае, что она здесь должна быть понята как некое приобщение божественной жизни, которое поэтому необходимо связать с учением о славе. Речью о славе начинается прощальная беседа, и она есть главный предмет первосвященнической молитвы. О ней Сын молит Отца, как о прославлении Своем, но вместе с Собой и Своих учеников. Но слава эта есть и совершенная радость, которая Им дается ученикам. И Слава и Радость должны быть поняты одинаково в смысле софиологическом, в их изначальности и взаимотожественности. Слава, которую просит от Отца Богочеловек, Он уже имел ее у Отца прежде бытия мира (17. 5). Теперь Христос просит эту славу не только для Себя, но и для учеников: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира» (17. 24). «Основание мира» есть Божественная София, предмет любви божественной. «Прежде» основания мира, в небесах, в премирной жизни Св. Троицы, Премудрость есть и Слава Божия, но она же, очевидно, есть и Радость жизни Божественной, «вечная жизнь» с ее блаженством. Но как София Божественная есть «основание» мира, Софии тварной, так и причастность ей, ософиение творения, является сообщением ей славы. Об этом невольно вырвалось слово из сердца апостола Петра на горе Преображения Христова, этого явления славы Его: «Господи, хорошо нам здесь быть» (Мф. 17. 4; Мр. 9. 5; Лк. 9. 33). Видение славы Божией, как и прославление ею твари, есть, конечно, радость совершенная, райское блаженство, общение со Христом.
Естественно, что в богословском, а вместе и софиологическом Евангелии от Иоанна говорится, хотя и с величайшей сжатостью, которая, впрочем, еще возвышает значительность сказанного, о радости Христовой, которая есть и радость воскресения. И так же естественно, что об этой радости говорится в Евангелии, которое вышло из рук ученика, Христом усыновленного Богоматери. Оно является вдохновением и Богородичным... Архангел Благовещения обратился к Пречистой Деве с приветствием: «Радуйся, Благодатная!» (Лк. 1. 28). Он пришел к Ней возвестить радость Христову, совершенную в Богозачатии. Но, по верованию церкви, Она же первая прияла и весть о воскресении от ангела (не того же ли, что и в Благовещении?): «Ангел вопияше Благодатней: чистая Дево радуйся». И это есть Радость и Слава Христова воскресения.
28
5. Суд.
Основное различие между синоптиками и Четвертым Евангелием в отношении к суду Христову состоит в том, что у первых он является некиим трансцендентным событием для мира, вторым пришествием Христовым, а в последнем он есть имманентное раскрытие правды Христовой, света и истины Его. Здесь нет противоположности, но лишь различие внешнего и внутреннего свершения, во взаимном их восполнении. Поэтому эсхатология синоптиков выражается в грозном обетовании пришествия Царя во славе со всеми св. ангелами для последнего Суда (Мф. 25. 31; Мр. 8. 38). Напротив, эсхатология Иоанна, если только можно говорить о ней, выражается лишь в прощальном благовестил ученикам: «В доме Отца Моего много обителей, а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (14. 2, 3).
О пришествии же для всеобщего суда вообще ничего не говорится. О суде же самом говорится не раз, но совсем иначе, чем у синоптиков. С одной стороны, здесь прямо утверждается: «не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но, чтобы мир спасен был чрез Него». (Так возвещает Никодиму Христос, или же благовествует в связи с этой беседой сам евангелист: Ио. 3. 17). И, по обычаю Четвертого Евангелия, эта же мысль буквально повторяется (хотя и в несколько ином контексте) в речи Христовой 12. 47: «Я пришел не судить мир, но спасти мир». Правда, здесь имеются и другие слова Христовы (слепорожденному), как будто прямо противоположного содержания: «на суд пришел Я в мир сей» (9. 39). Однако мнимое это противоречие тут же и разъясняется дальнейшими Его же словами: «чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы», т. е. речь идет о различном внутреннем восприятии явления Христова. Это различие и является этим имманентным судом: самооправданием или осуждением. Это и есть основная мысль Четвертого Евангелия о суде Христовом, неоднократно в нем повторяющаяся: «отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судьбу себе: слово, которое Я говорю, оно будет судить его в последний день» (12. 48) (ἐν τῇ ἐσχατη ἠμερα). Последнее выражение, чисто Иоанновское, встречается у него в речи евхаристической в 6. 39. 40, 44, 54 в применении к воскресению: «Воля пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, не погубить ничего, но все то воскресить в последний день». «Воля пославшего Меня в том, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». «Никто не сможет придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и воскрешу его в последний день». «Ядущий Мою плоть и пиющий Мою кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день».
29
Все эти тексты относятся преимущественно к воскресению, более, чем к суду, так же как ив 11.24, слова Марфы о Лазаре, обращенные к Спасителю: «знаю, что воскреснет, в воскресение, в последний день». (Таким образом эсхатология содержит не учение о втором пришествии Христа на суд, но лишь о всеобщем воскрешении, с некиим имманентным самосудом). «Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» (5. 28, 29). В такую отвлеченную форму здесь облечены пламенные образы речи о Страшном Суде евангелия от Матфея (25). Конечно, не надо забывать, что Четвертое Евангелие находится в контексте с синоптиками и их эсхатологию подразумевает. Оно является к ней в известном смысле комментарием или дополнением, но само по себе оно не является в точном смысле эсхатологическим. Потому Четвертое Евангелие вообще не содержит в себе глав или даже только отдельных текстов характера чисто эсхатологического. И в последних его главах также имеется рассказ лишь о явлениях Воскресшего, и лишь только в последних словах Христа мы находим некое общее обетование — «пока прииду» (21. 22, 23) — во всей его неопределенности, и слово это звучанием своим как бы уносится в небеса.
По Иоанну суд имманентный, связанный с богоявлением или боговоплощением, Отцом отдается Сыну, подобно тому, как и у синоптиков пришествие в мир Сына является и судом над ним. Именно неприятие Его одними, хотя и «своими», с приятием другими полагает основание этому различению внутреннего суда. «Во своя прииде, и свои Его не прияша. Елицы же прияша Его, даде им область чадом Божиим быти» (1. 11, 12). Но вообще говорится: «Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (5. 22, 23). Так говорит Господь в речи после исцеления расслабленного. И еще раз подтверждается эта мысль с обычным Иоанновским повторением в той же речи Господа: «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий» (27). «Я ничего не могу творить сам от Себя. Как слышу, так и сужу. И суд Мой праведен, ибо не ищу воли Моей, но воли пославшего Меня Отца» (30). Это же повторяется и в речи 8. 15: «вы судите по плоти, Я не сужу никого, а если и сужу, то суд Мой истинен, потому что Я не один, но Я и Отец пославший Меня, а в законе вашем написано, что двух человек свидетельство истинно» (Вт. 19. 15). Я сам свидетельствую о Себе и свидетельствует о Мне Отец, пославший Меня» (8. 16—18).
Имманентность этого суда Сына также неоднократно подтверждается у Иоанна начиная с 3. 18: «верующий в Него (в Сына) не судится, а не верующий уже осужден, потому что не уверовал во Имя единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что
30
дела их злы» (3. 19). И слово к слепорожденному: «на суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы» (9. 39). Также и в речи главы 12-ой: «Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судьбу себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день, ибо Я говорил не от Себя, но пославший Меня Отец, Он дал Мне заповедь что сказать и что говорить. И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец» (12. 48-50).
Имманентизм между ипостасный, откровение Отца в Сыне, открывается и в имманентизме богочеловеческом, откровении Сына в человеках, в соответствии мере и образу их восприятия. Это и есть суд Сына человеческого в человеках и над человеками.* Он не имеет характера эсхатологического или окончательного, скорее он есть промежуточное состояние, путь ко всеобщему спасению мира, которое здесь возвещается как общая и очевидно последняя цель пришествия Христова в мир, лежащий во зле (I Ио. 5. 19). Но именно эта мысль об имманентном противоборстве мира со Христом и в мире самом наряду с этим общим преодолением мира ("мужайтесь, Я победил мир». 16. 33) и осуждением и изгнанием князя мира сего (12. 31; 16. 11) вскрывается во всей силе своей и, по обычаю, чрез повторение утверждается в Евангелии Иоанна. Так, после праздника Кущей Господь говорит ученикам своим: «вас мир не может ненавидеть, а Меня ненавидит, потому что Я свидетельствую о нем, что дела его злы» (7. 7). В речи Христа в 8 главе у сокровищницы опять говорится: «вы от нижних, Я от вышних, вы от мира сего, Я не от мира сего» (8. 23). В прощальной беседе снова повторяет Христос: «если мир вас ненавидит, знайте, что Меня прежде вас возненавидел. Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое, а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир» (15. 19). И первосвященническая молитва заключает: «Я передал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и Я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их от мира, но, чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и Я не от мира» (17. 14—16). И наконец на суде у Пилата Господь еще раз, последний уже, свидетельствует: «Царство Мое не от мира сего... ныне Царство Мое не отсюда» (18. 36). Эта диалектика, точнее, антиномика мира, по которой он чужд, враждебен и противоборствует Христу, а вместе с тем спасен Им, есть основная черта учения о Боге и мире в Четвертом Евангелии. Она должна быть богословски и сотериологически осмыслена.
* Конечно, учение Четвертого Евангелия о спасении может быть сопоставлено не только с посланием Иоанна. Но и в особенности с Откровением, которое изображает отношение Христа и мира еще по-иному: не имманентно и даже не эсхатологически, но апокалиптически, как философия истории, точнее, ее трагедия.
31
Этот неотмирный, точнее, сверхмирный характер Царства Божия указуется Христом и в беседе с Никодимом, притом с нарочитым ударением, которое, как мы знаем, встречается у Четвертого Евангелиста в случаях особой важности: «истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия» (Ио. 3. 3). И это слово с такою же силою еще раз подтверждается Христом (5). Это краткое учение о Царстве Божием у Иоанна, конечно, непосредственно примыкает и подразумевает более пространное учение о Царстве Божием у синоптиков.
Чтобы исчерпать учение Евангелия Иоанна о суде, следует еще остановиться на его сатанологии. Сравнительно с синоптиками и особенно Откровением, вообще здесь самые выражения сатана или диавол встречаются реже (особенно если выключить историю Иуды). Главный текст, сюда относящийся, 8. 44, содержится в беседе Господа с иудеями: «ваш отец диавол... он был человекоубийца от начала и не устоял в истине... он лжец и отец лжи". Здесь в кратких словах содержится учение об искусителе, как отце лжи и навлекшем месть на человека, очевидно, как следствие греха. Другое именование диавола, здесь применяемое, относится к его захватнической власти в мире и его поражению силою Христовой: «князь мира сего», ὁ ἄρχῶν τὸν κόσμου τοῦτου «ныне князь мира сего изгнан будет вон» (12. 31) и (сказано после обращения эллинов): «идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего» (14. 30) и «князь мира сего осужден» (16. И), «о чем Дух Святой пришедши обличит мир» (16. 8) (в прощальной беседе). В этих кратких словах содержатся две мысли: попытка диавола преодолеть Христа и его поражение, которое является и осуждением. В сравнении с синоптиками здесь отсутствует (хотя, очевидно, и подразумевается в общем значении): «идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего», т. е. окажется бессильным в своих искушениях. Это идет еще более может быть синоптически истолковано и как: «диавол оставил Его до времени» (Лк. 4. 13), и это время конечно наступает в Гефсимании, куда грядет на Него князь мира сего. Это именование сатаны «князем мира сего» уже содержит, вместе с 8. 44, сатанологию, а свидетельство об его изгнании ее эсхатологию. Однако она намечается также имманентно, как и вся Иоанновская эсхатология. Именно, говорится об изгнании сатаны лишь в контексте его обличения действием Духа Св., приходящего в мир (16. 8—11), а дальше указуется лишь определенное умолчание: «еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» (16. 12).
Таким образом, общая эсхатология дается лишь в самых общих очертаниях, притом со стороны суда и обличения. Не говорится о самом конечном свершении, но лишь о конце состояния этого мира в его плененности у князя мира сего. В этих общих контурах сотериологии отсутствуют также черты философии истории, которая
32
представляет собой главный предмет Откровения. Это отсутствие также соответствует общему стилю Четвертого Евангелия.
6. Предестинация.
Особенность Четвертого Евангелия в изображении земных событий такова, что и они рассматриваются в плане божественном, как предвечные предопределения Божии. Синергическое взаимодействие божеского и благодатного с одной стороны, и природного, человеческого с другой, в жизни людей определяется здесь со стороны Божественного предначертания, как судьбины Божии. Потому естественно получается впечатление известной детерминированности событий, в которой как будто не остается места человеческой свободе, ответственности и самоопределению. С наибольшей парадоксальностью такое предопределение выражается применительно к судьбе Иуды, которая изображается как фатум печального жребия. Сначала лишь вообще свидетельствуется Евангелистом, что «Иисус не вверял Себя им (уверовавшим в Него), потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке» (2. 25). Это знание не было лишь человеческим знанием, хотя бы вооруженным самой глубокой проницательностью, нет, оно было и божеское знание Творца о своем творении, Его предопределение о нем. Общая мысль эта применяется далее более конкретно уже к Иуде. Господь так говорит о нем в беседе о Хлебе Животворном: «есть среди вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала ἐξ ἀρχῆς знал, кто суть неверующие и кто предаст Его» (6. 64). Попытка истолковать это знание «от начала», в применении к Иуде, как получающееся после изучения его свойств,* терпит крушение, как явная натяжка в отношении к прямому тексту, притом не только в применении к Иуде, но и ко всем тем, «кто суть неверующие». Придавать выражению ἀξ ἀρχῆς (cp. 16. 4) такое умаленное значение нет основания,* * тем более, что тут же, в дальнейшем тексте подтверждается именно такое значение: «и сказал: для того-то говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если не дано будет ему от Отца Моего» (6. 65). И на фоне этого положительного утверждения печально и даже страшно звучит та же мысль, хотя и в отрицательной форме, в применении к Иуде: «Не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас дьявол. Он говорил об Иуде Искариотском, ибо сей
* Кроме печатного очерка «Иуда, апостол-предатель», см. к нему дополнения и экскурсы рукописные.
* * Такое же значение изначальности, в смысле вечности, имеет ἀρχῆς в Исаия 40. 21; 41. 26. В этом оно не является синонимом к выражению ἀπ’ ἀρχῆς, которое явно относится к началу во времени: Ио. 15. 27; I Ио. 3. 11; 2. 7, 13 (может быть, кроме I Ио. 1.1), где действительно оно имеет значение времени: «о том, что было от начала»...
33
имел (ἔμελλεν) предать Его, будучи один из двенадцати» (6. 70). Избрал дьявола: такова тайна этого предопределения Иуды, каково бы оно ни было во всей его полноте.* Этот рок исполняется в главе 13-ой. Здесь еще раз и уже прямо подтверждается Христом мысль о предопределенности Иуды: «не о всех вас Я говорю: Я знаю, которых Я избрал». Это общее знание подтверждается и у синоптиков прямым предсказанием Господа об отречении ап. Петра и об оставлении Его другими апостолами, а также и о предательстве Иуды. Здесь оно еще соединяется с заверениями Петра в противном, хотя и не оправдавшимися: Мф. 26. 31, 33—35, 69, 75; Мр. 14. 27—31, 66—72; Лк. 22. 33, 34, 54—62. Христос далее так продолжает пророчество об Иуде: «Но да сбудется писание: «ядущий хлеб со Мною подъял на Меня пяту свою» (Пс. 40. 10). Теперь сказываю вам прежде нежели сбылось, дабы, когда сбудется, вы поверили, что это Я» (Ио. 13. 18, 19). Кроме всех этих свидетельств о предопределенности Иуды к предательству, можно сказать его обреченности, к тому в Четвертом Евангелии характерно отсутствуют все другие конкретные черты события, имеющиеся у синоптиков (ср., впрочем, 18. 2—5). Но еще раз подчеркивается предустановленность совершающаяся, притом даже как будто без прямой к тому необходимости повествовательной: «Иисус же, зная все, что с Ним будет, вышел и сказал...» (Ио. 18. 4).
Судьба эта является лишь частным примером для подтверждения мысли об общей предустановленности не только к погибели «сына погибельного», «да сбудется Писание (Псал. 108. 17)...» (Ио. 17. 12; 18. 9), но и к спасению в других случаях. Именно так говорит Христос в речи евхаристической: «Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко Мне не изгоню вон. Ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Свою, но волю Пославшего Меня Отца. Воля же пославшего Меня есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля Пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день» (6. 37—40). Но даже и этих повторений, обычных для Иоанна, еще недостаточно для него, потому что еще раз он подтверждает: «Никто не может ко Мне прийти, если не привлечет его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу его в последний день. У пророков написано: «и будут все научены Богом». Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне (Исаия 54. 13)» (Ио. 6. 44, 45). Эта же мысль повторяется в речи во храме, в притворе Соломоновом, в праздник обновления (10. 23): «Я даю им (овцам Моим) жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей; Отец, который дал Мне (их), больше всех, и никто не
* Бернард, с. с. 219.
34
может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно» (28—30). И эта же мысль о воле Отца, давшего Сыну учеников, торжественно подтверждается и в конце Его служения, в первосвященнической молитве: «Я открыл Имя Твое человекам, которых Ты дал Мне, и они сохранили слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Я прославился в них» (17. 6—10).
Мы уже говорили о том соотношении, которое существует между этим словом Христа о прославлении учеников в их неотмирности и теми внешними обстоятельствами, когда оно было сказано, накануне оставления ими своего Учителя страха ради иудейска. И замечательно, что об этом последнем говорится не только синоптиками, но и четвертым евангелистом в повествовании о Тайной Вечери, на которой, или в связи с которой, имела место прощальная беседа и первосвященническая молитва (13. 17, 18; 16. 32), а также и в рассказе о ночи взятия Христа (18. 15—18, 24—27; 19. 25). Такое соотношение двух повествований, как уже сказано выше, можно понять лишь в перспективе двух планов: земного, эмпирического, исторического течения событий, как пути учеников к их духовной зрелости, и самого ее достижения, наступления полноты апостольства. О ней-то и говорится в первосвященнической молитве Христовой как об их освящении и посвящении Небесным Первосвященником: «святи их во истину Твою, слово Твое есть истина. Как Ты послал Меня в мир, так Я послал их в мир. И за них Я свящу Себя, чтобы и они освящены были истиной» (Ио. 17. 17—19).
Основная мысль о промыслительном действии Божием в мире состоит в неотразимости призвания Божия для тех, кто призван, причем призвание это исходит от Отца и совершается чрез Сына. Вместе с тем такое призвание является единственным путем обращения к Богу. Здесь с большой настойчивостью, которой мы не наблюдаем в такой степени у синоптиков, выражается мысль, что «не может человек ничего принимать (на себя), если не будет дано ему от неба» (3. 27). (Слова Иоанна Предтечи в отношении к служению). И сюда же относятся слова Христа (в беседе евхаристической) о призвании человека от Бога, как имеющем характер неодолимости: «все, что дает Мне Отец, ко Мне приидет, и приходящего ко Мне не прогоню вон» (6. 37). Та же мысль повторяется ниже и в эсхатологическом контексте: «воля Пославшего Меня есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день» (40). Аналогичная мысль о предустановленности выражена самим евангелистом в той же главе по поводу слов Христовых: «но есть из вас некоторые неверующие...» Евангелист
35
продолжает уже от себя: «ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его. И сказал: «Для того-то (и) говорил Я вам, что никто не может прийти ко Мне, если (то) не будет дано ему от Отца Моего» (65). Эта же мысль выражается и в беседе о пастыре и овцах, гл. 10. 29, 30: ’Отец Мой, который дал Мне (их овец), больше всех, и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец одно». Этим словам относительно избранных и данных Христу Отцом придается самая большая сила именно этим последним свидетельством об единстве Отца и Сына. Эта мысль в первосвященнической молитве применяется не только к избранным, но и ко всякой плоти: «Ты дал Ему власть над всякой плотью (ἐξ οὐσίαν πάσης σαρκός), да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную» (17. 2). «Я открыл Имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили Слово Твое». «Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть» (17. 7). «Я о них молю, не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои, и все Мое Твое, и Твое Мое, и Я прославился в них’ (17. 7—9). ’Когда Я был еще в мире, Я соблюдал их во Имя Твое; тех, которых Т ы дал М н е, Я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели, да сбудется Писание (Пс. 108. 8,17)» (Ио. 17. 12). «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде создания мира» (17. 29).
Резко выраженная в этих текстах идея предестинации избранных или данных Христу Отцом учеников, которая получает еще и отрицательное подтверждение в предустановленной судьбе Иуды (3.18; 17.2), содержит в себе несомненные догматические трудности для понимания. Может ли она быть понята в смысле учения апостола Павла о предопределении (Рим. 8), призвании и оправдании избранных, со всей трудностью в истолковании и многозначности этого текста? Может ли она, далее, быть воспринята в смысле Августиновского предестинационизма, который безуспешно старается смягчить католическое богословие в томизме? Или же, наконец, следует в этом направлении идти до конца за Кальвином и пуританским детерминизмом? Очевидно, такой предестинационизм н е соответствует всему духу Евангелия любви. Кроме того, он не мирится и с его текстом, поскольку власть Христова распространяется на «всякую плоть» в Первосвященнической беседе: «да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Получается как бы несколько концентров: с одной стороны, выделяются те, которых «дал» Христу Отец Небесный в земном Его служении, но в то же время они включаются в более обширный круг — «всякой плоти», приемлющей от Него спасение (в частности, эта же антиномия может быть применена и к «сыну погибели», Иуде). Принять предестинационизм кальви-
36
нистический на основании Четвертого Евангелия, конечно, невозможно, как и вообще он совершенно не вмещается в христианскую эсхатологию. Остается искать догматического объяснения тому все-таки бесспорному факту, что в нем с особой силой утверждается нарочитость избрания или же отвержения, как действие Промысла Божия, воли Отца, проявляющейся в мире. Как таковая, она непреложна и неодолима, поскольку проявляется как всемогущество Божие. Вопрос заключается лишь в том, поглощается ли этим действием Божиим без остатка действие человеческое, и устраняется ли богочеловеческий синэргизм, последствием чего является фатализм? Или же сохраняет всю свою силу то, что содержится во всем Новом (да и в Ветхом) Завете, в частности и у синоптиков, и может быть понято лишь в смысле синэргизма с признанием человеческой свободы, хотя и относительной, ограниченной? Подобный вопрос мы имеем и в применении к истолкованию соответственного учения ап. Павла в Рим. 8. 29, 30 и гл. 9, которое получало в истории экзегеты столь различное истолкование, от здравого синэргизма до крайнего детерминизма.
Принимая во внимание все значение контекста, которое свойственно вообще Четвертому Евангелию, и эту черту предестинационизма мы должны истолковать ограничительно, как заведомо одностороннюю догматическую стилизацию. Именно, насколько вообще ему свойственно изображать божественную сторону земных свершений в их вечном, божественном плане, постольку это относится и к данному случаю. Божественная данность сочетается с человеческой заданностью в тварной свободе и соответствием между той и другой, которое составляет самое основание синэргизма, а вместе с тем тайну премудрости Промысла Божия. В богочеловечности творения не может быть и нет такого свершения божественного, которое бы не было вместе и человеческим. Но возможно и преимущественное сосредоточение внимания при изложении каждой из этих обеих сторон предмета, и в богословском Евангелии таковой является именно сторона божественная. В таком смысле в общем богословском контексте остается нам понимать и принимать отдельные его тексты не только там, где это не вызывает затруднений, но даже и там, где фаталистический предестинационизм как будто более соответствует буквальному тексту, однако противореча всему общему контексту Евангелий.
Продолжение следует
37

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Прот. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ
БОГОСЛОВИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ИОАННА БОГОСЛОВА*
7. Мариология в Четвертом Евангелии.
В отношении к Божией Матери в Четвертом Евангелии особенно ярко проявляются основные черты его изложения: при отсутствии повторений того, что сказано у других евангелистов, нарочитость именно им сообщаемого. Оно носит характер интимности, проистекающей из особой связи между возлюбленным учеником и Богоматерью и символической ее многозначности, при совершенно исключительной краткости, а потому и еще большей вескости повествования. Собственно говоря, весь мариологический материал Четвертого Евангелия исчерпывается двумя повествованиями: о чуде в Кане Галилейской и о стоянии Богоматери у Креста (к этому прибавляется еще упоминание, в своем роде, впрочем, также единственное, о присутствии Ее среди учеников в сопровождении Христа в Капернаум (2. 12). Но этот краткий материал имеет совершенно исключительную мариологическую и экклезиологическую значительность.
Чудо в Кане есть первое из чудесных знамений Христа, «начало знамений», ἀρχὴν τῶν σημείων, и мы должны понять его именно в этом качестве, не только как первого, но и как начала, имеющего тем самым черты общезначимости для всех. В нем Христос являет Себя миру: «показав славу Свою», ἐφανερωσεν τἠν δόξαν, чего не сказано ни в одном из других знамений, кроме последнего, воскресения Лазаря. «Сия болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Божий» (11. 4). Но и здесь говорится не о явлении Славы, но лишь о прославлении, что есть, конечно, не одно и то же. Экзегеты останавливаются и над физической стороной этого чуда,** которое, однако, имеет прежде всего символическое значение. Оно имеется у одного лишь четвертого евангелиста, у других же вообще отсутствует самый мотив брака (если не считать притчи о 12 девах). Здесь же, без особого пояснения, особо подчеркивается присутствие Матери Иисуса: «был брак... была Матерь Иисусова там» (2. 1), и даже приглашение Христа и Его учеников приурочивается к этому Ее присутствию: «был также зван Иисус и ученики Его на брак», и вообще Она является руководящей в событии: Она обращается сначала к Сыну, а потом к служителям, которые исполняют Ее волю, также как и Сам Иисус. Обращает здесь внимание прежде
* Продолжение. Начало см.: «Вестник РХД» № 131, 134, 135.
* * Bernard I. с. 79. 80.
51
всего обращение к Ней Сына: «Жено!» Оно же повторяется и на кресте, и таким образом есть единственное Ее именование в Его обращениях к Ней в Четвертом Евангелии. Одно это слово уже переносит мысль от внешнего события — скромной и даже бедной свадьбы в обстановке сельского быта — к внутреннему свершению, здесь происходящему. Это обращение, как бы обезличивающее отношения Сына и Матери, на самом деле возводит их к высшему значению и обобщает предельно, получает мариологический и софиологический смысл. Человечество из рук Творца происходит в двояком образе, как мужское и женское начало, муж и жена. Такова полнота его, имеющая для себя основание в диаде Сына и Духа Св. Христос Богочеловек есть мужеское начало, однако Он есть рожденный от семени Жены, согласно пророчеству Божию в раю. Она есть та Жена, о которой сказано древнему змию, что семя Жены сотрет главу змия. Жена эта есть Богоматерь, Она же есть и та Жена, которая своим присутствием освятила брак в Кане Галилейской. Эта Жена есть Церковь Христова, которая празднует духовный брак свой со Христом, Женихом — согласно именованию Его в устах Предтечи (Ио. 3. 29). Этому же соответствует и язык Апокалипсиса о браке Агнца, брачной Его вечере (Откр. 19. 9) и Его Невесте (21.9).Таким образом, все событие получает значение образа Церкви, ее знамения.
Это же его значение раскрывается в том же самом смысле и с другой стороны: именно евхаристической, ибо превращение воды в больших водоносах в вино, притом лучшее, нежели ранее (т. е. в Ветхом Завете) подаваемое, есть евхаристическое преложение. В евхаристическом богословии, особенно католическом, а под влиянием его и в православном, внимание экзегетов останавливается именно на физическом превращении «субстанции» без изменения «акциденций», «под видом». На этом же останавливают внимание и толковники чуда в Кане. Но как в Евхаристии надо видеть не физическое превращение, но метафизическое преложение, так и в Кане имело место именно преложение, как образ грядущей Евхаристии. Именно этот экклезиологический характер первого чуда, во всеобщности его значения, делает его началом знамений, в котором Иисус явил славу Свою. Слава относится к полноте свершения, которое сопровождается Его Богочеловеческим откровением в софийности всего творения в Его человечестве.
Исходя из этого общего понимания следует толковать и отдельные его черты. Прежде всего первый ответ Христов, который кажется сначала как будто отказом: «еще не пришел час Мой". Но мы знаем, что значит «час Мой» на языке Иоанна:* оно относится к наступлению страстей, в которых совершается и евхаристическое жертвоприношение. Час их тогда еще не пришел в свершении, однако уже приблизил-
* Ср. сопоставление у Бернард, 1, 76.
52
ся в предначатии, как «начало знамений». И в этом смысле подтверждает его понимание и Богоматерь, которая как будто вопреки прямому смыслу ответа, именно, содержащемуся в нем отказу, призывает служителей делать то, что Он скажет, а эти веления относятся к брачному свершению евхаристической трапезы. Архитриклин же зовет жениха для свидетельства свершившегося преложения. Конкретные образы брачного пира здесь сливаются и опрозрачниваются относительно мистического содержания происходящего. Особого внимания здесь заслуживает прямое участие в Евхаристии Богоматери, как это и соответствует церковному ее свершению.
В образе брачного пира мы имеем также и образ Церкви во всем ее составе: Богоматерь, апостолы, брачные гости: архитриклин, сами брачующиеся, слуги и приглашенные, собравшиеся вокруг Христа, который совершает таинственное преложение воды в вино. Богоматерь является предстательницей за люди и посредствующей перед Христом. В связи с этим можно понять и особо выделенное присутствие Ее на браке, как предусловие и самого боговоплощения. «И Матерь Иисуса была там» (2. 1), как будто даже не «званная», как Иисус и ученики Его, но уже в нем участвующая изначала. Здесь подразумевается и Благовещение, и бессемейное зачатие, и Рождество Христово от Девы, и все Ее служение Ему и Церкви. При отсутствии повествования о рождестве и детстве Христа, Ее первое появление в Четвертом Евангелии связано с этой символикой Церкви.
Этот экклезиологический смысл повествования завершается -как бы исторической прибавкой, где еще раз упоминается имя Богоматери и Ее присутствие: «после сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней» (2. 12). У других евангелистов вообще отсутствует упоминание о том, чтобы Мать (и братья) сопровождали Иисуса. Можно скорее вывести даже противоположное заключение из Мф. 12. 46—50, где Христос как бы отрицается кровного родства ради духовного. Из этого сопоставления можно усмотреть еще лишнее подтверждение именно экклезиологическому истолкованию Ио. 2. 11.
Заслуживает внимания еще одна черта этого повествования. Откуда все происшедшее между Христом и Матерью Его на браке стало известно евангелисту? Можно, конечно, допустить, что он, вместе с другими апостолами, был не только очевидцем происшедшего, но и слышал обращение ко Христу Матери Его, вместе с Его ответом (хотя это и не имеет для себя прямого подтверждения, к тому же при отсутствии рассказа об этом у других евангелистов). И не правдоподобнее ли допустить, что Иоанну все это стало известно непосредственно от Богоматери Самой, и этим подтверждается и нарочитый Богородичный характер Четвертого Евангелия? Чудо в Кане Галилейской принадлежит тому Богородичному преданию, которое естественно отлагалось в общении с Нею Иоанна. Разумеется,
53
наряду с этим не исключена и та возможность, что это поведано было Иоанну и непосредственно от самого Учителя, хотя и этим во всяком случае не исключается предание, идущее от Богоматери.
Второе и уже последнее упоминание о Богоматери имеем мы в повествовании о стоянии Богоматери у креста. В параллельном перечислении женщин у креста или вблизи его нет упоминания о присутствии Богоматери. Характерным образом оно имеется только у Иоанна в его Евангелии Богоматернем. Здесь Ее имя стоит также в ряду других: «сестра Матери Его Мария Клеопова и Мария Магдалина» (19. 25), первая была мать сыновей Зеведеевых, следовательно, и самого Иоанна, при этом и сестра Матери Иисуса (так что Иоанн находился и в родстве с Богоматерью, был Ее племянником).
Итак, у креста стояла, вместе с Иоанном, и его собственная мать, и тем еще выразительнее и значительнее были слова Христа, рядом с родной матерью кровной вручавшего его Своей Матери, как бы в новое духовное рождение, воцерковление: «Иисус, увидев Матерь и ученика, здесь стоящего, которого любил, говорит Матери Своей: Жено! се, сын Твой. Потом говорит ученику: се, Матерь твоя. И с этого времени ученик сей взял Ее к себе, εἰς τὰ ἴδια», (19. 26, 27). Первое и непосредственное значение этого рассказа относится к выражению личной любви и заботы о Матери, которую Он вверяет как бы сыновнему попечению возлюбленного ученика (и тем увенчивает его перед всеми другими апостолами, не исключая и первоверховника, которые к тому же как будто и не присутствуют). И уже в этом заключается не столько совмещение этого двоякого материнства двух матерей, Марии и Соломин, сколько, напротив, его противоположение и разделение. Таковое молчаливо предлагается матери природной и, очевидно, ею безропотно принимается (Она и после смерти Христа остается верна Ему, «смотря издали» (Мф. 27. 55).
Христос сначала видит в Марии матерь Свою вместе с возлюбленным учеником и к ним обращается. Однако само это обращение звучит особо: это есть то «Жено», которое было сказано на браке в Кане Галилейской: два брака церковных. Нельзя прозреть всей глубины и значительности этого «Жено», здесь, как и там, однако основное его значение в обоих случаях одинаково: «Жено» означает Церковь, Богоматерь как сердце и средоточие Церкви, Ее личное начало. Как таковая, Она есть Матерь Церковная, которой и усыновляется церковно возлюбленный ученик. Эти слова остались, конечно, выжжены в памяти и сына, и Матери; они суть самая сердцевина Богоматернего Евангелия, которое здесь в этих немногих словах содержится. Эти слова означают как бы посвящение Марии в сан Церкви, чрез таинственное призывание Св. Пуха, первоначально сошедшего на Нее в Благовещении как на Богоматерь, а ныне совершающего Ее оцерковление, — таинство всецерковного Богоматерин-
54
ства. Усыновление Иоанна Богоматери является прежде всего лично к нему относящимся, как к первому в любви Христовой, но оно, конечно, распространяется вместе с ним и на всех, любящих Христа и верующих в Него.
В самой краткости слов, вместе с глубиной смысла, узнается черта Великой Молчальницы с Ее смирением. Она сама остается молчащей у креста, безмолвствующей и в ответ на слово Сыновнее. Но это молчание выразительнее, сильнее, содержательнее, нежели всякие слова, ибо оно выражает величайшее дело: Мария, Матерь Христова, становится Матерью Церковною. Как таковая, она присутствует и при общем оцерковлении в Пятидесятницу, при сошествии Св. Духа, среди учеников (единственное о Ней упоминание в Деяниях Апостолов 1. 14).
Напрашиваются на сопоставление все экклезиологические образы «Жены» и «Невесты» в Откровении, они все созвучны этому евангельскому слову, в нем заключаются: образы Жены, облеченной в солнце (Откр. 12. 1), — Церкви воинствующей, и Жены, приготовившей Себя к браку Агнца (19. 7), с заключительным образом Жены и Невесты Агнца (21.9).
Этими двумя текстами исчерпывается все мариологическое содержание Богородичного Евангелия. Это немного по внешнему количеству, но неизмеримо много по важности и содержанию.
8. Чудеса Христовы в Четвертом Евангелии.
Повествования о чудесах в Четвертом Евангелии отличаются от синоптических и по числу, и по характеру: отсутствует большинство чудес синоптических, даже таких, как воскрешение из мертвых дочери Иаира и сына сотника, хождения по водам и, что особенно интересно, изгнания бесов и исцеления бесноватых. Выбор чудес в Евангелии Иоанна определяется отчасти обычным для него мотивом восполнения чудес, отсутствующих у других евангелистов (совпадения и повторения можно найти лишь в одном случае — чудесного насыщения 5 000 человек), но главным образом ради особого символического и догматического смысла этого повествования. Поэтому в большинстве случаев они являются «знамениями», οημβία, т. е. догматическими эмблемами, криптограммами, символами. В общем «знамение» соединяет в себе двоякий смысл чуда и ознаменования. Не называется знамением лишь исцеление расслабленного (о нем говорится в общем контексте «дел», ἔργα 5. 36; 7. 21). Чудо в Кане Галилейской есть «начало знамений», ἀρχὴν τῶν σημβίων, исцеление сына царедворца — «второе знамение», хотя именно ознаменовательный характер этого чуда наиболее трудно поддается установлению, кроме общего свидетельства о действенности слова Чудотворца. Знамением же называется (6. 14) и насыщение 5 000 народа, как и
55
исцеление слепорожденного (9. 16), как и самое потрясающее чудо — воскрешение Лазаря, которое признается за таковое — в числе «многих знамений», πολλά σημεῖα, — даже и врагами Иисуса.
Почти каждое из шести чудес, сообщаемых в Четвертом Евангелии, является одновременно повествованием о событии, а вместе и догматической эмблемой. Таково чудо в Кане (см. выше), чудесное насыщение (см. далее), исцеление расслабленного (с последующим поучением о делах Божиих 5 главы); исцеление слепорожденного (с поучением о свете Христовом), воскрешение Лазаря. Каждое из этих повествований имеет свои особые черты, в одних случаях повествование преобладает над поучением и аллегорией, в других наоборот. Для экзегетов возникает еще и вопрос о внутренней и внешней убедительности каждого из чудес.* Для нас этот вопрос как таковой не существует, потому что мы преимущественно исследуем догматическое их уразумение. Догматическое же значение каждого из чудес не одинаково. Здесь выделяются, конечно, на первом месте чудо в Кане по своему экклезиологическому значению, чудесное насыщение (отметим, что здесь, хотя в фактическом изложении его Четвертое Евангелие совпадает в общих чертах с синоптическими, однако к нему присоединяется учение об Евхаристии) и чудо воскрешения Лазаря, как «общего воскресения», прежде страсти Христовой «уверение». Три же исцеления: сына царедворца, расслабленного и слепорожденного — такого догматического значения не имеют и скорее включаются в общие рамки исторического повествования, как Иоанновское его восполнение. Вообще же все шесть Иоанновских знамений с большим трудом вплетаются в общий контекст евангельских событий, как они излагаются у синоптиков, может быть, кроме первого и последнего в смысле последовательности. Однако и для них трудно указать точно место в пределах синоптической истории. Четвертый евангелист как будто даже и не заботится об ответственности перед хронологическим контекстом, явно отдавая предпочтение интересам своей догматической рапсодии. Большая историческая ответственность проявляется у него лишь в главах 18—19, в повествовании о страстях Христовых: его он восполняет и своими чертами, притом очень важными, преимущественно также догматического значения. Последние же главы 20 и 21, в особенности же эпилог 21 главы, излагаются вне зависимости от синоптиков. Из глав, посвященных чудесам, здесь мы остановимся лишь на главах 6 и 11.
Глава 6-ая в первой части содержит рассказ о чудесном насыщении 5 000 народа 5 хлебами ячменными и 2 рыбками, имеющийся у всех четырех евангелистов, в связи с последующими событиями (отплытие лодок в Капернаум, шествие Иисуса по водам и новая
* См. у Bernard: The Johannine Miracles, I. CLXXVI-CLXXXVI.
56
встреча с Ним учеников в Капернауме). Эта встреча является поводом для беседы Господа с народом, которая и содержит в себе Евхаристическое богословие... Несмотря на совпадение с синоптиками в самом факте чудесного насыщения народа, Четвертое Евангелие отличается от них именно этой речью, у них совершенно отсутствующей. В свою очередь, у Иоанна отсутствует рассказ об установлении таинства Евхаристии, как и о самом совершении его Господом. О последнем в 13 главе в общей раме рассказа удерживаются только отдельные черты, в частности кусок хлеба, данный Иуде, однако остается неясным то, каков же именно был характер этого хлеба (см. 13. 26, 27). Если бы мы не имели прямого повествования об этом у синоптиков, то мы даже не могли бы с уверенностью заключить, что в 13 главе речь идет об установлении Евхаристии. Однако в данном случае, более даже чем в других, контекст четырех евангелий является решающим в том смысле, что и 13. 1—30, как и синоптические повествования, относятся к одному и тому же событию, о котором свидетельствует и ап. Павел: I. Кор. 11. 23—26. Хотя он там и не присутствовал, но «принял это от самого Господа», и конечно принял самовидец события, возлюбленный ученик, возлежавший на груди Иисусовой...
Евхаристическое богословие в Капернаумской речи Господа в своем изложении сплетается с несколькими отступлениями в сторону (согласно общему Иоанновскому стилю). Оно имеет, в качестве основной предпосылки, догмат боговоплощения, вочеловечения Господа. Диалектика его раскрывается применительно к двум полюсам: жизни мира в человеческой плоти и жизни вечной в Боге, которая нерасторжимо соединилась во Христе с человеческой жизнью. Господь исходит из следующего противопоставления: «старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую дает вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Отец Бог» (6. 27).
Это же противопоставление пищи тленной и вечной и раскрывается далее. Слушатели Христовы искренно недоумевают, о какой же новой пище в жизнь вечную Он говорит, когда они знают ее только в одном виде, манны. Именно, спрашивают они, «отцы наши ели манну в пустыне, как написано: «хлеб с неба дал им есть» (Пс. 77.24). Иисус же сказал им: «истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру» (6. 31—33). И когда естественно недоумеющие слушатели обращаются к Нему с наивной и плотски себялюбивой просьбой: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб» (6. 34), очевидно, под впечатлением и с воспоминанием о недавнем еще чудесном их насыщении, то они получают такой ответ: «Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, а верующий в Меня не будет жаждать никогда» (6. 34, 35).
57
Далее следует отступление в сторону, хотя и в развитие мысли о Христе как хлебе жизни, в Его связи с Отцом, ибо нельзя понять и принять Христа вне этой связи (6. 27—40). Здесь откровение о воле Отца сразу доводится до предела, именно как обетование о воскрешении. Но иудеи как будто не слышат, или еще не вмещают этого нового откровения. В их душах звучит еще предыдущее слово Христово о хлебе жизни, и они уже с нетерпеливым недоумением спрашивают далее о нем: «Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: «Я есмь хлеб сшедший с небес», когда Он есть сын Иосифов, и Мать Его мы также знаем» (6. 41—43). Плотскому разуму трудно вместимы истины духовные, и не нам строго судить их за это. В ответе Своем Господь сначала (6. 43—46) подтверждает Свою связь с Отцом (см. выше), а затем возвращается снова к теме евхаристической и торжественно (’’истинно, истинно говорю вам”) подтверждает и разъясняет сказанное: «верующий в Меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни сшедший с небес; идущий хлеб сей будет жить вовек, хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (6. 47—51).
В развитие мысли о хлебе, сшедшем с небес, присоединяется диалектически полярное определение Плоти Христовой, как такового хлеба. Здесь вводится двойная ориентация: силою боговоплощения плоть Христова является сшедшей с небес, но она же есть и плоть евхаристического преложения, которая подается причащающимся. Но дальнейшее раскрытие этой мысли, как и следовало ожидать, вызывает в слушателях лишь новое недоумение и раздражение: «Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?» (6. 52). Они действительно могли здесь спорить, ибо было почему: легко ли вместить плотскому разуму мысль о таинственном вкушении Плоти Христовой. Ведь пред этим даже не учением, но самым свершением, оказались ученики на Тайной Вечери, когда принимали Св. Тайны, как хлеб и вино, из рук самого пред ними во плоти предстоящего Господа, произносящего заверяющие слова: «приимите, ядите, сие есть тело Мое... пейте от нее все, сия есть кровь Моя». Если даже они и могли тогда недоумевать о смысле этого свершения, то сила его открылась в них как превозмогающая. Но в беседе Капернаумской они слышали еще только учение, ранее самого свершения; поэтому лишь у избранных, в частности в душе возлюбленного ученика, таинственные слова эти отлагались как зерно будущего евхаристического богословия, которое он уже на закате жизни был призван явить в своем Евангелии. О таковой спасительной силе Боговоплощения далее и свидетельствует Христос в евхаристическом с Ним соединении: «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне и Я в Нем» (6. 54—57). И далее еще раз повторяется (по-иоанновски) мысль о единении Сына с Отцом: «как послал Меня живый Отец, так и Я живу Отцом,
58
так и ядущий Меня жить будет Мною» (6.57). Боговоплощение имеет силу соединения божеского и человеческого начала в единой жизни во Христе, это же соединение осуществляется и евхаристически, чрез вкушение Плоти Христовой, которая уже несет в себе это соединение естеств (согласно Халкидонскому догмату). Это именно и содержит в себе, как в зерне, боговдохновенное слово Пролога: «И Слово плоть бысть и вселися в ны». Эту истину носил в себе и осознавал возлюбленный ученик Христов, очевидно уже и тогда, когда слушатели Его — одни соблазнялись и негодующе роптали: «какие странные слова, и кто может это слушать» (6. 60, 66), и даже отходили от Него, другие лишь смущенно молчали. И даже в преданном нам синоптическими евангелистами евхаристическое свершение также изображается только лишь как событие, без всякой попытки внутреннего его раскрытия. Последнее для себя ожидало евангелиста-богослова, который бы припомнил в нем изъяснительные словеса Христовы. Допустим даже, что они переданы им в собственном изложении, однако в нем сохранилась основная истина, которая была возвещена об этом ученикам. Нужно было духовное проникновение даже для Иоанна, чтобы приблизиться к уразумению этого учения. Господь и Сам сказал в завершение Своей беседы: «Дух животворит, плоть не пользует нимало; слова, которые Я говорю вам, суть дух и жизнь» (6. 63). И это не есть уже конец, а только начало того духовного возрождения, которое предстояло ученикам, и того постижения, которое им надлежало еще вместить: «Это ли соблазняет вас? что же, если вы увидите Сына Человеческого восходящего (туда), где был Он прежде» (6.61,62).
Последнее из знамений чудес Христовых, самое великое и ознаменовательное, было, конечно, воскрешение Лазаря, после чего и вообще прекращается чудотворение. Впрочем, у всех евангелистов, не исключая и четвертого, имеется еще рассказ об усекновении Петром уха раба, имя которого, по Иоанну, было Малх (18. 10, 11). Господь исцелил его прикосновением (Лк. 22. 51). У Иоанна, однако, эта подробность взятия Христа не только не отнесена к числу знамений, но даже вообще отсутствует и собою не нарушает общего счета знамений.
Мы уже говорили выше о единственном в своем роде даже в Четвертом Евангелии изображении чуда воскрешения Лазаря. Следует прежде всего особо отметить, что оно транспонировано в прозрачную догматическую схему, хотя потрясающая жизненность повествования и не страдает от этого схематизма. Диалектика идеи боговоплощения, с полярностью божеского и человеческого начала, соединенных в едином Богочеловеке, также выявлена здесь с особой силой и представляет собой общий исторический и догматический фон этого события.*
* С этой антиномикой Христологического догмата не справился составитель службы на день Лазаревой субботы, который допускает несторианское разделение и фактическое чередование действия двух начал во Христе.
59
Рассказ уже во вступлении отмечен особой теплотой человечности, именно в нем указуется особая личная близость Христа к Лазарю и его сестрам, Его «любовь» к ним (этому и вообще нельзя найти параллели в Евангелиях, кроме единственного исключения, в лице ученика, «его же любляше Иисус», чему свидетельство имеется лишь в его же Евангелии). Особая же еще близость Марии отмечена упоминанием (11.2) о том, что это она помазала ноги Спасителя, притом это приводится даже ранее самого повествования о том в Евангелии (12. 1—3). Рассказы о помазании Господа миром в Вифании в доме Симона прокаженного по Мф. 26. 6, 7 и Мр. 14. 3 (сюда же надо отнести и помазание Христа женою грешницей в доме Симона фарисея Лк. 7. 37—50) неизменно отличаются особой пленительностью и трогательностью, однако ни у кого из синоптиков не говорится о личной дружбе, соединявшей Господа с помазавшей Его Марией. Последняя может быть отожествлена с Марией Магдалиной, причем ее встреча с Воскресшим опять-таки поведана лишь в Четвертом Евангелии (20. 1, 12—18). Ср., впрочем, Мр. 16. 1—8, Мф. 28. 1, Лк. 24. 1-10.
Краткость и сухость синоптиков заставляют еще сильнее чувствовать исключительную теплоту и существенность рассказа возлюбленного ученика: здесь Мария дважды, сначала от ангелов, затем и от самого Христа, слышит: ж е н о! т. е. то торжественное обращение, которое из уст Спасителя во всей его значительности было обращено к Пресв. Богородице, притом дважды: на брачной вечери в Кане Галилейской и с креста. Мария, таким образом, здесь является представительницей Церкви в женском ее естестве, наряду и вместе с Богоматерью, (хотя, конечно, не в той же силе). Однако Христос после этого сверхличного, но постольку и не-личного жено, обращается к ней с ее личным именем: Мария, на которое она и отзывается со всей пламенной силой любящего сердца.
Эти черты повествования Иоанна уже сразу вводят в атмосферу того исключительного личного потрясения, в котором, вместе с близкими Лазаря, находился и сам Учитель. И эта напряженность как бы еще поддерживается преднамеренной Его неторопливостью, с которой Он откладывает Свой путь в Вифанию до тех пор, пока не наступает ведомая Прозорливцу смерть Лазаря (11. 14); лишь тогда Он идет туда. Но ранее свидетельствует, что «эта болезнь не ко смерти, но к славе Божией, да прославится чрез нее Сын Человеческий» (11. 4), — и «радуюсь за вас» — прибавляет Господь, обращаясь к Своим ученикам, «что Меня не было там, дабы вы уверовали» (11. 15). «Слава» и прославление в данном контексте относятся не к явлению Божественной Софии (как это разумеется в прощальной беседе), но лишь к человеческому прославлению и постижению Христа со стороны Его учеников: «дабы вы уверовали». Далее следует описание встречи Христа с обеими сестрами, происходящей также в
60
атмосфере растущего напряжения и скорбного волнения. Обе сестры, сначала Марфа, а затем Мария, говорят одно и то же: «Господи! Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой» (11.32). Вера их не потрясена и не нуждается в укреплении: «но и теперь знаю, что, чего Ты попросишь, даст Тебе Бог» (11. 22). Однако и она пребывает в недоумении, отчего же этого не свершилось, и почему при этом отсутствует Друг и Учитель. В ответ Марии Господь сразу раскрывает всю силу и значение предстоящего знамения, как грядущего всеобщего воскресения.
Такого истолкования Христом не было дано обоим воскрешениям, поведанным в синоптических Евангелиях (дочери Иаира и сына вдовы), они относятся, очевидно, к общему числу чудес, ветхо- и новозаветных, совершаемых пророками и святыми силою Божией. Здесь же имеется не то, но совсем другое: здесь воскрешает Лазаря Сам всеобщий Воскреситель. Он же обращается к Марфе с таким уверением, в свете которого этот частный случай получает значение всеобщего «удостоверения» (тропарь Лазаревой субботы: «общее воскресение прежде твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже”).
Эта мысль раскрывается с нарочитой ясностью: «Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему: знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день». В ней говорит здесь еще непросветленная, смутная иудейская вера и упование, которые, однако, бессильны дать ответ пред лицом смерти Лазаря и утешить скорбящих. «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь: верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет во веки. Веришь ли сему?» (11. 25, 26). Что слышит в этом вопросе и как отвечает на него Марфа? Сила этих слов Христовых неизмеримо уже превосходит частный вопрос о смерти Лазаря, возводя его к общим основаниям жизни, смерти и воскресения. Марфа оказалась достойной любви Христовой; она при всем своем горе услышала радостное благовестие, ей сказанное, и отозвалась на него: «Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир» (11. 27).
Мы знаем, что у синоптиков такое исповедание от лица всех апостолов было произнесено лишь апостолом Петром (Мф. 16. 16, Мр. 8. 29, Лк. 9. 20, ср. Мф. 14. 33), и Христос торжественно подтверждает это исповедание как такое, которое не плоть и кровь открыли Ему, но сам Отец Небесный (Мф. 16. 17); на этой вере как на камне утверждается Церковь Христова (16. 18,19). Подобное исповедание, конечно, помимо воли исторгалось из уст бесов, очевидно в силу их духовного знания: «выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос» (Лк. 4. 41). — Так различна была ценность, как и самый характер этого исповедания у Петра и бесов.
61
В Иоанновом Евангелии мы имеем и еще один частный случай подобного исповедания, помимо общего свидетельства Иоанна Крестителя о Христе (1. 34), именно оно исторгается, даже вопреки первоначальному сомнению, из уст Нафанаила: «Равви! Ты — Сын Божий, Ты — Царь Израилев» (1. 49), в ответ на явленную ему прозорливость Иисусову. Подобен этому и другой случай исповедания Христа Сыном Божиим, которое вызвано было самим Христом, вопросившим прозревшего слепорожденного: «Ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: и кто Он, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его; и Он говорит с тобой. Он же сказал: верую, Господи» (9. 35—38). Однако эти исповедания не возводятся от этого частного случая к постижению его общего значения для мира, как это имеет место у Петра с одной стороны, у Марфы с другой. После этого Марфа понесла Марии благую весть о пришествии Господа, позвала ее «тайно”: «Учитель здесь и зовет тебя» (11. 28). В Евангелии прямо не сказано об этом зове. Он, очевидно, подразумевается. Однако, если это так, то можно предположить, что в зов этот включено было и благовестив Христово о Себе самом, только что слышанное и воспринятое Марфой. Однако горе Марии владело ею, что и выразилось в том же обращении ко Христу, как и ее сестры (11. 32), причем это горе ее, разделяемое и пришедшими с нею иудеями плачущими, нашло отклик и в душе самого Господа: «и сам восскорбел духом и взволновался»* (11.33) и «прослезился”* * (11. 35). «Скорбя внутренно приходит ко гробу» (11.39).
Здесь мы приближаемся к центральному месту рассказа, некоему чуду евангельского повествования. В самом деле, здесь надо поведать о недоведомом человеку, именно о том, что происходит в душе Богочеловека, притом в состоянии величайшего напряжения человечности, скорби и волнения, которые остаются не умалены в силе и подлинности вследствие боговоплощения (вопреки всяческому докетизму, с которым неизменно ведет борьбу явно и молчаливо четвертый евангелист: истинный Бог и истинный человек). Здесь не может быть допущено и никакого чередования природ (как это мы имеем, к сожалению, в богослужебных текстах этого дня), потому что это означало бы «несторианствующее» их разделение при нем. Между тем здесь приемлемо и допустимо принятие лишь кенозиса божества: «себе умалил, зрак раба приим... смирил себе» (Фил. 2. 7, 8).
Но этот кенозис предполагает весь реализм боговоплощения в отношении к изживанию человеческой стихии в полноте, помимо
* ἐτάραξεν αὐτόν в славянском и русском переводе «возмутился» выражение двусмысленное.
** «Иисус прослезился» самый краткий стих в Библии, и тем больше вся его сила в контексте.
62
всякой умаленности. Но к этой полноте относится и сила сострадания, также как и собственного человеческого страдания телесного и душевного, которое проявлено в Гефсимании и на кресте даже до смерти. И этого умаления Христова кенозиса в соединении двух естеств, божеского и человеческого, нельзя допустить также и в том смысле, чтобы оно имело место чрез Богочеловеческое предвидение предстоящего чуда, в силу которого и самая скорбь получала бы характер некоторой инсценировки чуда, декорации к проявлению божественного всемогущества. Напротив, «нераздельность и неслиянность» обеих природ во Христе одинаково не есть ни чередование, ни взаимное поглощение, но таинственное и, конечно, непостижное во всей своей конкретности и силе сосуществование.
Однако эта непостижность тайны этого соединения не только не исключает, но предполагает некоторую ее доступность и для человеческого восприятия. В противном случае, двойство природ в богочеловечестве Христа оставалось бы вполне трансцендентно для единоприродного человека, почему невозможностью явился бы и рассказ о нем, т. е. в сущности все Св. Евангелие. Непонятны были бы даже и такие факты, как исповедание Петра, Марфы и даже Нафанаила, которые все-таки суть человеческие прозрения в богочеловечность Иисуса. Невозможна была бы и вся вообще наша жизнь во Христе, духовная и сакраментальная, как и евхаристическое с Ним соединение. Богочеловечность Христова доступна человечеству в благодатном его озарении, и тем не менее, задача повествователя, даже евангельского, по отношению к этому соединению природ, становится, конечно, непомерно, исключительно трудной, требующей сверхъестественной и чудесной помощи, богооткровения. Синоптиками она разрешается преимущественно со стороны Его Божественной природы, хотя, конечно, и то и другое подхождение не становится, вследствие невольной односторонности или стилизации, антихалкидонским извращением догмата в сторону одноприродности или двуипостасности, т. е. слиянием или же разделением природ.
Но, помимо этого общего различия синоптиков и Четвертого Евангелия, в главе (Ио. 11) о воскрешении Лазаря мы имеем нарочитое и совершенно исключительное по напряженности повествование о богочеловечестве Христовом, его как бы осязательное явление, конкретное свидетельство догматической истины боговоплощения, возвещенной в Прологе: «и Слово плоть бысть», не только ее что, но и ее как, чему, в сущности, и посвящено это все Евангелие.
В синоптических повествованиях о Гефсиманском борении, в котором совершается переход от «да минует Меня чаша сия» к «да будет воля Твоя», от смертельной скорби души к святой победе богопослушной решимости, изображается богочеловеческий путь кенозиса. Он же продолжается и в крестном истощании, от «Боже Мой, векую Меня оставил» до «Отче, в руки Твои предаю Дух Мой’ (и Иоаннов-
63
ское: «совершишася»). В данном же случае также проходится этот путь, начиная с борения человеческой скорби, пред которой, кенотически безмолвствуя, смиряется «до зрака раба» божеское естество, кончая преодолением кенозиса чрез проявление божеского естества. Однако не во всемогуществе его, для которого вообще нет ограничений, но все же в кенотическом его соединении с человечеством. Этот внутренний диапазон богочеловечности, прохождение кенозиса от низшего предела до высшего, молчаливо совершается в молитве Отцу. Самый этот путь не показан, да, конечно, и не может быть показан, потому что это-то соединение естеств и есть тайна жизни Богочеловека. Однако он явлен в силе своей, в свершении. Здесь дивным резцом евангелиста высекаются лишь отдельные его ступени: сначала «Иисус прослезился» (11. 35), разделяя общую скорбь присутствующих. Она же продолжается, когда Он «опять скорбя внутренно, приходит ко гробу» (11. 38). Пред отвалением камня от гроба скорбь снова со всей силой охватывает Марфу: «уже смердит, четверодневен бо есть» (11. 39), но на это, однако, ответствует уже не скорбный, а торжествующий и повелительный голос: «не сказал ли Я тебе, что, если будешь веровать, увидишь Славу Божию» (11. 40). Но когда же Он ей об этом сказал? Словом или молчанием? Включено ли это в общее обетование воскресения, или было особо выражено, хотя и умолчано евангелистом? При этом в самом Богочеловеке происходит то, о чем евангелист может поведать только молчанием, таинственным перерывом повествования, как бы многоточием. В словесном или красочном художественном контексте здесь не есть пустота как отсутствие содержания. Напротив, сюда включено все, предыдущее и последующее, что получает положительную силу особой выразительности.
Христос молится Отцу как Богочеловек, т. е. всем молитвенным напряжением святого человечества и всей силой Богосыновства Своего, в согласном единении того и другого. Но сама молитва эта пребывает тайной, и о ней мы узнаем только в ее свершении, в ее почувствованной лишь самим Молящимся силе, о которой Он и свидетельствует: «для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты послал Меня» (11. 42). Но это есть уже молитва благодарения: «Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня». Ничего не говорится о самой молитве в ее принесении и услышании, это лишь свидетельствуется. Однако это услышание не есть проявление всемогущества божественного, которого кенотически совлекается Богочеловек, будучи в «зраке раба». Оно предполагает весь путь, который проходится от Молящегося к Отцу. «Всегда услышание» Отцом молитвы Богочеловека есть свидетельство о незыблемости Его веры и упования, но не силы всемогущества. «Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! Иди вон» (11. 43). И произошло это самое потрясающее евангельское чудо: «вышел
64
умерший» (11. 44). Это есть явное доказательство истины, провозглашаемой о Себе Воскресителем: «Я есть воскресение и жизнь», проповедь о всеобщем воскресении не словом, но самим делом. Воскрешение Лазаря, описанное с такою потрясающею силою и конкретностью, именно как событие, есть вместе с тем и факт догматического значения, имевший место пред лицом всех присутствовавших при нем, здесь на земле, в определенный день и час, в определенном месте, и потому неуместно его аллегоризирование.
В связи с этим невольно напрашивается и такой догматико-исторический вопрос: как совершилось воскресение самого Воскресителя, согласно евангельскому повествованию, синоптическому и Иоаннову? Здесь все евангелисты сходятся в умолчании о самом событии, имея в контексте лишь то, что было до и после него: смерть, погребение, и далее отваление камня Ангелом Господним (Мф. 28. 2; Мр. 16. 4-6), обнаружившее пустоту гроба (Лк. 24. 3) в свидетельство о совершившемся воскресении Господа. Оно подтвердилось и последующими явлениями Воскресшего (разно описанными у разных евангелистов). Не напрашивается ли ожидание найти рассказ о воскресении Христовом у Иоанна, как нечто подобное воскрешению Лазаря, хотя и несравненно более потрясающее? Однако нет, и у Иоанна мы находим не большее: та же пустота гроба, явление ангелов с последующими им явлениями Воскресшего, которые хотя и подразумевают совершившееся воскресение, но ничего не дают для постижения самого события.
Очевидно, это отсутствие повествования о воскресении Христовом имеет для себя достаточные основания. Это не есть сдержанность евангелистов при сообщении самого важного и существенного свершения, того, что можно назвать Евангелием во Евангелиях, но невозможность и противоречивость самой задачи дать такое описание. Это значит, что воскресение Христово остается запредельно этому миру, оно не вмещается в рамки его пространства и времени. Но в то же время оно совершилось для этого мира, а следовательно и не вне его, поэтому оно приурочивается к месту и времени в смысле внешнего его обозначения. Воскресение Христа одновременно трансцендирует за грани теперешнего миробытия, но и остается ему имманентно, ибо оно в нем и для него-то и совершилось. Оно есть трансцедент из мира в надмирность, который и Сам Господь обозначает как восхождение «от мира к Отцу». Однако и в нем сохраняется связь с миробытием: «Я еще не восшел к Отцу Моему» (Ио. 20. 17),сказано Им Марии Магдалине, но «восхожу к Отцу» (что и совершается в Вознесении): «И когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе» (Ио. 12. 32). Тогда и эта трансцендентность Воскресшего прекратится, потому что весь мир и все воскресшее человечество перейдет в состояние воскресения.
Поэтому-то там, где ждется описание воскресения, мы находим его отсутствие, выразительный жест пустоты, свидетельствующий о
65
несказанности и неописуемости воскресения Христова. Это же продолжающееся, переходное состояние подтверждается и дальнейшими повествованиями разных евангелистов о «явлениях» Воскресшего: Христос не пребывает в мире и не живет с учениками, как это было до воскресения, но лишь «является», однако с тем, чтобы снова сокрыться в невидимость. Он не в мире, но над миром, ему не принадлежит, хотя в нем и является. Связь эта с миром еще продолжается до самого вознесения на небо, т. е. восхождения Его в полную трансцендентность.
Правда, здесь возникает еще вопрос о явлениях Христа п о Вознесении: ап. Павлу, архид. Стефану и разным новозаветным святым. Как это понять в свете совершившегося удаления Христа из мира, если только не постулировать, вместе с о. Касияном, происшедшего уже возвращения Христова, как бы второго Его пришествия, однако совершившегося помимо преображения мира и наших «уничиженных тел сообразно славному телу Его» (Фил. 3. 21)? Точнее, в этом общем вопросе надо различить два его значения. Первое относится именно к явлениям воскресшего и вознесшегося Христа в этом мире, которых мы не имеем права отрицать, не колебля истины веры нашей. Мы не располагаем возможностью это выразить в точных понятиях. Нам остается лишь коротко и просто сказать, что явления Воскресшего и Вознесшегося различаются между собою степенью близости к этому миру, причем в первом случае она является высшею и более ощутимой не только духовно, но и телесно, чем во втором. Однако, в чем именно состоит это «более или менее», мы не пытаемся сказать.
Однако, и те и другие явления становятся все-таки доступны нашим чувствам: может быть, следует сказать, что эта их ощутимость происходит в одних случаях больше чрез посредство чувственно-телесного восприятия, в других же — духовного созерцания, хотя также ищущего для себя и этого последнего (голос, свет, видение и под.). Есть и другой образ общения с нами Воскресшего и Вознесшегося Христа, именно — евхаристическое. Оно сопровождается подлинным пришествием Его в мир во плоти, но таинственно (помимо созерцательного образа, вне всякого видения,* которое здесь прямо противопоказуется), только чрез евхаристическую пищу и питие, чрез вкушение. Евхаристическое преложение свидетельствует о всей пребывающей связи Воскресшего с миром, которая сохраняется, даже будучи прервана Вознесением.
* Ср. мой очерк «Евхаристический догмат» о явлениях закалаемого Младенца, а также указание «учительного известия» (в служебнике), о том, как надо относиться ко превращению хлеба и вина в мясо и кровь. Напротив, явления света над чашей преп. Сергия принадлежат скорее духовному миру.
66
Но именно Вознесение в славе дает Прославленному телу эту проницаемость для естества этого мира. Однако в строгом смысле слова здесь мы имеем не явление, но таинство, которое, по самому понятию, есть именно отрицание явления, с наличием его реальности, но при безобразности или ино-образности (что и есть «преложение»). К аналогичному же типу пребывания Христа в мире принадлежит кровь и вода, излившиеся из боку Христова, «Св. Грааль», о чем повествование мы имеем только у Иоанна 19. 34—37. Это повествование Четвертого Евангелия есть последняя, заключительная черта, принадлежащая богословию боговоплощения: «Слово плоть бысть». Соответственно она и подтверждается, «да сбудется писание», и текстом: «воззрят на Того, которого пронзили» (Зах. 12.10). Не указуется ли здесь и на чувственное пребывание в мире плоти Христовой? Однако излившаяся в землю кровь и вода фактически, хотя и не метафизически, остаются недоступны внешним чувствам.
Окончание следует
67

Разбивка страниц настоящей электронной статьи соответствует оригиналу.
Прот. СЕРГИЙ БУЛГАКОВ
БОГОСЛОВИЕ ЕВАНГЕЛИЯ ИОАННА БОГОСЛОВА*
9. Крестная страсть.
Четвертое Евангелие в рассказе о крестной страсти Христовой имеет свои особенности, не встречающиеся у синоптиков. Конечно, наряду и с отдельными совпадениями. Оно, как и всегда, предполагает или подразумевает синоптиков, даже когда отличается от них. Общее его отличие от них и здесь состоит в том, что оно преимущественно отражает божественную сторону происходящего в Богочеловеке, в сравнении с синоптиками, более сосредоточивающимися на человечестве Христове. Этим определяется и выбор частностей, как отсутствующих в Четвертом Евангелии, так и ему одному свойственных.
Прежде всего, у Ио. совершенно отсутствует все Гефсиманское борение, которое занимает такое существенное место у синоптиков. Это борение сам Христос определяет как смертельное: «душа Моя скорбит смертельно» (Мф. 26. 38); «начал ужасаться и тосковать. И сказал им: душа Моя скорбит смертельно» (Мр. 14. 33, 34), и настолько, что «явился к Нему ангел с небес и укреплял Его. И находясь в борении, прилежнее молился, и был пот Его как капли крови, падающие на землю». (Лк. 22. 43, 44). Все это отсутствует у Ио., тогда как у синоптиков отсутствует вся прощальная беседа. Гефсиманское борение, «смертельная скорбь» Христова, соответствует Его душевному умиранию, той агонии, которая предшествует смерти телесной и ее сопровождает. Она есть изживание греха мира, отяготевшего на Искупителе.
За этим умиранием душевным следует крестная страсть с умиранием на кресте, с разлучением души с телом, которое по-человечески переживает Господь. Это и выражено в предсмертном вопле: «Или, Или! Лама савахфани! Боже Мой, Боже Мой! векую Ты Меня оставил?» (Мф. 27. 46; Мр. 15. 34), после чего следует кончина: «опять возопив громким голосом, испустил дух». (Мф. 27. 50; Мр. 15. 37). «Отче, в руки Твои предаю дух Мой». (Лк. 23. 46). Этим преходится порог между жизнью и смертью, и прекращается смертное борение, наступает покой субботствования во гробе, с сошествием в ад и восшествием духовным к Отцу: «во гробе плотски, во аде же с душей яко Бог, в рай же с разбойником, и на престоле был еси с Отцем и Духом, вся исполняя...» В смертельной тоске душевной совершается смертью Богочеловека на кресте наше спасение. В повествовании синоитиков к этому присоединяются и еще некоторые черты, относя-
* Окончание. Начало см.: «Вестник РХД» №№ 131, 134, 135, 136.
92
щиеся опять-таки к человечности Господа: здесь следует особенно отметить всю обстановку взятия и суда, враждебные издевательства над Христом даже у креста, поношение разбойников, распятых с Ним (Мф. 27. 44). К этому ев. Лука еще присоединяет рассказ о разбойнике благоразумном, (23. 40—43), вместе с упоминанием о словах Господа, обращенных к плачущим еврейским женщинам (27—30). Вообще вся обстановка заставляет вспомнить слова ев. Луки (4. 13) о том, что после искушения Христа в пустыне «диавол отошел от Него до времени». Теперь же наступило это время для нового и последнего Его искушения, не только чрез посредство Иуды, в которого вошел сатана, но и чрез все его послушные орудия, людей, исполненных сатанинской злобы ко Христу.
Все эти черты отсутствуют, хотя и подразумеваются, у Ио.: вовсе нет Гефсиманского борения, но сразу начинается рассказ о взятии Иисуса, с некоторыми подробностями, свойственными лишь Иоанну. Конечно, все они производят впечатление рассказа очевидца, сохраняющего в душе неумирающий образ событий. Следует здесь отметить некоторые черты, имеющие и символическое значение. Сюда относится не только разговор с Пилатом об истине и о царстве (18. 33—38), но и словесный жест Пилата, истинного значения которого он и сам не понимает. Именно, он выводит к иудеям Христа, одетого в венец и багряницу, одежду царственного уничижения, со словами: «се, Человек» (19. 5), в желании вызвать к Нему снисходительное сострадание, вместо которого слышатся ответные вопли: «распни, распни Его». (19. 6). Но не есть ли и это ессе homo еще одно, но уже последнее, повторение истины, уже возвещенной в Прологе: «Слово стало плотью и обитало с нами» (1. 14), но в зраке раба, в одежде уничижения, которые, однако, не упраздняли царственного достоинства Сына Божия. Об этом и дано было свидетельствовать бессознательно и самому Пилату, как словами: «Царя ли вашего распну» (19. 15), так и надписью на кресте: «Царь Иудейский» (19. 19, 21, 22). Далее здесь мы имеем и еще одну символическую черту — нераздранность нешвенного тканого хитона, этого образа церкви, за чем следует и живой ее образ в лице Матери Иисусовой, с усыновлением Ей возлюбленного ученика, а в лице его, конечно, и всего человечества Христова.
Эти обе черты, наполненные глубокого символического и догматического смысла, отсутствуют у синоптиков, как отсутствуют, в свою очередь, у Ио. подробности крестной смерти, ими сохраненные. Зато у Иоанна дается еще одна черта, опять-таки глубокого символического значения, у них отсутствующая: «после того, Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд полный уксуса. (Воины), напоивши уксусом губку и наложивши на иссоп, поднесли к губам Его. Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось. И, преклонив голову, предал дух». (19. 28—30). Само по себе упоминание о губке, исполненной уксусом
93
и данной Иисусу одним из воинов (Мф. 27. 48; Мк. 15. 36) в качестве издевательства над Ним (Лк. 23. 26), имеется у синоптиков. Однако только здесь, у Ио., оно сопровождается знаменательными словами: «после того, Иисус, зная, что все уже совершилось, да сбудется Писание, говорит: жажду». (19. 28). Прежде всего, к чему относится эта последняя ссылка на Писание: может ли она подразумевать Пс. 68. 22: «и дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Конечно, возможно и это, аналогично другим случаям применения ветхозаветных пророчеств у Ио. Однако это толкование здесь, во всяком случае, не может быть единственным, да и вообще трудно укладывается в контекст, который скорее требует здесь самого расширенного понимания «да сбудется Писание» — в применении ко всему спасительному делу Христову. За это говорят слова контекста: «после того Иисус, зная, что уже все свершилось»... После чего именно? И что есть это все, уже свершившееся? Если «после того» взять в ограничительном смысле, отнеся это к непосредственно предшествующему, то оно указывает на усыновление Иоанна Пресвятой Деве, что в свою очередь означает основание Новозаветной Церкви на земле. А в более расширенном смысле это может относиться ко всему содержанию Евангелия, раскрывающего основную общую истину: «и слово плоть бысть». Но можно понимать это «совершишася» и в узком смысле, относя его к крестной страсти, после которой наступает смерть: «сказал: совершилось! и преклонив главу, предал дух». (19. 30). Поскольку это соответствует и синоптическому: «Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! В руки Твои предаю дух Мой. И сие сказав, испустил дух». (Лк. 23. 46). Но конечно, это должно быть, во всяком случае, понято и в самом широком смысле, в применении ко всему делу спасительного воплощения, а также и в обширнейшем — ко всему миротворению, предел и совершение которого достигается лишь чрез богопрощение. Здесь может быть еще раз, и с другой стороны, установлена связь между «после того» и «зная, что все уже свершилось, Иисус...» Свершение, «после которого» и последовало о том свидетельство Христово — «совершишася», — относится не только к боговоплощению, но и к богоматеринству. Оно может быть понято не только космологически, но и мариологически. Ибо можно сказать, что цель миротворения есть явление в нем Пресвятой Богородицы и воплощение Христа чрез него. Поэтому и неслучайным является этот контекст евангельского последования: «после того» и «совершишася».
Рассказ о крестной смерти Христа в Четвертом Евангелии включает и еще одно, отсутствующее у синоптиков, упоминание о пребитии голеней у распятых, однако кроме Иисуса, которому не пребили голени, как уже умершему. Вместо этого копьем пронзены были Его ребра, «и тотчас истекла кровь и вода». (19. 34). Мы уже касались
94
этого выше. По-видимому, и весь эпизод с пребитием голеней является лишь рамой для этого события (Св. Грааль), также имеющего догматическое значение. После этого уже следует погребение Божественного мертвеца с положением Его в саду во гробе новом (19.41).
10. Явления Господа по воскресении.
Следует прежде всего отметить ту особенность Четвертого Евангелия, что оно (подобно Мф.) не содержит повествования о Вознесении Господнем, но кончается иначе, обрывается на земных явлениях Христовых. Догматически это, конечно, не может означать уклончивости с умалением веры в Вознесение, которая достаточно засвидетельствована на протяжении всего Евангелия самим Господом. Сюда относятся следующие тексты: в беседе с Никодимом Господь говорит о Себе (менее оснований приписывать слова эти евангелисту,* а не самому Господу): «никто не восходил па небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий (сущий на небесах)». (3. 13). Сын Человеческий есть мессианское именование, употребительное как у синоптиков, так и у Иоанна. Вся фраза построена не в отношении к последовательности времени восхождения, которое, понимаемое как вознесение, еще не совершилось (несмотря на перфективную форму глагола), как и схождения с небес. Здесь выражена та общая мысль, что то и другое между собой связаны. В беседе в Капернауме говорит Господь — очевидно, о Вознесении Своем: «Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего (туда), где был Он прежде». (6. 62). Это явно относится к мысли о божественном достоинстве Сына Божия.
Отсутствие рассказа о вознесении Господнем восполняется некиим богословским на него указанием, именно в явлении Марии Магдалине. Оно относится не к совершившемуся, но еще лишь совершающемуся вознесению и выражено в следующих словах Господа: «не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему, а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему и к Богу Моему и Богу вашему». (20. 17, 18).
Этот рассказ также содержит в себе некоторые таинственные черты. Прежде всего неясно, почему и в каком смысле возбранено Марии прикосновение к Господу, которое было, очевидно, обычно ей во дни Его земного служения. Пред воскрешением Лазаря, еще так недавно, Мария же «...пала к ногам Его и сказала...» (11. 32). Такое запрещение не применялось и ни к кому другому из искавших к Нему прикоснуться.** Даже по Воскресении в явлении ап. Фоме
* Бернард, с. 112.
** «Имеющие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его». (Мр. 3. 10). Так было и с кровоточивой. (Мр. 5. 25-34; Мф. 9. 20-21; Лк. 8. 43-48).
95
Господь не только разрешает, но даже повелевает ему прикоснуться к Нему: «подай руку твою и вложи в ребра Мои». (20. 27). Мы не найдем этому последнему эпизоду объяснения бесспорного и обречены теряться в предположениях. Имело ли прикосновение Марии само в себе нечто неуместное, однако, это трудно допустимо из всего характера ее отношения к Господу. Или же в переходном состоянии Воскресшего на пути к Вознесению были какие-то к тому препятствия, однако миновавшие уже при явлении Фоме или же для него просто и не существовавшие. К этому надо еще далее прибавить, что здесь свидетельствуется именно о некотором состоянии не совершившегося, но еще совершающегося восхождения Христа ко Отцу Своему. У тех евангелистов, у которых вообще имеется рассказ о вознесении Христовом (Мр. 16. 19, 20; Лк. 24. 50—53; Д. Ап. 71. 2—11) о нем сообщается лишь как о внешнем событии. Здесь же, у Ио., напротив, как о становлении внутреннем, хотя ближайший характер его и не определяется. Из сопоставления же этих двух прикосновений — Магдалины и Фомы — заключаем, что речь идет о двух различных стадиях восхождения, хотя, впрочем, нельзя быть уверенным даже и в этом, поскольку различие в отношении к прикосновению могло относиться не к этому состоянию восхождения Христова, но самих прикасающихся, Магдалины и Фомы. Разделять же эти два эпизода, помещая между ними уже совершившееся восхождение, а также новое, второе пришествие Христа в мир, как делает это о. Кассиан,* нам представляется произвольным и неубедительным. Во всяком случае здесь одно неизвестное лишь заменяется другим.
После явления Христа Магдалине в гл. 20 и 21 описываются два явления Христа ученикам, которые не имеют для себя параллели у синоптиков и представляют собою в этом смысле заведомое восполнение их повествованию. Первое явление обозначается как «в тот день вечером, в одну из суббот» (20. 19). Если понять это как простое хронологическое обозначение события, тогда придется его отожествить с тем днем, когда на рассвете Марии Магдалине явился Господь, а явление ученикам совершилось уже вечером того же дня. Затруднение возникает в ненужном как будто для хронологического обозначения прибавления: τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἐκείνῃ μιᾳ τῶν μιά τών σαββάτων в день тот в одну из суббот, (причем и явление Марии так же точно обозначается как τῇ μιᾳ τῶν σαββάτων — в одну из суббот). К этому надо еще прибавить, что «день тот» τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ есть мистический terminus technicus, который имеет несомненно эсхатологический характер, означая новое пришествие Христа в духе, хотя и без точнейшего обозначения времени (ср. 14. 20 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἠμέρα; 16. 23, 26). Во всяком случае, он его не содержит (таковым он является в 20. 19).
* Arch. Cassien, La Pentecôte Joharmique. Ср. наш критический разбор этой гипотезы (не напечатанный).
96
Поэтому здесь получается экзегетическое двойство: именно, соединяются две даты, мистическая и хронологическая, причем ударение может быть сделано как на первом, так и на втором значении, если не соединять их оба вместе. По мистическому смыслу «в день тот» сливается с этим же выражением в прощальной беседе во всей его эсхатологической неопределенности. По мистическому контексту исполнение обетования о «дне том», когда Воскресший явится ученикам в Св. Духе или, что то же, ниспошлет его ученикам, начинается уже с этого явления Христа, поскольку Он здесь уже посылает им Духа Святого: «сказав это, дунул, и говорит им: приимите Духа Святого». (20. 22). Однако нет прямого основания и никакой необходимости (вместе с о. Кассианом) отожествлять это явление с Пятидесятницей. Нельзя отрицать, что вообще оно к ней относится, но лишь в том расширенном, а вместе и неопределенном смысле, какой ему вообще свойствен в Четвертом Евангелии. То, что в Деяниях Апостолов изображается как единократное и в себе законченное событие, то у Иоанна, в прощальной беседе и тут, есть [неразб.] силы его, которое распространяется на сей век и будущий, начинается же еще здесь и прежде Вознесения, куда и относится рассматриваемое явление Господа. В этом смысле, если оно и может быть называемо «Иоанновой Пятидесятницей», то лишь в особом, ограниченном смысле. Ученикам дается здесь иерархическая власть отпущения или оставления грехов силою Св. Духа, но этим лишь сообщаемая им сила и ограничивается. Она даже не простирается на совершение Евхаристии, которого мы не наблюдаем даже после Вознесения, но ранее Пятидесятницы. Согласно Деяниям Апостолов, «преломление хлебов» отмечается лишь после нее. Поэтому рассматриваемое явление Христа ученикам с сообщением им власти сакраментального отпущения грехов точнее может быть обозначено как пред-Пятидесятница (на языке литургики это может быть названо предпразднеством). К предпразднеству же, или к пред-Пятидесятнице следует отнести и последнее явление Христа по Мф. 28. 18—20, где Он свидетельствует о данной Ему «всякой власти на небе и на земле» и дает им в качестве последнего напутствия заповедь крещения и научения вместе с обетованием пребывания с ними во все дни до скончания века. Это обетование и власть крестить с повелением учить несомненно также входит в полноту Пятидесятницы, хотя и остается неопределенным в отношении к временам и срокам ее. (Эта неопределенность относится здесь даже и к тому, есть ли эта власть и повеление дар апостольско-иерархический, или же общехристианский: церковь, распространяя власть крестить и на мирян, тем самым истолковывает этот текст в расширенном, но зато и неопределенном смысле). Вообще для правильного богословствования о Пятидесятнице и ее дарах, очевидно, необходимо отказаться от узкого и формального ее понимания, в которое не укладываются разные проявления ее силы, но
97
следует понимать ее как совершающуюся и продолжающуюся на протяжении всей истории церкви до скончания века, «всегда, ныне и присно и во веки веков". Однако начало ее следует полагать от Воскресения Христова, т. е. даже ранее Вознесения Его, согласно Матфею и Иоанну. Воскресение было в этом смысле Пятидесятницей Христовой (имеющей свое начало, впрочем и еще ранее, уже при крещении), а потому и пребывание Христа на земле является нераздельно соединенным с поливанием Св. Духа на Нем, которого Он и посылает.
Описание внешней обстановки явления Христа ученикам, хотя и «дверем затворенным», также предполагает историческую конкретность. Особой чертой этого явления следует считать прежде всего приветствие «мир вам», притом дважды повторенное (19. 21). Оно, конечно, созвучно словам прощальной беседы: «Мир Мой оставляю вам, мир Мой даю вам». (14. 27). (Ср. также у Лк. 24. 36). Вторая черта рассказа: «показал им руки и ребра». (У Лк. 24. 40 с вариантом — «ноги» вместо «ребра”). Кроме того значения, которое эта черта получает в рассказе о явлении Фоме, не следует ли видеть здесь последнего, заключительного подтверждения истины: «и Слово плоть бысть», в которую не вносится отмены или ограничения и воскресением Христовым. Подобное же подтверждение истины боговоплощения имеется и у Луки, где это сопровождается еще нарочитым призывом: «осяжите Меня и осмотрите, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». (24. 39). И «взяв, ел пред ними» (24. 43), даже и так свидетельствует здесь Христос о той же истине. В отличие от своего обыкновения н е повторять, но лишь восполнять синоптиков, Иоанн здесь именно повторяет и тем еще раз подтверждает основную истину, провозглашенную в Прологе. Третья особенность данного явления есть «Иоанновская Пятидесятница”: «как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, (на том) останутся» (20. 21—23). Очевидно здесь мы также имеем созвучие с текстами как Мф. 16. 19 и 18. 18, так и Деяний Апостолов 2. 1—4, все это должно быть понято в контексте с Пятидесятницей, хотя и не может быть ей прямо приравнено. В отношении к догмату нисхождения и ниспослания Св. Духа, как он изложен в прощальной беседе, здесь подтверждается, что Дух, от Отца посылаемый, сообщается чрез Сына, т. е. правильное понимание filioque означает только διὰ τοῦ πατρός.* Однако Дух Святой имеет быть не только посланным через Сына, но еще и принятым теми, кому Он посылается. Свидетельства же о принятии мы здесь еще не имеем, почему это и должно быть приравнено не совершившейся Пятидесятнице, но лишь пред-совершившейся.
* Как справедливо замечает Бернард, с. 678.
98
Власть, данная Христом в этом явлении апостолам, относится к прощению или оставлению грехов (20. 23), причем она непосредственно связывается с «принятием Св. Духа» (20. 22). Эта же власть дается, по Мф. 16. 19, Христом апостолу Петру, в данном случае представляющему всю 12-рицу, а в 18.18 и прямо относится к «ученикам» (Мф. 18. 8). Здесь (впрочем, как и у Иоанна) еще ничего не говорится о фактическом применении даваемой власти, она лишь провозглашается для будущего, конечно, не только как отвлеченность, но и как некоторая благодатная реальность. Поэтому приходится признать, что Пятидесятница вступает в некую силу даже до Воскресения, очевидно на основании личной Христовой Пятидесятницы в Крещении, в отношении же к «Иоанновой Пятидесятнице» эта является еще более предварительной. Поэтому если мы эту последнюю станем считать пред-Пятидесятницей, то повествуемую в Евангелии от Матфея надо понимать как предпред-Пятидесятницу, т. е. самую первую ее ступень. Таким образом, и с этой стороны мы еще раз приходим к принятию общей идеи об ее многоступенности, относительно которой в Евангелиях Матфея и Иоанна нам открыты уже две ступени, предваряющие третью, всеобщую Пятидесятницу дня сошествия Св. Духа.
Рассказ об этом явлении Христа ученикам включает еще и вторую часть (Ио. 20. 24—29), о повторном Его явлении после восьми дней*уже в присутствии ап. Фомы, при первом явлении отсутствовавшего. Здесь имеется и приветствие Христа: «Мир вам» (20. 26), хотя лишь однократно.** Христос обращается к Фоме, который в ответ на радостное свидетельство учеников, что они «видели Господа» (20. 25) ранее отозвался сомнением. Он сам поставил для себя условием своей веры, очевидно, не одно только видение, которое могло оказаться и галлюцинацией, но и осязательное удостоверение в подлинности тела чрез прикосновение к нему. Христос в ответ на это сомнение сам предложил ему вложить перст свой и руку свою в ребра Его и быть не «неверующим, но верующим» (20. 27). Однако самое прикосновение оказалось излишним, Фома и без него «сказал в ответ: Господь мой и Бог мой". Он исповедал веру в Воскресшего Господа, хотя это и не освободило его от кроткого упрека: «ты поверил, потому что увидел Меня, блаженны не видевшие, но веровавшие». (Ио. 20. 29). Господь как будто не хочет умалить его здесь в сравнении с другими апостолами, о которых сказано: «ученики обрадовались, увидев Господа». (20. 20).
* Эта точность в обозначении срока, и вообще свойственная Иоанну, еще раз подтверждает, что при всей неопределенности эсхатологической перспективы «дня того» здесь описывается земное, конкретное событие, не прерывающее связь времен, но в нее вмещающееся, хотя и имеющее в себе свою, сверхвременную глубину.
** Думается, что этому различию в двукратности и однократности приветствия можно и не придавать больше значения, кроме как фактической подробности события.
99
Остается все-таки неясным, есть ли умаление Фомы в этом сопоставлении, или, даже напротив, особое выделение Фомы, ради которого было особое явление Господа, об этом не свидетельствуется. Притом Фома не так уже и отличается от других апостолов, которые обрадовались, лишь увидев Господа, ранее же того не выходили из состояния «страха иудейского» (из-за чего и собирались «при запертых дверях”). Да от Фомы и требуется здесь нечто большее, чем от других апостолов: «блаженны не видевшие, но веровавшие". Это относится уже ко всем христианам, настоящего, прошедшего и будущего, лишенным прямого лицезрения Христа. Таков должен быть всеобщий подвиг веры в Воскресшего, и таково назидание Фомы, которое и представляет основную тему повествования. Однако при этом все-таки остается не вполне ясным, почему же Фоме, в его охлажденности чрез сомнение, предоставлено было то, в чем было отказано пламенной любви Магдалины, именно прикосновение к Воскресшему. Остается заключить, что как различны были прикасающиеся и их прикосновения, так и различно к ним было отношение Господа.
Прикосновение предложено было Фоме, в удостоверение того, что боговоплощение сохранило свою силу и после Воскресения. (Сюда же относится и Лк. 24. 29, а также Мф. 28. 9). Мария же и не нуждалась в таком удостоверении, при всей нерушимости ее веры, по крайней мере об этом ничего не сказано в Евангелии. Также можно думать, что и вообще прикосновение, как выражение почитания и восторга, не было возбранено после Воскресения, согласно Мф. 28. 9, где о женщинах, именно о Марии Магдалине и другой Марии, сказано, что «оне приступивши ухватились за ноги Его и поклонились Ему», не встретив никакого тому противодействия со стороны Иисуса, (ср. 28. 10). Очевидно, возбранение Христом прикосновения к Нему относится к области ее особого ведения о тайне Его восхождения. Это именно и предполагается в самом запрещении: «не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему». Господь поведал ей о не совершившемся еще, но лишь совершающемся восхождении, как о чем-то, доступном ее разумению. Он тем самым не умаляет, но выделяет ее особую, интимную близость к Нему, проистекающую из этого ведения и им свидетельствуемого. Это же вытекает и из дальнейшего текста: «Мария же Магдалина идет и возвещает ученикам, что видела Господа и (что) Он это сказал ей» (Ио. 20. 18). Очевидно, в «этом, сказанном ей» заключалось какое-то особое откровение, доступное только ей, но чрез нее сообщенное и ученикам. Поэтому не о возбранении прикосновения радостной и благоговейной любви здесь идет речь, поскольку оно ранее уже и было допущено (Мф. 28. 10), но о некоем новом духовном, а может быть и евхаристическом уже общении, для которого действительно тогда еще не настало время, хотя и близилось уже, здесь говорится.
100
Однако, если принять такое толкование, то из него возникают уже новые трудности. Первая вытекает из сопоставления Мф. 28. 1 (которое, согласно общему предположению, ведомо Иоанну и включено в контекст Четвертого Евангелия) с рассматриваемым Ио. 20.17. Как их соотнести: есть ли это одно и то же событие, по-разному лишь рассказанное, или же мы имеем здесь два разных, но тогда как же их координировать между собой? Первое предположение содержит в себе еще большие трудности, чем второе, поскольку оба его варианта так различаются в подробностях: у Мф. 28. 1 названы Мария Магдалина и другая Мария, здесь же одна Мария Магдалина, притом с особой подчеркнутостью личного отношения ко Христу, ибо, к кому же другому был обращен столь личный призыв по имени — Мария! — который прозвучал в ее сердце и был отвечен столь же личным откликом: Раввуни! Здесь, в этих двух словах, проявляется во всей силе личная встреча со Христом той, которую — не забудем этого, — именно согласно Четвертому Евангелию, «любил» Иисус вместе с Марфой и Лазарем (Ио. 11. 36). Вспомним только всю потрясающую изобразительность этого рассказа. Тогда Мария невозбранно «пала к ногам Его» (Ио. 11. 32), и «Иисус, когда увидел ее плачущей... сам восскорбел духом и возмутился», а далее и «прослезился Иисус» (11. 35). И далее она же, эта Мария, во время вечери, уже после воскресения Лазаря, в доме своем, «взявши фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами ноги Его». (Ио. 12. 3). Тогда Иисус не только не возбранил этого, но даже вступился за нее против Иуды Искариота, сказав прямо: «оставьте ее (не тревожьте ее, не препятствуйте), она сберегла это на день погребения Моего» (12. 7). Можно ли было еще более отметить и принять это выражение благодарной и преданной любви, нежели это было сделано здесь? И, конечно, любовь Марии к Господу за протекшие дни и часы страстей стала не меньше, но еще больше, если только могла увеличиться, после стояния у креста и всех переживаний страсти Христовой, крестной смерти и погребения. Однако она осталась еще прежняя, земная, человеческая. Христос же зовет ее теперь на новую, высшую ступень общения с Ним, как евхаристического, так и непосредственно духовного, которая, однако, станет доступна ей, совершится для нее и для всего мира с Его окончательным восхождением к Отцу, т. е. с прославлением. Таким образом, сама из себя эта новая встреча с Христом становится понятна. Она не есть отвержение или прекращение ее любви ко Христу, но ее новое утверждение. Она уже не только Мария, хотя и та, которую любил Иисус, но жена, согласно обращению к ней сначала двух ангелов, а затем и самого Иисуса. В ее лице очевидно совершается сретение Воскресшего с человеческим родом в женском его естестве. Но во всей полноте его являет иная великая Жена, усыновившая у креста возлюбленного ученика и в нем Церковь, «Жена, облеченная в солнце».
101
Очевидно, это обращение «жено» относится не только к Марии, но и к сокрывающейся за ней Жене, Деве-Матери, которой, по свидетельству преданий, Христос явился первой, ранее Марии Магдалины. Во всяком случае личный характер этого явления последней не мог быть разделен с другими женщинами, которые, согласно другим евангелистам, вместе с Марией пошли ко гробу и принесли от ангела весть о воскресении. Сюда относится Мф. 28. 1: «по прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб», и там они услышали от ангела весть о воскресении (28. 5, 6). Далее они «со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам Его, и се, Иисус встретил их и сказал: радуйтесь. И они приступивши ухватились за ноги Его и поклонились Ему» (Мф. 28. 8, 9). Сюда же относится и Мр. 16. 1, 2: «по прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы помазать Его; и весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца». Далее сообщается об отваленном от гроба камне и явлении ангела с вестью о воскресении, однако не говорится о встрече с Господом. (Мр. 16. 3—8). Напротив, во втором заключении (Мр. 16. 9) говорится только о Марии Магдалине: воскресши рано в первый день недели, (Иисус) явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов». У Луки (24. 1) «в первый же день недели, очень рано, неся приготовленные ароматы, пришли они (”женщины”: Лк. 24. 22, 24) ко гробу и вместе с ними некоторые другие». Далее говорится об отваленном от гроба камне и явлении двух ангелов, возвестивших им о воскресении, а за этим последовало и извещение апостолов об этом (Лк. 24. 2—9): «То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария (мать) Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем апостолам» (24. 10). Личное явление Христа женщинам и здесь отсутствует. Из всех этих сопоставлений явствует, что имя Марии Магдалины в числе мироносиц упоминается во всех синоптических перечнях, и в разных соединениях, но не говорится об явлении Христа ей одной, как у Иоанна. Остается неразрешимым, как понимать соотношение этих двух вариантов, — синоптического (который, впрочем, содержит в себе по крайней мере еще два разных варианта: Мф. 28. 9 и Мр. с Лк.) — и Иоанновского. Они могут быть без противоречия соединены так, что явление Христа одной Марии должно быть как-либо включено в общий контекст последования события — в средине или в конце его. Четвертый же евангелист в таком, хронологическом, смысле вообще не интересуется точным контекстом с синоптиками, как бы он не был точен сам в определении времени относительно им самим повествуемых событий. В данном же случае для него имеет значение не внешний хронологический и топографический контекст, но внутренний, для которого важно особое выделение встречи Господа с Марией одной, наряду с общей встречей и поклонением Христу всех жен-мироносиц,
102
с нею включительно. В подтверждение этого внутреннего контекста можно сказать здесь только одно: оба варианта не противоречат между собою, а только различествуют и в этом смысле один другим дополняются.
Глава 20, кроме своего прямого содержания (1—29), имеет еще как бы post-scriptum — ст. 30, 31, — который, с одной стороны, подчеркивает фактическую неполноту повествования Иоанна, в частности отсутствие в нем многих «других чудес», а с другой — определяет общее богословское его задание: «дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий». Этим как будто подводится последний его итог. Однако, вопреки ожиданию, за этим следует еще глава 21, с пост-скриптумом подобного же содержания (21. 25), составляющим второе заключение Евангелия и в этом смысле как бы к нему эпилог. Гл. 21 содержит в себе рассказ об явлении Господа на море Тивериадском, отсутствующий у синоптиков. Его хронологическая дата определяется словами «после сего», во всей неопределенности этого выражения. Для характера этого заключения* одинаково существенно не только то, что в нем содержится, но и что отсутствует. Отсутствует же Вознесение Господне, как и всякое вообще указание конца земного Его служения. Глава 21 в этом смысле заканчивается как бы многоточием (23), которому равнозначен по общему контексту и ее постскриптум: 24, 25. Хронология описываемого явления настолько неточна, что при желании остается возможность отнести его даже ко времени после Вознесения (о. Кассиан), разумеется, насколько это может быть допущено по общим богословским соображениям. (Что остается все-таки спорным).
Не менее неточным является и время «третьего» явления Господа ученикам, описанного в гл. 21. Действие здесь переносится из Иерусалима на берег «моря Тивериадского», в Галилею, в обстановку рыбной ловли. К ней, как к прежнему своему промыслу, теперь возвратились ученики с Петром во главе. Все события, с этим связанные, имеют характер описательно-аллегорический, — и прежде всего, своеобразное первенство Петра среди учеников, проявляемое на этот раз в рыболовном промысле: «иду ловить рыбу», а ученики ответствуют: «идем и мы с тобою». Далее следует таинственное появление Иисуса на берегу, и после ночной неудачи в рыбной ловле чудесный улов с особо указанным мистическим числом пойманных рыб — 153, и трапеза со Христом после ловли, сопровождаемая беседой с Петром во время ее. Мы остановимся лишь на этой беседе, которая звучит некиим таинственным аккордом, завершающим «духовное» евангелие. На первом плане здесь стоит троекратное вопрошание Петра о верности его в любви к Учителю. Вне всякого сомнения, оно содержит
* О нем соображения см. у Бернард, с. 687-692: the Appendix.
103
торжественное свидетельство о прощении Петру троекратного его отречения от Христа, с восстановлением его во апостольстве. Есть достаточное основание думать, что такое прощение распространяется и на всех апостолов, поскольку все они, вслед за Петром, (Мф. 26. 35) сначала выражали уверения в верности Христу, а после того с ним вместе бежали (26. 56). Тот же Петр ранее исповедовал и веру во Христа на пути в Кесарию Филиппову, от лица всех апостолов, и конечно теперь он нуждается в особом восстановлении. Рассказ этот содержит в себе молчаливый ответ и на общее недоумение относительно дела Христа на земле после Его отшествия из мира, именно, о судьбах апостольства. Понятно, что и ответ на это недоумение дается от лица старца Иоанна, возлюбленного ученика Христова (”сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно есть свидетельство его». — Ио. 21. 24), и конечно, заведомо после смерти Петра, а также надо думать, и других апостолов.
Насколько вообще нельзя оспаривать известного представительного первенства Петра в отношении к другим ученикам, настолько же слабо является самоуверение католиков, что это прощение Петра означает особое утверждение его «примата», который уже во всяком случае было бы больше оснований утверждать в отношении возлюбленного ученика. Последний не получал прощения, но он один только и не нуждался в нем, как и в подтверждении своего апостольства, потому что в нем оно и не было прервано изменой. Центральное место в главе 21 и занимает это троекратное вопрошание Петра от Господа — «любишь ли Мя» — и ответное его заверение в любви. Для выражения «любишь, люблю» в греческом тексте чередуются глаголы ἀγαπᾶν и φιλεῖν. В первых двух вопросах Христа Петру сказано: ἀγαπᾶς με, и только в третьем: φιλεῖς με. Петр же все три раза настойчиво отвечает φιλῶ σε. При всей трудности точно установить специальное значение того и другого выражения,* в данном контексте все-таки остается различие оттенков — от меньшего, сравнительно безличного, к большему, более личному, дружескому, интимному. На испытующий вопрос Христа Петру о любви его к Нему, Петр сразу же отвечает уверением в любви исключительной, на которую он всегда и ранее притязал, хотя и оказался не в силах явить ее. И только в третьем вопрошании Господь как бы соглашается перенести вопрос и суждение о Петре как бы в иную плоскость. Особый оттенок вносится также и различием обращений Христа к Петру:
* См. сопоставления у Бернард, 702-704. Из них проистекает, что оба слова ἀγαπᾶν и φιλεῖν безразлично употребляются для выражения любви Бога к человеку, Отца к Сыну, Иисуса к человеку, человека к другим человекам, человека к Иисусу, человека к Богу, так что в общем они являются фактически синонимичными, как это признается и в патриотической письменности. См. сопоставления у о. П. Флоренского. Столп и утверждение истины.
104
"паси агнцев Моих» ἀρνία μοῦ в первый раз, и «овец Моих» τὰ προβάτια μοῦ во второй и третий. Здесь как будто имеется восхождение от меньшего к большему, от начального к более всеобъемлющему. Пастырские задачи Петра тем все более расширяются здесь, и конечно не его одного, но с ним вместе и других апостолов. Далее следует, очевидно в свидетельство полноты прощения, дарованного Петру, пророчество о его крестной, мученической кончине,* причем оно выражено в аллегорической форме, которая одинаково неблагоприятна римскому его истолкованию в применении к примату — в его абсолютности и непогрешительности: «другой препояшет тебя и поведет куда не хочешь». Но это, конечно, не умаляет дарованного Петру прощения: «и сказав сие, говорит: иди за Мной» (21. 19).
За этим следует самое таинственное место в 21 главе. Получив прощение, Петр быстро и легко возвращается к своей нетерпеливой экспансивности. Он уже вопрошает Господа об Иоанне: «сей же что". Видеть в этом вопросе какое бы то ни было подтверждение примата и вытекающего из него пастырского попечения Петрова об Иоанне потому уже не приходится, что Господь прямо отклоняет такое понимание вопроса, как ложное притязание. Он не только оставляет его без прямого ответа, но и еще прямо подтверждает его несоответственность: «что тебе (до того), Ты иди за Мной». (21. 22). Таким образом возлюбленный ученик поставляется здесь во всяком случае не ниже Петра, и если не выше, то уже по крайней мере ему равным.** Самая же личность Иоанна облекается здесь особой торжественностью и значительностью, как будто даже в прямом противоположении трижды отрекавшемуся Петру: «Петр же обратившись видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечери, приклонившись к груди Его, сказал: «Господи! кто предаст Тебя; его увидев, Петр говорит Иисусу...» (21. 20). Это дорогое воспоминание снова звучит еще раз в конце Евангелия, явно во свидетельство того, кто же именно был тот, о котором вопрошает Петр, как будто не сознавая всей неуместности самого вопроса, как будто бы с некоторым даже притязанием на первенство над ним. А может быть, здесь проявилась и почти бессознательная ревность, невольное, но и всегда напрашивающееся сопоставление двух приматов: иерархического и пророческого. Ответ же Иисуса является и вдвойне таинственным. Во-первых, он неожиданен по содержанию: ведь Петр не спрашивал Господа, умрет
*В данном случае мы имеем заведомое vaticinium post eventum. Мученическая кончина Петра здесь уже предполагается ведомой как самому евангелисту Иоанну, так и его современникам. Ударение же относится не к прорицанию о самом факте, в качестве не наступившего еще будущего, как et ante eventum но к особливому изъяснению этого факта из уст Христовых, хотя, конечно, и ранее его наступления.
** См. мой очерк: «Петр и Иоанн, два первоапостола».
105
ли Иоанн, такой вопрос был бы даже непонятен и странен в его устах. Самое большее, о чем Петр мог бы здесь думать и спрашивать, есть лишь о взаимоотношении, в каком он станет к Иоанну теперь, после своего прощения и восстановления в апостольстве или даже первоапостольстве. И ответ получается вполне определенный: ни в каком. Тебя это не касается. «Что тебе?» Во-вторых, и самое содержание слов Христа о смерти Иоанновой таинственно, поскольку оно двойственно и непонятно. Из него нельзя с бесспорностью утверждать ни того, ни другого, или же, быть может, оно содержит в себе какое-то соединение того и другого: не сказано, что Иоанн не умрет, как и не сказано, что он умрет. Но самое главное, что вопрос ставится даже не о смерти Иоанна, но о том, пребудет ли он до пришествия Господа. Здесь сверкнула эсхатологическая молния в этих словах, относящихся ко второму Пришествию Господа. Но оно предполагает, очевидно, и предшествующий уход Его из мира.
Как можно понять это состояние между жизнью и смертью, соединяющее и то и другое? Не значит ли это, что в Иоанне, именно как в возлюбленном Христовом ученике, силою этой его любви ко Христу, произошло то, что совершается не только в смерти, но и за смертью, как ее преодоление, т. е. что он воскрес телесно, или же только духовно — ранее всеобщего воскресения. И это-то состояние особой силы и легкости выражается в слове «пребыл» — в этом мире.
Этой тайной судьбы Иоанна и завершается его Евангелие. Он сам здесь свидетельствует о себе слово, слышанное им из уст Христовых, тогда и им самим до конца не уразуменное, сохраненное же в его Евангелии в качестве некоего личного Апокалипсиса. Здесь может скрываться даже еще и намек на грядущие созерцания апостола-апокалиптика, которые также находятся на грани двух миров, жизни здешней и загробной. Возлюбленному апостолу дана такая близость к Воскресшему, при которой становится доступно загробное состояние или даже жизнь воскресения. Таково последнее слово его откровения о себе самом. Оно сказано здесь, на земле, но уносится в небеса, как слава сына Громова.
И здесь-то, в конце Евангелия, неожиданно вдруг сверкнула эсхатологическая молния. Это есть обетование второго Пришествия: «пока прииду» — ἕως ἔρχομαι, — дважды повторенное (21. 22, 23). Оно как будто случайно, мимоходом, непреднамеренно обронено здесь, как придаточное предложение обстоятельства времени. Но оно содержит в себе торжественное окончание не только Четвертого Евангелия, но и всего Четвероевангелия. Оно есть его последнее слово: отстраняя неуместную пытливость Петра, Господь пользуется ею в качестве повода для того, чтобы дать это обетование. И оно было, очевидно, услышано, по крайней мере этими двумя апостолами: Петром и Иоанном, и сохранено для мира, поведано ему чрез посредство последнего. Хотя Четвертое Евангелие как будто не заканчивается, но
106
обрывается, и прямо не говорит ни о Вознесении Христовом, ни о том, что следует за ним, но оно содержит в себе основное эсхатологическое откровение, и есть, в этом смысле, Евангелие конца. И все это содержится в сем громовом слове Господа, сохраненном в Евангелии сына Громова: «Пока прииду». Одного этого слова достаточно, потому что оно все содержит.
Все земное Евангелие смыкается в этом «пока» — εως — оно в известном смысле такое пока. В Четвертом Евангелии действительно нет прямого рассказа о Вознесении, как он есть у Марка и Луки, но, согласно обычаю четвертого евангелиста, молчаливо предполагающего уже известным и в этом смысле как бы само собою разумеющимся все синоптическое повествование, оно подразумевается. Да и в собственном тексте у Иоанна, как мы видели, неоднократно говорится об отшествии Христа из мира сего к Отцу. Однако в данном случае мы имеем даже большее: прямое, хотя и молчаливое указание на предстоящее Вознесение Господа, как удаление Его из мира. И это содержится все в этом кратком, но столь многозначном и выразительном пока, которое объемлет собою время от и до, от отшествия до второго пришествия Господа: «дондеже прииду». Если Он говорит это, еще пребывая в этом мире и в нем своим ученикам являясь, как о предстоящем Своем в него возвращении, то это значит, что Он сразу включает в это пока не только возвращение, но предшествующее ему отшествие* из мира, т. е. Вознесение. Мало того, здесь подразумевается, что вся человеческая история, после Боговоплощения до второго Пришествия и до конца мира, есть это пока, существует и уразумевается в свете этого второго Пришествия. Таким образом это пока включает в себя всю силу и содержание Апокалипсиса, как запредельное свершение эсхатологии. Оно есть некий духовный купол, осеняющий собою мир. И из этой выси небесной полнозвучно раздается обетование Христа: прииду. «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро. Аминь». И на это ответствует Иоанн Апокалиптик, а с ним и всякая верующая душа: «Ей, гряди Господи Иисусе».
* Таким образом, это пока оказывается равносильным словам ангела, явившегося после Вознесения апостолам по Деяниям Апостолов (1. 11): «сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
107
© Гребневский храм Одинцовского благочиния Московской епархии Русской Православной Церкви. Копирование материалов сайта возможно только с нашего разрешения.
